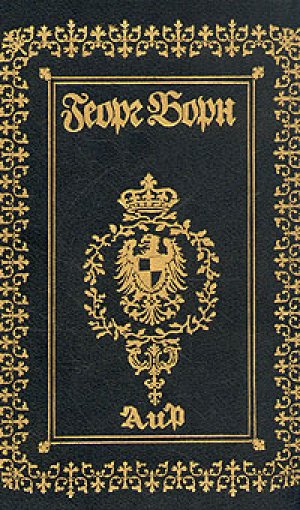
ПРОЛОГ
Черные тучи нависли над Германией. Казалось, приближалась буря, готовая ежеминутно разразиться над всей Европой.
Вот уже несколько лет не умолкал звон французского оружия. Гордый властелин Франции, недавний капрал, а ныне император, обдумывал новые грандиозные планы, желая обратить мир в обширное поле битвы, что повергло страны в еще невиданный доселе ужас.
Казалось, само небо предупреждает о грядущих бедах встревоженные народы кометой с огненно-красным хвостом, которая прочертила его с востока на запад.
Народы в страхе преклоняли колена, взывая к Всевышнему, прося отвратить грозящую гибель.
Но гроза надвигалась; тучи сгустились еще больше, горизонт совсем потемнел, слышались первые раскаты грома.
Европа чувствовала наступающее бедствие, но решительно не знала, как его отвратить.
Любезный читатель, дай руку, и перенесемся с тобой в это время, в величественный замок графа Станислава Понинского.
В замке, предаваясь веселью, похоже, не замечали таинственной кометы. Все окна там светились яркими огнями, весенний воздух свежестью наполнял высокие, роскошные залы, где происходила весьма важная встреча польских магнатов с французским императором Наполеоном I.
За длинным резным столом кедрового дерева, ломившимся под тяжестью редкостных яств и вин, в благоухании цветов сидели именитые гости графа.
Искусно освещенный фонтан, голубые брызги которого доставали почти до потолка, распространял освежающую прохладу. Прекрасные черкешенки, два года назад привезенные графом в имение, наполняли шампанским бокалы гостей.
Старинные знамена Польши и Литвы свешивались с высоких стен, золотые канделябры наполняли богатые чертоги ослепительным блеском.
Почетное место занимал император Франции, герой Аустерлица и Маренго. Он часто останавливал взгляд на прекрасной дочери графа, сидевшей напротив. Планы особой важности вынудили Наполеона приехать со свитой сюда на эту важную встречу из Дрездена.
Этот невзрачный на вид человек, маленького роста, с резкими чертами лица и необыкновенно живыми глазами, полными энергии, отваги и недюжинного ума, прибыл в сопровождении прекрасного Мюрата для того, чтобы здесь, во дворце графа Понинского, вместе со своим министром Талейраном встретиться с князем Юзефом Понятовским.
Войска Наполеона уже заняли все большие дороги, ведущие через Магдебург, Данциг и Дрезден к Висле. Император успел склонить Польшу на свою сторону, обещав восстановить независимость Польского королевства. Для окончательных переговоров великий завоеватель прибыл теперь на это пиршество. Возрождение Польского королевства было заветнейшей мечтой каждого поляка. Наполеон не ошибся: этим обещанием он склонил вождей польской партии на свою сторону. А исполнение его в сущности не противоречило планам французского императора, наоборот, он рассчитывал привлечь на свою сторону весь польский народ.
Сейчас, находясь во владениях графа Понинского, император был в приподнятом настроении. Прекрасная дочь хозяина замка произвела на него чарующее впечатление. За один ее взгляд он готов был отдать и полмира.
— У вас есть еще дети, граф? — обратился Наполеон к Понинскому.— Или эта прекрасная роза Польши — ваше единственное утешение?
— Да, сир, графиня Валеска — мое единственное утешение. К сожалению, у меня нет сыновей, которых я с радостью поставил бы под ваши знамена.
— Граф, ваша собственная храбрость и красота вашей дочери вполне послужат тому заменой. Я далек от лести,— продолжал император,— но ваше отечество имеет прекраснейших женщин.
— И храбрых мужей,— добавил Мюрат.
— Я не знаю, как и благодарить ваше величество за высокую честь, оказанную мне сегодня,— подняв бокал, князь осушил его вместе с Наполеоном.
— Князь,— обратился император к князю Понятовскому,— отчего вы так хмуритесь и все время молчите? Казалось бы, грядущая корона должна была бы вас окрылить, добавить энергии и сил.
— Простите, сир. Я, право, сам не понимаю, что со мной происходит. Какая-то неведомая тоска мучит меня с тех пор, как в небе появилась эта комета. Теперь, ваше величество, вы знаете, решается судьба моей родины.
И я робею. Что несет за собой это знамение?
Талейран едва заметно улыбнулся словам князя Понятовского.
Что значила эта улыбка? Даже такой тонкий физиономист, как Наполеон, не мог ее разгадать, да и сам Талейран был для него вечной загадкой.
— Вы о комете, князь? Пойдемте, я покажу вам в утешение, что моя звезда превосходит эту комету своим блеском,— воскликнул Наполеон, поднимаясь и подавая тем самым знак встать из-за стола.
Он подошел к одному из высоких окон, Понятовский последовал за ним.
Из окна залы было видно ночное небо; на нем ярко сверкала комета с длинным огненным хвостом.
Наполеон хотел показать польскому магнату, как однажды уже показывал генералу Фешу, свою счастливую звезду; он указал на небо; Понятовский посмотрел туда, но ничего не увидел.
Ззезда Наполеона исчезла, ее скрыл шлейф кометы.
Князь Талейран издали наблюдал за сценой у окна. «Ты сам подобен этой комете,— сказал он, мысленно обращаясь к императору.— Только твой путь залит кровью и гибель твоя недалека. Над тобой уже витает грозовая туча».
Наполеон, казалось, почувствовал эти мысли Талейрана и обратился к князю Понятовскому:
— Нам нужна еще одна битва, и тогда мы перейдем к умственным занятиям. Мы должны поспешить, чтобы англичане не опередили нас в использовании открытия, которое обещает изумительные результаты, я имею в виду силу пара. Открытие это должно принадлежать нам, и только тогда мы сможем говорить о своем духе изобретательности.
— Недавно произведенные опыты,— сказал Талей-ран,— дали блестящие результаты — пару принадлежит будущее. Настанет время, когда два великих властелина будут править миром.
— Какие же? — быстро обернулся император.
— Пар и буква.
— Как это понять, господин министр? — проговорил Наполеон не без досады, так как надеялся, что Талей-ран назовет его имя.
— Я говорю о силе пара и газеты, сир. Именно они станут распространять образованность и цивилизацию. В настоящее время они только в зародыше, но придет час, и они станут поистине могущественными.
— Ваше пророчество не совсем ясно и несколько преувеличено, — ответил Наполеон, не любивший газет, и направился к графине Валеске.
Лицо Талейрана приняло странное выражение; Талейран не был другом Наполеона, но император нуждался в нем и прислушивался к его словам — они всегда были обдуманны, ловки и мудры.
Долголетнее пребывание этого министра Наполеона на своем посту наделило его способностью сразу отличать задатки великого и ясно читать книгу будущего.
Талейран пристально посмотрел вслед удаляющемуся Наполеону; он не переставал удивляться, как такой невзрачный с виду человек может держать в своих руках судьбу государей Европы. Затем он подошел к польским генералам и предложил тост за благоденствие их отечества, и вместе с Мюратом они осушили свои бокалы до дна.
— Дай Бог нам счастья,— проговорил Мюрат,— у нас огромные силы: около ста тысяч войска и пятнадцать тысяч пушек; сперва покорим одну, а затем примемся и за другую часть света.
Глаза Понятовского горели, даже пожилой граф не» мог сдержать радости, слушая эти гордые планы. Они так увлеклись разговором, что забыли о Наполеоне.
Император же тем временем, пользуясь общим разговором, вышел из залы и в сопровождении прекрасной графини Валески спустился в залитый огнями парк.
Ионинский был очень богат. И он сделал все, чтобы по достоинству принять освободителя Польши. Несчастный граф не подозревал, что пустил волка в овчарню, что этот человек отнимет у него последнее счастье, лишит последней отрады в жизни.
Празднество в замке было в разгаре, а Валеска и Наполеон медленно прогуливались по дорожкам парка. Высокие фонтаны дарили воздуху освежающую прохладу, тропические растения и благоухающие розы придавали всему какую-то волшебную прелесть.
Наполеон и Валеска оказались одни среди этих райских кущ. Они шли по аллее, усаженной с обеих сторон пальмами и миртами.
— Этот парк так прекрасен,— проговорил император, входя с юной графиней в затененную беседку,— что, отдыхая здесь, подле вас, графиня, мне кажется, будто я оказался в каком-то сказочном мире.
— Странно, сир,— отвечала юная графиня не без кокетства,— я и вообразить себе не могла, что вам достанет терпения просидеть хоть четверть часа в обществе женщины.
— Если она так соблазнительно хороша, как графиня Валеска, то самый стойкий мужчина не мог бы поступить иначе, поддавшись вашим чарам,— император опустился на оттоманку подле гордой польки.
Молодая графиня почувствовала, как рука императора призывно обвила ее тонкий стан; щеки девушки пылали, блестели в полутьме глаза. Пленительной улыбкой отвечала она на страстный шепот Наполеона.
Гордая дочь графа Понинского забыла обо всем. Сладостное забытье овладело прекрасной Валеской и Наполеоном. Она отдалась ему.
Страстные объятия были недолгими. Императору показалось, что кто-то неподалеку тихо произнес имя Жозефины.
Он быстро оправился — кто осмелился подслушать его?
Император обернулся.
На мраморных ступенях лестницы стояла побледневшая графиня Понинская… Мать знала повадки Наполеона и решилась последовать за дочерью. Но было поздно! Позорное клеймо пало на род Понинских — дочь сделалась любовницей императора…
Тем временем в залу, где собрались гости, в смятении вбежали лакеи.
— Господин граф! — докладывали они наперебой,— несчастье случилось… Лошади понесли карету, запряженную четверкой вороных. Подавило детей и стариков. Лошади мчались по улицам… Даму под черной вуалью выбросило из кареты… Кучер с размозженной головой лежит в ста шагах отсюда.
Гости оцепенели от ужаса.
Слова прислуги не замедлили подтвердиться.
С шумом и треском протащили обезумевшие лошади сломанную пустую карету по городу, пока не исчезли в темноте ночи. Сбежавшаяся толпа с участием смотрела на прекрасную даму, распростертую на земле. Она говорила что-то на непонятном языке. Никто не знал ни ее, ни того, откуда и куда она ехала. Через несколько минут тут же, на месте, она даровала жизнь мальчику и сразу же скончалась.
Отблеск кометы, ярко сиявшей на небе, упал на новорожденного младенца, которого бедные крестьяне осторожно уложили на собранные молодые ветки и листья. Кто-то побежал за благочестивым отшельником Иоганном, жилище которого находилось поблизости.
Почтенный старик, который слыл ученым и добродетельным человеком, не медля пришел. Сложив молитвенно руки при виде мертвой неизвестной и новорожденного младенца, он проговорил:
— Свет погряз во грехах и во мраке. Но после дней испытания и бедствий настанет другое время и раздастся глас Божий. Он провозгласит мир всем смертным, свободу и любовь! Отдайте мне этого младенца. Эбергард пусть будет его имя в память того дня, в который он был нам подарен.
Отшельник Иоганн взял ребенка на руки и еще раз склонился над безжизненной матерью, подняв молитвенный взор к небу. Крестьяне запомнили некоторые из произнесенных ею слов и повторили их мудрому старику.
— Она была немкой,— проговорил он, не переводя, того, что услышал,— и на память ребенку я возьму вот этот амулет, что висит на ее шее; может быть, он пригодится когда-нибудь мальчику, которого я возьму к себе в келью.
Старик посмотрел на амулет, это было драгоценное украшение со странными, непонятными знаками. В золотом овале, обрамленном сверкающими бриллиантами, были выложены из жемчужин три таинственных знака — крест, солнце и череп. Все это было очень тонкой, искусной работы. Старик-отшельник молча надел цепочку на шею младенца, бережно завернул его в свой широкий плащ и унес.
Крестьяне вместе с отцом Иоганном схоронили незнакомую даму, посадили на могиле цветы, а вокруг нее деревья.
Никто так и не узнал имени несчастной, неизвестно было и куда скрылись лошади с разбитой каретой.
Мальчик рос у старика-отшельника, который, подобно пастырю в пустыне, учил, просвещал и утешал народ.
Граф Станислав Понинский застрелился в ту же ночь, не в силах пережить позор дочери, мать в отчаянии прокляла ее.
В следующем году Валеска родила девочку, получившую титул графини,— Наполеон, для подтверждения дворянства со стороны матери, послал на крестины одного из своих приближенных.
Комета исчезла, но на пути во вторую часть света Наполеон встретил неожиданное препятствие — пожар Москвы положил конец его ненасытной жажде завоеваний. Польша была потеряна и разделена, князь Понятовский героически погиб в сражении.
Счастье еще раз улыбнулось могущественному императору, чтобы потом очень быстро угаснуть навсегда.
Наполеон Бонапарт, оставленный всеми, умер изгнанником на пустынном острове, затерявшемся среди океана.
Старая графиня Понинская вскоре вслед за мужем последовала в могилу. Графиня Валеска отправилась со своим ребенком в Германию и в Париж и так необузданно предалась развлечениям, что средства ее скоро истощились.
Прошли десятки лет.
И вот только теперь, после этого вступления, начинается наш рассказ.
I. «ГЕРМАНИЯ»
Над морем нависли черные тучи, ветер все выше поднимал холодные волны Северного моря, ежеминутно готова была разразиться гроза, которая на море вдвое страшнее и опаснее, чем на суше. Даже бывалые моряки с опаской поглядывали на приближение этого страшного явления природы.
Прекрасно оснащенный пароход, направляясь через Па-де-Кале в Лондон, боролся с разыгравшейся стихией. Пенящиеся волны с шумом обрушивались на борт корабля, то высоко поднимая судно над бурным морем, то бросая его в бездну.
Матросы, четко исполняя команды капитана, держались за снасти. Геркулесовского сложения капитан, рискуя быть смытым волной, не сходил с кормы. Железной рукой правил он пароходом, стараясь держать «Германию» — так называлось судно — подальше от берега, так как она находилась в самом опасном месте Северного моря.
«Германия» приближалась к острову Шернес; до лондонских доков было уже недалеко, но казалось, пароходные колеса работали вхолостую — ветер и волны противодействовали их силе. Раскаты грома заглушали голос капитана. Стена дождя обрушилась на и без того промокших до костей матросов.
Опершись о переднюю мачту «Германии», на палубе стоял высокий красивый господин, без страха и смятения глядя на происходящее. Дождь насквозь промочил его темный плед, накинутый на плечи, и надвинутую на глаза шляпу с широкими полями. Правой рукой он держался за мачту; казалось, буря, свирепствовавшая вокруг, и борьба стихий доставляют ему какую-то радость, так спокойно и беззаботно смотрел он на разъяренное море, которое каждую секунду грозило гибелью и ему и его кораблю.
«Германия» приближалась к тому месту побережья, где (в то время, когда происходит наш рассказ) недалеко от шлюза Екатерининского дока находились лоцманский и казенные дома Лондонского порта.
Несколько таможенных чиновников и морской офицер стояли на берегу возле катера, на котором обычно подъезжали к прибывающим кораблям, но в который боялись сесть, так как сегодня даже лоцманы со страхом и молитвой принимались за свою опасную работу.
— Странно,— проговорил один из таможенных чиновников, глядя в подзорную трубу,— название корабля не соответствует флагу.
— В самом деле,— согласился другой.— Посмотрите, пароход уже ясно виден: «Германия» — и бразильские цвета на флаге. Ну, если буря не справится с ним, посмотрим, что на нем находится… Какое великолепное оснащение! Одна, две, три… шесть пушек на борту.
Офицер, стоявший возле катера, стал еще внимательнее всматриваться в подзорную трубу. Пароход, целиком окрашенный в черный цвет, казался издали каким-то чудовищем, боровшимся с волнами.
— Смотрите, смотрите, он гибнет! — закричал один из чиновников. Все с ужасом наблюдали за кораблем.— Лоцманы не подоспеют к нему вовремя. Порыв ветра, наверно, разбил корабль вдребезги.
Тяжелое молчание последовало за этими словами.
— Нет, господа, взгляните, «Германия» снова поднялась из бездны… Кажется, ветер начинает стихать… Лоцманская лодка приближается к пароходу.
И тут чиновники с удивлением заметили, что на судне отказались от помощи лоцманов.
Человек, неподвижно стоявший, опершись о мачту, был либо владельцем корабля, либо пассажиром, кроме него и экипажа на палубе никого не было.
— Странное общество! — пробормотал офицер.— Не станем мешкать, господа, сядем скорее в катер, погода, по-видимому, проясняется.
Чиновники не замедлили последовать за офицером, чтобы исполнить свои обязанности, к тому же им любопытно было узнать, что это за пароход, пришедший под бразильским императорским флагом.
Матросы, увидев знак, поданный офицером, быстро подскочили к нему, и через несколько мгновений шлюпка под парусом мчалась по бурному морю.
«Германия» подошла ближе, далеко оставив позади себя лодку лоцманов, будто желая продемонстрировать, что и без посторонней помощи спокойно может достичь доков.
Таможенные чиновники поняли, что не ошиблись,— это был действительно прекрасно оборудованный пароход.
Послышался свисток с капитанского мостика. Раздался голос: «Стоп!», и через несколько минут пароход, остановился, хотя волны все еще продолжали бросать его то в одну, то в другую сторону.
Господин с темным пледом на плечах продолжал неподвижно стоять у мачты, только по его большим выразительным глазам видно было, что он принимал участие в этой встрече.
Матросы перекинули железный с крючьями на концах мостик с одного борта на другой, чтобы таможенные чиновники могли перейти на пароход, где уже царили спокойствие и образцовый порядок, будто судно только что вышло из гавани.
Капитан с приветливой улыбкой принял чиновников.
Они убедились, что «Германия» в самом деле была построена по последнему слову техники и с большим комфортом; узнали они и о том, как совмещались название корабля и его флаг.
— Потрудитесь передать,— начал один из таможенных чиновников,— объявление о грузе и корабельные бумаги.
— Вот, господа, и то и другое,— ответил на отличном английском языке человек в пледе и передал ему красивый большой бювар с золотым гербом.
Таможенные чиновники раскрыли роскошный бювар и стали рассматривать тщательно сложенные бумаги. Лица их не смогли скрыть изумления.
От капитана «Германии» не ускользнула эта перемена выражения на лицах чиновников, а когда морской офицер тоже подошел взглянуть на бумаги, он молча указал на господина в пледе, как будто хотел сказать: вот тот, кому принадлежит «Германия» и кто мигом сумел внушить уважение к себе.
Англичане с интересом посматривали на незнакомца, вся фигура которого действительно вызывала невольное уважение. Окладистая темно-русая борода окаймляла его загорелое лицо. Взгляд его больших, пламенных глаз был серьезным, и вместе с тем в нем светилась доброта.
— Все ли формальности соблюдены, господа? — поинтересовался он.— В таком случае позвольте приветствовать вас и пригласить в салон. Сандок!
На зов явился негр.
— Накрой на стол, Сандок,— приказал незнакомец по-португальски.— Полагаю, господа,— продолжил он по-английски,— что по пути к докам нам лучше всего провести время за бутылкой вина, так как на «Германии» нет никого, кроме меня, моих вещей и команды.
Таможенные чиновники не без удовольствия приняли приглашение и разрешили капитану пристать к Екатерининскому доку, приказав своим матросам вернуться на катере к караульне. Затем они последовали за хозяином в салон, рассыпаясь в похвалах его превосходному пароходу.
Таможенникам не раз приходилось встречать прекрасные, комфортабельные суда, но при виде «Германии» они должны были сознаться, что такого блестящего убранства, как здесь, им встречать не доводилось. Роскошь превзошла все их ожидания.
Широкий и длинный прохладный салон был наполнен матовым светом, проходившим через толстые хрустальные стекла. Стены его были сделаны из душистого розового дерева, удивительная резьба воспроизводила тропический пейзаж, на фоне которого стояла вокруг волшебной красоты вилла — по всей вероятности, это были владения новоявленного Креза. Позолоченные кресла окружали стол, на котором накрыт был воистину ужин. На серебряных блюдах паштеты чередовались со всевозможной дичью, что не могло не изумить офицера и таможенников.
— Господа,— отвечал, улыбаясь, владелец «Германии»,— за все время путешествия из Рио-де-Жанейро в Лондон, мы ни в чем не испытывали нужды. Мой пароход содержит все, что необходимо для жизни, в том числе булочную и ледник, откуда Сандок принесет нам отличное старое вино, которое вы, надеюсь, оцените по достоинству.
— При таких удобствах не страшно никакое далекое путешествие, оно имеет даже своего рода прелести,— заметил морской офицер.
— По-моему, если позволяют обстоятельства, глупо отказывать себе в чем-либо. Со мною часто.случалось, что за глоток воды в пустыне я готов был отдать весь свой кошелек.
Незнакомец ступил ногой на золотую пружинку в полу; где-то внизу раздался звон колокольчика, и на этот зов негр принес на золотом блюде несколько бутылок вина и стаканы.
Общество уселось за стол и принялось за прекрасную мальвазию, между тем как «Германия» все ближе и ближе подходила к уже хорошо видному вдали доку.
Почтение, которое английские чиновники оказывали незнакомцу, называя его господином графом, свидетельствовало о том, что владелец парохода «Германия», шедшего под бразильским флагом, принадлежал к высшему сословию.
— Позвольте мне предложить вам вопрос, господа,— сказал незнакомец, окончив разговор о буре и счастливо миновавшей опасности: — Вы, надо думать, слышали о мисс Брэндон?
— Укротительнице львов? О, кто же не знает эту замечательную женщину,— отвечал офицер.— Всякий, кто видел ее хоть раз, невольно задает себе вопрос: смелость ли руководит ею, пресыщение жизнью или же, наконец, страсть к острым ощущениям.
— Согласен с вами, то же самое подумал и я, когда мне рассказывали о ее представлениях,— отвечал незнакомец, пристально глядя в недопитый стакан.— Не знаете ли вы случайно, мисс Брэндон еще в Англии?
— Три дня назад, вместе с сопровождающей ее труппой наездников, она отправилась на пароходе в Германию,— отвечал один из чиновников.— Это таинственная, замечательная личность! Я знаю ее.
— В таком случае, надеюсь, вас не затруднит сказать, имеет ли мисс Брэндон сходство с этим портретом? — спросил владелец «Германии», вынув из золотого футлярчика миниатюрный портрет и передавая его чиновнику.
На миниатюре была изображена головка юной девушки изумительной красоты, хотя и с довольно резкими чертами лица.
— Без сомнения, это мисс Брэндон,— сказал чиновник,— но мне кажется, этот портрет писан несколько лет назад, когда мисс Брэндон…
— Когда повелительница царей пустыни была несколько моложе,— прервал его незнакомец, странно улыбаясь.— Однако вы узнали ее.
— Это она,— подтвердил офицер,— те же благородные черты, то же волевое, уверенное выражение лица.
— Вы говорите, что она отправилась в Германию,— благодарю вас за сообщение, господа. А, мы приближаемся к доку! Какая жизнь кипит здесь! В самом деле, лондонские гавани значительно изменились с тех пор, как я их видел в последний раз.
— Уже десять лет, как они такие, какими вы их видите сегодня,— проговорил старший из чиновников.
— Да, действительно, много, много времени прошло с тех пор, как я покинул эти доки и отправился в Бразилию,— незнакомец снял с себя плед, отчего еще лучше стала видна его стройная фигура.
Англичане отрекомендовали графа чиновникам в гавани, кто-то из них сказал, что этот иностранец или какой-нибудь невероятно богатый чудак, или один из тех искателей приключений, которые составили свое счастье во время борьбы за бразильский престол. Как бы то ни было, они были очарованы его любезностью; но его происхождение вызывало у них сомнения, хотя в корабельных бумагах значился аристократический титул.
Час спустя «Германия» пристала к болверку дока.
В 18… году, когда начинается наш рассказ, в громадной столице Англии царило такое же движение, как и теперь. Повсюду виднелось бесчисленное множество кораблей под самыми разными флагами. Вдоль берега тянулись склады и сараи с товарами, горы ящиков и тюков. Кроме дока, к которому только что пристала «Германия», вдали виднелись два индийских дока, которые впускали и выпускали корабли посредством шлюзов.
Вдали, окутанный черным туманом вечно подымающегося к небу дыма, лежал огромный Лондон.
По эту сторону города иностранец, стоявший на пароходе, увидел Тауэр, старую крепость с ее полуразвалившимися стенами. Посреди крепости возвышался белый Тауэр, дворец королей от Генриха III до Генриха VIII, в котором покончили свою жизнь Анна Болейн и Иоанна Грей и принцы Эдуард и Йорк были задушены по приказанию короля Ричарда III.
При этих воспоминаниях незнакомец невольно содрогнулся, хотя во время нашего рассказа Тауэр скрывал за своими мрачными стенами только тюрьму для политических преступников, арсенал и государственный архив.
Негр Сандок стоял близ своего господина и с любопытством следил за всем, что происходило в гавани. Он был в богатой голубой ливрее, затканной серебром, а его голова с короткими мелко вьющимися черными волосами была обнажена. Однако внешность негра никому не бросалась в глаза, так как на берегу было много чернокожих, креолов и турок.
— Сандок,— крикнул владелец парохода,— позови Мартина.
Негр с грацией, свойственной этому народу, спустился вниз, и в считанные секунды на палубе появился широкоплечий силач с черной морской шляпой в левой руке.
— Пойдешь со мной на берег, Мартин, если можешь отлучиться,— сказал иностранец по-немецки.
— К вашим услугам, господин Эбергард, пока судно будет стоять в доке, у меня нет дел.
— В таком случае отправимся; та, кого я ищу, уехала в Германию.
— Госпожа графиня…
— Мисс Брэндон,— поправил его владелец «Германии».
— Простите, господин Эбергард, я ошибся.
— Я должен знать, в какую гавань она направилась, и тогда мы немедленно последуем за ней.
Эбергард и Мартин, капитан судна, отправились в справочную контору.
Оба эти человека, господин и слуга, с загорелыми лицами и крепкими, мускулистыми фигурами, протиснулись сквозь толпу приехавших и отъезжающих, между которыми сновало множество проходимцев, которые только и искали удобного случая, чтобы задраться или совершить воровство. Подобные люди обыкновенно уважают лишь силу, и потому не удивительно, что при появлении мощной фигуры капитана и такого же рослого, статного его господина они тут же сторонились, давая им пройти.
Когда оба иностранца пробирались к справочной конторе, Эбергард вдруг остановился, заметив в отдалении на бастионе толпу людей,— их крики странно подействовали на него.
Мартин также посмотрел туда.
— Это немцы-выходцы,— проговорил он.
Мужчины были одеты в длинные синие блузы, женщины — в короткие платья, с платками на голове. Возле них, бегая вокруг мешков со скудным бедняцким имуществом, играли дети. В толпе особенно выделялся старик, очевидно, он был старшим. Преклонный возраст не удержал старика от попытки искать счастья в Новом свете, хотя, видно, он с грустью покидал родные берега. Старик едва сдерживал слезы, глядя на дочь, которая передавала матросам корабля свои последние пожитки. Молодые со страхом и надеждой поглядывали на корабль, которому доверяли свое будущее, своих жен, своих детей и который готовился везти их в страну, что должна была стать их новой родиной. О, если бы только сбылись их мечты!
Грустную картину представляли эти бедные выходцы.
Владелец «Германии» приблизился к переселенцам и стал прислушиваться к их разговору; язык, на котором они говорили, вызвал в его душе те отрадные воспоминания об отечестве, которые воскресают в нас, когда мы слышим дорогие звуки родной речи на чужой стороне.
— Откуда вы, добрые люди,— обратился он к одной из групп,— и отчего покинули свое отечество?
Мужчины и женщины с удивлением посмотрели на незнакомца, который в чужой стране обратился к ним на их родном языке.
— Из Восточной Пруссии, милостивый государь,— отвечал один из крестьян.— Дела наши идут плохо, налоги возросли, а нужда велика. Поэтому мы собрали все свои пожитки и с женами и детьми переправляемся через океан.
— Куда же вы отправляетесь?
— В Южную Америку, милостивый государь, там нужны рабочие руки, а труды вознаграждаются землей.
— А вы? — обратился Эбергард к другой группе.
— Мы из Южной Германии, а вон те из Нассау. Ткацкое ремесло уже и хлеба-то черного не дает нам! О Боже! Все машины, все машины, сударь! Теперь мы отправляемся искать новую родину.
— Сознаюсь, трудно покидать на старости лет землю, где провел всю жизнь, но нужда заставляет,— говорил старик, державший на руках худенького внука.— Последние свои сбережения мы потратили на переезд в Бразилию.
— В Бразилию — о, несчастные! — невольно вырвалось у Эбергарда.
— Что делать? Голод заставляет нас, сударь. Взгляните-ка вон на мою дочь и моих сыновей. Дальше терпеть было невозможно, нужда росла да росла.
Капитан Мартин с грустью смотрел на старика, у которого слезы катились по впалым, бледным щекам.
— А откуда вы? — спросил владелец «Германии», обращаясь к третьей группе немцев, стоявшей в стороне.
— Из Богемии, благородный господин. Ремёсла у нас не приносят больше никакой выгоды; в Бразилии, говорят, лучше.
— Несчастные! — не удержавшись, воскликнул Эбергард.— Вы плывете навстречу гибели и смерти. То, что вам наговорили об этой стране,— ложь: там царят рабство и нищета.
— О, не говорите этого, милостивый государь, не отнимайте у нас последней надежды! — умоляла его молодая женщина, крепко прижимаясь к своему мужу.
Владелец «Германии» видел нежную любовь молодой женщины, которая в нужде и несчастье искала опоры в своем муже, и эта картина тронула его. Улыбка умиления появилась на его губах, между тем как Мартин, закрыв лицо руками, отвернулся, чтобы скрыть свои слезы.
— Куда же вы отправляетесь? — спросил Эбергард остальных.
— В Рио,— разом раздалось несколько голосов.
— Ну, в таком случае, я могу доставить вам выгодную работу. Вы все, все найдете то, на что надеялись, но если еще и другое оставят свою родину, что будет с ними? Возможно ли, что в прекрасных немецких странах так велика бедность? О Мартин, теперь мы вдвойне скорее должны отправиться в наше отечество, которого не видели уже столько лет. Меня сильно влечет туда, но, думаю, после виденного сегодня, нам предстоит там большая работа.
— Я тоже так думаю, господин Эбергард. Черт возьми, опять у меня набегают на глаза эти несносные слезы!
— У тебя добрая, честная душа! Пусть наше пребывание на родине ознаменуется добрыми делами, Мартин.
Выходцы окружили господина, который говорил с ними на их родном языке и принимал в них такое живое участие, и с интересом и надеждой смотрели на него.
— Вы хотите дать нам выгодную работу? — спрашивали они.— О, сделайте это, помогите нам, если можно.
— Послушайте,— отвечал им незнакомец,— если вы благополучно достигнете Рио, обратитесь с этой карточкой к господину фон Вельсу, он тоже немец.
— Кому же достанется эта карточка? — забеспокоились обрадованные мужчины и женщины.
— Подождите, каждый глава семейства получит ее. По этим карточкам господин Вельс пошлет вас во владения Монте-Веро. Название это написано на карточках. Прежде чем вы приедете в Монте-Веро, там уже будет распоряжение от меня, и вы все получите работу, жилище и хлеб. Будьте трудолюбивы и сделайте честь своему немецкому имени! В Монте-Веро вы найдете управляющих и работников с нашей родины. Вот вам деньги, чтобы вы не терпели нужды в пути и не прибыли совершенно обессилевшими и истощенными в Рио, а потом в Монте-Веро.
Переселенцы были тронуты до слез великодушием незнакомца, буквально на коленях они горячо благодарили его за помощь, пытались целовать ему руки в порыве глубокой благодарности. Мартин стоял подле, он был несказанно рад, что его господину представился, случай сделать доброе и великое дело.
— Да благословит и сохранит вас всех Бог! — проговорил благородный незнакомец звучным голосом, пожимая руки тех, кто стоял ближе к нему, а потом быстро направился с Мартином к справочной конторе. Там ему сообщили, куда отправился пароход, зафрахтованный труппой наездников, и через несколько часов незнакомец вернулся с Мартином на свой корабль.
— Наш путь — в Германию,— сказал он.
Еще до наступления ночи пароход вышел из дока. Небо было совершенно чистым, легкая зыбь играла на море, мириады звезд сверкали на безоблачном небе, бриллиантами отражаясь в холодных волнах Северного моря. Но вот раздался сигнал к отплытию; колеса завертелись, судно направилось к родным берегам своего владельца!
II. ВЪЕЗД КОРОЛЯ
Прошло несколько недель со времени вышерассказанного. Теперь просим читателя последовать за нами в Германию.
Был прекрасный солнечный день августа. На окнах домов одной из германских столиц развевались знамена; гирлянды из цветов были перекинуты через улицы; весь город от дворцов до хижин постарался быть праздничным.
Король, принявший правление после смерти отца, возвращался с августейшей супругой в столицу, чтобы вступить на престол и занять замок своих предков. День этот был праздником для народа, который с раннего утра теснился в той части города, где должен был проехать король.
Ремесленники и купцы выстроились под своими штандартами, чтобы громкими приветствиями при звуках музыки встретить королевскую чету; радостное движение и веселье наполняло площади; окна и балконы занимали любопытные в нетерпеливом ожидании торжественного въезда.
Наконец около полудня пушечные выстрелы возвестили о приближении королевского поезда.
Полицейские и жандармы в парадной форме стали расчищать улицы и расставлять любопытных по сторонам. Инфантерия с развевающимися султанами образовала вдоль дороги непроходимую цепь; все взоры были обращены в сторону, откуда ждали королевских особ.
Послышалась музыка. Она становилась все громче и громче, кортеж приближался к триумфальной арке, увитой цветами и украшенной блестящими королевскими гербами. Раздались радостные крики. Музыканты заиграли гимн.
Четыре маршала на белоснежных конях открывали процессию; за ними, на некотором расстоянии, следовал отряд гвардейцев со знаменами; их приветствовали тысячи голосов.
Король в расшитом золотом мундире ехал на прекрасном арабском жеребце; четыре графа несли перед ним на красных бархатных подушках государственные реликвии.
Королю с виду было лет пятьдесят, его круглое лицо с высоким лбом, чуть выступающим подбородком и добродушной улыбкой окаймляли жиденькие, едва заметные бакенбарды; он приветливо кланялся по сторонам и, по-видимому, был тронут радушным приемом, который оказала ему его столица.
За королем на гордых конях следовали принцы королевского дома и богатая свита.
Снова четыре маршала гарцевали на белых лошадях, а за ними отряд кирасиров.
На некотором расстоянии от них в золоченой карете, запряженной шестеркой серых лошадей, ехала королева. Она приветливо отвечала на ликование толпы. Лицо ее было бледным, какая-то тайная грусть отражалась на нем. Брак королевской четы был бездетен; может быть, эта мысль более чем когда-либо теснилась в эту торжественную минуту в голове королевы.
За золоченой королевской каретой следовали роскошные экипажи принцесс, сестер и племянниц короля, за ними — придворная свита и снова отряды гвардейцев.
У высоких триумфальных ворот королевскую чету встретили депутаты от столицы, девушки в белых платьях посыпали дорогу цветами, граждане и ремесленники приветствовали короля и его супругу звуками труб. Ликование сопровождало королевский поезд до самого замка, высокого и обширного. И хотя снаружи его старые стены казались мрачными, внутри он сиял великолепием.
В тронной зале короля встретили министры и посланники, каждый из которых поздравил его от имени своего государя и передал уверения в самой искренней дружбе.
Когда церемония окончилась, был дан обед, на нем присутствовали только члены королевского дома, так как вечером должен был последовать спектакль, а потом бал — первое празднество после траура по покойному королю, на которое было разослано много приглашений. Гостеприимный король, находясь в весьма веселом расположении духа от оказанного ему торжественного приема, еще увеличил число приглашений после того, как обменялся несколькими фразами с министрами и посланниками, которые назвали ему ряд лиц, прибывших в последние дни в столицу и достойных королевского приема.
Множество людей столпилось перед королевским дворцом, и король не раз выходил на балкон благодарить народ за приветствия.
С наступлением вечера зажглась иллюминация, самая блестящая, какую когда-либо видела эта столица. Дворцы некоторых, вельмож вызвали всеобщее удивление, с таким искусством и выдумкой они были украшены. Главная улица столицы, простиравшаяся от дворца до самых Королевских ворот, залитых блеском бенгальских огней, походила на огненное море.
Нарядная, веселая толпа гуляла по улицам, любуясь богато украшенными и иллюминированными домами.
Вскоре экипажи стали с трудом расчищать себе дорогу к ярко освещенному замку, где взад и вперед сновали лакеи и камердинеры. Начался съезд приглашенных.
Три огромные залы были назначены для приема, Украшенные орденами мундиры генералов, оказавших покойному королю незабвенные услуги в сражении против Наполеона, соседствовали с простыми черными фраками. Министры и камергеры, посланники и сановники, князья и известные ученые, беседуя, прогуливались по зале Кристины, получившей это название от портрета одной из принцесс королевского дома. Вдоль зеркальных стен, в которых отражался свет многочисленных люстр и канделябров, были расставлены мягкие стулья с позолоченными спинками, под портретом принцессы были приготовлены увенчанные коронами кресла для королевского семейства.
По четырем углам прекрасной залы Кристины, за дорогими бархатными занавесями, находились буфеты с винами, лакомствами и мороженым, которые беспрестанно разносили лакеи.
Французский посланник, принц Этьен, беседовал со старшим камергером, лорд Уд, немолодой, всегда невозмутимый англичанин с неседеющей белокурой бородой, о чем-то говорил с бразильским посланником, кавалером де Вилларанка, а только что вошедший в залу племянник короля, принц Вольдемар, заговорил с камергером фон Шлеве о мисс Брэндон, занимавшей в последнее время умы всех жителей столицы.
— Ваше высочество, соблаговолите обратить внимание на удивительную укротительницу львов, она, без сомнения, заслуживает внимания,— проговорил камергер фон Шлеве, часто мигая своими бегающими серыми глазами и стараясь скрыть хромоту левой ноги.
Его безбородое лицо, с впалыми морщинистыми щеками, острым носом и бледными тонкими губами, производило неприятное впечатление. Этот пятидесятилетний камергер был поверенным и советником молодого принца Вольдемара.
— Мне бы очень хотелось увидеть эту замечательную укротительницу,— принц Вольдемар небрежно раскланялся с французским посланником.— Позаботьтесь о ложе в один из следующих дней, хотя вы знаете, что я не очень-то жалую этих нарумяненных цирковых дам.
— О, я знаю, мой принц предпочитает невинных простолюдинок, и я днями сообщу вашему высочеству сведения о той очаровательной девушке, которую мы видели третьего дня на дороге.
— Постарайтесь это сделать, господин фон Шлеве.
Это на самом деле прелестная девушка, я давно такой не видел; ее образ преследует меня. О, моя дорогая кузина,— поклонился принц Вольдемар юной принцессе Шарлотте, которая в сопровождении матери, сестры короля, только что вошла в залу.— Я счастлив видеть вас здесь! Вы были нездоровы, о чем я узнал с глубочайшим сожалением.
— Да, я немного прихворнула, но теперь, слава Богу, чувствую себя прекрасно,— отвечала принцесса Шарлотта, очаровательная черноволосая девушка лет двадцати, с гладкой прической, украшенной только несколькими розами.
У юной принцессы были прекрасные голубые глаза, опушенные длинными темными ресницами, бледные щеки, тонко очерченный нос с горбинкой и маленький ротик. На длинное белое платье, подобранное розами, была накинута прозрачная кружевная мантилья, сквозь которую виднелись ее мраморно-белая шея и прелестная линия плеч.
— Не знаете ли, принц,— продолжала принцесса,— кто тот господин в португальском костюме, который сейчас любезно раскланялся с кавалером де Вилларанка?
Принц посмотрел в сторону, куда указала собеседница, и увидел высокого, стройного, господина с густой темно-русой бородой. На нем был богато вышитый бархатный полуплащ, из-под которого виднелся бриллиантовый орден. Шпага с золотой рукоятью висела на боку.
— Должен признаться, дорогая кузина, я впервые вижу этого господина. По-видимому, это гранд какой-нибудь отдаленной страны алмазов.
— Его экипаж, запряженный четверкой прекрасных вороных, одновременно с нашим подъехал ко дворцу, негр в синей ливрее сидел на козлах.
— Я постараюсь собрать о нем сведения и немедленно сообщу их вам, кузина,— принц поклонился.
В эту минуту отворились высокие двустворчатые двери, и пажи, которые еще сохранились при подобных придворных празднествах, возвестили своим появлением о приближении королевской четы.
Король, ведя за руку свою супругу, вошел в залу; на галерее, обитой красным сукном, придворная капелла заиграла гимн; гости встали по сторонам.
Король был в хорошем расположении духа. Саркастическая улыбка, игравшая постоянно на его губах, исчезла, он, как и королева, приветливо отвечал на поклоны блестящего собрания.
Отворились двери в соседнюю и в театральную залы. Залитые ярким светом огромные комнаты поражали роскошью.
Король обратился с несколькими любезными словами к стоявшим возле него министрам и генералам, между тем как королева беседовала с принцессами. Каждый из гостей с бьющимся сердцем ожидал милости быть замеченным королем и удостоиться хотя бы слова.
В то время как придворная капелла исполняла одну из особенно любимых королем увертюр, его величество с интересом рассматривал присутствующих, беседуя со своим братом, принцем Августом, и племянником, принцем Вольдемаром.
Вдруг глаза короля заблестели, он увидел неподалеку симпатичного ему кавалера де Вилларанка и поручил адъютанту попросить к себе бразильского посланника.
— Господин кавалер,— когда тот подошел, начал он по-французски, так как посланник плохо владел немецким,— мы вспомнили, что вы просили нас об аудиенции для графа…
— Для графа Монте-Веро,— прибавил кавалер де Вилларанка.
— Совершенно верно, постараемся запомнить это имя. Вы просили об аудиенции для графа Монте-Веро, я получил от вас собственноручное послание вашего дорогого для нас государя. Представьте нам господина графа сегодня. Присядьте, дорогая,— продолжал король, обращаясь к своей супруге, и подвел ее к креслам.
За ними заняли свои места принцесса Шарлотта, ее мать и высшие придворные; принцы разместились по сторонам.
И тут кавалер де Вилларанка подвел к королю прекрасного незнакомца, который так заинтересовал принцессу Шарлотту. Его величественная фигура с гордой осанкой резко выделялась среди присутствующих.
Король с любопытством смотрел на статного графа; взоры присутствующих также обратились на гостя, явившегося на придворное празднество в португальском костюме.
— Исполняю милостивое приказание вашего величества,— начал кавалер де Вилларанка и, отступив немного назад продолжал: — граф Эбергард Монте-Веро.
— Эбергард? — с удивлением повторил король.— Настоящее немецкое имя.
— Я имею честь и счастье быть немцем, который в отдаленном государстве нашел для себя новую родину,— отвечал Эбергард своим звучным голосом.
— Вы, без сомнения, оказали неоценимые услуги бразильскому двору, граф,— продолжал король,— так как в собственноручном письме ваш государь весьма милостиво и лестно отзывается о вас. У вас, вероятно, большие владения в Бразилии, этой благословенной стране?
— Да, ваше величество, Монте-Веро занимает восемь немецких квадратных миль.
— Полагаю, не всякий немецкий принц или князь обладает такими владениями,— сказал король не без иронии.— И все это обработано и возделано?
— Только по окончании этой задачи я вернулся сюда, чтобы снова увидеть мое прекрасное отечество. Почти десять тысяч немцев-работников заняты на плантациях Монте-Веро.
— Значит, целая колония!
— Мне отрадно слышать такое милостивое название моих владений, ваше величество! Оно придает мне храбрость испросить у вашего величества милость.
— Говорите, граф. Мы весьма признательны кавалеру де Вилларанка, что он представил вас нам. Мы охотно слушаем рассказы о далеких странах, особенно если они таким чудесным образом связаны с нами.
— Осмеливаюсь просить ваше величество удостоить меня как немца милости. Разрешите повергнуть к вашим стопам скромный дар из моих отдаленных владений. Благосклонное принятие его будет невыразимым благодеянием для меня.
— Дар из вашей колонии! — быстро повторил король, на которого простодушие графа Монте-Веро произвело приятное впечатление.— Что же, ждем его С нетерпением.
Граф Монте-Веро поспешно обернулся и отступил немного назад; почти тут же портьера раздвинулась, и король с королевой, улыбаясь, с любопытством посмотрели туда.
На пороге показался негр в богатой голубой ливрее, он нес белую бархатную подушку, на ней лежали три больших черных бриллианта, от которых исходил ослепительный блеск.
Пройдя по зале, негр приблизился к королю и встал перед ним на колени, высоко держа над головой бархатную подушку с подарком.
Сцена эта произвела сильное впечатление на окружающих. Не только из-за бесценных черных бриллиантов, подобных которым не видел никто из присутствующих, но и из-за самого графа.
Это был воистину королевский подарок — каждый из камней был величиной с голубиное яйцо и имел удивительную огранку.
Король поднялся со своего места.
— Нам кажется, что мы вдруг перенеслись в одну из восточных сказок,— сказал он, приветливо улыбаясь и подходя к стоявшему на коленях негру, чтобы рассмотреть бриллианты.— Какая великолепная игра! Удивительные кам^ни!
— Они происходят из Монте-Веро, ваше величество, и потому это не более чем произведение моих земель. Правда, это единственные черные алмазы, которые до сих пор найдены.
— Я принимаю ваш подарок, граф. Один камень я предназначаю для музея, второй дарю своей супруге, а третий оставляю себе. Ну, теперь ваша очередь испросить для себя какую-нибудь милость.
— Ваше величество, я прошу лишь позволить мне являться при дворе и тем самым доказать, что немец, где бы он ни нашел вторую родину, всегда остается верным своему королю и отечеству.
Король, подозвав к себе старшего камергера, передал ему подушку, чтобы показать прекрасные камни королеве, затем обратился к графу и подал ему руку; Эбергард не преклонил колена, а только, низко поклонившись, прижал руку короля к губам.
— Так вы намерены пробыть здесь некоторое время,— прервал молчание король, между тем как гости рассматривали подарок графа, который не оставлял сомнений, что перед ними Крез.
— Желание снова увидеть мое отечество привело меня сюда, ваше величество, и…— Эбергард вовремя остановился: он должен был скрыть другую, священнейшую причину своего путешествия.— И кроме того, и здесь и там я хочу принести некоторую пользу частью моего состояния.
— В этом благом деле, граф, мы можем отчасти помочь вам, ведь теперь мы у вас в долгу. Однако пора начинать спектакль. Пойдемте в театральную залу,— обратился король к своей супруге, которая разговаривала с очаровательной принцессой Шарлоттой,— граф поведет принцессу.
— Столь высокая милость смущает меня, ваше величество.
— Надеюсь, мы часто будем видеть вас, граф, около себя и желаем познакомиться поближе. Следуйте за нами.
Эбергард низко поклонился принцессе Шарлотте, щеки которой покрылись легким румянцем.
— Мне крайне жаль, ваше высочество,— тихо проговорил Эбергард,— если, будучи для вас человеком едва знакомым, окажусь не совсем приятным собеседником.
— О нет, граф, пусть это вас не смущает,— ответила красавица принцесса, взяв предложенную ей руку графа и направляясь с ним вслед за августейшей четой в обширную театральную залу.
— Уверен, вы охотнее приняли бы общество какого-нибудь из присутствующих принцев,— тихо сказал граф, занимая кресло подле улыбающейся принцессы Шарлотты,— хотя эта милость доставляет мне большую радость.
— Что касается меня, то я сомневаюсь и в том и в другом, господин граф.
— Ваше высочество, я человек прямой и говорю всегда только то, что думаю, а посему смею вас уверить, что все сказанное мною было совершенно искренне.
— Это прекрасное, но, к сожалению, весьма редкое в наш век качество, господин граф, и я должна сознаться, что оно делает ваше общество еще приятнее для меня. Насколько позволяет придворный этикет, я сама придерживаюсь тех же принципов.
Поднятие занавеса прервало разговор; сперва было пропето несколько арий, потом давалась маленькая комедия, тонкие остроты которой часто вызывали общий смех. Принцессу Шарлотту также, по-видимому, забавляла пьеса. Граф Монте-Веро отметил в своей молодой, прекрасной собеседнице неподдельную веселость. Придворные, сидевшие вокруг, куда внимательнее следили за каждым движением и выражением лица графа, чем за ходом пьесы,— он сделался предметом толков, героем дня.
Все терялись в догадках о его происхождении, о том, каким образом он нажил в Бразилии такое состояние, и зачем снова приехал в Германию.
Но молодой граф не обращал внимания на придворных, он был выше их толков и злых острот.
Знаменитейшая артистка столицы под тихие звуки музыки прочла стихотворение, которое произвело сильное впечатление на присутствующих, особенно на нежные женские сердца, и вызвало несколько слезинок на прекрасных очах принцессы Шарлотты; Эбергард заметил и эту черту ее мягкого сердца.
Затем шла легкая французская пьеска, и, наконец, в зале Кристины раздалась музыка для танцев.
Лакеи разносили мороженое и шампанское, между тем как мужчины и дамы, разделившись на пары, прохаживались по залам. Принц Этьен беседовал с роскошной, пышущей страстью герцогиней Соест, придворной дамой королевы, принц Вольдемар подошел к своей прекрасной кузине, чтобы осведомиться, понравился ли ей новый фаворит двора, а камергер Шлеве, стоя в стороне, раздумывал, как бы напасть на след той невинной девушки, о которой ему говорил принц, и решил прибегнуть к помощи некоей госпожи Роберт, которая многим придворным кавалерам и дамам давала наилучшие советы и наставления при подобного рода деликатных обстоятельствах.
Брат короля, принц Август, открыл бал с королевой; король не танцевал.
Граф Монте-Веро, прислонясь к колонне и скрестив руки на груди, вдали от танцующих рассматривал портрет Кристины. Это была прекрасная бледнолицая женщина, ее темно-русые волосы украшала жемчужная диадема, мечтательные голубые глаза говорили о каком-то страдании; тонко очерченный нос, прекрасный рот и розовые губы были так блестяще написаны, что принцесса Кристина предстала перед глазами изумленного графа, как живая. Простое черное платье обрисовывало ее стройную фигуру, черная вуаль ниспадала на плечи, шею обвивало сверкающее ожерелье.
Картина невольно поглотила все внимание Эбергарда; он углубился в созерцание этого прекрасного лица с отпечатком какой-то тайной грусти.
Так продолжалось несколько минут; взгляд графа Монте-Веро оставил портрет и встретился вдруг с глазами вошедшей в залу принцессы Шарлотты, она слегка покраснела и опустила глаза.
Какое-то непонятное грустное чувство овладело графом. Вызвала ли его картина или принцесса, или, быть может, он снова вспомнил о цели своего путешествия?
Он находился только несколько дней в столице и не успел еще встретиться с мисс Брэндон, но встреча эта была слишком важна для него, он во что бы то ни стало должен был видеть ту, которую так давно искал.
Граф.тихо подошел к принцессе. При этом он заметил, как высоко вздымается ее грудь, хотя принцесса, кроме польки, которую протанцевала с принцем Вольдемаром, не участвовала в других танцах.
Эбергард попросил ее на вальс; Шарлотта положила руку ему на плечо, и прекрасная пара помчалась по зале под звуки дивной музыки. Когда граф, улыбаясь, подвел утомленную принцессу к стулу и, низко кланяясь, благодарил, из-под камзола вдруг выскользнул амулет, висевший на золотой цепочке.
Принцесса увидела его. Это была драгоценная вещица с какими-то странными знаками. На золотом овале в обрамлении бриллиантов были изображены три знака из жемчужин — крест, солнце и череп.
Принцесса с удивлением взглянула на амулет; казалось, и король заметил драгоценное украшение графа. Шарлотта хотела обратиться к нему с вопросом, но Эбергард, молча поклонившись, избежал ее взгляда и быстро скрылся в толпе гостей. Вскоре после того король подал знак к окончанию бала.
III. ЛЕОНА
Через несколько дней после описанных нами событий по узкой улочке города спешил, кутаясь в плащ, высокий господин. Очевидно, он направлялся к темневшему вдали зданию столичного цирка. На соборной башне только пробило шесть часов, но уже было так темно, что неизвестный едва различал подъезды и окна здания. Только совсем приблизившись, он увидел по одну сторону цирка тусклый фонарь.
В эту минуту из тени портала, украшенного колоннами, навстречу ему вышел тоже высокий и плечистый человек, который, по-видимому, его ожидал.
— Ты ли это, Мартин?
— К вашим услугам, господин Эбергард.
— Узнал ли ты что-нибудь?
— Час назад камергер фон Шлеве посетил мисс Брэндон, когда она уже была внизу, в помещении львов.
— Говорил ли он с ней?
— Нет, господин Эбергард я видел в окно, как молодой человек, его зовут Гэрри, вскоре спровадил его.
— Видела и узнала ли тебя мисс Брэндон?
— Нет, господин Эбергард.
— Подожди меня здесь, Мартин.
Широкоплечий, уже известный нам из первой главы капитан парохода «Германия», этот добрый, честный малый, который каждую минуту готов был отдать жизнь за своего господина, хотел еще что-то шепнуть ему, но Эбергард уже исчез в портале цирка.
Мартин отошел в сторону, так как появились рабочие, чтобы зажечь фонари,— близилось время открытия кассы. Эбергард спустился по лестнице, что вела в уборные наездниц. Сердце его сильно билось — свидание, к которому он теперь готовился, было целью его путешествия через океан, и мы увидим, что причина, побудившая его к тому, была очень важной.
Эбергард был в невзрачном серо-коричневом сюртуке и такой же шляпе и вполне мог сойти за работника. Когда он достиг длинного коридора, освещенного несколькими газовыми рожками, глухой рев указал ему дальнейший путь. Он остановился перед дверью с бронзовой дощечкой, на которой значилось: «Мисс Леона Брэндон», и трижды постучал. Тихие шаги приблизились изнутри, дверь отворилась, и Эбергард увидел ту, которую так долго искал.
Леона Брэндон, узнав Эбергарда, в испуге попятилась; с минуту она стояла как вкопанная, только что-то невольно прошептали ее прекрасные губы. Черное платье с длинным шлейфом и без всяких украшений и отделок обрисовывало стройную фигуру женщины; ее темные блестящие волосы были гладко зачесаны, даже мгновенный испуг не заслонил на ее бледном лице и в темных глазах выражения гордости и властолюбия.
Она отступила назад, и Эбергард воспользовался этим, чтобы пройти в комнату и запереть за собою дверь.
— Мы одни, графиня,— проговорил он низким голосом, оглядев помещение, в глубине которого находилась большая позолоченная клетка с тремя львами.
— Эбергард,— прошептала мисс Брэндон, приходя в себя,— вчера, заметив вас в экипаже на гулянье в парке, я подумала, что вижу привидение.
— Вы не ошиблись, я искал вас.
Мисс Брэндон справилась с собой, и ее прекрасное лицо снова приняло холодное и гордое выражение.
— Какой странный маскарад, граф! — проговорила она с сарказмом, глядя на простой костюм Эбергарда.
— Мой костюм не менее странен, чем и все то, что я вижу здесь. Я пришел сюда, графиня Понинская, потребовать своего ребенка!
— Потребовать от меня ребенка! Странное требование, господин граф! Ваш ребенок — это и мой ребенок, и отчего вы не называете меня по имени, все же я ваша жена?
— Бывшая, хотите вы сказать, графиня Понинская. Я полагаю, этот вопрос в нашей жизни решен навсегда. Не думаю, чтобы после всего происшедшего и после четырнадцати лет разлуки что-либо связывало нас.
— Вы были в Америке…
— Да, и я приехал сюда только для того, чтобы потребовать у вас свою дочь, которая оставалась на вашем попечении,— проговорил Эбергард спокойно.
Леона Брэндон, или графиня Понинская, оставила вопрос Эбергарда без ответа; казалось, она не могла спокойно выносить его взгляд.
— Вы молчите, вы колеблетесь, мое предчувствие…— Глаза Эбергарда заблестели.— Где мой ребенок?
— Тише, господин граф!
— Я требую от вас ответа, не оставляйте меня долее в неизвестности. Выражение ваших глаз меня пугает! Мой ребенок мертв?
— А если и так? — Леона торжествующе улыбнулась, явно наслаждаясь страданиями стоявшего перед ней человека.
— В таком случае вы его убили!— через силу выдавил из себя Эбергард, приблизившись к этой жестокосердной женщине.— Моя дочь была для вас обузой, она мешала вашему ненасытному честолюбию, честолюбию, которое привело вас сюда, на арену, где вы демонстрируете, что вам покоряются даже цари пустыни. Где мой ребенок? Я требую от вас признания.
Леона с возрастающим волнением слушала Эбергарда; глаза ее дико сверкали, грудь высоко вздымалась, руки сжимались от злобы.
— Я не признаюсь вам ни в чем! — прошептала она наконец.
— Тогда я сумею заставить вас! — Эбергард не в состоянии был владеть собой — страх за ребенка заглушил в нем все,
Леона отступила назад поспешно подошла к большой золотой клетке, в которой с ревом метались львы, и положила свою изящную руку на крюк, что запирал дверцу. Еще одно движение — и львам будет открыт доступ к отважному, дерзкому человеку, который спокойно, с вызовом на лице встретил ее угрозу. Ничто не выдавало в нем ни боязни, ни Страха, непреклонный стоял он против женщины, рука которой каждую минуту готова была открыть дверцы клетки.
— Отворите, отворите клетку, сударыня,— проговорил он с ледяным спокойствием.— Там, за океаном, я научился обращаться с этими животными. Конечно, я могу не справиться с тремя сразу, но не думайте, что вы этим освобождаетесь от ответа на мой вопрос. Если вы не скажете, где моя дочь, которой теперь уже должно исполниться шестнадцать лет, то весь свет узнает, что мать Леоны Брэндон, графини Понинской…
— Молчите! — Леона невольно простерла к нему руки.— Вы знаете…
— Я знаю все! Где мой ребенок?
— Я передала его… после того, как мы расстались,— простонала Леона,— моей горничной, она отдала его на воспитание в одно семейство…
— Что это за семейство?
— Это семейство канцеляриста Фукса, который содержал учебное заведение.
— Дальше, дальше! Я должен знать, где искать своего ребенка, чтобы, наконец, сделать его счастливым,— голос Эбергарда выдавал всю глубину его тоски по дочери.
— Это семейство куда-то скрылось, все мои поиски остались тщетными.
— Значит, вы постарались…— Эбергард язвительно усмехнулся, но не кончил фразы.
— Я знаю только, что муж той молодой женщины, которая воспитывала ребенка, скрывается где-то в лесу, его преследуют.
— Бессердечная, в чьи руки отдала ты моего ребенка,— прошептал Эбергард, в отчаянии закрыв лицо руками.— Горе тебе, если я ее не найду, горе тебе, если я, что еще ужаснее, найду свою дочь преступницей. Тогда я уничтожу тебя, но я не наложу на тебя руки — Боже избавь! Наказание, которому ты подвергнешься, будет страшнее!
Графиню повергли в смятение слова Эбергарда. Она знала его непоколебимую волю и твердый характер, она знала, что свое слово он всегда сдержит.
В эту минуту в глубине комнаты отворилась широкая дверь и на пороге появился молодой человек лет двадцати в трико с серебряными блестками, которое выигрышно демонстрировало его стройную фигуру. Он явно был удивлен, увидев незнакомца в комнате мисс Брэндон.
— Я сегодня же ночью отыщу в лесу этого бесприютного,— тихо проговорил Эбергард.— Дай Бог, чтобы я нашел свою дочь; это было бы хорошо и для вас и для меня!
И он повернулся" к выходу.
Леона провожала его мрачным, сверкающим ненавистью взглядом.
Когда дверь за ним затворилась, она обратилась к юноше, стоявшему в глубине комнаты со скрещенными на груди руками:
— Гэрри, вы хорошо запомнили этого человека?
— О, я узнаю его среди тысяч!
— Даже если увидите между князьями, в орденах?
— И тогда, мисс Брэндон! Для вас я найду его везде.
Леона мрачно молчала, подавленная угрозой, потом вскинула голову — ее страстная, необузданная душа вынесла приговор.
— Я ненавижу его! — прошептала она.
— Сознайся, Леона ты его боишься! О, какой позор! Я или он!
Взгляд юноши был прикован к прекрасному лицу мисс Брэндон, которая всецело владела этим молодым и еще неопытным сердцем.
IV. НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Все старания Эбергарда и Мартина открыть местопребывание канцеляриста Фукса оказались тщетными. Где бы они ни появлялись в своих поисках, везде их неизменно встречали бедность и нищета. Эбергард не только раздал все находившиеся при нем деньги, но и на следующий вечер возобновил раздачу пособий. Его согревала мысль, что он облегчает участь обездоленных, тем более, что, может быть, среди них находится и его дочь.
Исходив леса вокруг столицы, Эбергард с Мартином с наступлением вечера прекратили поиски. Дали знать полиции об укрывательстве Фукса, так что им на смену по окрестностям отправились многочисленные сыщики.
Тяжело действовали на душу Эбергарда эти тщетные поиски; он любыми средствами хотел найти дочь, чтобы вознаградить ее за все испытания, перенесенные у чужих людей. Жестокосердная мать без зазрения совести передала свою дочь в ужасные руки, и если в благородном сердце Эбергарда еще недавно теплилось какое-то чувство к Леоне, то теперь она для него больше не существовала.
«Мой ребенок находится среди преступников! — думал он, и отчаянием наполнялось его сердце.— Может быть, девочка уже погибла и потеряна навсегда»…
Мартин шел подле графа. Душевные муки потрясали, терзали Эбергарда, но не лишили мужества.
Они миновали главную улицу, протянувшуюся от Королевских ворот до замка. Вечером, при ярком освещении витрин, она представляла собой красивое зрелище. Затем они направились к древнему замку и свернули в широкую Марштальскую, вдоль которой с обеих сторон высились богатые особняки. Через несколько минут Эбергард и Мартин остановились у здания со статуями в нишах и резными дверьми искусной работы.
Двери отворились сами собой с помощью потайного механизма и заперлись снова, когда Эбергард и его провожатый вошли в вестибюль, наполненный матовым светом.
Этот дом граф Монте-Веро купил по прибытии в столицу у одного архитектора, знавшего толк в современном комфорте. Эбергард переехал в него со своей прислугой, сделав лишь незначительные изменения.
Из круглого вестибюля можно было пройти в три различных покоя, так как в глубине его находились три высоких резных двери. На них не было ни замков, ни запоров, но, подойдя ближе, можно было заметить, что они крепко и надежно заперты.
Левая дверь вела на лестницу, украшенную редкими экзотическими цветами и растениями, по ней можно было подняться в рабочий кабинет Эбергарда. Она отличалась чужестранным убранством. Казалось, граф целиком привез его с собой из Бразилии, чтобы постоянно иметь перед глазами воспоминание о стране, где он, благодаря собственной предприимчивости и уму, сделался Крезом.
Искусного плетения циновки украшали стены, поверх них были развешаны украшенные драгоценными камнями ружья и пистолеты. Овальные столы окружали резные ореховые стулья с плетеными сиденьями. Почти всю стену занимал секретер из душистого розового дерева с множеством потайных ящичков и шкафчиков. А по сторонам его высились пальмы и разлапистые алое. В глубине комнаты из фонтана в виде львиной пасти в большой мраморный бассейн струилась вода. Бассейн обрамляли вьющиеся лианы, среди них стояли две золотые клетки — одна с яркими попугаями, вторая — с ручными обезьянами.
Средняя дверь вестибюля вела в большую, роскошно убранную залу, которую мы посетим в одной из следующих глав, теперь же последуем за Эбергардом по мозаичному полу вестибюля в правую дверь. Она также бесшумно отворилась перед ним, за нею была мраморная лестница с тропическими растениями и душистыми цветами по сторонам, она походила на садовую террасу в лунном свете. Шитый золотом ковер заглушал шум шагов. Наверху в ожидании своего повелителя замер Сандок. Он поклонился и раздвинул портьеру, за которой находилась роскошная зала.
Сам король, которого граф Монте-Веро в день его торжественного въезда в столицу привел в изумление своим драгоценным подарком, не мог бы похвастать такими апартаментами.
Один громадный ковер с так натурально вытканными цветами, что они казались рассыпанными по полу, покрывал всю залу. Люстра из матового золота и такие же канделябры на стенах распространяли яркий и вместе с тем приятный для глаз свет.
Темно-синюю бархатную обивку стен оттенял вишневый шелк на диванах и креслах.
Перед диванами стояли мраморные столы и столики на золоченых ножках. В глубине залы находился камин из резного камня. Стоявшие на нем часы являли собой замечательное произведение искусства и к тому же показывали не только часы и дни, но даже месяц и год. По обеим сторонам камина на высоких постаментах замерли Амур и Психея.
На стене слева висел большой портрет старика с благородными чертами лица. Эбергард часто сидел напротив этого полотна на мягкой оттоманке, над которой золотой орел держал в клюве золотую нить. Стоило только дотронуться до нее, как откуда-то начинала звучать прекрасная музыка.
Немногие выпадавшие на его долю часы досуга и покоя граф любил проводить в этой прохладной комнате, перед портретом почтенного старца, которому длинная белая борода и широкий коричневый плащ придавали сходство с апостолом.
Лицо Эбергарда неизменно теплело, когда он смотрел на старца. Он часто мысленно беседовал с ним.
«Твой кроткий, светлый взор, отец Иоганн, всегда благотворно действует на мою душу. Ты служишь мне примером, ты — мой поводырь в жизни. К твоим словам и рассказам я жадно прислушивался мальчишкой, твоим советам следовал, когда был юношей; сделаться подобным тебе, достичь твоего человеколюбия, твоей душевной чистоты и твоего благородства — вот цель моей жизни.
Час твоей кончины был самым печальным для меня. Да, отец, он был тяжелее того, когда я увидел себя обманутым в самых святых чувствах той, которая должна была разделить мою любовь к тебе. Ты, отец мой, учитель мой, друг мой, подозвал меня к себе и, благословляя, положил свои дрожащие руки на мою голову. То, что ты должен был сообщить мне, мучило тебя, и ты прошептал слабым голосом: «Я не твой отец!»
— Как?! — вскричал я в отчаянии.— Неужели ты хочешь отнять у меня то единственное, чем я так горжусь! Ты любил меня, ты внушал мне любовь — о отец Иоганн, если и в самом деле не ты произвел меня на свет, все равно ты навеки останешься моим отцом.
Твои губы зашевелились, но беззвучно, ты откинулся назад, и тайна моей жизни умерла вместе с тобой, но на твоем благочестивом лице сияла улыбка, словно ты хотел сказать мне: «Я любил тебя, как отец любит своего родного сына».
Я преклонил колена у твоей постели, прижался лицом к твоей холодной руке и так пролежал всю ночь.
Благословение твое охраняло меня, но твои последние слова глубоко запали в мое сердце. Я пытался найти разъяснение тайне, но не нашел его. Напрасно разбирал я бумаги, что лежали на твоем письменном столе; относительно всего нашел я твою волю и твои сообщения, но мое происхождение навсегда осталось для меня тайной.
Тогда внутренний голос мне сказал: «Не ищи более, останься ему верен и люби его как родного отца!»
Когда я покидал твой дом, на пороге светской жизни, ты, давая мне серьезные наставления, надел на меня амулет, который и сегодня у меня на груди. „Вера, свет и презрение к смерти,— проговорил ты при этом,— вот твой девиз".
Знаки эти повсюду сопровождают меня — посмотри, отец Иоганн, они стали для меня жизненным правилом».
Эбергард дернул за шнурок — и над мраморным камином разошлась стена. В нише сверкало солнце — кристаллы так преломляли свет, что оно казалось настоящим. По сторонам ярко горели освещенные им крест и череп:
В эту минуту портьера раздвинулась, и в залу вошли двое. Увидев блестящие символы, они остановились.
Один из вошедших был высок ростом и крепко сложен. Рассудительное и серьезное выражение лица, большие, много потрудившиеся руки да и вся его фигура делали его похожим на Эбергарда. Другой, напротив, был мал ростом и худощав. Его безбородое лицо избороздили морщины. Казалось, он лет на десять старше хозяина дома, в то время как высокий выглядел на столько же моложе.
Оба были друзьями молодости, и теперь, возвратившись на родину, граф снова отыскал их. По странному стечению обстоятельств, одному из них, Ульриху, достался в наследство амулет с теми же тремя символами, что и у Эбергарда. С этими людьми граф мог делиться горем и радостью.
— Приветствую вас, друзья,— проговорил Эбергард, обращаясь к вошедшим.— Проходите и присаживайтесь.
Друзья тепло поздоровались.
— Нам нельзя засиживаться,— сказал маленький.
— Куда же вы торопитесь, доктор Вильгельми? Вероятно, опять что-то стряслось? По вашему лицу, дорогой Ульрих, я вижу, что вы встревожены, поделитесь, чем же. Ведь мы всегда действуем заодно.
— Постараюсь изложить все в нескольких словах,— проговорил доктор, садясь в ближайшее кресло.— Через полчаса в «Колизее» начнется народное собрание, и мы пришли, чтобы вместе с вами отправиться туда, господин Эбергард.
— Дело серьезное,— прибавил Ульрих,— барон Шлеве…
— Камергер принца Вольдемара? — уточнил Эбергард.
— Барон Шлеве возмутил народ, мы услышим обвинения, выдвинутые против него. Скажу только, что он ухаживал за красавицей дочерью машиниста Лёссинга, весьма прилежного и честного человека. Юная девушка и ее отец, несмотря на его неоднократные угрозы, постоянно отказывали ему. Это раздосадовало знатного господина, который полагал, что они должны почитать за честь для себя его гнусные предложения, и он решил заставить отца воздействовать на дочь, а в противном случае разорить его. Он купил дом, где у машиниста была своя мастерская, и велел ему очистить помещение. И вот теперь самым бесчестным образом начал преследовать бедного рабочего. Барон отбивает у него заказы, отнимает кредит, и теперь этот несчастный человек едва может прокормить свое семейство и платить жалованье своим рабочим,— с глубоким возмущением закончил Ульрих.
— Потому что дочь отказала барону? Какая низость! — в свою очередь возмутился Эбергард.
— И это не первый случай,— прибавил маленький доктор.— Я знаю и другой, еще безобразней. Но поспешим, сегодня в народном собрании выступает некто Миллер-Мильгаузен…
— Миллер-Мильгаузен…
— «Друг народа», как он называет себя, человек, который, как мы увидим, делает все, чтобы народ стал, счастливым,— не без иронии пояснил доктор Вильгельми.— Вскоре он намерен отправиться по провинциальным городам, дабы и там распространять свои улучшающие мир теории.
— Вы, кажется, не очень верите в них? — спросил Эбергард.
— Так же, как и я,— серьезно подхватил Ульрих.— Но только толпа не разуверилась. Не будем мешкать, пойдемте, послушаем его! Еще несколько таких «друзей народа» — и от нищих не будет отбоя.
Друзья вышли из дома, графа трудно было узнать в простом костюме. Доктор Вильгельми служил им проводником. Как мы увидим далее, он был весьма разносторонней личностью. Трудился для блага, человека не только как врач, но и как исследователь природы и ее тайн и, несмотря на свои многочисленные занятия, находил время и для общественной жизни.
Ульрих же был человеком из народа, который, благодаря своему трудолюбию и прилежанию, сделался самым богатым золотых дел мастером столицы и продолжал работать с тем же усердием, как и прежде. Он, который постоянно вращался среди народа, а потому знал все его чаяния и беды, возраставшие с каждым годом, был дальновидным и опытным человеком.
Эбергард любил его. Когда они впервые встретились, Эбергард сильно привязался к сыну ремесленника, а внешнее сходство еще усиливало эту дружбу. В бытность Эбергарда в Бразилии они даже переписывались.
— Вот мы и пришли,— сказал, наконец, доктор Вильгельми, когда они после долгих блужданий вышли на широкую улицу.
Громко переговариваясь, спешили еще грязные после работы мастеровые в синих блузах и замасленных фуражках к старому дому, перед которым горели два больших фонаря. Над открытой дверью виднелась надпись, сделанная большими черными буквами;— «Колизей». К этой-то двери и тянулся в большом волнении народ. Иногда слышалась оживленная беседа, а порой раздавались и угрозы.
За дверью находилась высокая и обширная зала, способная вместить тысячи три человек. По сторонам ее тянулись галереи, которые вскоре тоже наполнились народом.
Эбергард и Ульрих следом за доктором попробовали отыскать себе внизу места поудобнее. Разумеется, здесь надо было стоять — не было ни стульев, ни скамеек, которые только стеснили бы пространство.
Слышался возбужденный гул голосов. В глубине залы виднелось возвышение — что-то вроде кафедры для оратора. Справа от нее за столом сидели двое. Перед ними лежали листы бумаги.
— Вот он, «друг народа»! — шепнул доктор Вильгельми графу, который вместе с Ульрихом протиснулся поближе к кафедре.
— Этот невысокий лысый толстяк с белокурой бородкой?
Да, господин Миллер-Мильгаузен, он и выступит с речью.
Эбергард посмотрел внимательно на человека, который вызвался защищать интересы народа, вернее, рабочего класса. Граф отлично сознавал всю тяжесть возложенной на себя Миллер-Мильгаузеном ноши — ведь для этого нужны недюжинная сила, умение и энергия. Но отвечает ли всему этому самозваный защитник народа?
И чем дольше граф всматривался в умное и хитроватое лицо демагога, тем более он сомневался в его способностях.
Зазвонил колокольчик; возле колонн, поддерживавших галереи, появилось несколько полицейских; голоса смолкли, и оратор взошел на кафедру.
Раздались нестройные рукоплескания, «друг народа» поблагодарил за приветствия и первым делом стал говорить о собственном бескорыстии, потом перешел на произвол аристократов и высокопоставленных чиновников, и, сопровождаемый одобрительными выкриками мастеровых, приступил к обсуждению дела машиниста Лессинга. Из слов Мильгаузена следовало, что интриги одного из сильных мира сего сделали Лессинга нищим, так что уже две недели он не может платить жалованье своим работникам, вследствие чего их семейства не имеют в доме даже куска хлеба.
Этот пример был общеизвестным фактом, и он еще больше разжег толпу, тем более что оратор после каждой фразы восклицал:
— Положив руку на сердце, скажите, братья, прав ли я?
— Да! Да! — раздавались голоса.— Вот это настоящий защитник!
Эбергард спокойно следил за каждым словом оратора; но лицо его становилось все мрачнее по мере того, как «друг народа», вместо того чтобы наставлять толпу на путь истинный, развивать и образовывать ее, воспользовался случаем с камергером, чтобы показать себя и взбудоражить собравшуюся публику.
Когда, наконец, оратор заключил свою речь словами: «Теснее ряды вокруг вашего вернейшего друга, который говорит сейчас с вами», и они сопровождались криками одобрения, Эбергард подошел к столу и попросил слова.
Непросто было взойти на кафедру, с которой «друг народа» только что сошел с торжеством победителя. Все взоры были обращены на незнакомца, одетого в костюм рабочего.
— Я должен вам объяснить,— проговорил Эбергард своим низким, звучным голосом, когда в зале наступила тишина,— что не люди слова, а люди дела — ваши настоящие друзья. Не верьте всякому, кто льстит вам и хочет быть вашим вождем. Нетрудно отрывать вас от работы и сзывать сюда для того, чтобы наговорить вам красивых слов; истинный друг может указать вам только три составляющих на пути к благоденствию — это образование, умение владеть собой и благосостояние.
Послышались недовольные крики, «друг народа» скептически улыбался, но Эбергард спокойно продолжал:
— Тот из вас, кто имеет справедливую жалобу, пусть обратится к мастеру Ульриху, которого вы все знаете и уважаете; что последует за этим, я объяснять вам здесь не стану, достаточно сказать, что ему окажут помощь.
— Кто это? Тоже пустые слова! — слышались отдельные голоса.
— Завтра вы перемените свое мнение,— сказал все так же уверенно Эбергард.— Ступайте по домам и принимайтесь за работу. Помните, что только труд ваших рук приносит неоценимую пользу людям. Не возмущайтесь, что торжествуют богатые и знатные, не придавайте этому слишком большого значения, работа делает человека довольным самим собой и достойным даров, которыми его наделил Бог.
— Слушайте!… Слушайте! — зашумели в толпе.— Кто же это?
— Машинист,— сказал кто-то.
— Нет, резчик-гравер,— поправили его. Крики негодования стали мало-помалу стихать.
— Те, кто работает в мастерской Лессинга,— продолжал Эбергард,— сегодня вечером получат хлеб для своих детей и жалованье от своего хозяина. Можете проверить, правду ли я говорю.
Под возгласы «Посмотрим!», «Что еще за чудеса!» Эбергард сошел с кафедры и мгновенно вместе с друзьями исчез в толпе. Напрасно искали его, напрасно пытались разгадать, кто он.
Первый оратор снова вышел на кафедру, стараясь очернить своего оппонента. Сначала многие соглашались с ним, но час спустя, когда из мастерской Лессинга пришел работник и принес весть о том, что все мастеровые получили жалованье и что работа будет продолжаться, настроение собравшихся изменилось.
Народ стал расходиться, только и слышались толки о незнакомце. И чтобы разузнать что-либо о нем, многие решили отправиться ко всеми уважаемому мастеру Ульриху.
В тот же вечер Эбергард сам отправился к машинисту Лессингу, дом которого так внезапно посетили нищета и отчаяние. Человек этот скорее обрек бы себя и свое семейство на голодную смерть, чем отдал бы на поругание свою дочь. И даже теперь, когда его маленькие дети просили хлеба, честный ремесленник не отступил бы.
Когда в дверь тихо постучали, Лессинг готов был увидеть посланного камергера Шлеве, но на пороге стоял какой-то незнакомый господин.
Несмотря на поздний час, Эбергард попросил ремесленника показать его мастерскую, чтобы осмотреть земледельческие орудия, которые Лессинг не мог закончить из-за недостатка денег. Графу очень понравилось снаряжение для плугов и молотильных машин, и так как ему нужны были такие орудия, он назвал себя и сделал несколько заказов на пробу, обещав зайти через несколько дней, чтобы отправить первые изделия в свои отдаленные имения и затем заказать следующие. Граф тотчас отдал часть денег за заказы, хотя Лессинг пытался отказываться от них.
V. ПРИДВОРНАЯ ОХОТА
Прекрасный охотничий замок Шарлоттенбрун, стоявший на опушке леса, находился в двух милях от столицы. Король со свитой и гостями обыкновенно отправлялся туда по железной дороге, которую соорудили только год назад.
Разослали многочисленные приглашения на предстоящую охоту, и гости должны были собраться в назначенный час на вокзале, чтобы отправиться в королевском поезде, между тем как шталмейстеры и егеря с лошадьми и собаками были посланы в замок еще накануне.
Король не особенно любил охоту, однако, подобно своему покойному отцу, считал своей обязанностью не нарушать традиций и раз в году, осенью, навещал Шарлоттенбрун, получивший свое название в честь покойной королевы.
Короля сопровождали королева, принц Август, принцесса Шарлотта с матерью, строго следовавшей всем тонкостям этикета, и принц Вольдемар со своим камергером. В качестве приглашенных на вокзал явились лорд Уд принц Этьен, кавалер де Вилларанка и граф Монте-Веро.
Эбергард отослал накануне Сандока со своими превосходными вороными лошадьми в Шарлоттенбрун и теперь был в коротком шитом золотом темно-зеленом сюртуке, высоких, доходивших до колен, сапогах с золотыми шпорами и в черной охотничьей шляпе с сизым пером. Его роскошные ружья были тоже взяты Сандоком.
Эбергард поклонился принцу Вольдемару, его бледному, вечно улыбавшемуся камергеру и принцессе Шарлотте, которая, сидя в вагоне королевы, разглядывала из окна собиравшихся, и затем обратился к кавалеру де Вилларанка, облаченному в фантастически неудобный охотничий костюм — его шитый золотом темно-зеленый бархатный полуплащ казался слишком тяжелым.
Паровоз нетерпеливо пыхтел, как бы сообщая этим, что он уже давно готов к отправлению. Поездная прислуга только ожидала знака к отъезду. И вот к вокзалу быстро подкатила карета, егерь, соскочив с козел, отворил дверцы, и на платформу, милостиво отвечая на поклоны присутствующих, спустился король со своей августейшей супругой.
Принцесса Шарлотта вышла из вагона приложиться к руке королевы, между тем как король остановился возле принца Вольдемара и барона Шлеве. Затем, удостоив несколькими словами обер-егермейстера, он направился к своему вагону. Поблизости от него стояли граф Монте-Веро и кавалер де Вилларанка.
— А! Граф Монте-Веро! — приветливо улыбнулся король, пристально глядя на Эбергарда.— Мы просим сопровождать нас. Какой изящный охотничий костюм! В самом деле, граф, вы отличаетесь отменным вкусом!
Эбергард низко поклонился, сняв шляпу и продемонстрировав тем самым свои прекрасные густые волосы и высокий лоб, придававший его благородному, мужественному лицу прямодушное выражение.
— Прошу сопровождать нас,— повторил король, одетый в простой генеральский мундир.
Эбергард последовал за королем в вагон, украшенный королевским гербом. Следом за ними вошли несколько адъютантов и подали знак к отправлению. Пройдя отдельное купе, они оставили графа наедине с королем.
В королевском вагоне мягкие удобные кресла располагали к отдыху, а мраморные столики и большие в позолоченных рамах зеркала в простенках между окнами с темно-зелеными шелковыми занавесями создавали особый уют.
Король снял фуражку и подошел к окну.
— Присядем, граф. Мы с вами имеем почти полчаса для беседы. Должен сознаться,— продолжал король, садясь и указывая графу на кресло,— что мне было бы интересно узнать, не ошибся ли я тогда на балу, который вы сделали для меня незабываемым, увидев рядом с вашими орденами амулет…
Эбергард встретился взглядом с королем.
— Замечательный амулет, на нем, кажется были три знака; я решился спросить вас о нем, так как видел подобное украшение у другого человека.
— Ваше величество удостоило меня внимательного взгляда,— отвечал Эбергард.— Я действительно ношу такой амулет.
— Что же это за символы?
— Крест, солнце и череп, ваше сиятельство.
— Странно, те же самые знаки! Вам известно, от кого вы получили этот амулет?
— Амулет этот — подарок моего отца, ваше величество, но о его происхождении я ничего не знаю. Я могу сообщить вам только то, что видел точно такой же.
— У кого же?
— У золотых дел мастера по имени Ульрих.
— Может быть, в его семействе изготовляли эти таинственные украшения? А может, они служат для какой-нибудь тайной связи?
— Говорят, что в прежние времена это было именно так.
— Мне говорили, граф, что вы поддерживаете отношения с некоторыми старыми друзьями?
Эбергард с удивлением, но прямодушно посмотрел на короля.
— Толки эти, полагаю, явились следствием одного из недавних народных собраний. Действительно, ваше величество, я имею несколько друзей, которые, подобно мне, стремятся к одной цели.
— Вольнодумцы? Не так ли? — быстро спросил король.
— Мне кажется, ваше величество, что этому слову придается более неблагоприятная трактовка, чем оно того заслуживает.
— Так объясните же, как вы его понимаете.
— Если вольнодумством называют стремление распространить образование, помогать нуждающимся и служить человечеству, ваше величество, тогда…
— Что тогда, граф?
— Тогда я действительно такой, каким меня считают, хотя нахожусь в столице всего несколько недель.
— Видите, у меня верные слуги, однако, надеюсь, народ правильно понимает ваше стремление?
— Опасности, ваше величество, грозят каждому предприятию, но человек должен их преодолевать, если убежден в его необходимости.
— Где же вы нашли необходимость такого предприятия?
— По ту сторону океана и здесь, ваше величество, число выходцев увеличивается, нужда растет.
— Странно, граф, вы слишком строго и мрачно смотрите на вещи; бедность существовала всегда.
— А разве это причина, по которой ее не следует искоренять? — быстро проговорил Эбергард.
Лицо короля омрачилось, он бросил странный взгляд на графа и встал, Эбергард сделал то же самое.
— Если бы я не знал, что вы опытный человек, граф,— сказал король,— скажу откровенно, я бы счел вас мечтателем.
— Юным мечтателем, хотите вы сказать, ваше величество, который гонится за мнимыми идеалами!
— Молодость всегда склонна к фантастическому вольнодумству, но вы, граф…
Эбергард едва заметно улыбнулся, король, казалось, с нетерпением ожидал ответа.
— Ваше величество, опыт в жизни приобретается только путем неустанной работы мысли, борьбы и страданий, и вот вывод из всего этого и побуждает человека занять известную позицию. Назовите это, ваше величество, вечной молодостью, согласен, но следование этой позиции всегда достойно. Ничто в мире никогда не остановит меня помогать бедным и, насколько в моих незначительных силах, бороться за правду! — отвечал Эбергард с одушевлением, между тем как поезд остановился.
Король с минуту молча и пристально смотрел на полное воодушевления лицо графа. Слова его тронули и вместе с тем озаботили короля. Он подошел к графу, в этот момент адъютанты отворили двери вагона.
— Мне бы хотелось называть вас своим другом, граф,— быстро проговорил король, подавая Эбергарду руку и пристально глядя ему в глаза.— Принимаете вы эту дружбу?
— О, это большая честь для меня, ваше величество! — взволнованно ответил граф Монте-Веро, низко поклонившись королю.
Придворные, оказавшиеся свидетелями этой сцены, не могли не отдать должного такому отличию.
— Мы понимаем теперь, почему вы столь дороги тому отдаленному двору, который так неохотно расстался с вами, граф.
После этих слов король вышел из вагона на перрон, возле которого остановился поезд, и Эбергард последовал за ним.
Все с любопытством смотрели на графа, а французский посол принц Этьен счел нужным присоединиться к новому королевскому любимцу, справедливо полагая, что его влияние при дворе растет с каждым днем.
Между тем как Эбергард, беседуя с принцем, шел по террасе, по сторонам которой росли апельсиновые деревья, король беседовал с обер-егермейстером фон Тримпшейном, а дамы королевского дома со своей свитой направлялись по другой дороге к охотничьему замку.
Дороги разделяла широкая цветочная клумба и высокие апельсиновые деревья, однако Эбергард заметил, что принцесса Шарлотта, которой очень шла длинная светло-зеленая амазонка, часто посматривает в его сторону.
Замок Шарлоттенбрун стоял на горе; позади него тянулся лес, а впереди с террасы открывался прекрасный вид на луга и поля, которые, несмотря на осеннее время, еще хранили прелесть лета. Сам замок был невелик и не отличался наружным блеском.
Королевская чета вместе с гостями подошла к широкой лужайке перед замком; по обеим сторонам ее стояли лакеи и прислуга, от обер-егеря до учеников садовника одетые в праздничные платья.
Жокеи и конюхи с лошадьми и всем, что необходимо для охоты, стояли по другую сторону замка, у опушки леса, откуда должна была начаться охота. Но прежде был назначен завтрак, который, по распоряжению фон Тримпшейна, был подан в большой зале замка.
Обер-егермейстер был мастер устраивать завтраки и обеды для знатных гостей и с изумительным искусством собственноручно готовил самые изысканные блюда и напитки. Стол был сервирован с особым изяществом. Икра, свежие устрицы, несколько видов жаркого, пикантные паштеты теснились в изобилии. Граф Монте-Веро, по желанию короля, сидел подле него, напротив принцессы Шарлотты.
Бокалы ежеминутно наполнялись вином, лакеи быстро сновали взад и вперед, но вот подали шампанское, и веселье достигло высшей точки.
Завтрак затянулся дольше, чем ожидали; король встал из-за стола только по прошествии нескольких часов, и когда все вышли из замка на лужайку, чтобы сесть на лошадей, солнце уже клонилось к закату. Воздух был свеж, и приятная прохлада, наполненная благоуханием осени, поднимала охотничий задор гостей, которые с помощью шталмейстеров садились на лошадей. Издали уже слышались веселые звуки труб, и егери со сворами собак стояли наготове.
Король ехал в открытой коляске, сопровождаемый егермейстерами, гости следовали за ним на лошадях. Принцесса Шарлотта грациозно и крепко держалась в седле, сжимая поводья своей прекрасной серой лошади. Зеленая амазонка обрисовывала ее стройный, гибкий стан, а прекрасные темные волосы прикрывала меленькая шляпка с белым пером. В руке она держала изящный хлыст.
Принц Этьен на дорогом буланом коне гарцевал подле нее, переговариваясь с ней по-французски. Вороной конь Эбергарда, слушаясь хозяина, следовал на некотором расстоянии за придворными.
В стороне принц Вольдемар пытался укротить свою неспокойную лошадь, отказавшись от помощи шталмейстера. Его, видимо, забавляло молодое горячее животное, беспрестанно подымавшееся на дыбы.
— Это вы виноваты, барон! — крикнул он камергеру Шлеве, который быстро подскакал к принцу.
— Прошу извинения, ваше королевское высочество!
— Ничего, вы доставляете мне этим удовольствие! Все ваши выдумки имеют какую-то особую прелесть, я люблю такие шутки!
— Вы весьма милостивы, ваше королевское высочество, к своему преданнейшему слуге! — отвечал барон, и хитрое выражение его лица уступило место выражению крайней преданности.
— Скажите, барон, что за человек этот новоявленный граф? — спросил принц полушепотом, наклоняясь к своему поверенному.— Я его совершенно не понимаю. Мне показалось даже, что мой августейший дядя при выходе из вагона протянул ему руку и тот ее дружески пожал.
— Я тоже заметил, ваше высочество, и тем более изумился, что этот странный незнакомец слывет возмутителем народа. Этому графу угодно не замечать меня, но зато я с полным бескорыстием посвящаю ему все свое время! — отвечал камергер с улыбкой, которая придавала его желтому морщинистому лицу неприятное выражение.
— Оригинально, как и всегда! — проговорил принц, смеясь.
— Господин граф заслуживает особого внимания, как ни странно, случай мне, кажется, благоприятствует. Я надеюсь еще сегодня собрать некоторые сведения о нем.
— Сегодня, каким образом? — спросил принц.
— Дело в маленьком rendez-vous[1], которое я, рассчитывая на позволение вашего королевского высочества, назначил в павильоне, что находится вот там, на опушке леса.
— Снова интересное приключение? В самом деле, барон, вы неистощимый мастер на выдумки; без сомнения, вы ожидаете даму.
— Конечно, ваше королевское высочество, но только в надежде получить от нее сведения, которые могут заинтересовать и вас.
— Мне бы очень хотелось застигнуть вас в павильоне, чтобы посмотреть, кто та дама и не нарушите ли вы программу своего rendez-vous.— Принц многозначительно посмотрел на камергера.— Но вы знаете, что я подвергнусь немилости, если до окончания охоты оставлю своего августейшего дядю.
— Одного взгляда было бы достаточно, ваше высочество, чтобы убедиться, что лишь любознательность составляет цель этого свидания, так как дама, которая будет ожидать меня в павильоне…
Камергер шепнул принцу на ухо какое-то имя, и затем оба быстро поскакали к коляске короля.
Уже вечерело. Золотистые лучи заходящего солнца еще освещали верхушки деревьев и играли на листьях. Кругом было тихо. Летний вечер мало-помалу спускался на землю. Принцесса Шарлотта с наслаждением глядела на окружающую природу.
— Посмотрите, какой очаровательный красный цвет, господин граф,— обратилась она к Эбергарду, после того как король подозвал к себе принца Этьена, может быть, даже с тем, чтобы оставить свою племянницу в обществе графа Монте-Веро.— Какая цветовая гамма! Должна сознаться, только сейчас вижу всю бедность нашей раззолоченной столичной роскоши. Как ласкает взор темная зелень ветвей, облитых красноватыми лучами заходящего солнца!
— Красота и тайны природы всегда составляли мою единственную радость,— отвечал Эбергард.— Я рос, окруженный ею, я любил ее, как дитя любит свою мать.
— Полагаю, со мной было бы то же самое, если бы я чаще видела ее.
— Исполнить это желание не так трудно, ваше высочество. Но мне кажется, что после удовольствий богатой придворной жизни вас не удовлетворит скромная и тихая природа.
— Напротив, граф, такая перемена была бы мне очень по сердцу. Мы одни. Сознаюсь, мне крайне надоели весь этот этикет и потоки заученных приторных фраз.
— Мне кажется, я понимаю вас, принцесса,— сердечно ответил Эбергард.
— Так сбросим же с себя личину светскости, которую оба так ненавидим, пока находимся вне общества поклонников этого идола. Я счастлива, что нашла в вас человека, который с первой же встречи произвел на меня впечатление своей благородной правдивостью.
— Как приятно и утешительно мне это слышать, принцесса!
— Поверьте, это от души! Отстанем немного от кавалькады, или, может быть, вы страстный охотник и я злоупотребляю вашим вниманием, удерживая вас!
— Даже охота на диких зверей дальнего юга не может заменить для меня этот час, принцесса. Или, может быть, вы думаете, что я разделяю все те благородные страсти, которые составляют идеал большей части придворных? Нет-нет, доставьте мне удовольствие остаться подле вас.
Эбергарду было действительно приятно в обществе очаровательной Шарлотты; ему нравились ее чистосердечие, ее грация и доверие, которое она питала к нему.
Он, который имел случай изучить до тонкости женское сердце, ценил в молодой принцессе ее врожденную непринужденность, откровенность и с удовольствием беседовал с нею.
Увлеченные разговором, граф и принцесса выпустили из рук поводья, предоставив своим лошадям самим следовать за кавалькадой. И они не заметили, как на перекрестке лошади их свернули вправо на дорогу, которая вела к темному лесу. Сначала вдали слышались шум голосов и лай собак, но вскоре замер последний звук, выдававший присутствие королевской свиты, и прекрасная пара осталась наедине, окруженная полумраком и тишиною леса. Вдруг послышались выстрелы; граф и принцесса остановили лошадей и тут заметили, что находятся возле глубокого оврага.
Почти в ту минуту, когда замолкли выстрелы, ветви кустов, подле которых остановилась принцесса, неожиданно раздвинулись и на лошадь девушки с яростью метнулся олень, вероятно, раненный или испуганный выстрелом.
Лошадь принцессы, увидев взбешенное животное, взметнулась на дыбы, чтобы одним скачком увернуться от удара оленя; но она находилась только в нескольких шагах от пропасти, и, сделай лошадь скачок назад, глубокая пропасть стала бы могилой и ее и молодой всадницы.
Принцесса вскрикнула в смертельном страхе.
Олень на мгновение замер, но затем, опустив рога, снова бросился на лошадь, чтобы по крайней мере недешево продать свою жизнь.
Эбергард молнией соскочил с коня, выхватив на ходу охотничий нож, и вцепился левой рукой в поводья испуганной лошади.
Шарлотта, лишившись чувств, упала на мох, а Эбергард, зажав в руке нож, ожидал нападения неожиданного врага. Яростное животное ринулось на обнаженное оружие; одним ударом граф сразил оленя, который, захрипев, свалился на землю.
Теперь Эбергард мог позаботиться о своей прекрасной спутнице; бледная, как мрамор, она лежала на мху подле пропасти. Здесь было темно от высоких деревьев, вокруг никого не было, и только теперь Эбергард понял, что совершенно отделился от прочих охотников.
Привязав лошадей к одному из ближайших деревьев, он подошел к безжизненной принцессе, но все старания привести ее в чувство оказались напрасны.
Эбергард не знал, что и делать; но тут, придя почти в отчаяние, он заметил шагах в ста от себя крышу дома, проблескивавшую в последних лучах вечерней зари. Вероятнее всего, это был лесной павильон, какие часто встречались в королевских угодьях. Если даже там и не было лакеев или горничных, домик этот мог послужить убежищем для безжизненной принцессы.
Не теряя ни секунды, граф осторожно поднял Шарлотту на руки и быстро понес в домик. Он не ошибся: это был действительно один из тех лесных павильонов с несколькими комнатами и входами, которые часто во время охоты или прогулок двора служили местом отдыха. Эбергард со своей прекрасной ношей подошел к ближайшей застекленной двери и, отворив ее, внес девушку в большую комнату, где стояли легкие стулья и оттоманка. Осторожно опустил он бесчувственную принцессу на подушки. Веки ее были закрыты, темные волосы рассыпались по плечам. Она едва дышала, обморок был продолжительным и глубоким.
Граф стал искать холодную воду, чтобы смочить лоб принцессы, но ничего не нашел в этом необитаемом павильоне. В отчаянии он вдруг вспомнил, что по дороге сюда видел ручей, и, оставив принцессу, поспешил за водой, к счастью, при нем была хрустальная кружка.
Выйдя из павильона, он заметил барьер, но оставил его без внимания, да и в эту минуту ему было бы все равно, кому бы ни принадлежал этот павильон, пусть даже принцу Вольдемару.
Вечер превратился в ночь, когда граф достиг ручья; а когда он, наконец, возвратился с водой, луна уже бросила свои первые серебристые лучи на живописный лес. С часто бьющимся сердцем подошел он к павильону и тихо отворил дверь.
Он вздохнул с облегчением, когда увидел, что принцесса приподнялась на оттоманке. Она казалась еще очень слабой.
— Что со мной, где я? — прошептала она.— Не сон ли это? Я сейчас слышала голоса…
— Милая принцесса! — проговорил Эбергард, тихо подходя к ней.
Шарлотта подняла на него свои прекрасные глаза, и счастье озарило ее лицо, на которое через высокое открытое окно смотрела луна.
— Вы здесь? — проговорила она, слегка краснея.— Где моя мать? Где мои придворные дамы, где гости?
Эбергард почтительно рассказал ей о случившемся и подал холодную воду, чтобы она могла освежиться.
— Я благодарна вам за участие, господин граф! Право, я не заслужила такой заботы!
— Я лишь исполнил свой долг, принцесса! — отступив назад, поклонился Эбергард. В эту странную минуту он не мог произнести ничего, кроме этих обыденных холодных слов.
— Надеюсь, я теперь в состоянии вернуться в замок Шарлоттенбрун. Слышите? Мне кажется, доносятся звуки труб, давайте поспешим к лошадям.
— Прошу вас смелее опереться на мою руку,— сказал Эбергард своей прекрасной спутнице, для которой эти слова, вероятно, имели особое значение, так как ее милое лицо оживилось румянцем и дрогнула рука.
— Это сейчас пройдет,— проговорила она шепотом.— Небольшая слабость, ее снимет свежий ночной воздух.
Эбергард отворил двери и повел принцессу через лужайку к освещенной луной дороге, где в некотором отдалении стояли их лошади.
На другой стороне, у опушки, был маленький пригорок. И вдруг граф Монте-Веро остановился, не веря собственным глазам, будто перед ним предстало страшное привидение.
Принцесса взглянула в ту же сторону и оцепенела.
На опушке леса, освещенная луной, словно языческая богиня, стояла Леона. Гордо выпрямившись, с ледяной улыбкой на прекрасных губах, мрачно смотрела она на принцессу и Эбергарда.
Чуть в стороне, в тени деревьев, прятался камергер Шлеве.
Принцесса Шарлотта в испуге крепче прижалась к своему сильному спутнику, взгляд которого все еще был прикован к Леоне, будто он хотел убедиться, что воображение не обманывает его.
— Пойдемте, пойдемте отсюда, граф! — умоляла принцесса.— Я боюсь этих людей!
— Успокойтесь, ваше высочество,— отвечал граф Монте-Веро.— Я с вами!
— Что это за ужасная женщина? — спросила Шарлотта.
— Зто мисс Брэндон, царица львов,— ответил Эбергард и направился с принцессой к лесной дороге.
Позади раздался полуторжествующий-полугрозный смех, который так страшно прозвучал в тишине ночи, что дрожь пробежала по телу принцессы.
Наконец они достигли нетерпеливо ржавших лошадей и через несколько минут нашли на лугу озабоченных придворных. По лесу уже разослали егерей с факелами и трубами на поиски принцессы.
— Мы сами во всем виноваты,— сказал король с милостивой улыбкой,— или, скорее, господин фон Тримпшейн, завтрак которого так затянулся. Но представьте себе, господин граф: тот прекрасный олень, которого нам так расхвалил господин обер-гофмейстер, бесследно куда-то скрылся, и все наши усилия оказались напрасными.
— Он лежит убитый вон там, недалеко от павильона, ваше величество,— отвечал Эбергард,— господа оберегермейстеры найдут его.
— Значит, вы герой дня,— поздравляем вас, граф! Вернемся в замок.
VI. ПЕРЕД ОБРАЗОМ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
Спустя полчаса после того, как Эбергард и принцесса Шарлотта отстали от группы придворных, камергер Шлеве, расставшись с принцем Вольдемаром, поспешил к месту свидания. Барон боялся опоздать, так как ему известна была гордость мисс Брэндон. Сколько пришлось потратить усилий, чтобы уговорить ее согласиться на это свидание, и если теперь он опоздает, то гордая красавица не станет ждать и все его надежды рухнут. Барону помогло имя Эбергарда. Только благодаря тому, что в изящной записочке, посланной им Леоне, упоминалось о графе, с которым у нее, видимо, были свои счеты, она согласилась на свидание.
Камергер Шлеве имел какие-то планы относительно прекрасной мисс Брэндон — недаром он беспрестанно обращал внимание принца на таинственную незнакомку, которая своей смелостью приводила в изумление жителей столицы.
Барон стремился взять принца Вольдемара в руки в надежде не только увеличить этим свою власть, но и нажить состояние. Он был весьма опытен и хитроумен в составлении и осуществлении разных планов и здесь также ловко и напористо принялся за дело.
Вскоре он уже был возле павильона, что находился на границе парка, привязал лошадь к дереву и, прихрамывая, побрел к стеклянной двери домика.
Мисс Брэндон еще не было, так что он, пододвинув кресло к окну, стал нетерпеливо поджидать царицу львов.
Павильон состоял из четырех обособленных комнат, в каждую из которых вела самостоятельная дверь; но камергер не сомневался, что мисс Брэндон войдет именно туда, где сидел он, так как эта комната находилась ближе всего к дороге, что вела в парк.
Его болезненно-желтое лицо, расплата за развратное прошлое, почти всегда, когда он оставался наедине с. собой, имело хитрое выражение. Однако, как только он оказывался в обществе того, в ком нуждался или кого хотел прибрать к рукам, оно становилось ласковым и заискивающе-покорным. Даже в его голосе появлялись добродушие и благосклонность, которые могли обмануть всякого, кто его не знал. Таким образом он сумел снискать себе доверие не только принца Вольдемара, что придало ему большое влияние при дворе.
Но вот серые глазки его заблестели — он увидел Леону, которая соскочила с лошади и, передав поводья своему провожатому, в котором камергер узнал ее страстного обожателя Гэрри, слепое орудие воли укротительницы, направилась к павильону.
Барон встал, отодвинул кресло и отворил дверь. Безупречная красота приближавшейся женщины, ее стройный стан вызвали у камергера немой восторг. Черное платье с длинным шлейфом выигрышно обрисовывало прекрасную фигуру и делало ее выше ростом. Лицо ее немного раскраснелось от езды, но сохраняло мраморную холодность. В его чертах читались властолюбие, отвага и железная воля. Ее римский нос с горбинкой, четко очерченный рот, сочные губы, как-то дико и гордо глядящие глаза, на первый взгляд, противоречили ледяному спокойствию этой натуры. Казалось, сердце этой женщины не способно на горячую и искреннюю любовь.
Она холодно поклонилась барону, который ввел ее в комнату и затворил дверь.
— Господин камергер, я намерена,— проговорила Леона, опускаясь в кресло,— пробыть здесь весьма недолго.— Небрежно, но рассчитанным движением она отбросила шлейф своего тяжелого черного платья.— Вы пригласили меня сюда — я хотела бы узнать цель этого таинственного свидания.
— Прошу простить меня, милостивая мисс Брэндон, что я избрал этот отдаленный домик местом нашего разговора, но его не должно слышать третье лицо,— стараясь быть предельно любезным, отвечал Шлеве.— Разговор столь важен, что я даже не осмелился доверить его бумаге.
— Вы в самом деле возбуждаете мое любопытство, говорите скорее. В вашем любезном письме было упомянуто имя…
— Имя графа Монте-Веро.
— Так что же?
— Мне кажется, ваши отношения с ним могли бы помочь нам в осуществлении нашей общей цели.
— Отношения? В самом деле,— отвечала Леона, внимательно следя за выражением лица барона и стараясь понять, что ему нужно от Эбергарда.
— В таком случае вы, может быть, изволите сообщить мне некоторые сведения о графе.
— Какого рода, господин камергер?
— Сведения, которые бы немного рассеяли тайну вокруг этого человека.
— Значит, вы… приняли сторону противников графа! — быстро проговорила Леона. Она едва не сказала: «Вы ненавидите графа», и еще более заинтересовалась разговором.
— Понимайте, как хотите, прелестная мисс Брэндон.— Камергер с саркастической улыбкой следил за выражением лица Леоны и понял, что она готова стать его союзницей.— Услуга за услугу, дорогая мисс. Помогите мне прибрать к рукам графа Монте-Веро, и я передам в ваши прекрасные маленькие руки весьма высокопоставленное лицо. Вы любите властвовать, я это знаю. Я доставлю вам, которая сумела сделать рабами своей воли царей пустыни, случай показать свою силу и ловкость и в другом, не менее легком деле; я ни минуты не сомневаюсь, что вы отлично справитесь с ним.
— Называйте вещи своими именами, любезный барон; полагаю, мы поймем друг друга.
— Принц Вольдемар до безумия влюблен в вас, от вас зависит сделать его чувство еще сильнее. Прежде вы должны мне позволить поднести ему дикий цветок, который он увидел здесь за городом и хочет сорвать, но я обещаю вам, что цветок этот скоро завянет для него! Принц — странная натура! Он с тем большей страстью преклонит колени перед вашим скипетром, чем скорее будет исполнено его желание сорвать тот дикий цветок.
— Перейдем теперь к сути вашего предложения,— сказала Леона.
— Вы имеете в виду графа? О, какое нетерпение! Это похоже на отвергнутую любовь.
Леона наказала дерзкого таким презрительным взглядом, что барон Шлеве, как бы прося прощения, смущенно склонил перед нею голову.
— К чему вы ведете весь этот разговор? Хотите всего лишь сказать, что принц меня любит? Я жду главной причины, побудившей вас пригласить меня сюда. Простите за откровенность, но ради этого сообщения мне не стоило предпринимать столь далекую поездку.
— В таком случае я буду говорить прямо: мы оба ненавидим графа! — Фон Шлеве понял свою собеседницу.— Я тоже люблю откровенность: мы оба ненавидим графа,— повторил он.— И вы должны передать его в мои руки, услуга с моей стороны — принц!
Леона неприязненно улыбнулась. Уже совсем стемнело; мисс Брэндон, величественная, словно королева из древних времен, стояла перед камергером, с нетерпением ожидавшим ответа.
— Значит, предлагаете заключить союз? — проговорила она, наконец, шепотом.
Барон невольно впился в нее взглядом.
— Непременно, милостивая государыня, и я надеюсь, что он пойдет нам обоим на пользу.
— Так сделаем же первый шаг!
— Прежде всего я должен просить вас сообщить мне сведения о графе Монте-Веро, они, вероятно, такого рода, что его падение будет неизбежно.
— Только падение? — спросила Леона, и барон понял смысл ее вопроса.
— Его гибель, мисс Брэндон, если прикажете,— уточнил камергер, рассчитывая, что тем самым скорее склонит Леону на свою сторону.
— Когда, завтра?
— Завтра вечером, а теперь — сведения!
— Они несложны, господин барон. Если граф Монте-Веро.останется жив, я не могу принять предложения принца.
— Я понял, сударыня. Значит, завтра вечером графа надо завлечь в западню; он так же силен, как ловок и умен.
— Вы думаете, необходимы особые приготовления, чтобы заставить его прийти? — спросила Леона, но затем быстро прибавила: — Назначьте место, даю вам слово, что граф явится!
— Один?
— Если хотите, один.
— В таком случае потрудитесь устроить, чтобы он завтра вечером явился на перекресток дорог, находящийся близ рощи.
— Отлично! А вы имеете верного слугу?
— Я найду его. Есть человек, который охотно затевает ссоры и при этом обыкновенно прибегает к оружию; он меня не знает, но я знаю его; товарищи называют его Кастеляном.
Глаза Леоны заблестели.
— Место, назначенное вами, достаточно безлюдное и уединенное? — поинтересовалась она.
— Весьма уединенное. Потрудитесь назначить графу явиться в шесть часов вечера, уже будет достаточно темно. Могу ли я быть уверен в вашей услуге?
— Несомненно, барон, и на будущее можете смело располагать мною,— отвечала коварная красавица.— У меня тоже есть человек, который не остановится ни перед какими препятствиями, лишь бы сделать мне приятное.
— Вы имеете в виду преданного вам Гэрри?
— Угадали! Только он слишком вспыльчив и безрассуден, поэтому я только заставлю его, не говоря с какой целью, написать приглашение, которое, я надеюсь, достигнет своей цели.
— Вы волшебница, сударыня,— воскликнул он и, увидев, что Леона собирается к отъезду, добавил: — Через несколько дней я буду иметь честь справиться о вашем здоровье.
Эти слова смутно, как бы во сне, услышала в соседней комнате принцесса, придя в себя после обморока.
Когда Леона и барон Шлеве вышли наружу, на освещенную луной лужайку, последний обратил внимание своей спутницы на то, что слышал звуки, доносившиеся с другой стороны павильона или с опушки леса. Мисс Брэндон, которую Эбергард называл «графиней Понинской», поднялась на взгорок, чтобы оттуда обозреть всю местность; камергер, стараясь, по возможности, скрыть свою хромоту, последовал за ней.
Мы уже знаем, что они вдруг увидели перед собой того самого человека, которого только что поклялись убить, и не одного, а в сопровождении особы, появление которой привело камергера в неописуемое изумление.
После того как принцесса и граф Монте-Веро скрылись в лесу, Леона, демонически улыбаясь, подала своему единомышленнику руку в знак нерушимого союза. Содрогание вызвала бы эта ужасная пара, освещаемая бледным светом луны, у каждого, кому довелось бы их сейчас видеть.
Когда на следующее утро Эбергард проснулся в своей спальне в столице, куда королевский поезд прибыл уже далеко за полночь, перед его постелью, которая помещалась в большой прохладной комнате позади известного уже нам кабинета, стоял негр Сандок. Он походил на статую из черного мрамора. Черные руки в белых перчатках держали золотой поднос.
— Что это у тебя, Сандок? — спросил Эбергард по-португальски.
— Очень важное письмо, господин граф! — отвечал негр, многозначительно моргнув глазами.
— Уже письмо! — удивился Эбергард.— Кто и когда принес его?
— Какой-то неизвестный человек четверть часа назад.
Эбергард встал и схватил письмо, почерк был ему незнаком. Быстро развернув листок, он пробежал его глазами; с каждой строкой лицо его выражало все большее удивление.
Письмо было следующего содержания:
Господин граф! Я слышал, что вы ищете свою дочь, которую мне передала дама почти четырнадцать лет назад. Если вы желаете узнать подробности о ее местопребывании, потрудитесь явиться сегодня вечером в шесть часов без провожатых на перекресток дорог близ рощи. Если же вы явитесь не один, то труд ваш будет напрасен — вы никогда не услышите обо мне, так как я сегодня же вечером уезжаю отсюда.
Фукс, бывший канцелярист.
Эбергард, исполненный радости, перечитывал письмо человека, которого столько искал, он один только мог ему сказать, где его ребенок. И граф решил идти на предложенное ему свидание. На минуту у него мелькнула мысль, не довести ли это до сведения суда. Но тогда он, как сказано в письме, мог бы навсегда лишиться возможности узнать что-либо о своей дочери. Осторожная Леона хорошо обдумала свой план и, нужно отдать ей должное, исполнила свое дело мастерски.
Еще никогда для графа Монте-Веро время не тянулось так долго, как сегодня. Он было пробовал заняться делом в своем кабинете, но его мучило нетерпение. Да и могло ли быть иначе! Он должен был, наконец, получить известие о своей дочери, которую искал уже столько лет!
Под вечер Эбергард, прихватив на всякий случай оружие и накинув на плечи легкий плащ, покинул свой дворец на Марштальской улице, не взяв с собой Мартина и не сказав никому, куда отправляется.
Вскоре он был уже на улице, в многочисленной толпе. Солнце уже начинало заходить — и он поспешил по направлению к заставе, чтобы через Мельничную улицу выйти на отдаленный перекресток дорог.
Закатное солнце огненным шаром повисло над самым горизонтом. Багровые облака неслись по вечернему небу, а ветер играл ветвями деревьев, росших по сторонам дороги. Эбергард жадно вдыхал свежий аромат приближающейся ночи. Странные чувства наполняли его душу в то время, как он шел по пустынной дороге. Возбужденные письмом надежды одушевляли его. Фукс был единственным человеком в мире, который мог ответить на его вопрос. Сколько времени искал он его, сколько было потрачено энергии и сил. И вот теперь настал счастливейший час его жизни.
Скрылись последние лучи заходящего солнца, вокруг распространился мягкий полумрак. На расстоянии ста шагов от себя Эбергард увидал густой кустарник, в тени его стоял образ Богоматери, предоставляя усталому путнику удобное место для отдыха и молитвы.
Эбергард невольно остановился, затем тихо приблизился к образу, но вдруг снова замер: перед образом на коленях молилась девушка, она была так прекрасна, что Эбергард долго не мог оторвать от нее глаз. Прохладный ветер играл ее золотистыми кудрями, черное платье стягивало стройную фигурку. На вид ей было не более шестнадцати лет.
Не смея мешать молившейся, благоговейно устремившей взор на лик Богоматери, Эбергард пошел по мягкому песку дальше. Ему казалось, что чудное видение сейчас исчезнет, и он решил еще раз увидеть это прекрасное создание. Какая-то невидимая сила так и тянула его к кустарнику, откуда он мог наблюдать за ней. Погруженная в молитву, девушка не замечала графа. Наконец Эбергард достиг деревьев, последний луч заходившего солнца осветил чудное лицо девушки. Ее темно-голубые глаза, опушенные Длинными ресницами, были устремлены на образ, слеза, как перл, блестела на них. Прелестное лицо было грустным, легкий румянец играл на ее щеках, губы шептали тихую молитву. Эбергарду казалось, что он видит перед собой не простую смертную, а какое-то высшее существо, ангела, который молится за спасение душ человеческих.
И, действительно, по странному стечению обстоятельств, эта девушка невольно стала его ангелом-хранителем.
На башнях отдаленного города пробило шесть часов. Эбергард ничего не слышал. Как зачарованный, стоял он перед чудной картиной, не смея дышать. Мир и тишина царили вокруг, ничто не нарушало святости этого часа.
В эту минуту из груди девушки вырвался глубокий вздох, она перевела глаза на кустарник, заметила фигуру человека и быстро вскочила.
Эбергард хотел удержать ее, но она проскользнула через кусты шиповника. Он звал ее, кричал, хотел броситься следом, но напрасно, она скрылась в сгущавшейся темноте.
Ангельское виденье исчезло, и он с унынием долго глядел ему вслед.
В эту минуту ему послышался крик о помощи и шум голосов, он выскочил из куста на дорогу, но вокруг опять все стихло.
Теперь только Эбергард заметил, что час, назначенный ему для свидания, давно прошел, и потому, удостоверившись, что оружие при нем, поспешил к месту встречи.
Во мраке леса ему послышалось какое-то хрипенье, но Эбергард не знал страха, он продолжал путь по пустой, безлюдной дороге, между тем как звуки эти становились все тише, раздавались реже и, наконец, совсем стихли.
Луна скрылась за тучами, ночной ветер глухо завывал в ветвях, но кругом было тихо.
Эбергард взял в правую руку револьвер, чтобы каждый миг быть готовым к защите,— тот, к кому он шел, был опасным человеком.
В лесу сделалось так темно, что ничего не было видно и в шаге от себя, и Эбергард подумал, что, быть может, и спрятавшийся где-нибудь за кустом Фукс теперь может не заметить его.
— Фукс! — громко закричал он.
— Фукс! — отозвалось эхо в лесу.
Всякий другой не решился бы оставаться здесь в такую пору, но Эбергард, привыкший к опасностям, только удивился, что Фукс так долго не откликался.
Он решил идти дальше и снова позвать Фукса, который должен был находиться поблизости. Вдруг он задел ногой какой-то предмет, лежавший поперек дороги. Что это могло быть? Ужасное предчувствие шевельнулось у Эбергарда. Он нагнулся, чтобы ощупать этот предмет, так как ничего не мог рассмотреть в непроницаемом мраке.
Рука Эбергарда ощутила лицо человека. Он подумал, не хитрые ли это замыслы преступника, и быстро схватил труп второй рукой на случай, если Фукс окажется мнимым мертвецом. Однако вскоре Эбергард убедился, что держит в руках действительно безжизненное тело; он понес его на более открытое место, чтобы осмотреть лицо. Из глубокой раны над сердцем на песок стекала кровь.
Эбергард подозревал в этом преступлении Фукса, который, не дождавшись его, вероятно, бежал; он еще раз позвал преступника по имени, затем решил доставить труп в столицу, чтобы там по этому поводу провели расследование.
Убитым оказался Гэрри.
Когда Леона диктовала ему письмо к Эбергарду, в котором за подписью Фукса приглашала его на роковое свидание, в уме Гэрри пробудилось подозрение, что эта женщина, которую он любил до безумия, назначает тайное свидание Эбергарду,. и потому окольными путями он пробрался в назначенный час на перекресток дорог и тут-то попал в руки того ловкого злодея, которого камергер Шлеве называл Кастеляном.
Волею судьбы Эбергард, пропустивший время свидания, созерцая молитву молодой и невинной души, спас свою жизнь.
Как граф должен был быть ей благодарен! Но он и не подозревал, что совершившееся преступление имеет под собой романтическую почву.
VII. ПАНСИОНАТ ГОСПОЖИ ФУКС
Если бы только граф Монте-Веро догнал бежавшую от него девушку и заговорил с ней, они оба избавились от многих слез и страданий! Но судьба распорядилась иначе: им надо было пройти через горькие испытания, перенести тяжкое горе. Просим читателя последовать за нами в большой столичный город.
С наступлением осени вы видите на мостах и углах многолюдных улиц мальчиков и девочек, предлагающих прохожим свои товары раздирающим душу криком:
— Грош за овечку, сударыня, купите, только грош! Подходя ближе, вы видите несчастных, дрожащих от холода детей, одни держат на коленях коробочки, в которых лежат маленькие деревянные овечки. Другие — бегут вслед за прохожими и предлагают им жалобными голосами маленькие букетики цветов, чтобы потом на вырученные деньги купить себе еду.
Две девочки, с корзинками в руках, быстро шли по оживленным улицам по направлению к заставе. Стоял сырой и холодный сентябрьский вечер. На башенных часах давно уже пробило девять.
Одна из девушек, высокая и стройная, была лет шестнадцати, другая — маленькая дурнушка — помладше.
— Накрой корзинку платком, Лина,— сказала старшая,— Воздух сырой, и пряники, которые ты опять не продала, размокнут; смотри, чтобы тетя Фукс тебя за это не поколотила.
— Помоги мне, Маргарита, корзина такая тяжелая, да еще на этой руке у меня палец болит!
Маргарита, которая продала все полученные Для продажи букеты и апельсины, накрыла корзину своей спутницы концом ее платка.
— Мне холодно! — жалобно произнесла младшая девочка.
— Давай мне твою корзину, я ее понесу, а ты возьми мою, закутайся платком, и давай поспешим.
— Ты такая добрая, Маргарита, если бы не ты, мы бы умерли с голода! Вот идут Фриц и Антон, не позвать ли их?
— Нет, Антон очень злой!
— Зато у него много денег,— прошептала младшая.— Знаешь, что мне вчера Фриц про него рассказал? Третьего дня в цирке он украл у одного господина из кармана часы; такому ловкому воровству он научился у господина Фукса.
— Говори тише и не рассказывай об этом никому другому, Лина, а то тебя посадят в чулан на три дня и на три ночи!
— Ох, уж этот чулан! — тяжело вздохнула младшая.— Там так много крыс, я чуть не умерла со страху, когда меня посадили туда в прошлый раз за то, что у меня из корзины украли пряники!
— Я знаю, ты так кричала, что несколько дней не могла говорить! Тебе еще больно?
— Иногда вот тут! — Девочка показала на свою впалую грудь, прикрытую дырявым платком.
— Сегодня вечером и завтра я постараюсь дать тебе побольше хлеба! Пусть Фриц и Антон идут себе, не смотри на них, мы их опередим!
Маленькая девочка, поглядывая иногда на мальчиков, шедших в стороне, следовала за Маргаритой. Они миновали, наконец, заставу и вышли на Мельничную улицу, где сгрудились дома рабочих и малоимущих людей; иногда их теснили фабричные корпуса.
Улица становилась все уже, дома по сторонам все меньше и ниже. Вскоре девушки вышли на шоссе. Они поравнялись с забором, за которым еще цвели георгины и розы, на воротах перед маленьким домом, обвитым плющом, крупными буквами значилось: «Садоводство». Вдруг за деревьями' что-то зашевелилось, младшая из девушек боязливо прижалась к своей спутнице.
— Успокойся, Лина, это, верно, Вальтер!
— Ты угадала, Маргарита — раздался голос из-за кустов.— Здравствуй. Вот уже час, как я жду тебя.
Вальтер был учеником садовника. Крепкого телосложения паренек, в соломенной шляпе и чистом полотняном сюртуке, ласково смотрел на девушку, которую знал уже не первый год. Она приходила в сад за цветами, которые покупала госпожа Фукс.
— Вот еще новая порция,— сказал он, высыпая в корзину девушки цветы и листья.— Вчера, связывая букеты, ты опять так хорошо пела, Маргарита. Твоя песня была такая грустная, прямо сердце разрывалось.
— Это мое единственное удовольствие, Вальтер. Поздно вечером, окончив работу, я забираюсь куда-нибудь подальше в глушь, тогда песни поются сами собой! Однако прощай, нам надо поторопиться. Позади идут Фриц и Антон, я не хотела бы с ними встречаться!
— Я провожу вас до Морской улицы.
— Нет-нет! Они непременно привяжутся к тебе.
— Думаешь, я их боюсь? Я готов на все, чтобы защитить тебя, Маргарита.
— Но тебе завтра рано вставать, оставайся!
— Я останусь в саду и буду следить за вами до тех пор, пока вы не дойдете до дома.
Простившись с Вальтером, девушки пошли дальше по шоссе и вскоре свернули на песчаную дорогу, которая вела к роще, за нею на холме был дом, где они жили. Если это полуразвалившееся жилище можно было назвать домом.
Дверь приотворилась, показалась женщина лет сорока, с черными распущенными волосами, орлиным носом и толстыми губами на злобном лице. Вылинявшая красная шелковая юбка, вероятно, наследие лучших и давно минувших времен, делала ее толстую фигуру еще необъятнее. Вероятно, ей помешали наводить туалет. Это и была госпожа Фукс, которая, живя в разлуке со своим преследуемым, но находящимся на свободе мужем, продолжала держать его пансион.
Читатель поймет, что она имела в виду под этим названием, если мы скажем, что кроме Маргариты и Лины в этой хижине находилось еще около двадцати мальчиков и девочек самого разного возраста, которые каждое утро должны были отправляться в город продавать цветы, овечек, апельсины и пряники, и затем с наступлением ночи отдавать вырученные деньга госпоже Фукс, за что получали кусок хлеба, несколько картофелин и вдосталь воды. Но дети эти, не знавшие ни отца, ни матери, выросшие с колыбели в нищете и страхе, были рады, когда получали эту скудную пищу, которой лишались довольно часто, если не выручали достаточно денег.
Госпожа Фукс заперла дверь на замок и вошла вместе с девушками в комнату. Посреди ее стоял грязный стол, а возле него несколько худых стульев. На стеле рядом с тускло горевшей лампой красовалась бутылка с каким-то крепким напитком, который госпожа Фукс употребляла якобы против болей в желудке.
Зеркало на стене, старый шкаф и комод о трех ножках, над которым висела картина, изображавшая сцену из священного писания, составляли все убранство жилища,
Низенькая дверь вела в другую комнату, которая служила местом пребывания детей и откуда в эту минуту слышались приглушенные голоса.
Маргарита и Лина поставили свои корзины на стол и стали считать деньги.
— Как, негодная тварь, — закричала госпожа Фукс, увидев, что корзина Лины почти полна,— с четырех часов ты ушла из дому и принесла всего только восемь грошей? Погоди, я научу тебя быть прилежнее!
— О милая тетя Фукс,— взмолилась девочка, припав к ее ногам,-, только не сажайте меня в чулан, я заходила во все пивные лавки и каждому предлагала свой товар,
— А, так ты боишься чулана? Ну, так я, наконец, знаю средство тебя исправить! Маргарита, поди посади ее туда!
— Она больна, я не могу сделать этого!
— Как, ты смеешь возражать?
— Накажите меня вместо Лины.
— Ты свое дело сделала, да и к тому же ты теперь достаточно взрослая и завтра вечером поедешь вместе с Луизой и со мной. Пора тебе узнать лучшую жизнь!
— Я принесла на десять грошей больше, чем следовало!— сказала Маргарита.— Пусть это будет долей Лины!
— Опекун ты ей, что ли? Уж не думаете ли вы, что я стану даром кормить вас и одевать? Поди, нарежь им хлеба,— госпожа Фукс кивнула на соседнюю комнату, а я сама запру в чулан эту лентяйку. Пойдем, негодная! — Она потащила за собой Лину.
Маргарита с жалостью посмотрела ей вслед. «Потом постараюсь принести ей ужин»,— подумала она м пошла в соседнюю комнату, где сидели и лежали на сене грязные и худые мальчики и девочки. Жадно брали они из рук Маргариты хлеб, запивали его водой из расколотых кружек и тут же укладывались спать.
Вот как содержались пансионеры госпожи Фукс!
Возвратившись в первую комнату, Маргарита застала там госпожу Фукс, уже исполнившую свое недоброе дело.
— Завтра вечером ты уже больше не пойдешь торговать на улицу, ты теперь уже взрослая, фигура у тебя сносная, да и лицо ничего,— проговорила госпожа Фукс,— так что будешь теперь выходить со двора только со мной!
Маргарита промолчала, но при последних словах содержательницы притона она ощутила какой-то неосознанный страх. К тому же госпожа Фукс обыкновенно по вечерам куда-то исчезала. Юная девушка смутно чувствовала, что над нею нависла грозная туча. Куда уходила госпожа Фукс, было для нее тайной. Одни говорили, что она навещала в эту пору своего мужа, который нигде не смел показываться, другие же уверяли, что она посещала сомнительные балы, заводя там весьма недвусмысленные знакомства.
Последнее, вероятно, было ближе к истине. Вот и сейчас, с помощью Маргариты, она тщательно зачесала свои черные волосы, подрумянила желтые щеки, подкрасила жиденькие брови и, накинув темный платок, вышла из дому.
Маргарита постоянно должна была запирать за нею дверь, а утром, когда она возвращалась, открывать ее.
Перед уходом госпожа Фукс погасила лампу и заперла на ключ шкаф и комод, где у нее хранились деньги. На Маргариту она вполне полагалась — у девушки был чуткий сон, к тому же она вообще не делала ничего, заслуживавшего порицания.
Было уже поздно, когда ушла госпожа Фукс, довольная тем, что завтра отправится в свои ночные похождения уже не одна. Она хорошо понимала, что Маргарита будет для нее неисчерпаемым источником дохода, если только не ускользнет из ее рук, но за этим она зорко следила. Маргарита находилась на ее попечении уже почти четырнадцать лет, а потому она считала себя вправе пустить в дело ее прекрасную внешность. Случалось и так, что девушки, выросшие у нее, достигнув зрелого возраста, убегали, и она теперь пристально следила за тем, чтобы этого не случилось и с Маргаритой, которая красотой превосходила всех ее прежних воспитанниц.
Вскоре после ухода госпожи Фукс Маргарита осторожно отперла дверь и неслышно вышла на двор. С несколькими кусками хлеба и кувшином воды в руках она направилась туда, откуда слышался жалобный плач Лины. Дойдя до старого, развалившегося забора и отворив дверь в нем, она очутилась в низеньком сарае. Воздух здесь был сырым и зловонным — бедный ребенок, завидя Маргариту, бросился к ней навстречу. Кроме Лины в этом ужасном чулане сидела еще семилетняя девочка, попавшая сюда за то, что, мучимая голодом, съела один из пряников, данных ей для продажи.
Маргарита накормила обеих, принесла соломы, чтобы им не лежать на сырой, грязной земле, и дала свой платок прикрыться. Девочки повисли у нее на шее, со слезами на глазах целовали ее и не хотели отпускать. Оставив их, она пошла мимо своей хижины к кустарнику, который тянулся от Морской улицы до шоссе, обсаженного по обе стороны деревьями. Луна вышла из-за туч и чудно светила с ночного неба, усеянного звездами.
В бледном свете луны Маргарита была особенно хороша. Ветер играл— ее чудными золотистыми волосами; простое черное платье подчеркивало развившиеся формы девушки. Ее нельзя было назвать худой. Как ни странно, тяжелая жизнь в доме Фуксов не отразилась на ее облике. Белокожая, с легким румянцем и большими голубыми глазами и длинными ресницами, она останавливала на себе взгляды; маленький нос был так же изящен, как и маленький рот с пухлыми губами, между которыми виднелись ее ослепительно белые зубы.
Маргарита напевала вполголоса, пробираясь к большим, обросшим мохом камням, лежавшим недалеко от шоссе в тени густого кустарника. Тут она часто сидела, пела и мечтала, и именно тут несколько дней назад, проезжая мимо, увидел ее принц Вольдемар.
Освещенная мягким светом луны, она села на камень и запела народную песню. Тайная грусть слышалась в ее голосе. На сердце у нее было тяжело. Вдруг она замолкла. Какие-то небывалые чувства наполнили ее сердце, оно готово было разорваться — в такие часы к ее душе подкрадывалось дотоль неведомое ей чувство любви. Маргариту никто не любил, никто не понимал, она никому на свете не принадлежала.
С детства, с тех пор, как она помнила себя, она не видела других людей, кроме госпожи Фукс и подобных ей несчастных детей, у которых также не было родных. Прежде Маргарита никогда об этом не задумывалась, но теперь в ней проснулась мысль о том, что существует на свете любовь!
Она видела на улицах, как заботливо кутали матери своих детей от холода, с какой любовью они целовали своих малюток — ей неведомо было это счастье! Какое, должно быть, блаженство, когда есть кому сказать «мама», когда заботливая и нежная рука матери обнимает тебя и прижимает к своей любящей груди.
Как-то раз вечером Маргарита спросила госпожу Фукс о своей матери.
— К чему тебе знать о своих родителях, глупая девчонка,— сказала госпожа Фукс с видимой досадой,— заботься лучше о своих букетах. Знай — твоих родителей давно уже нет в живых.
— Они умерли? — прошептала Маргарита едва слышно, ей стало так тяжело и страшно.— Как жаль! Но все эти дети,— утешала она себя,— разделяют мою горькую судьбу. Бог нам всем отец!
Прежде Фукс днем учил ее читать и писать, и она была так любознательна и прилежна, что у бывшего канцеляриста скоро истощился весь запас его знаний. Потом господин Фукс исчез, и, верно, он занимался недобрыми делами, так как только изредка прокрадывался ночью домой.
Грустно и одиноко протекала ее жизнь, так шли дни, месяцы и годы. Наконец, она стала почти взрослой, и какая-то тоска давила ее молодое отзывчивое сердце. Ей чего-то недоставало. Весь мир казался ей пустым. Бродя по улицам с корзинкой цветов в руке, она видела других девушек. Они гуляли под руку с молодыми людьми, которые счастливо улыбались, устремляя на них любящие взгляды, ее же никто не любил, никто не говорил ей ласковых слов, никто не пожимал ей дружески руку, никто не смотрел на нее любящими глазами.
По вечерам она уходила из дома и направлялась к образу Богоматери, перед которым ее накануне видел Эбергард, или просто бродила по пустынной дороге, когда все было тихо кругом. Из груди ее невольно рвались звуки какой-нибудь жалобной песни, какое-то непреодолимое желание наполняло ее. Шелест деревьев, темное небо, усеянное звездами, уединенное место в тени кустов — все это благотворно действовало на ее душу — только тут она оживала, сюда ее влекло!
Прежде она думала, что всей душой привяжется к доброму Вальтеру, который всегда ласково и откровенно говорил с ней, будет поверять ему все свои сокровенные мысли и искать в нем утешения.
Но нет! Вальтер был добр и ласков, но она могла только благодарить его за это, в нем чего-то недоставало впрочем, она не могла себе объяснить — чего, она только чувствовала, что не нашла в нем того, что искала.
Как-то в субботу, по дороге домой, с ней заговорили девушки, быть может, они увидели на ее прекрасном, мечтательном лице тайную грусть или выражение безысходного горя. На них были яркие платки, а волосы украшали приколотые цветы. Это было так соблазнительно и очень понравилось Маргарите. Девушки эти много смеялись между собой и уговаривали ее пойти с ними в ярко освещенный сад, где, по их словам, были танцы и веселье.
— Но на мне старое платье! — смутилась Маргарита.
— О, это не беда, вот там живет госпожа Робер, она даст тебе прекрасное платье на одну ночь.
— Но у меня нет денег!
— А ведь у тебя в кармане что-то звенит?
— Это не мои!
— Так возьми часть из них, а после, когда у тебя будут деньги, ты положишь назад из своих. Пойди и посмотри, какое там веселье, там настоящая жизнь!
После долгих колебаний Маргарита вошла в прекрасный сад и подошла к зале, где под. громкие звуки музыки бешено кружились танцевальные пары. Она посмотрела в окно и увидела, как те девушки, которые уговаривали ее идти с ними вместе, с молодыми мужчинами присоединились к кружившимся парам, она видела, как они целовались с ними, как беззаботно предавались веселью, и вдруг схватила свою корзину и быстро, не оглядываясь, ушла.
Только отойдя довольно далеко, Маргарита немного успокоилась. Виденное поразило ее. Не этого жаждало ее сердце! Ей казалось, что надо избегать встреч с теми девушками, и каждый раз, когда замечала их издали, старалась спрятаться от них, чтобы не быть замеченной. В то время, как они предавались веселью, Маргарита отправлялась к образу Богоматери или на свое заветное место близ шоссе, над которым сверкали звезды и веял ночной ветер.
Вот и сегодня она сидела тут, плела венки и напевала, до того погруженная в свои мысли, что не слышала странного шелеста и движения со стороны шоссейной дороги.
На башнях отдаленной столицы глухо пробило одиннадцать часов. Маргарита сидела на камне и смотрела то на цветы в руках, то вдаль. Что-то шевельнулось в кустах, она не обратила на это внимания, а продолжала петь свою любимую песню.
Вдруг ветки кустарника раздвинулись, и среди них показалось бледное улыбающееся лицо; осторожно и с любопытством придвигалось оно к ней; глаза сладострастно оглядывали прекрасный стан девушки.
— А, вот где ты, прекрасная маленькая богиня! -раздался шепот.
Маргарита обернулась и вскрикнула от страха, увидев это бледное, искаженное страстью лицо.
Она перекрестилась — так ужасно было это виденье!
Но вот из-за ветвей показались и плечи, а затем и весь человек предстал перед испуганной девушкой. Это был какой-то знатный господин — на руках его были белые перчатки, а под мышкой он держал изящную камергерскую шляпу.
Маргарита не потеряла присутствия духа и быстро вскочила, ее сердце лихорадочно билось, она чувствовала, что ей угрожает опасность.
— Подожди, голубка! — прошептал незнакомец, которому на этот раз удалась попытка поймать прекрасную фею, и потому он не желал упустить ее из рук! — Одно слово, только одно слово, очаровательная маленькая сирена! — воскликнул он, протягивая руку к Маргарите, при этом мужчина так отвратительно улыбался, что по всему было видно: недобрым намерением загорелся он. Серые глаза блестели, губы были бледны от волнения. Никого не было вокруг в этом уединенном месте. Прелестная девушка произвела впечатление не только на принца, но и на него самого. Он уже касался ее стана, его руки уже чувствовали сквозь платье ее юное тело, он жаждал во что бы то ни стало исполнить свое сладострастное желание.
— Только одно слово, голубка,— прошептал он,— полно, не стыдись!
Камергер, не щадивший ни времени, ни труда на подобные приключения и добивавшийся именно этого дикого цветка, как он ее называл, уже обвил рукой стан молодой девушки, но только он хотел прижать к себе Маргариту, как вдруг она, собравшись с духом, крикнула изо всех сил:
— Фриц! Антон!
Камергер Шлеве, боясь в этом и без того небезопасном месте встретить известных ему мошенников, которых Маргарита назвала по имени, выпустил свою добычу из рук.
Фрица и Антона давно уже не было на дороге; они свернули в сторону или направились в парк на очередной грабеж.
Маргарита, подхватив свои цветы, перепрыгивая через камни, быстро убежала от своего врага.
Камергер, скрежеща зубами, хотел погнаться за девушкой, забыв про свою хромоту, но вовремя опомнился и, кряхтя, поплелся вслед за этой легкой серной, которая, подобравши свое платье, уже скрылась в кустах.
— Ты не уйдешь от меня, маленькая колдунья,— бормотал он, тщетно стараясь найти след убежавшей девушки.— Один Бог знает, как я сегодня жаждал овладеть тобой! Знать бы, где живет эта очаровательница.
В это время луна скрылась в облаках, все погрузилось во мрак, и Шлеве не мог разглядеть видневшейся хижины.
— Она действительно прекрасна! Я давно не встречал ничего подобного! Завтра же попрошу содействия госпожи Робер, ты должна быть моей, маленькая, робкая богиня, или фея, как называет тебя принц!
В то время, как господин Шлеве, разговаривая с самим собой, осматривал камни, на которых сидела девушка, и затем, осторожно прислушавшись, направился домой, Маргарита достигла хижины. Она опустилась на колени, грудь ее сильно вздымалась; скрестив руки, она горячо благодарила небо за спасение от страшного человека.
Она вошла в дом, заперла накрепко дверь и легла на свою бедную постель. Вскоре сон одолел ее и избавил от страданий. Она сладко улыбалась во сне прекрасному юному офицеру, который любезно разговаривал с ней и обещал свое покровительство; это сновиденье было так замечательно, что она желала вечно видеть его! Ей казалось, что теперь желание ее было удовлетворено и для полного счастья ей нечего и желать.
Но горькая действительность скоро вернула ее на землю. Чудное виденье исчезло, счастье ее было слишком призрачным.
VIII. В ЦИРКЕ
Когда, доставив труп Гэрри в полицию, граф Монте-Веро возвращался к себе во дворец, он вдруг заметил на Марштальской улице свой экипаж, запряженный четверкой вороных; на козлах, подле кучера, сидел Сандок в ливрее.
Граф удивленно улыбнулся, так как не давал на этот счет никаких распоряжений. И тут же к нему подошел Мартин.
— Слава Богу, наконец-то я вас нашел, господин Эбергард, мы так встревожены,— сказал капитан «Германии».— Никто не знал…
— Куда я скрылся; ну, любезный Мартин, такого впредь не случится, я никогда более не забуду сообщать, если куда-нибудь отправлюсь один,— шутливо произнес граф.— Однако, что же случилось?
— Полчаса назад во дворце флигель-адъютант короля…
— Ну, и что же? Ты так торопишься, что никак не доберешься до сути.
— Он был расстроен, что не застал дома ваше высочество.
— Господа придворные легко расстраиваются! Что же угодно было господину флигель-адъютанту?
— Он приехал от имени короля пригласить господина графа в цирк; король желает видеть сегодня вечером в своей ложе господина Эбергарда и непременно при параде, так как там будет новый русский посланник, князь Долгорукий!
— Странно! — пробормотал Эбергард.
— Посланный не вдавался в подробности — он спешил, но я так понял,— сказал Мартин,— что король желает, чтобы граф Монте-Веро затмил своим великолепием русского князя.
— Как здесь, в столице, ты прислушиваешься к каждому слову! — рассмеялся граф, потрепав Мартина по плечу и вместе с ним направляясь к порталу своего дворца.— Я вполне полагаюсь на твои наблюдения и потому приготовлюсь.
— Карета, как вы изволили видеть, готова!
После всего происшедшего этим вечером графу не очень хотелось показываться в обществе, тем более в цирке, где дебютировала Леона, но Мартин был так настойчив, а приглашение короля так почетно, что он должен был ехать, хотя мысли его были заняты разбитой надеждой получить известие о своем ребенке.
Он надел увешанный орденами мундир, накинул сверху шитый золотом полуплащ, который спереди застегнул булавкой с бриллиантом такой величины, какой не видывали еще в Европе. Он стоил много миллионов.
Не прошло и часа, как Эбергард уже мчался в своей великолепной карете к цирку; когда карета остановилась, негр соскочил с козел и отворил дверцы.
Сопровождаемый негром, Эбергард направился к ложе короля.
В аванложе он раскланялся с камергерами; флигель-адъютант, обрадованный его приездом, с поклоном отворил ему дверь королевской ложи.
В лакейской, где остался Сандок, Эбергард заметил двух казаков, так что предположение Мартина не было лишено оснований.
Войдя в обширную королевскую ложу, граф Монте-Веро оглядел присутствующих. Возле королевы сидела какая-то иностранка, принцессы Шарлотты с матерью не было; далее сидел принц Август, французский посланник, несколько министров и генералов, а подле королевы — господин во фраке, увешанном орденами, которого Эбергард принял было за еврейского банкира. Однако именно этот господин и оказался русским посланником, князем Долгоруким, а иностранка, сидевшая подле королевы, особа лет двадцати четырех, была его дочь, княжна Ольга.
Когда король заметил Эбергарда, он подал знак всем присутствующим кавалерам встать, и князю Долгорукому, разумеется, тоже пришлось последовать общему примеру. Это движение заставило оглянуться и молодую княжну, она обратила свои большие темные глаза на вошедшего, который, по ее мнению, должен был быть по меньшей мере принцем королевской крови.
— Я очень рад, что вы исполнили мое желание, граф, и отозвались на мое приглашение. Я, было, думал, что вы не явитесь, так как у вас во дворце сказали моему адъютанту, что вы неизвестно куда отлучились,— проговорил король.— Мы попросили вас в нашу ложу не только для того, чтобы вы были свидетелем удивительного зрелища, как дама покорила своей воле царей пустыни, но и потому, чтобы иметь случай познакомить вас с князем Долгоруким!
Король был очень доволен впечатлением, которое русский князь не мог скрыть, невольно заметив булавку Эбергарда — бриллианты на ней превосходили все бриллианты на его орденах и диадеме княжны Ольги, вместе взятые.
— Меня всегда интересовала отдаленная обширная империя, которой предстоит великая будущность, князь,— обратился Эбергард к посланнику, между тем как король с удовольствием слушал его.— Она имеет так много общего с той страной, где расположены мои владения; больше того, во многом они схожи: у них одни и те же достоинства и недостатки.
— Что же это за страна? — спросил князь с любопытством.
— Бразилия — страна, где, к сожалению, имеются невольники, как и в России крепостные[2].
Они заговорили о крепостном праве.
Короля, по-видимому, очень занимал разговор этих двух совершенно не схожих людей. Князь Долгорукий был человеком лет пятидесяти, придерживавшимся строго аристократических взглядов, граф Монте-Веро был гораздо моложе его и слыл поклонником высоких гуманных идей.
— Страх и строгость,— заключил Эбергард,— порождают ненависть и измену; история имеет тому множество примеров, князь. Образование и гуманность порождают любовь и уважение! Или вы полагаете, что между крепостными, между этими белыми невольниками, нет умов, восприимчивых к образованию, к нравственному развитию? Неужели вы думаете, что в этом классе нет людей, достойных внимания и уважения? Вспомните предков семейства Демидовых. Мне кажется, это яснее всего подсказывает, что и под суровой оболочкой этих без причины презираемых людей бьются сердца с высокими устремлениями, как и в нас, родившихся в своем звании лишь благодаря случаю.
Князь Долгорукий вопросительно посмотрел на графа.
— Если бы только теория оказывала такое благотворное действие на практику! — произнес он, пожимая плечами.— Известно, что кажется возможным теоретически, то часто неисполнимо на практике, и наоборот.
— С графом Монте-Веро вы в этом не сойдетесь,— засмеялся король, которому стычка этих двух крайностей доставляла удовольствие.— Он либерал! Но отложите ваш интересный разговор до будущего раза; сейчас начнется второе отделение, и мы желали бы представить графа прекрасной княжне; но отец должен зорко наблюдать за своей дочерью, чтобы и ее сердце тут не заговорило!
Эбергард пропустил эту шутку короля; но князь Долгорукий, почтительно поклонившись, сказал:
— У молодой княжны каменное сердце, ваше величество, оно слишком крепко и холодно; при воспитании не доставало нежной материнской руки! Лучшие в мире учителя, которых я пригласил для нее, посвятив ее в тайны науки, развили ее ум, но оказались не в состоянии развить ее сердце.
— Мы понимаем вас, князь, но все-таки это не мешает пожелать вам найти человека, который был бы способен растопить ледяное сердце вашей дочери, человек этот должен быть магом и волшебником, так как княжна достойна прекрасного, возвышенного сердца! Граф Монте-Веро ждет чести быть представленным вашей очаровательной дочери!
Король обратился к своей супруге, между тем как князь и Эбергард подошли к креслу молодой княжны. Она была высока, стройна и величава. Некоторая полнота и серьезное, холодное выражение лица делали ее старше — княжне Ольге минуло двадцать дет. Ее черные как смоль волосы украшала бриллиантовая диадема. У нее был высокий лоб, довольно тонкий нос и тот русский тип лица, который бывает особенно привлекательным. Но ее большие глаза смотрели на мир с гордой холодностью. Черные локоны ниспадали на ослепительно белую шею и плечи. Изумрудное ожерелье покрывало ее полную грудь, касаясь белого атласного платья. Юбка была подобрана белыми цветами, так что был виден ее белый атласный башмачок, украшенный изящной золотой пряжкой.
Она улыбалась, беседуя с графиней Аренштейн, когда князь и Эбергард подошли к ней. Надо сказать, ее холодная улыбка удивительно шла к ее прекрасному лицу. Эбергард, взглянув на девушку, должен был сознаться, что без этого сурового выражения юная княжна считалась бы королевой красоты. Отец попросил у нее позволения представить ей графа Монте-Веро.
Эбергард прочел на ее лице разочарование и неудовольствие, когда она обернулась к нему. Она холодно посмотрела на него, и глаза ее на миг остановились на богатой одежде и благородном лице графа; Эбергард поклонился.
Король внимательно следил за всей сценой.
Книжна не сочла нужным что-либо проговорить, хотя за ней было слово для первого знакомства.
— Это небольшое беспокойство я причинил вам по желанию короля, ваше сиятельство! — произнес Эбергард звучным голосом.
Княжна с удивлением проницательно посмотрела на графа.
— Вы будто извиняетесь, любезный граф, и мне это кажется, простите, довольно странным,— проговорила гордая княжна.
— Каждый кавалер обязан извиниться перед дамой, если замечает, что его присутствие вызывает у дамы досаду.
Слова эти как-то странно подействовали на княжну: граф осмелился говорить с ней так, как говорил каждый кавалер с каждой дамой.
— Простите, если столь обыкновенные вещи мне неизвестны,— проговорила княжна, саркастически улыбаясь.
— То, что сделано без умысла, не требует извинения,— отвечал Эбергард коротко, но весьма вежливо.
Княжна почувствовала, как в ней закипает раздражение, но она улыбнулась,— такого рода разговор был для нее в новость.
— Колокольчик звонит, ваше сиятельство, позвольте мне поместиться позади вашего кресла.
— Как кавалеру подле своей дамы, это благосклонность, которую…
— Которую оказываешь не каждому,— прибавил Эбергард.— Если вам неприятно, ваше сиятельство, я не претендую на эту благосклонность.
— Не называйте ее в этом случае благосклонностью, господин граф,— улыбнулась княжна,— и сделайте это против моей воли.
— Это было бы непростительно, ваше сиятельство, я имею честь…
— Вы мешаете, уже начинают! — прошептала княжна, быстро указывая своему странному собеседнику на кресло подле себя.
Но в ту же минуту княжна раскаялась в своем порыве и решила, что гораздо лучше будет вовсе не обращать внимания на графа.
Пока шло представление клоунов и других артистов цирка на арене. Эбергард рассматривал публику, сидевшую в ложах.
В ложе дипломатов он увидал принца Этьена и лорда Уда, турецкого посланника Магомета-Ахари-Бея и грека Мимоса.
Принц Вольдемар, по причине легкого недомогания, не явился вместе со своим камергером. Напротив ложи дипломатов граф заметил пожилую даму с седыми буклями, она сидела между своими двумя довольно странно одетыми дочерьми.
«Это достопочтенная госпожа Болиус,— сказал про себя Эбергард,— вывезла в свет прекрасную Кору и соблазнительную Лидию. Как усердно молодой лорд Фельтон с принцем Этьеном лорнируют невинно улыбающихся дам. Любезнейший лорд Фельтон, опомнитесь, вы должны иметь двух отцов миллионеров, если заведете знакомство с одной из этих красавиц».
Вдруг заиграла громкая музыка, амазонки и турки в богатых блестящих нарядах на прекрасных лошадях выехали на арену и стали в кадриль.
Соблазнительные формы амазонок в коротких юбках приковывали взоры всех мужчин, а особенно приводили в восторг принца Этьена и Магомета-Ахари-Бея, которые не спускали с них глаз.
Еще один выход, и затем ожидалась царица львов, мисс Брэндон, отчаянная иностранка, приведшая в восторг громадный город.
Прекрасные лошади, которых вывели после кадрили, несмотря на их удивительную дрессировку, не в состоянии были умерить нетерпение публики: все с трепетом ожидали отважную иностранку, сумевшую сделать своими рабами страшных царей пустыни.
Наконец отворились двери, что вели из конюшен на арену, отсюда обычно выходил Гэрри в серебряном трико, чтобы с помощью лакеев вкатить на середину арены большую золотую клетку с тремя сильными львами и затем железным шестом привести диких зверей в ярость,— сегодня же Гэрри не было, и один из наездников заменил его.
Разъяренные львы со страшным ревом бросались из стороны в сторону к решетке, которая дрожала под ударами мощных лап.
Приведя зверей в дикую ярость, наездник ушел. Занавес распахнулся, и на арену с гордостью королевы вышла хозяйка тех, кто звался царями пустыни.
Громадное здание цирка огласилось громкими аплодисментами, все с любопытством смотрели на женщину, осмелившуюся играть со львами.
Только Эбергард оставался спокоен, глаза его были устремлены на смелую укротительницу.
При ней не было оружия, в изящной руке она держала только хлыст, какой употребляют наездницы. Черное длинное платье увеличивало ее рост, подчеркивало прекрасную фигуру, высокий лоб и орлиный нос придавали ее лицу выражение недюжинной энергии и силы воли.
Леона гордо поклонилась сначала королю, а потом публике; графа Монте-Веро она, похоже, не заметила.
Увидев свою повелительницу, еще минуту назад свирепо ревевшие львы боязливо прижались в угол клетки; Леона улыбалась, торжествуя победу.
Резкие черты лица мисс Брэндон кого-то напоминали, в дипломатической ложе шушукались, пытаясь определить, кого именно, но так и не смогли догадаться.
— Посмотрите на профиль,— шепнул, наконец, французский атташе, обращаясь к молодому лорду Фельтону.— Припомните моего великого императора и взгляните еще раз на ее лицо.
— Вы правы,— сухо отвечал англичанин,— я тоже нахожу в ней сходство с Бонапартом.
Все взоры в тревожном ожидании устремились на мисс Брэндон, которая смело отворила дверцу и в воцарившейся мертвой тишине с холодным спокойствием и улыбкой вошла в клетку ко львам. Щелкнув хлыстом и не говоря ни слова, одним движением руки она заставила диких зверей лечь у ее ног.
Говорят, и это подтверждают охотники и поселенцы Южной Америки, что есть люди, взора которых звери не могу выносить. И эти люди укрощают кровожадных хищников, превращая грозных властителей пустыни в покорных рабов.
Мисс Брэндон, кажется, также обладала таким взором, потому что с того времени, как вошла в клетку, она не спускала глаз с трех львов, ползавших у ее ног.
Всех присутствующих занимала мысль, что если в одном из этих кровожадных зверей пробудится сознание собственной силы и он кинется на беззащитную женщину, то в одну минуту превратит ее в кровавое месиво.
Но укротительница львов улыбалась так спокойно и самоуверенно, как будто имела какую-то тайную неограниченную власть над этими могучими животными; она играла с ними, сердито смотрела на них своим повелительным взором, если один из львов хоть на секунду позволял себе ослушаться ее приказания, она садилась на спину одного из них, а других ставила по сторонам подле себя, и они стояли так неподвижно, словно были изваяны из мрамора. Прекрасный стан ее обрисовался во всей соблазнительности, когда она прилегла поперек львов, как бы покоясь на оттоманке.
Леона резко вскочила — ей предстояло заключить представление.
Присутствующие в лихорадочном волнении следили за каждым ее движением. Она снова щелкнула хлыстом — львы с ворчанием поднялись. Отчаянная мисс Брэндон улыбалась. Еще щелканье хлыста. Разъяренные львы заметались в клетке, рев их огласил здание цирка, казалось, вот-вот их терпение истощится и они бросятся на свою повелительницу. Глаза животных налились кровью.
И тут удивительная сила взгляда женщины оказала свое действие. Леона, стоя перед разъяренными львами, глазами удерживала их на месте; сама она, между тем, была так спокойна, словно имела дело с кошками.
Но эта ли уверенность или ненасытное честолюбие побудили ее отвести взгляд на трепетно замершую публику?
Вдруг Леона побледнела, пошатнулась и протянула руки, как бы защищаясь,— она увидела Эбергарда. Она решила, что перед нею ужасный призрак,— ведь, по ее расчетам, этого человека более не было в живых. Этого минутного замешательства было достаточно, чтобы один из львов, самый сильный и крупный, вскочил, огласив цирк ужасным рычанием.
Все замерли — еще мгновение, и эта очаровательная женщина окажется в когтях кровожадного зверя.
Но тут с арены послышался громкий смех — укротительница, отступив на шаг, встала перед диким животным, и лев смиренно улегся у ее ног. Зрители восприняли все это как заранее подготовленный эффектный финал.
Нескончаемые возгласы радости и аплодисменты сотрясли здание цирка, публика разразилась такими овациями, каких не удостаивались даже короли и герои!
Это удовлетворило честолюбие Леоны. Она торжествовала. С улыбкой вышла она из клетки, словно из будуара, и быстро отыскала глазами Эбергарда, чтобы убедиться, что он действительно жив. Затем она еще раз поклонилась и оставила арену.
Овации не умолкали, зрителей потрясла ее последняя выходка.
Но хорошо, что никто не видел Леону в ту минуту, когда она возвратилась в свою уборную, дрожа от ненависти, и прерывающимся от волнения голосом прошептала: «Он жив!» Страшно представить даже такую меру ненависти в женщине.
Королевская чета и за нею вся свита поднялись со своих мест и направились к экипажам. Король, покидая ложу, сказал несколько милостивых слов молодой княжне Долгорукой, королева любезно беседовала с Эбергардом. Раскланявшись у портала, королевская чета направилась к своей парадной карете.
Князь повел дочь к экипажу, рядом стоял Эбергард. Князь поклонился ему, но его гордая дочь заранее уже решила для себя не кланяться графу.
Однако она невольно подняла глаза на графа Монте-Веро и против собственной воли поклонилась ему, как королю, и это случилось само собой и так быстро, что она не успела даже опомниться.
Отец помог Ольге войти в экипаж; негр Сандок отворил дверцы кареты графа. Через минуту экипаж Эбергарда, запряженный четверкой вороных, промчался мимо кареты русского князя.
Граф Монте-Веро возвратился в свой полный роскоши дворец, в то время как в кустарнике у дороги звучала известная уже нам печальная песня.
IX. ПАУЧИХА
— А, входите, пожалуйста, дорогая госпожа Робер! — говорила на следующий день госпожа Фукс, отворив на громкий стук дверь и увидев перед собой женщину, которая, по-видимому, с трудом добралась до хижины, так как тяжело дышала.— Входите и присаживайтесь!
— Да, я сяду, я должна сесть! — прерывисто проговорила сгорбленная старуха.— Эта одышка — моя смерть!
— И притом вы все-таки неутомимы, с утра и до поздней ночи все на ногах,— госпожа Фукс подала гостье свой лучший стул.— Думаю, вы уже сколотили себе порядочный капиталец?
— Капиталец? Полноте! От всех хлопот не имеешь ничего, кроме страха потерять последнее! — быстро проговорила старуха, которую обычно весьма оживляли разговоры о деньгах.— Вот отдашь за несколько грошей хорошие, дорогие вещи и то наверное не знаешь, получишь ли их когда-нибудь назад!
— Думаю, ни одна из ваших покупательниц от вас не ускользнет, госпожа Робер!
— О, когда они могут причинить мне хоть какой-нибудь вред, для них это большая радость! — проговорила старуха и села, тщательно смахнув со стула пыль.— Они называют меня Паучихой и обманывают на каждом шагу.
— Но на мне же вы постоянно наживались?
— Наживалась? О, Господи помилуй! Едва наживешь на соль, и то имеешь еще столько неприятностей и страху, что Боже упаси. Эта одышка — моя смерть!
И сгорбленная старуха снова закашлялась.
Госпоже Робер на вид было лет семьдесят. Редкие седые волосы покрывала старомодная соломенная шляпа, ее широкие поля заслоняли по сторонам все лицо. На плечи был накинут большой клетчатый платок, из-под которого виднелось вылинявшее коричневое платье. В одной костлявой руке она держала большой красный зонт, служивший ей палкой, поэтому она всегда носила его с собой.
Лицо госпожи Робер могло бы послужить прекрасной моделью для гуттаперчевого щелкунчика, беззубый рот ее совершенно ввалился, а потому длинный орлиный нос почти доходил до острого, выступающего подбородка. Впалые щеки и большие безжизненные глаза довершали «красоту» этого лица. К тому же старуха ходила постоянно сгорбившись, сверля всех своим пытливым взглядом, так что вполне заслуженно получила прозвище Паучихи — оно было так удачно, что каждый, кто ее видел, непременно должен был с ним согласиться.
Паучиха была весьма известна во всех кругах общества, больше того, по-своему она была влиятельной особой. К ней с известными поручениями обращались не только высоко поставленные мужчины. Множество дам каждодневно искали встречи с Паучихой для важных и тайных переговоров. Эта женщина была способна на всякую гадость. Она, не задумываясь, продала бы и честь собственной дочери, если бы за это ей предложили кругленькую сумму.
Госпожа Робер, как мы уже видели, давала под залог платья и другие вещи. Дамы, которые хотя бы на одну ночь желали блеснуть, брали у нее роскошные шелковые платья, золотые украшения и веера, даже башмаки, юбки и прочие принадлежности туалета. Плата за это производилась вперед, да и Паучиха так хорошо знала почти всех дам, что могла быть уверена — вещи ее не пропадут. Она постоянно обвиняла дам в том, что платья приносились измятые и в пятнах, за что и получала деньги сверх того; ей ни в чем не отказывали, так как в ней постоянно нуждались.
Говорили, что Паучиха очень хитра, скупа и ненасытна, и мы будем иметь случай убедиться, правы ли были люди.
— Ну, теперь к делу, милая Фукс,— сказала она после сильного кашля.— Мне необходима помощница, хотя это мне не по карману, но иначе нельзя. Я должна иметь помощницу! Хватит мне одной возиться с делами.
— Вам бы лучше сдать все ваши дела и отдыхать.
— Ну, что вы говорите! Как будто я имею для этого достаточно средств! Едва наешься досыта иной раз! Я должна работать, должна мучиться!
Паучиха опять закашлялась.
— Мне необходимо,— прибавила она жалобно,-иметь помощницу, человека подле себя. Ночи! Ах, эти ночи, милая Фукс! Вот уже несколько лет я страдаю бессонницей. А эта одышка — моя смерть! И вот поэтому я ищу теперь девушку, которая помогла бы мне.
— Ну и прекрасно, госпожа Робер, возьмите себе помощницу!
— Вот потому я и пришла к вам, милая Фукс! Я уже думала о вашей старшей — как ее зовут? Кажется, Маргарита?
— А! — воскликнула госпожа Фукс, не подавая вида, что она поняла мысли Паучихи.
— Знаете ли, дорогая госпожа Фукс, у меня к вам большая просьба, не можете ли вы обойтись без Маргариты и уступить ее мне, я так нуждаюсь в хорошей помощнице.
— Обойтись без нее? Нет! Но уступить ее вам, госпожа Робер,— это другое дело! Маргарита девушка прилежная, верная и, что несомненно, хороша собой — между нами будь сказано, лучшая из моих воспитанниц!
— Да, это дитя мне нравится!
— Она больше уже не дитя, госпожа Робер. Слава Богу, я ее вырастила, и теперь она может вызывать восхищение! О, она мне дорого стоила, ее красота и румяные щечки доказывают, что она вскормлена не хлебом и картофелем!
Паучиха поднялась.
— Должна вам признаться,— продолжала госпожа Фукс,— я многого ожидаю от Маргариты! Она рождена для знатных господ! Такого врожденного изящества и грации, такого благородного лица вы не найдете ни у одной девушки!
— Ну, в таком случае, я ошиблась, милая Фукс! Я думала,— сильный, продолжительный кашель снова прервал речь Паучихи,— я думала, вы будете рады избавиться от лишнего дармоеда! Но вы говорите о каком-то восхищении, на что, впрочем, ваша питомица неспособна, да. и в мои намерения это не входит.
Госпожа Фукс недоверчиво улыбнулась.
— Давайте говорить откровенно, госпожа Робер! Вы имеете свои планы относительно этой девушки.
— Ничего другого, кроме того, что хочу иметь в ней помощницу!
— И я тоже имею свои планы на счет этой невинной красавицы!
— Невинной? — повторила Паучиха с таким хитрым взглядом, что дотоле скрываемые замыслы старухи стали ясны, как день.
— Я ручаюсь за это, госпожа Робер, совершенно невинной.
— Можно ли, дорогая, ручаться за это? Но разговоры в сторону, милая Фукс.
— Вы сами не хотите об этом говорить, потому что сами все отлично знаете!
— Полно, это меня не касается, я хочу иметь в ней только помощницу!
— Для вас главное — деньги, признаюсь, для меня тоже! Маргарита так прекрасна, что посредством ее я могу нажить себе состояние. Надеюсь, вы поняли меня милая Робер?
— И к тому же будете иметь даровую квартиру!
— Ну, уж об этом я похлопочу!
— Выгодное это дело, милая Фукс! Мне только жаль, что я напрасно шла к вам, я и понятия не имела, что вы хотите сделать это невзрачное дитя золотым рудником! — язвительно произнесла Паучиха и повернулась к двери.— Одно слово! Даю вам за эту девушку десять талеров. Берите скорее, милая Фукс, я поторопилась, берите, пока я не раздумала!
Госпожа Фукс улыбнулась, в ее широком лице с толстыми губами в эту минуту было что-то хищное.
— Десять талеров? Не теряйте слов! Все останется по-старому!
— Вы думали, больше? А что, если эта девушка пропадет у вас и вы за нее ничего не получите? Что вы тогда скажете?
— Тогда я непременно найду ее!
— Где же она теперь?
— Тут, в доме!
Глаза Паучихи заблестели, она раскрыла свой старый пестрый мешок, висевший у нее на руке, и вынула из него сверток, вероятно, с деньгами.
— Вот берите пятнадцать талеров, и пусть она идет со мной!
Госпожа Фукс поняла, что старуха во что бы то ни стало хотела приобрести Маргариту.
— Прибавьте к этим пятнадцати еще пятьдесят талеров, тогда вы ее получите!
Паучиха едва не обомлела.
— Это, значит, шестьдесят пять талеров? Откуда же мне взять такую громадную сумму? О милая Фукс, это безбожно с вашей стороны!
— Решайтесь скорее, я не могу вам обещать, что завтра цена будет такой же, как сегодня!
— Шестьдесят пять талеров! Это ужасно! Уступите хоть эти пять!
— Я сказала.
— Это нечестно, Фукс! — захныкала Паучиха, отсчитывая требуемую сумму и трижды переворачивая каждый талер,
— А вы сделали выгодное дело, госпожа Робер!
Паучиха пожала плечами и с сожалением посмотрела на деньги.
— Уберите их скорей с моих глаз! Где же девушка? Я хочу сейчас же взять ее с собой, подумать только — шестьдесят пять талеров!
Госпожа Фукс убрала деньги и позвала Маргариту.
— Теперь ты оставляешь мой дом и будешь жить у госпожи Робер; смотри же, будь ей верна и послушна,— сказала она удивленной девушке.— Госпожа Робер будет о тебе заботиться!
Бедная девушка опасливо посмотрела на не вызывавшую симпатии старуху, что-то похожее на страх шевельнулось в ее груди, но она безропотно покорилась своей участи.
Госпожа Робер, между тем, внимательно оглядела свою покупку и решила, что она совершила выгодную сДелку.
Она пожалела, что раньше не догадалась взять Маргариту к себе в дом,— тогда она досталась бы ей дешевле; теперь же знатный господин указал ей на этот бесподобный «дикий цветок».
Маргарита и не подозревала о сделке, походившей на торг белыми невольниками,— она думала, что поступает в услужение' к этой маленькой старушке и была рада избавиться от тетки Фукс, жестокое обращение которой часто доводило ее до слез.
И все же ей стало грустно, что она должна покинуть этот бедный дом, некому теперь будет заботиться о детях, и не посидит она больше в поле на своем заветном местечке. Подойдя к госпоже Фукс, Маргарита поблагодарила ее за попечение в продолжение стольких лет.
— Хорошо, хорошо, дитя мое, я охотно делаю добро,— с достоинством отвечала госпожа Фукс и пожала девушке руку.— Ты всецело принадлежишь теперь госпоже Робер, которая в состоянии сделать для тебя больше моего!
«Потраченные деньги еще принесут мне проценты!» — сказала про себя Паучиха и прибавила вслух:
— Пойдем, дитя мое, со мной!
При этом своими костлявыми пальцами она так крепко сжала тонкую ручку Маргариты, словно боялась, что добыча ускользнет от нее.
— Потрудитесь объявить, что Маргарита больше у вас не живет, милая Фукс!
— Я сделаю все, как полагается; ваша племянница переходит теперь в ваши руки, для вас будет благодеянием иметь при себе родственницу!
«Племянница, родственница?» — подумала Маргарита и широко раскрыла глаза.
— Да-да, милое дитя, ты приходишься мне родственницей,— подтвердила Паучиха.— Я тебе при случае объясню, как обнаружилось наше родство!
Маргарита хотела сказать, что она счастлива, что нашелся человек, который признает ее своей, который, быть может, полюбит ее, но, взглянув в хитрое лицо Паучихи, осеклась. Она чувствовала, как крепко старуха держит ее за руку, обнаруживая такую силу, какой в ней нельзя было и подозревать.
Маргарита простилась с госпожой Фукс, которая проводила их до дороги.
— Помоги мне, дитя мое,— ласково сказала старуха.— Мне тяжело, а эта одышка — моя смерть!
Паучиха закашлялась и велела мнимой племяннице нести большой красный дождевой зонт и вести себя.
Так они дошли до Мельничной улицы и затем свернули в сторону, на Кладбищенскую улицу, которая вела на громадное городское кладбище. Серые ветхие дома здесь населял большею частью рабочий люд. Дома были одноэтажные, с подвалом, в который вела маленькая грязная дверь, из низких окон по всей замусоренной улице распространялся чад. Паучиха, шедшая с Маргаритой, уже не первой своей жертвой, держалась ближе к домам, чтобы не обращать на себя внимание. Наконец, она остановилась у одного из последних домов и велела девушке отворить обитую мешковиной дверь, которая вела на крутую, узкую лестницу.
— Скорей, скорей! Ты чего с таким удивлением оглядываешься? Иди вперед! — шептала старуха, слегка подталкивая девушку сзади, и, кряхтя, последовала за ней.
Дойдя до самого верха, старуха до того утомилась, что с трудом дышала, дрожащей рукой вынула она из мешка ключ и подошла к низкой, но крепкой двери.
Маргарита не знала, что ее ожидает, и боязливо следила за движениями Паучихи, но ей хотелось надеяться на лучшее.
Бедная девушка и не подозревала о той пропасти, которая уже зияла перед ней, готовая поглотить эту прекрасную и невинную жертву.
Старуха отворила дверь, и они оказались в комнате. Комната, куда они вошли, была небольшой, но, по сравнению с квартирой госпожи Фукс, казалась роскошной. У одной стены стоял обитый пестрой материей диван, у другой — высокая кровать. В простенке между окнами с занавесками помещалось зеркало в золоченой раме, которое, вероятно, перешло к ростовщице из будуара какой-нибудь метрессы; под ним была этажерка с красивыми безделушками, а перед диваном стоял стол, покрытый вязаной скатертью, на котором были спичечница и пепельница. Изящный умывальник и вешалка, тоже, вероятно, кем-то заложенные, довершали убранство.
Стеклянная дверь вела в комнату побольше, где валялись платья и громоздилась разного рода мебель.
— Сейчас четыре часа,— сказала Паучиха, закрыв за собой дверь.— Он обещал приехать в пять — это хорошо! Сними с меня платок и сложи его аккуратно, я уверена, ты скоро привыкнешь к новой обстановке и, надеюсь, будешь довольна, если отличишься ласкою и послушанием. Скоро придет один господин, будь с ним вежлива и любезна — он очень богат, а деньги имеют великое значение в жизни! С деньгами все можно сделать, им все подвластно, за деньги можно купить и любовь, и роскошь, и дружбу, и счастье, этот господин очень богат! Но помни, таких господ надо принимать ласково!
Маргарита с удивлением слушала Паучиху, которая, спрятав свой мешок, принесла из соседней комнаты голубое шелковое платье и стала осматривать его со всех сторон перед окном.
— Это хорошо, что Роза никогда не испортит вещи, на этом платье, например, она не сделала ни одного пятнышка, прямо как с иголки,— бормотала она.— Платье это действительно прекрасное, чудный фасон! Впереди короче, а сзади длинный шлейф, притом настоящие кружева! Дитя мое, сними с себя свое черное платье, сложи его аккуратно и примерь вот это. Оно тебе наверняка понравится — это чистый шелк! Думаю, ты первый раз в жизни надеваешь шелковое платье?
Маргарита хотела спросить, почему она должна надеть это дорогое платье, но женская любовь к тряпкам взяла верх. Она быстро сняла с себя старое и начала надевать платье, поданное старухой. Паучиха помогала ей своими дрожащими костлявыми руками, и вскоре девушка окончила свой туалет.
Госпожа Робер зажгла лампу и с удовольствием смотрела, на прелестную Маргариту. Платье еще более оттеняло ее белокурые волосы, темно-голубые глаза с длинными ресницами, восхитительный рот с белыми зубами и подчеркивало стройность девушки. Смелый вырез позволял видеть ее чудные формы во всей их красоте.
Улыбавшаяся сгорбленная старуха поправляла костюм своей жертвы, чтобы та казалась еще соблазнительней!
В эту минуту послышался стук колес. Госпожа Робер прислушалась — экипаж остановился. Она поставила лампу на стол и зажгла еще свечу.
Маргарита стояла перед зеркалом и — это было простительное женское кокетство — с удовольствием осматривала чудное платье, не задумываясь о темных намерениях Паучихи. Она рассматривала материю и кружева, и ей казалось, что она каким-то чудом переродилась.
Послышался стук в дверь — Маргарита вздрогнула.
Паучиха отворила.
В дверях показалось — кровь застыла в жилах девушки — то же самое лицо, которое явилось перед ней в кустах; она не в состоянии была пошевельнуться.
Камергер Шлеве, серые глаза которого сладострастно заблестели при виде желанного «дикого цветка», как он ее называл, легко вошел в комнату, улыбаясь от удовольствия.
— Вот ты где, прекрасная Лорелея, маленькая сирена!— проговорил он, с нежностью глядя на испуганную девушку.— Как она прекрасна, даже лучше, чем при свете луны.
Человек подошел ближе, и Маргарита догадалась; что ее привели сюда для того, чтобы она сделалась его жертвой; теперь ей стало ясно, почему ее нарядили в голубое шелковое платье. Мучимая страхом, она искала, как убежать от приближавшегося врага. Бедная девушка чувствовала, что ей грозит гибель, но не видела выхода.
Паучиха, догадавшись, что Маргарита порывается бежать от знатного гостя, поспешила к двери, ведущей в соседнюю комнату, и встала перед ней, как бы предупреждая бегство девушки.
— Несносная девчонка! — шептала она, толкая Маргариту.— Я же тебе говорила, что ты должна быть ласкова и предупредительна! Знатный господин обращает на тебя свое благосклонное внимание! Уж простите ей эту глупость,— обратилась Паучиха к Шлеве.— Она изменится, это совершеннейшая невинность!
— Совершеннейшая невинность! — повторил Шлеве, самодовольно улыбаясь.— Вы правы, и это извиняет ее естественное сопротивление! Отчего же ты бежишь от меня, глупенькая? Ты все равно попадешь ко мне в руки!
Маргарита видела, что Паучиха вне себя от досады подталкивает ее тайком, а сладко улыбающийся господин подходит все ближе; она чувствовала, что должна во что бы то ни стало увернуться от него. Сердце ее тревожно билось, она с трепетом искала убежища и защиты. Кого позвать на помощь? Никого поблизости не было!
Паучиха стала что-то поправлять у двери, взяла со стола лампу и вышла в соседнюю комнату, заперев за собой на ключ дверь.
Маргарита осталась наедине с ненавистным ей человеком, в котором теперь видела своего смертельного врага.
Приближаясь к девушке сбоку, камергер рассчитывал оттеснить ее к окну, где она неминуемо оказалась бы в его руках; он не мог и подумать, что она способна позвать кого-нибудь на помощь из окна.
Сердце несчастной девушки забилось сильнее, грудь ее вздымалась, она искала глазами убежища! Она метнулась ко входной двери в надежде избавиться от своего сладострастного преследователя.
Он с улыбкой следил за всеми движениями своей жертвы — она тщетно пыталась открыть замок. Паучиха заперла дверь, а ключ спрятала. Видя свое близкое падение, несчастная девушка не знала, на что решиться: бегство ее было заранее предусмотрено — ей преградили путь. Неужели покориться своей участи и погубить свою честь из-за этого ненавистного человека? Что же делать?
Камергер, проходя мимо стола, погасил свечу, и_в ту же минуту Маргарита почувствовала, что он обнял ее.
Крик ужаса вырвался из груди девушки, ненавистный человек пытался заглушить его, прижимаясь своими холодными губами к ее рту, но Маргарита изо всех сил старалась высвободиться из его объятий.
Барон Шлеве часто покорял такое сопротивление, он даже любил подобную борьбу — она распаляла его страсть.
Маргарита ощутила в себе в эту минуту достаточно сил, чтобы защищать свою честь, и с безумным отчаянием отталкивала его от себя. Барона же забавляла эта борьба маленькой сирены и только разжигала его животную страсть.
В комнате было совершенно темно. Позволяя Маргарите сопротивляться, камергер незаметно отступал все ближе к дивану — таков уж был его расчет! Злодей берег свои.силы, чтобы потом совершенно завладеть изнемогшей девушкой.
Маргарита не замечала его уловок. Вдруг не дав ей опомниться, камергер поднял ее, и она очутилась на диване. Крик отчаяния, невольная утрата сил последовали за неожиданными для девушки действиями. Барон торжествовал.
Паучиха за стеной самодовольно улыбалась: она любила подобные проказы!
Все усилия Маргариты высвободиться из объятий злодея, казалось, были напрасны, она почувствовала уже на своем теле дерзкую руку, слышала горячее дыхание, но вдруг в эту решительную минуту в ней проявилась неимоверная сила.
Послышался громкий удар, вслед затем другой…
Барон Шлеве ощутил, как вспыхнули его щеки, посыпались искры из глаз, голова закружилась…
Он закрыл лицо руками, и Маргарита с такой силой оттолкнула его от себя, что он едва не свалился.
В следующую минуту она, совершенно оправившись, стояла перед растерявшимся бароном. Руки маленькой сирены жестоко наказали его.
— Змея,— прошипел он.— Я тебе покажу…
— Оставьте этот дом или я позову на помощь,— громко и решительно произнесла Маргарита.
— Думаешь, если тебе на этот раз удалось освободиться, то все уже позади, ошибаешься. Ты еще меня узнаешь! — проговорил барон, поправляя свой туалет, и взялся за шляпу.— Вы своим платьем загасили свечу,— сказал он громко. — Зажгите ее немедленно и посветите мне вниз!
Маргарита с удивлением посмотрела на злодея; но она так глубоко презирала его, что не считала нужным что-либо отвечать. Паучиха исполнила за нее приказание; держа лампу в руках, она вошла в комнату.
— Без свечки? Ай-ай! — произнесла она с гадкой улыбкой.
Камергер указал на Маргариту.
— Это дикая и бессовестная особа,— я ухожу!
— Вы, кажется, сердитесь, господин барон? — спросила старуха.— Вам, вероятно, жарко, щеки ваши пылают. Боюсь, вы можете простудиться! Или это румянец от здоровья?
— От здоровья! Впрочем, мой экипаж меня ждет.
Камергер вышел. Паучиха светила ему.
Внизу зазвенело, будто отсчитывали деньги.
Оставшись одна, Маргарита после пережитого страха и волнения горько разрыдалась; в самую тяжелую минуту у нее проявилась такая решительность, что всякий на ее месте невольно бы ей позавидовал, но теперь ею овладело полное отчаяние и уныние, она поняла, в каких руках находилась.
Но где искать выход?
Боже, куда она попала?!
Паучиха в сущности не очень сердилась за недавнюю сцену. Она хотела достигнуть с этой доставшейся ей красавицей многого. По меньшей мере зацепить принца.
Она обходилась с Маргаритой ласково, одобрила ее поступок и на следующий день старалась вкрасться в доверие молодой девушки. Она сожалела, что племянница ее до сих пор видела так мало радости, но теперь, якобы найдя ее, обещала вознаградить за все перенесенные беды.
Начались какие-то приготовления, и наконец Паучиха сообщила юной, неопытной девушке, что отправляется с нею на маскарад, который дается в знакомом ей доме.
Маргарита столько была наслышана об удовольствиях на подобных празднествах, что не могла не обрадоваться.
Она была так молода, так прекрасна, так доверчива, что, несмотря на недавний случай, не понимала планов подлой старухи.
Хотя госпожа Робер скрывала от девушки свои темные дела, от ее внимания не ускользало многое, что заставляло ее задуматься и пробуждало сострадание. К тому же она сознавала, что у госпожи Фукс девушке грозила участь еще ужаснее теперешней.
Цели этих двух темных личностей были одинаковы.
X. ПОХИЩЕНИЕ С МАСКАРАДА
Близ заставы, недалеко от столицы, возле самого парка, который летом переполнен экипажами, амазонками и гуляющими, находился большой замок, где любила бывать аристократия. И зимой и летом здесь можно было получить столько развлечений, что, не побывав там, нельзя себе представить их великолепия.
Парк с тенистыми деревьями, которые украшали золотые шары и зажженные по вечерам газовые лампионы, с дивными цветами летом представлял собой прекрасное место отдыха или прогулки в антрактах между действиями опер или комедий, даваемых в роскошных залах.
Зимой же, когда происходят описываемые нами события, зады замка привлекали многочисленную публику. На костюмированных балах тут можно было встретить не только принцев и герцогов, но и дам высшего света, которые хотя бы раз хотели вкусить прелесть этого запретного плода: балы были весьма оживленными, вызывали какой-то особый интерес, имели какую-то притягательную силу.
Первый из этих восхитительных вечеров был уже назначен — наступивший холодный октябрь так и манил к зимним удовольствиям.
Около десяти часов вечера по освещенной дороге от заставы к замку, высокие окна которого были завешены, мчалось множество элегантных экипажей. Все спешили сюда хотя бы считанные минуты провести в царстве вечной весны, где веяло особой свободой и раскованностью.
Покои замка в самом деле были восхитительны.
Мы входим в залы одновременно с белым домино, которому негр помог выйти из экипажа. Он высок ростом, прекрасно сложен, и наряд его отличается изысканностью. На лице его черная шелковая маска, а на голове — шляпа.
Когда он миновал ярко освещенную переднюю, где тут и там толпились болтающие маски, лакеи поспешили отворить ему высокие двери.
Белое домино вошел в рыцарскую залу. Стены ее украшало оружие, в нишах стояли рыцарские доспехи; бесчисленные газовые рожки распространяли ослепительный свет.
Маски парами и поодиночке гуляли взад и вперед, громкая музыка доносилась из театральной залы, в которую вели два огромных портала. Тут кипела жизнь.
Арлекины с удивительной ловкостью лазали по стенам, управляясь со своими бубнами; глаза разбегались от ярких нарядов: каменный гость прохаживался под руку с дон Жуаном, маленькие гномы, играя, подкатывались под ноги веселым маскам.
Театральная зала, с изящными колоннами, громадными люстрами и мастерской росписью на стенах, могла вместить в себя более двух тысяч человек. Оркестр помещался на сцене, ложи пестрели масками, желавшими тайно поговорить друг с другом или с возвышения обозреть пеструю толпу; несколько сильфид сидели в нишах за зелеными шелковыми портьерами, заманивая к себе прохожих.
Из этой громадной залы через маленькую слабо освещенную залу можно было пройти в зимний сад.
Вы вдруг будто по мановению волшебной палочки переносились в лучшее время года. Здесь били фонтаны, в аромате душистых цветов манили к себе гроты.
Широкий и длинный сад магически освещался сверху так, что не видно было ни единого огонька, кроме разноцветных шаров в беседках. Птицы щебетали в листве деревьев, на которых висели созревшие плоды.
В мраморном бассейне плавали редкие морские животные и черепахи, а громадное зеркало на задней стене расширяло площадь этого сада до бесконечности.
Проходя мимо первого фонтана, белое домино увидел в стороне странную пару.
Изящная собирательница винограда, юность которой обнаруживала особая легкость движений, хотя черная маска скрывала ее лицо, шла под руку со старой сгорбленной колдуньей.
Эбергард, а именно он скрывался под маской белого домино, невольно остановился — так на удивление хорош был костюм этой старой маски. Темно-красный плащ с капюшоном был накинут на плечи сгорбленной колдуньи, а лицо скрывала безобразная старая маска. Одной рукой она крепко держала свою спутницу, а другой плотнее запахивала свой плащ. При этом она очень внимательно следила за всеми масками.
В прекрасных золотистых волосах собирательницы винограда были розы. Коротенькая, изящная юбка белой шелковой материи была отделана розовыми лентами; тонкие шелковые чулки и маленькие розовые башмаки обтягивали ее изящную ногу; юбка была до того коротка, что открывала очаровательные ножки, и можно было смело сказать, что эта маска была царицей бала. Даже двое эльфов в еще более коротких кисейных юбочках не могли сравниться с прекрасной собирательницей винограда, державшей в руках корзинку с плодами и цветами. Розовый шелковый корсаж слегка стягивал только что развившиеся формы; ее шея и руки были ослепительной белизны.
Эльфы с завистью осматривали юную виноградаршу с ног до головы и затем подошли к белому домино, потешаясь над тем, что он так внимательно смотрит вслед ей.
Эльфы, вероятно, были сестрами; они были в одинаковых масках, белых кисейных юбках, подобранных белыми же цветами, весьма коротких, со смелым вырезом в корсаже, их костюмы дополняли драгоценные ожерелья и изящные белые перчатки. Черные глаза их, сверкавшие из-под черных масок, кокетливо посматривали на Эбергарда.
— Ты любуешься виноградаршей, белое домино? — прошептала одна из эльфов, проходя мимо Эбергарда.— Несчастный! Знаешь ли ты, кто ее провожатая?
— Нет, прекрасный эльф, скажи мне это!
— Это Паучиха, ха-ха-ха, заманившая в свои сети нового жука! — сказала маска.
— Паучиха?— повторил Эбергард.
— О, белое домино, неужели ты не знаешь Паучихи? — проговорила одна из эльфов, между тем, как другая обратила ее внимание на элегантного рыцаря, только что вошедшего в сад.
— Бьюсь об заклад, что это лорд Фельтон,— прошептала она, уводя за собой свою спутницу.
«Это Кора и Лидия Болиус!» — сказал про себя Эбергард, глядя им вслед и не выпуская из виду сгорбленную колдунью, которую эльфы назвали Паучихой.
Рыцарь, пробравшись сквозь толпу масок, раскланялся с обеими дамами, которые со смехом написали ему на ладони большое Ф. Он нашел то, что искал, и вскоре уже сидел с соблазнительной Корой и очаровательной Лидией за шипучим шампанским в одной из прекрасных беседок, где сыпались шутка за шуткой.
В ту минуту, как белое домино, преследуя собирательницу винограда, входил в театральную залу, он заметил в стороне испанца, которого сопровождал хромой цыган, внимательно искавший кого-то глазами.
— Ваше королевское высочество, вы можете быть уверены, что тот разбойник — не кто иной, как принц Этьен,— прошептал цыган.— Он идет вслед за черным домино, которое, по всей вероятности, скрывает интересную личность — какой величественный рост!
Испанец ничего на это не ответил, но кого-то усердно искал; серые глаза цыгана зорко следили за ним, маска скрывала его хитрую усмешку.
— Господин барон, вы обещали мне привести сегодня ту невинную девушку, которую, наконец, с таким трудом разыскали.
— Разумеется, мой принц, я привел бы ее к вашему королевскому высочеству уже несколько дней тому назад, если бы маленькая Лорелея не была такой робкой! Я потерпел фиаско при последней попытке! — сказал хитрый камергер.
— Так предоставьте мне самому испробовать свое счастье!
— Потрудитесь последовать за мной.
— Так соблазнительная сирена в самом деле тут?
— Через несколько секунд она будет к вашим услугам, мой принц!
Камергер Шлеве, пройдя мимо белого домино, подошел к сгорбленной колдунье.
— Слушай, Паучиха,— сказал он так тихо, что Маргарита, или же виноградарша, не могла расслышать его слова и не узнала его.— Приведи твою спутницу в первую беседку сада — принц Вольдемар желает видеть ее.
— Хорошо, господин барон! — Паучиха с благодарностью пожала руку камергера.— Поспешу! Знаете ли вы того турка, который нас рассматривает?
— Это старый лорд Уд, чего же ему смотреть? Вот и это белое домино тоже не спускает с вас глаз! Маски часто ошибаются. Стало быть, в первой беседке налево!
В то время как цыган весьма бесцеремонно повернулся к ней спиной, Паучиха повела свою спутницу в сад; Маргарита следовала за ней, не подозревая ничего дурного, так как госпожа Робер выразила желание присесть.
— Посмотри на эти роскошные беседки, моя дорогая,— тихо проговорила хитрая старуха,— не правда ли, нам здесь будет прекрасно.
Старая колдунья уже заранее рассчитывала, как щедро наградит ее принц.
Маргарита, которую Паучиха крепко держала за руку, прошла мимо цветущих пальм и апельсиновых деревьев, и затем они обе вошли в беседку, сверху донизу обвитую плющом. С дорожек сада беседку эту нельзя было разглядеть, тем более что вход был завешен зеленой портьерой. Колокольчиком, висевшим на стене, можно было призвать слуг. Изящный стол, над которым висела красная матовая лампа, множество кресел и элегантное зеркало составляли убранство этого уютного кабинета.
После того как Паучиха со вздохом и кашлем уселась и Маргарита сняла с себя маску, так как было очень жарко, с дорожки, окруженной деревьями, довольно ясно послышались слова:
— Идите вперед, господин барон, а я тем временем сумею оценить вашу находку!
Цыган подошел к беседке, в которой сидели Маргарита с Паучихой. Увидав незнакомого господина, девушка попросила сгорбленную старуху сыскать другую беседку.
— Это отчего, милое дитя? — спросила госпожа Робер.— Ведь мы первые заняли эти места! Да и цыган не причинит нам никакого зла!
Цыган с поклоном подошел ближе; на этот раз следовало быть поосторожней, так как принц находился поблизости, но ему очень хотелось испугать девушку, оказавшую сопротивление. Он уже готов был свалить всю вину на нее в случае, если Маргарита при близком знакомстве с принцем вздумает донести на него.
Паучиха встала, чтобы ответить на поклон камергера, который снял маску. Улыбка исказила его лицо, Маргарита не ошиблась: хромой цыган был тем самым злодеем, которого она несколько дней назад оттолкнула от себя! Он, казалось, все еще готов был преследовать ее: улыбка его была так хитра, так вкрадчива, что Маргариту при взгляде на него обдало холодом.
— Вы опять побледнели, маленькая сирена,— прошептал он.— Разве я так страшен?
Паучиха хрипло захохотала, Маргарите стало так страшно рядом с этими двумя злодеями, которые отлично понимали друг друга, что она, вырвавшись из костлявых рук старухи, хотела было бежать — Паучиха жадно протянула за ней руки, барон удержал ее, указав на аллею, что вела к беседке.
Маргарита увидала перед собой юношу в элегантной одежде испанца, он снял маску, приветливо глядя на нее. Маргарите показалось, что это сон — она остановилась как вкопанная: человек, которого она увидала, который ласково протягивал ей руку, был тот самый юноша, которого она когда-то видела во сне, в этом не было сомнения. Сердце ее сильно забилось, между тем как язык отказывался ей служить.
Странная встреча!
Принц, исполненный удивления при виде прекрасной девушки, подошел ближе.
— Наконец-то я вас нашел! — прошептал он, схватив маленькую руку Маргариты.— Я видел вас однажды на дороге, и с тех пор ваш образ преследует меня днем и ночью! Войдемте в беседку! Ваш взгляд, ваше молчание говорят мне, что вы не откажете мне в моей просьбе!
— Защитите меня от того господина, который уже в третий раз преследует меня! — едва слышно проговорила Маргарита, входя с принцем в беседку.
— Моя племянница Маргарита! — представила девушку старуха.
— Прекрасная Маргарита — царица бала, и это высокое отличие как нельзя более подобает ей одной! — иронически прибавил камергер.
Маргарита была так удивлена встрече, что не обратила внимание на эти слова и все не спускала глаз с принца, как бы желая сохранить в своей памяти эти дорогие для нее черты. Она была сильно взволнована; какой-то тайный голос нашептывал ей: «Вот кого недоставало до сих пор в твоей жизни!»
Она покраснела, когда взоры их встретились; радость ее была безгранична, и вскоре, собравшись с духом, она могла отвечать на все его вопросы. Она рассказала ему, как образ его был неразлучен с ней с тех пор, как она в первый раз увидала его, как она мечтала о нем и днем и ночью. Он радовался, глядя на нее; в эту минуту она показалась ему еще прекраснее прежнего, но скоро радость его сменилась тайной грустью, так как он увидел, что ее сопровождает госпожа Робер, дурная репутация которой была ему известна!
Камергер Шлеве был прав, называя принца странным человеком. Его никогда не заботила частная жизнь знакомых дам, однако на него так неприятно подействовала мысль, что Маргарита находится в руках госпожи Робер, что он поручил барону переговорить со старухой, решив освободить девушку из когтей этой старой колдуньи.
Хитрый камергер нисколько не удивился приказанию принца, он уже предвидел последствия и радовался, что принц все больше и больше запутывается в его сетях. А если принцу удастся без труда завладеть этой девушкой, что сильно занимало его в последнее время, каприз его будет удовлетворен, и тогда настанет время, когда принц будет в его полном распоряжении.
Он оказывал принцу, беседовавшему с Маргаритой, двойную услугу тем, что удалился из беседки вместе с Паучихой. Надев маски, они оба пошли к фонтану — он, уговорившись со старухой обо всем, оставил ее одну, после того как взял с нее обещание оставить маскарад.
Он хотел воспользоваться свободной минутой для очень важных переговоров. Камергер искал глазами величественное черное домино, которое прошло в театральную залу вместе с принцем Этьеном. Хотя он не обмолвился с нею ни словом, однако ни на минуту не сомневался, что это домино — мисс Брэндон, его союзница.
Напрасно он искал ее в беседках сада, между гулявшими по залам масками. Но камергер Шлеве не любил останавливаться на полпути! Рядом с Эбергардом, шедшим с кавалером де Вилларанка, он прошел на балюстраду, вдоль которой в стенах были уютные ниши, завешенные портьерами.
Прислушавшись несколько минут у одной ниши, он отправился ко второй; казалось, он напал на след — из второй ниши раздавались звуки, которые привлекли его внимание. Полумрак, царивший здесь, благоприятствовал тому, что он незаметно и неслышно подошел сбоку к тому месту, где половины портьеры образовали едва заметную щель; торжествующая улыбка просияла на его бледном лице — в нише стояла прекрасная Леона, а перед ней — принц Этьен. Оба были без масок.
— Наконец-то я имею счастье видеть вас одну и говорить с вами, гордая и недостижимая женщина,— в волнении говорил французский принц.— Я ослеплен вами. Не будьте так жестоки, мисс Брэндон, не улыбайтесь так холодно, будто вы издеваетесь над человеческими страстями — такое испытание выше моих сил!
— Вы очень несдержаны, мой принц! — тихо проговорила Леона с такой соблазнительной грацией, что и камергер должен был сознаться, что эта женщина создана для того, чтобы не только львы, но и все мужчины лежали у ее ног.
— Я долго таил в себе непреодолимое желание объясниться вам, Леона, но теперь, после того как вы удостоили меня блаженства держать вашу руку, было бы танталовыми муками потребовать от меня спокойствия и холодности! Нет-нет, прекрасная Юнона, знай же, я люблю тебя со всей силой своей души, со всей своей страстью! — принц опустился на колени, целуя ее руку.
Черное домино, скрывавшее до сих пор стан Леоны, распахнулось, и взволнованный поклонник увидал перед собой чудные формы этой холодно улыбавшейся женщины, слегка стянутые платьем.
— Я знаю, что я сумасшедший,— продолжал принц,— но не откажи, дорогая, мне прикоснуться к твоему стану,— проговорил принц и, возбужденный страстью, еще ниже склонился, чтобы поцеловать ее божественную ножку.
— Мой принц, нас могут подслушать!
— Есть степень страсти, когда никто и ничто не может остановить или удержать человека; позволь тебя обнять, знай, я пожертвовал бы всем, решительно всем, чтобы только иметь блаженство хоть на час забыться в твоих объятиях.
Лицо Леоны выражало в эту минуту странную смесь торжества и презрения; она видела у ног своих высокопоставленного, умного, прекрасного человека, низвергнутого в прах силой страсти — снова ей удалось повергнуть к своим ногам гордого сановника! Никто не мог противостоять ей, никто не имел силы быть равнодушным к ее прелестям, кроме одного, с которым однажды связала ее таинственная клятва, которого она ненавидела больше всего на свете и погубить которого было ее единственной целью.
— Возвратимся в залу, мой принц,— проговорила она, наконец, протягивая руку стоящему на коленях принцу.— Рано или поздно вы будете иметь случай продемонстрировать мне, было ли ваше признание только пустой фразой или вы действительно готовы доказать Леоне вашу искреннюю дружбу!
— Не спрашивайте — приказывайте, Леона, и — наградите!
— У вас не будет оснований жаловаться на мою скупость. А сегодня я и так допустила уже слишком много, мой принц. Проводите меня в залу.
Убедившись, что мисс Брэндон вполне оправдала его ожидания, камергер Шлеве тихо сошел с лестницы в театральную залу; он надеялся в этот вечер непременно переговорить с Леоной и узнать от нее, каким образом граф Монте-Веро был спасен Гэрри.
Тут камергер, к своему удивлению, увидал сгорбленную колдунью, которая, по его расчету, должна была быть уже на дороге домой. Ее сопровождал турок, под маской которого скрывался старый лорд Уд.
Какое дело мог иметь к Паучихе обыкновенно сухой и холодный англичанин?
Камергер Шлеве вспомнил, что госпожа Робер уже прежде упоминала о турке, который, по ее словам, не спускал глаз с Маргариты. Без сомнения, они говорили о вещах, которые могли бы интересовать барона, и он решил незаметно понаблюдать за ними.
— Я говорю об очаровательной блондинке,— вполголоса сказал лорд Уд, обращаясь к госпоже Робер.— Я видел ее прежде с вами и не мог налюбоваться! Прелестный ребенок! Ради Бога, скажите, куда она исчезла?
— Не могу, не смею, ваше превосходительство, это секрет!— с важностью ответила Паучиха.
— Я очень беспокоюсь о ней,— сознался старый лорд.— Вы знаете, госпожа Робер, я в состоянии платить! Я пожертвовал бы порядочной суммой, если бы только мог поговорить с прелестной блондинкой! Назначайте любую сумму, госпожа Робер.
«О, лорду Уду тоже понравилась маленькая сирена, число ее поклонников увеличивается! Вот теперь-то этот вечер становится интересным!» — подумал камергер.
— Посоветуйте же мне что-нибудь, любезная волшебница! — продолжал лорд, воображая, что никто не узнает его в костюме турка.
— Остается только похитить ее! — хрипло засмеялась Паучиха.
— Похитить? Превосходно! Мой экипаж внизу, не надо терять ни минуты, я сгораю от нетерпения!
— Вижу, вы не шутя влюбились в мою прелестную племянницу, я в самом деле завидую ей и вспоминаю с неудовольствием собственную юность, что прошла совершенно иначе.
— Окажите же мне содействие, пойдемте к вашей племяннице! Похищение — великолепная мысль!
— Но ее не так-то легко привести в исполнение, ваше превосходительство!
— Это отчего? Что может меня удержать?
— Подле моей племянницы в первой беседке сидит очень знатный и богатый поклонник!
— Знатный и богатый? — удивился лорд.— Какую же сумму он вам обещал?
— Пятьсот талеров, ваше превосходительство! — ответила хитрая старуха.
— Черт возьми, но девушка эта истинная жемчужина. Должен сознаться, маленькая блондинка очаровательна! Я тут же даю вам вдвое больше, если вы окажете мне содействие при похищении!
Камергер Шлеве заметил, что слова лорда произвели на колдунью желанное действие.
— Это очень затруднительно, ваше превосходительство! Но моя уверенность, что вы осчастливите мою племянницу, придает мне решимости. Я не хотела бы доверить это милое, очаровательное дитя дурным людям, а на вас я надеюсь, вы не сделаете ей худа и, по всей вероятности, долго сохраните привязанность к этой невинной девушке, а потому надо…
— Ну, что же надо? — прервал лорд в нетерпении.
— Надо постараться непременно освободить мою племянницу Маргариту из рук ее теперешнего поклонника. О, не пугайтесь, этот богатый и знатный господин увидал ее в первый раз только полчаса тому назад!
— Он нам может помешать!
— Нет, ничего, дело уладится! Выслушайте меня, ваше превосходительство! В то время, как вы будете приказывать кучеру подавать, я пойду в беседку! Поклонник ее воспользуется этой минутой, чтобы также сделать нужные приготовления к отъезду, следовательно, оставит ее одну со мной! Ваше превосходительство потрудится затем войти к нам, а все остальное предоставьте мне! Я доведу очаровательную Маргариту до вашей кареты, она немного дичится, но со временем это пройдет! Кучер погонит лошадей, и вы увезете мою племянницу!
— Превосходно! — Лорд был вне себя от радости.
— Если же дело примет дурной оборот, то я постоянно к вашим услугам, чтобы оправдать даже перед судом ваше похищение!
— Вы превосходная, умная женщина, только не теряйте ни минуты! Я сам схожу к Адаму, моему кучеру, отошлю камердинера, который может только помешать мне, с приказанием приготовить мне в моем дворце ужин, а затем возвращусь к вам в беседку! — с удовольствием произнес старый лорд.— Это презабавно! Я похищаю маленькую соблазнительную блондинку!
Паучиха тоже смеялась вместе с его превосходительством, который сунул ей в руку две ассигнации, и отправилась, не оглядываясь, в сад, между тем как лорд поспешил через рыцарскую залу, чтобы отдать нужные приказания кучеру. Камергер Шлеве со смехом смотрел им вслед, но вскоре лицо его приняло серьезное выражение — он принимал твердое решение.
Паучиха не ошиблась! Когда она вошла в беседку, принц Вольдемар выразил намерение удалиться на несколько секунд, так как барон Шлеве долго не возвращался. Он извинился перед Маргаритой и попросил подождать его — он не в состоянии лишить себя удовольствия довезти ее до дома в своем экипаже.
Проходя мимо фонтана, принц увидал цыгана, очевидно, поджидавшего его.
— Где вы пропадали, господин барон? — тихо спросил принц.— Потрудитесь приказать кучеру подавать!
— Одну минуту, ваше королевское высочество,— улыбнулся камергер.— Одну минуту, тут разыгрывается восхитительная интрига!
— Говорите, но скорее, я намерен отвезти очаровательную блондинку в свою виллу близ парка!
— Две мили ночью…
— Если бы их было десять, господин барон, и если бы я был принужден сам править лошадьми — для меня это не составило бы труда,— произнес принц с таким энтузиазмом, какого у него камергер Шлеве прежде никогда не замечал. Очевидно, принц не на шутку влюбился в прелестную Маргариту.
— Это что-то вроде похищения? — с улыбкой заметил Шлеве.
— Вы переговорили уже с госпожой Робер обо всем? — спросил принц, не слышавший последнего замечания камергера.
— Да, ваше королевское высочество, но старый лорд Уд намерен опередить вас! Он приготовил уже свой экипаж! Вот и он сам в костюме турка! Он войдет в беседку к прекрасной сирене, которую поведет к экипажу с помощью колдуньи, и…
— Не с ума ли сошел этот старый англичанин?! — воскликнул принц Вольдемар.— Он имеет намерение…
— Похитить Маргариту, да, действительно, ваше королевское высочество!
— Этого не должно произойти, или я этого лорда Уда…
— Его превосходительство — английский посланник, ваше королевское высочество,— напомнил ему камергер.
— Вы правы: он направляется к беседке; я сниму с себя маску, и тогда у него пройдет охота к похищению!
— Не предпочтете ли вы похитить эту очаровательную добычу из-под носа старого лорда Уда? — спросил Шлеве.
Принц остановился.
— Разумеется, но каким образом?
— Ваше королевское высочество сказали сейчас, что вам нетрудно было бы самому править лошадьми,— проговорил камергер.— Мне кажется, было бы презабавно, если бы…
И тут барон, нагнувшись к принцу и говоря ему что-то на ухо, прошел вместе с ним через театральную залу. Предложение, очевидно, понравилось, так как принц от души смеялся над выдумкой камергера. В то время как оба незамеченно прошли сквозь толпу масок через залы к экипажам и камергер наконец нашел карету английского посланника, лорд Уд, в веселом расположении духа подходил к беседке, где сгорбленная колдунья сидела с очаровательной виноградаршей, которая очень понравилась старому лорду. Прекрасная фигура, чудные золотистые волосы, голубые глаза — все это так увлекло англичанина, что он был вне себя от радости, увидев, что хитрой госпоже Робер удалось устранить ее первого поклонника.
Войдя в беседку, турок поклонился госпоже Робер как старой знакомой, а затем смело поцеловал руку Маргарите и шепнул что-то на ухо Паучихе, которая поспешно взяла Маргариту за руку, чтобы оставить беседку.
— Пора, милое дитя! — сказала она, внимательно высматривая между масками, нет ли поблизости принца.— Мы воспользуемся услугами этого господина, который выразил желание довезти нас до дому, так как идет сильный дождь!
Девушка хотела было что-то возразить, но слова Паучихи были так решительны, что она повиновалась; она глазами искала того прекрасного юношу, который обещал возвратиться, но его нигде не было.
Английский посланник радостно шел за старой колдуньей, уже заранее предвкушая все прелести наслаждения обществом прелестной блондинки.
Двери отворились, множество масок направлялись к экипажам, так что на портале стало тесно.
Турок быстро, насколько ему позволяли немолодые ноги, сошел вниз по ступеням, позвал кучера, обернулся к Маргарите и сам отворил дверцы. Девушка, не подозревая, что сделалась жертвой коварной сделки, села в элегантный экипаж, лорд последовал за ней. Паучиху оттеснила от них нахлынувшая толпа.
Маргарита хотела выйти, но турок запер дверцы, лошади тронули, и лорд Уд остался наедине с очаровательной виноградаршей!
Все это было делом одной минуты!
Девушка хотела позвать на помощь, отворить дверцы, но турок просил ее успокоиться, уверяя, что отвезет ее назад к госпоже Робер. Между тем лошади так быстро мчались мимо парка, что Маргарита, растерявшись, не знала, на что решиться. Дрожащим голоском просила она своего спутника, которого не знала, но почтенная наружность которого вызывала в ней доверие, везти ее домой на Кладбищенскую улицу.
Лорд Уд, ласково улыбаясь, обещал ей это и стал утешать отчаявшуюся девушку. Он был так ласков, а седые волосы его так благоприятствовали его уверениям, -что Маргарита, наконец, доверилась ему.
Седина старого ловеласа обманывала ее. Произнося отечески ласковые речи, лорд рисовал в своем воображении, какое наслаждение принесет ему общество этой очаровательной девушки. Он видел уже, как в своем особняке, сидя рядом с ней на оттоманке, подносит ей шипучее шампанское, даже придумал, что будет говорить в утешение прекрасной девушке, и был уверен, что когда она увидит всю роскошь его обстановки, то будет счастлива своим новым положением.
Экипаж остановился перед роскошным особняком английского посольства, лакеи поспешили отворить дверцы.
Старый лорд Уд сделал им знак отойти и сам выскочил с ловкостью молодого человека. Затем обратился к прекрасной виноградарше. В ту же минуту лошади тронули. Лорд стал звать слуг, но с козел его кареты громко и насмешливо послышалось:
— Это маскарадная. шутка, лорд Уд. Имею честь…
Экипаж умчался. Чей это был голос? Его превосходительство приказал лакеям погнаться за каретой и остановить ее. Он был безутешен.
— Адам поехал к конюшням, ваше превосходительство! — отвечал удивленный Лакей,
ЛорД Уд с унынием смотрел вслед умчавшейся девушке, которую ему не удалось похитить. И ему некому было даже сказать о причине своего гнева. Вся злоба его обратилась на лакеев, которые подавали ужин. Его превосходительству пришлось ужинать в одиночестве.
На следующее утро кучер, которого Шлеве уговорил уступить свое место испанцу, принес разгневанному лорду письмо следующего содержания:
«Податель сей записки вовсе не причастен к маскарадной шутке вчерашней ночи. Потому надеюсь, ваше превосходительство не окажет ему немилости!
Преданный вам Вольдемар».
«Стало быть,, принц сыграл со мной эту шутку, принц похитил у меня очаровательную девушку, и, может быть, по ее желанию»,— говорил про себя с горькой усмешкой лорд Уд. Он даже не смел выгнать кучера, так как тем самым рассердил бы принца Вольдемара, который сделал бы его предметом всеобщих насмешек.
XI. ТРАКТИР «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
Прошло несколько недель после рассказанного нами в предыдущей главе. За холодной и суровой осенью последовала зима, еще более холодная, земля оделась в белоснежный наряд, небо покрывали низкие темные тучи, казалось, оно никогда более не прояснится.
Эта мрачная погода оказывала сильное влияние на Эбергарда, и без того потрясенного до глубины души. Он стоял посреди кабинета, выронив перо, его глаза были задумчиво устремлены вдаль; он мысленно рисовал себе картины, которые сильно волновали его, он видел свою дочь в нужде и нищете, слышал, как она жалобным голосом зовет отца и мать, как на каждом шагу встречает искушения.
— Пойдем, следуй за мной,— манил ее чей-то голос.— Отчего ты терпишь нужду, отчего проливаешь слезы? Ты прекрасна, ты будешь счастлива, если последуешь за мной! Ты отворачиваешься? Хочешь оставаться в нужде и горе, между тем как все вокруг наслаждаются? Жизнь коротка, опомнись, пока еще есть время!
Эбергард видел, что его потерянная дочь готова поддаться искушению, с какой радостью она смотрела на предлагаемые ей золото, шелка и серебро, как, улыбаясь, слушала рассказы об удовольствиях жизни.
— Дитя мое! — воскликнул он, принимая сон за явь.— Бедное дитя мое, не слушай, не следуй искушению!
Но искушение имело желанное действие на прекрасную девушку — чтобы забыть нищету, нужду и горе, она слепо ринулась в бездну удовольствий.
— Дитя мое! — восклицал Эбергард в отчаянии.— Сжальтесь, сжальтесь над моей бедной дочерью!
— Она погибла,— прозвучало над ним,— уже поздно!
Картины, что рисовало воображение, исчезли. Мартин вошел в кабинет. Граф Мстнте-Веро обратился к своему верному слуге:
— Ну что, Мартин? — спросил он дрогнувшим голосом.
— Сегодня господин Эбергард должен встретить в том трактире Фукса.
— Ты знаешь человека, который дал тебе это обещание?
— Как вам сказать, господин Эбергард,— отвечал Мартин в некотором смущении,— его зовут Дольман, я был с ним однажды в компании. В нем мало хорошего!
— Но ты полагаешь, он сдержит слово?
— Могу поклясться!
— Так пойдем с наступлением ночи в тот отдаленный трактир; принеси мне платье, которое я обыкновенно надеваю в таких случаях,— приказал Эбергард и, когда Мартин вышел, прибавил: — Даст Бог, на этот раз мои старания не будут напрасными!
Начало смеркаться, ветер глухо завывал, швыряясь по сторонам хлопьями снега; люди плотнее кутались в шинели и плащи, поспешно направляясь по домам. Извозчики, стоявшие на углах улиц, поминутно вытаскивали бутылки с ромом и хлопали руками, чтобы согреться; на мостах раздавались жалобные голоса детей госпожи Фукс, дрожавших от холода.
В этот мрачный, суровый вечер по одной из глухих улиц столицы двое быстро шли к заставе, чтобы через предместье выйти в открытое поле. Они торопились, так как ночная стража, которой у них были основания бояться, уже занимала свои места. Оба были высокого роста и крепкого сложения, и на обоих была потертая, поношенная одежда.
— Ну, вот мы и на площади,— Сказал один из них, на голове которого была надета испанская шляпа, которую он, подходя к знакомому ему месту, сдвинул со лба, так что можно было видеть темные глаза, опушенные длинными темными ресницами, и черную густую бороду, обрамлявшую его лицо.
— О, да ведь это церковная площадь, там на углу есть надпись! — отвечал ему пропитым голосом другой, одутловатое лицо которого свидетельствовало о его пристрастии к крепким напиткам.— Ночь будет очень холодной, Дольман, для нас настает плохое время!
— Ну, так что же, что холодно, этой беде можно помочь, доктор, надо изнутри подавать больше жару в «Белом Медведе», тогда будет тепло!
— Если бы только всегда хватало денег заплатить! Трактирщик Леопольд такой скряга, и тупоумный Рольф тоже, они ничего не дают взаймы, времена настали скверные!
— Надо сделать опять что-нибудь, чтобы какое-то время жить без нужды! Так, как сделал Фукс три месяца назад.
— Но за ним следуют по пятам!
— Он ничего не боится, вот уже неделя, как он каждый вечер ходит в «Белого Медведя»! Ну, а первый, кто осмелится подойти к нему, останется на месте, он только с виду такой кроткий,— возразил Дольман.— В делах у него какой-то секрет, похоже, этот лысый вредит мне — он тоже занимается удушением!
— Ты кричишь о себе больше, чем делаешь. Я знаю, ты душил только собак!
— Это ремесло не в моем вкусе, пусть этим занимается палач!
— Твой брат? Но он же тебе платит!
— Не даром же, но тише! С тобой надо быть поосторожней, ты пьяным родного отца предал! Сам ты отделался даровой квартирой на пять лет, а он не вынес мучений и умер! Это похоже на тебя! Я и сам, если взбешусь, если чем-нибудь завладею, так уж ни за что не выпущу из рук!
— С бутылкой и я такой же! — отвечал, смеясь, тот, которого Дольман назвал доктором. Смех его был так отвратителен, будто он хотел этим заглушить слова Дольмана.
Дома, мимо которых они проходили, становились все меньше и ниже; здесь уже не встречалось фонарей.
Эти двое, обыкновенно проводившие ночи в парке вместе со многими подобными им бездомными, среди которых были и женщины всех возрастов, вышли наконец на дорогу, тянувшуюся вплоть до парка. Эта пустынная песчаная дорога называлась Тополевой аллеей. Строений на ней не было, лишь изредка кое-где встречалось что-то вроде сараев, а дальше совершенно отдельно находился трактир, или постоялый двор «Белый Медведь», но для постоя сюда никто не являлся. Этот трактир служил скорее местом сходки темных людей, оставаться среди которых было крайне опасно, особенно если в кармане звенело хотя бы несколько грошей. Когда оба мошенника вышли, наконец, на Тополевую аллею, ветер особенно уныло завыл в деревьях.
— Надо хорошенько выпить сегодня! — сказал доктор, плотнее закутываясь в свой дырявый летний сюртук и согревая в карманах окоченевшие руки.
Из далекого города донесся бой башенных часов. Пробило одиннадцать.
— Тс, не идет ли там человек? — прислушался Дольман.
— Кажется, там двое,— возразил доктор.— Наверно, не чужие!
Теперь справа от дороги виднелся трактир. Это была низенькая, полуразвалившаяся лачуга, с худой крышей, маленькими подслеповатыми окнами и покосившейся от ветхости дверью. По обеим сторонам двери торчали шесты, к которым была прибита вывеска с едва заметными очертаниями белого медведя. Позади дома тянулся полуразвалившийся забор. Фонаря не было. Хозяин, или трактирщик Леопольд, как его звали все, занимавшийся укрывательством краденого, знал, что гости его и без фонаря найдут его дом!
Из-за темноты Дольман и доктор сочли одного человека, несшего мешок, за двоих.
— О, да это сам хозяин! — сказал Дольман.— Откуда он так поздно? Ведь он не очень-то любит оставлять трактир на одного тупоумного Рольфа, верно, опять сделал выгодное дельце — что-то тащит!
— Добрый вечер, господин Леопольд,— сказал доктор, снимая шапку.— Вы должны заплатить тут таможенные пошлины!
С этими словами толстый доктор, который в самом деле когда-то учился медицине, встал в дверях, не пропуская хозяина. Старик, казалось, не обратил на него внимания, а подойдя ближе к Дольману, заглянул через дырявую занавеску внутрь.
— Воздух чистый, там сидит Фукс! — заметил Дольман.
— Вот и хорошо! Сегодня он пришел вовремя,— проговорил тощий Леопольд хриплым голосом.— Ну, пустите!
— Вы сегодня в дурном расположении духа — один с такой тяжелой ношей! — заметил доктор, с любопытством ощупывая его мешок.
— Не трогайте и не суйте во все нос! — огрызнулся Леопольд. Он вошел в прихожую и, отворив дверь маленькой комнатки, уложил там мешок и запер дверь на ключ.
Отвратительный запах обдал их при входе в комнату, но все трое, казалось, не чувствовали его.
В низеньком помещении, полном дыма, было двое гостей. Один, которого Дольман назвал Фуксом, сидел задумчиво за столом; перед ним стоял стакан с водкой и тарелка с остатками колбасы. Он был невысокого роста, худощавым. На нем был светло-коричневый сюртук, темный жилет, застегнутый до верха, на столе подле него лежала старая серая шляпа.
Лицо Фукса казалось совершенно спокойным, а между тем человек этот был опасным преступником, который обвинялся во множестве убийств, совершенных в последнее время. Позже мы узнаем биографию этого злодея. У него была большая лысина, сизые усы его были редкими, но, по-видимому, составляли немалую гордость владельца, так как он постоянно поглаживал и закручивал их; щеки его были впалыми и желтыми, что говорило о его болезненности, только серые, живые глаза Фукса свидетельствовали, что он вовсе не так спокоен, каким кажется.
Второй гость «Белого Медведя» сидел поодаль от Фукса за другим столом. На нем была грязная белая шапка, какие носят гимнасты и которую он, вероятно, нашел на гимнастической арене и носил за неимением другой.
Он был еще молод, но у него было лицо закоренелого преступника; в его глубоко ввалившихся, воспаленных глазах с пытливым взором было что-то отталкивающее. Жесткая рыжая борода и усы дали ему кличку Рыжий Эде. Когда Рыжий Эде был при деньгах, он мог казаться истым джентльменом; к тому же он обладал изысканным красноречием. В настоящую минуту дела его были плохи. Грязно-белая шапка, неряшливый нанковый сюртук, не подходившие к этому времени года, и дырявые сапоги не позволяли ему пускаться на промысел. Рыжий Эде ждал только удобного случая, чтобы, подобно Фуксу, при помощи одного отчаянного дела выпутаться из стесненного положения.
Но прежде чем посмотреть, что происходило в эту ночь в трактире «Белый Медведь», мы должны упомянуть еще об одной личности, сидевшей в комнате, наполненной дымом, о Рольфе, правой руке хозяина Леопольда.
Рольф был человеком лет тридцати, маленького роста, сутуловатым, но с огромными руками и ногами. Хотя он походил на идиота, но нисколько не заслуживал такого названия; он был глухонемым и потому оказался незаменимым для старого скупщика краденого. К тому же он обладал удивительной физической силой, что тоже было очень важно для слабого, дряхлого хозяина. Откуда он попал к нему — никто не знал.
Рольф постоянно сидел за прилавком, который находился у задней стены, возле двери, которая вела во двор и в поле. Только его голова и широкие плечи виднелись из-за прилавка, откуда он подымался, протягивая руку за деньгами, если посетитель подавал ему знак. Рольф превосходно понимал эти знаки, тем более что выбор кушаний и напитков здесь был невелик. Хлеб, колбаса и несколько бутылок рома, водки и пива — вот и весь товар. Лицо его было полным и безбородым, глаза — без всякого выражения, только когда он сердился, они краснели и становились дикими.
Лицо Рольфа омрачилось, когда в двери показался хозяин,— он ненавидел Леопольда, но, конечно, скрывал это. Хозяин пожелал своим гостям доброго вечера и любезно кивнул Фуксу; они, казалось, были старыми знакомыми.
— Ну, что ты сегодня притащил? — спросил Рыжий Эде.— Наверно, уж все припрятал?
Рыжий Эде знал все углы трактира, чего не каждый удостаивался. Он видел кладовую и комнату самого Леопольда, когда некоторое время назад, находясь при лучших обстоятельствах, пил там вино с доктором и другими друзьями.
Старый скупщик ничего не ответил, доктор и Дольман, подсевшие к Рыжему Эде, заметили, что хозяин в дурном расположении духа. Леопольд взял у Рольфа несколько вырученных грошей, окинул взглядом съестные припасы и подсел к Фуксу, только что допившему свой стакан.
— Подлец,— прошептал он.— Кастелян отобрал у меня все деньги на пустяки! Он ни на что не годится! Вот теперь надо бы обделать дельце!
— Да говори же ты толком, старик! — проворчал лысый человек с серыми глазами.
— Есть на примете богатый, очень богатый человек; некоторое время назад он был здесь и раздавал деньги и вещи — Дольман назвал его Эбергардом,— вот здесь можно было бы поживиться!
— Эбергард? — повторил Фукс, пожимая плечам».
— Дольман его знает, а где он живет — можно разведать, он имеет деньги!
Фукс молчал.
— О, да ты еще важничаешь! — подхватил скупщик, заметивший расточительность Эбергарда и пожелавший использовать ее с выгодой для себя.— Верно, ты опять зарыл пакеты с деньгами в роще?
— Молчи, старина, или…
В эту минуту дверь отворилась. Увидев вошедших, тощий Леопольд не поверил собственным глазам и быстро шепнул Фуксу:
— Это и есть Эбергард!
Фукс с ног до головы осмотрел высокого господина в светло-коричневом пальто, с густой русой бородой и в высокой испанской шляпе, который вошел в сопровождении рослого, по-видимому, очень сильного человека и поздоровался с присутствующими.
Трое мужчин, сидевших за столом в углу, также обернулись к вошедшим; Дольман, не вставая, поклонился подошедшему к нему Мартину.
— Старик в барыше, если его навещают такие гости! — сказал он.
Мартин подал Дольману руку и подсел к нему, Эбергард последовал его примеру. Он подозвал к себе Леопольда и приказал принести бутылку рома и стаканы.
В то время как тупоумный Рольф по знаку Леопольда подносил гостям вино, Эбергард оглядел комнату. Затем он встал и заплатил хозяину талер. Между тем доктор и рыжий Эде пили за него и развеселились. Глаза Леопольда заблистали, когда он увидал, что странный гость имеет при себе полный кошелек денег, при этом он принял такой смиренный вид, якобы был честнейшим человеком в мире. Дольман, усердно налегавший вместе с друзьями на ром, казался опаснее его.
Когда Эбергард возвратился к столу, Мартин, улучив удобную минуту, шепнул:
— Вот это Фукс. Дольман не обманул нас.
Эбергард осторожно посмотрел на указанного человека, который, в свою,очередь, не спускал с него глаз, так как видел при нем деньги.
Эбергард присоединился к разговору, завязавшемуся за столом, и делал вид, что вовсе не замечает ни Леопольда, ни Фукса, хотя внимательно осмотрел бывшего канцеляриста, который мог сообщить ему сведения о дочери. Только человек с таким твердым характером, как у Эбергарда, мог скрыть свое внутреннее волнение.
— Его дела то хороши, то плохи! — сказал Дольман, указывая на Рыжего Эде, который ждал удобного случая, чтобы выпросить у Леопольда карты и обыграть новых гостей, имевших в кармане деньги.
— Теперь же его дела никуда не годные, как и у меня! — прибавил доктор пропитым голосом.
— Каким же ремеслом вы занимаетесь? — спросил Эбергард, обращаясь к Рыжему Эде.
— Ремеслом? Гм! Одним словом, мое ремесло — мой язык! — отвечал рыжебородый, сняв грязную белую шапку и отложив ее в сторону.
— Он заманивает добычу! — пояснил Дольман.
В эту минуту дверь снова быстро распахнулась и в комнату вбежал человек без шапки и бледный, как полотно.
— Сегодня рацциа — они идут! — проговорил он, с трудом переводя дыхание; он явился для того, чтобы предостеречь своих ночных товарищей.— Через четверть часа они будут здесь! Живей!
Слово рацциа, очень хорошо известное каждому из них, произвело магическое действие.
Это значило, что полиция посетила парк, чтобы изловить бродяг и преступников, укрывшихся в лесу. Такая рацциа производилась так неожиданно, что она всегда имела успех: не только парк, но дороги и дома, а тем более трактир при этом подвергались тщательному осмотру. Трактирщик был очень осторожен с укрываемыми крадеными вещами, за гостей он не отвечал.
— Кастелян! — воскликнул Рыжий Эде, вскочив прежде, чем человек показался в дверях. Свое прозвище кастелян, вбежавший в комнату, заслужил тем, что, будучи когда-то кузнецом, всегда имел при себе много ключей, с помощью которых ему часто в ночное время удавалось отпирать без шума чужие двери.
Скоро мы ближе познакомимся с этим молодцом, но сегодня он исчез так же быстро, как и показался.
Рыжий Эде, быстро нахлобучив шапку, вскочил на стул, потом на стол, опрокинув бутылку. Леопольд закричал, так как бутылка разбила несколько стаканов, сейчас никто не обратил на это внимания; доктор и Дольман также вскочили и бросились к выходу. Все они опасались встречи с полицией, хозяин тоже быстро вышел в соседнюю комнату, чтобы лучше запрятать принесенный мешок. Общее смятение не затронуло только одного из гостей, он спокойно встал и допил свой стакан, как будто ему не нужно было спешить. В следующей главе мы увидим, кто был этот гость.
XII. ЭБЕРГАРД И ФУКС
Есть преступники, которые занимаются своим промыслом так спокойно, как будто им нечего бояться, как будто они уверены, что совершают преступление по праву и закону. К такого рода людям принадлежал и Фукс. Этот человек, которому надо было бы бежать от полицейских быстрее других, остался в трактире долее всех.
Эбергард встал — наконец настала давно желанная минута. Он быстро и решительно подошел к Фуксу, который с удивлением посмотрел на Незнакомца.
— Вы бывший канцелярист Фукс? — Обратился он к нему.
— Да, но я спешу.
— А я. нет!
Лысый отступил на шаг и проницательно посмотрел на человека, ставшего ему поперек дороги.
— Если вы из тайной полиции, то покажите мне ваш билет!— произнес Фукс, порываясь выйти.
— Ни с места до тех пор, пока вы мне не скажете, где тот ребенок, которого вам четырнадцать лет назад отдала дама,— и Эбергард тихо назвал ее по имени, наклонясь к уху преступника.
— Я с удовольствием объясню вам все, что хотите,— проговорил Фукс с улыбкой,— только не здесь. Я спешу, следуйте за мной, только скорее и один!
— Я готов исполнить ваше желание! Ожидай меня тут, Мартин, ведь тебе нечего опасаться господ полицейских! Я зайду за тобой!
— Слушаю, господин Эбергард! — ответил Мартин, между тем как Фукс бросился к задней двери, которую ему с готовностью отворил тупоумный Рольф.
Эбергард следовал за ним по пятам. Вдали с аллеи послышались голоса.
Полицейские приближались к трактиру,
— Следуйте за мной! — шепнул Фукс и быстро прошел мимо полуразвалившегося забора через засохший кустарник; глубокий мрак способствовал бегству. Позади кустарника была канава шириною в четыре фута, Фукс ловко перескочил через нее, Эбергард без труда последовал его примеру.
Фукс поспешил через поле к густому кусту, который темнел во мраке. Фукс замедлил шаг, Эбергард, занятый мыслью о дочери, не обратил внимания на то, что его спутник ищет что-то правой рукой в своем жилете.
— Вот присядьте тут — в тени этого куста нас никто не найдет, даже если полицейские станут обыскивать поле.
Ветви кустарника, образуя хорошо скрытую беседку, склонились так низко, что для того, чтобы пробраться под них, надо было нагнуться. У Эбергарда мелькнуло опасение, когда он хотел войти в это скрытое место, вероятно, хорошо известное Фуксу; в тот же самый момент он заметил подозрительное движение следовавшего за ним человека и, обернувшие», увидел, как что-то блеснуло в его занесенной руке. Фукс толкнул Эбергарда с такой силой, какой нельзя было и подозревать в этом с виду худосочном злодее, и занес руку с ножом к горлу Эбергарда.
В кустах царил такой мрак, что Эбергард не мог следить за движениями своего врага; но все же он сумел схватить злодея за горло, слегка ссадив себе ножом руку. Еще секунда — и было бы уже поздно, так как Фукс не рассчитывал на такое сопротивление.
Страшная борьба завязалась в кустах; Фукс изо всех сил старался освободиться от руки графа и нанести ему смертельный удар. Но Эбергард левой рукой так крепко держал вооруженную руку злодея, а другой с такой силой сжимал ему горло, что Фукс стал выбиваться из сил.
— Фукс,— с улыбкой произнес Эбергард, видя, что враг его уже стонет от изнеможения.— К чему эта борьба? Вы сильнее, чем я воображал; я не принял никаких мер предосторожности и последовал за вами без оружия; но теперь вы меня знаете, вы испытали мою силу! Но у вас в руке нож! Не добивались ли вы этим тех немногих талеров, которые видели у меня? А ведь было бы гораздо разумней, если бы вы потребовали их от меня в вознаграждение за сообщение, я отдал бы их вам с удовольствием; но теперь вы вместо денег получаете на память то, чего не забудете всю свою жизнь!
Фукс стонал под могучей рукой победителя, ноги его подкашивались, он бил свободной рукой по воздуху и от изнеможения едва не падал.
— Сжальтесь! — произнес он с трудом.— Сжальтесь!
— А, это другое дело, Фукс, наконец-то вы нашли человека сильнее вас! Ну-ка, испытайте, каково умирать! Быть может, вы исправитесь!
— Я все скажу! — задыхаясь, простонал Фукс.
— Хорошо, посмотрим! Но прошу покорнейше отдать мне ваш нож! — Эбергард выпустил горло злодея, который, жадно дыша, невольно вручил победителю оружие.
— У вас дьявольская сила в руке,— проговорил он.
— Берегитесь ее, Фукс, если вы еще раз попадетесь, она не сжалится над вами.
— Не сжалится? — повторил Фукс.— Да, не каждый раз у вас будут такие важные вопросы!
— Мне непременно надо узнать, где тот ребенок, которого вам отдали четырнадцать лет назад?
— Ребенок этот теперь уже хорошенькая девушка!
— Вы хорошо все помните! У вас воспитывалось много детей!
— Как же! Такие важные вещи не забываются!
— Так скажите же мне, где находится эта девушка?
— Вы не раскаетесь в том, что познакомились со мной. Это. вероятно, ваша дочь, раз вы ищете ее с таким усердием? — глаза Фукса зловеще заблестели.
— Вы же знаете это, так как несколько недель назад пригласили меня на перекресток дорог близ рощи!
— Я, господин Эбергард? Не сон ли это? Я сегодня только в первый раз имею удовольствие видеть вас!
— Припомните только — это было в тот вечер, когда вы уложили на месте наездника Гэрри!
— А, теперь я знаю! Вас тогда обманули, господин Эбергард; не я писал то письмо и не я совершил это преступление! Клянусь Пресвятой Девой, я никогда не даю ложной клятвы!
— Кто же вас заменил?
— Вы спрашиваете меня?
— Вы забыли, верно, о предсмертных муках. Почему спрашиваете вместо того, чтобы отвечать?
— Честь и слава вашей силе. Кто вам писал письмо от моего имени, я не знаю!
— Так скажите же мне главное: где та девушка? Ну, живее! — воскликнул Эбергард, выходя из терпения.
— Фукс благодарный человек! Он сам вручил бы вам эту прелестную девушку, если бы…
— Что, если бы?…
— Если бы она не была у той женщины, которую мне более всего надо избегать!
— Кто же это?
— Моя жена! Девушка находится у госпожи Фукс!
— Где же мне ее найти?
— Как победителю я вам скажу адрес: госпожа Фукс живет на Морской улице, дом номер нуль. Хотя я не живу с женой, но поддерживаю с ней знакомство,— сказал уже совсем оправившийся мошенник.
При последних словах злодея Эбергард заподозрил его в гнусном обмане.
— Подлец! — проговорил он, снова протягивая к нему свою руку.
— Каждое мое слово — священная клятва! Морская улица, номер нуль. Вы знаете Морскую улицу, господин Эбергард? Нет, но вы же знаете рощу.
— Было уже совершенно темно, когда я шел туда!
— Слушайте же! Вы найдете дорогу! Если отправитесь через заставу на Мельничную улицу, то через полчаса пешего хода достигнете дороги, подобной Тополевой аллее. Эта дорога, что называется Морской улицей и ведет к роще, пустынна и безлюдна; направо вы увидите несколько домишек, это какая-то бедная колония, а налево небольшой дом, тут живет госпожа Фукс!
— И тут я найду девушку, которую ищу?
— Без сомнения!
— Если вы меня обманули…
— О, я уважаю вашу силу, господин Эбергард, каждое слово, которое я говорю, могу клятвенно подтвердить.
— Помните, если вы меня обманули, то жестоко заплатите за это! Эта девушка мне дороже жизни, я должен ее найти во что бы то ни стало!
— Вы легко достигли цели — стоило только сжать мне горло!
— Вы изворотливый мошенник, горе вам, если вы меня обманули!
— Эта милая девушка, о которой вы говорите, на самом деле находится у моей возлюбленной жены, пойдите за ней, она не утаит ее от вас! Итак, спокойной ночи, господин Эбергард! — прибавил Фукс, видя, что граф намерен зайти за Мартином и с ним вместе возвратиться в город.— Я слишком утомлен и потому переночую здесь! Кланяйтесь моей жене!
В то время как Эбергард, одушевленный надеждой спасти дочь, удалился, Фукс, ложась под ветвями куста, прошептал ему вслед:
— Поди, глупец! Она давно уже продала твою дочь! Но я непременно должен снова достать эту девушку: она может стать для нас золотым рудником, если только ловко взяться за дело!
Эбергард, подходя к трактиру, видел, как полицейские гнали перед собой по крайней мере пятьдесят бродяг, которых препровождали в часть. Тут были и нищие, и старухи, расфранченные мужчины и женщины. Но того человека, из-за которого были организованы поиски, тут не было: посетители трактира «Белый Медведь», предупрежденные кастеляном, вовремя скрылись. Было уже далеко за полночь, когда Эбергард дошел до трактира, где находился Мартин. Он решился этой же ночью отправиться на Морскую улицу, иначе Фукс мог опередить его.
Эбергард пришел уже слишком поздно.
Ему долго пришлось ждать; госпожа Фукс под утро, наконец, возвратилась и на его вопрос коротко ответила, что Маргарита достигла уже того возраста, когда она может сама заботиться о себе, и что она ушла от нее, но куда, не знает. Она не впустила мужчин к себе в хижину, и по всему видно было, что визит этот был ей весьма неприятен, хотя Эбергард сказал, что послан ее мужем. Все угрозы и обещания остались напрасными. Госпожа Фукс уверяла, что не знает о местопребывании девушки, но обещала узнать, для чего и пожелала записать имя и адрес Эбергарда.
Он не сказал ни того, ни другого, но обещал через некоторое время зайти и щедро вознаградить за каждое сообщение о его дочери.
ХIII. ПРЕКРАСНАЯ МАРГАРИТА
Когда юная виноградарша увидела себя освобожденной от лорда Уда, когда карета помчалась с ней дальше и она не знала, что с ней будет и куда ее везут, ею овладел ужас; она горько плакала, звала на помощь, пыталась отворить дверцы и выскочить из быстро несшегося экипажа.
Вдруг лошади остановились, человек, правивший ими, соскочил с козел и, весело улыбаясь, открыл дверцу кареты. Он снял с себя плащ и маску и любезно попросил позволения поместиться подле Маргариты.
Лицо девушки просияло от радости, так как она узнала того прекрасного юношу, о котором мечтала и которого только что встретила на маскараде.
В то время как слуга принца, приняв возжи, сел на козлы, принц просил сквозь слезы улыбавшуюся Маргариту не беспокоиться и довериться ему, обещая довезти ее до дома.
И девушка, не задумываясь и веря его словам, схватила его за руку и не спрашивала, куда он ее везет,— разве он мог сделать с ней что-то дурное?
Принц был тронут до глубины души ее доверием, он впервые в жизни испытывал такое чувство радости и не мог злоупотреблять ее отношением к себе.
В сердце принца зарождалась любовь, овладевшая им, как и Маргаритой, любовь чистая и непорочная. В принце росло желание никогда с ней не разлучаться, постоянно любоваться ею.
В миле от столицы, вблизи парка, находилась очаровательная вилла — сюда-то и вез принц свою спутницу, успевшую сделаться дорогой его сердцу, тут она должна была жить для него одного, вдали от преследований и опасности. Он надеялся весной устроить здесь для нее настоящий рай, какого она была достойна. А пока окружил Маргариту комфортом, исполнял малейшее ее желание для того, чтобы она полюбила свой новый дом, нанял для нее прислужниц. Каждый день он приезжал сюда, чтобы повидаться с ней и послушать ее, и тогда только он был весел и счастлив.
Мрачные зимние дни проходили; солнце поднималось все выше и выше; липы и каштаны, окружавшие виллу, зазеленели; садовник украсил балкон и террасу цветами; на полях уже раздавались голоса ласточек, предвестниц весны. Воздух теплел, небо светилось синей лазурью; появились первые лесные и полевые цветы; лес ожил от веселого щебета своих пернатых гостей.
В парке под ногами гулявших молодых людей шуршали прошлогодние листья, девушка в легком платье шла под руку с молодым красивым человеком в богато расшитом мундире. Он шел, держа за руку свою спутницу, и видно было, что часы, которые он проводил возле нее, вдали от стеснительного этикета, были лучшими в его жизни!
Белокурые волосы девушки, счастливо улыбавшейся и часто в разговоре со своим спутником подымавшей на него свои чудные голубые глаза, украшали первые нарциссы, которые он сорвал для нее. Ее прекрасное лицо сияло радостью, смеясь, она прыгала по тропинке, приподнимая юбку, отчего виднелись ее маленькие ножки, обутые в башмачки с голубой пряжкой.
— О, не срывайте этот цветок, мой принц! — просила она, увидев, что молодой человек наклонился, чтобы сорвать только что распустившийся цветок.— Это к слезам, и посмотрите сами, подходит ли он к этим белым цветам, фиалкам и красным бутонам?
— Ты права, прекрасная Маргарита, но позволь мне сорвать для твоего букета вот этот ярко-красный цветок, символ пламенной любви.
— Да-да, его возьмем мы с собой.
Прекрасная Маргарита и принц Вольдемар перебегали с одного места на другое, срывая цветы, попадавшиеся им по дороге. Смеху и шуткам не было конца.
Так вдвоем — даже Шлеве, по желанию Маргариты, не сопровождал принца в его ежедневных посещениях виллы — они весело болтали, шутили и играли в большом парке, не подозревая ничего дурного и не боясь ничего. Для Маргариты и принца эти весенние дни были счастливым временем, сердца их наполнялись несказанной радостью. Маргарита была вне себя от радости, встретив человека, который искренне говорил ей, что не оставит ее и готов во всем оказывать ей покровительство. И принц Вольдемар сдержал свое обещание. Часы, которые он проводил вне этого маленького рая, казались ему потерянными.
— Вы созданы для пастушечьих забав! — однажды позволил себе заметить Шлеве, все еще досадовавший, что ему не досталась эта очаровательная девушка. Однако больше он ничего не смел говорить, он видел, как серьезно относится принц к Маргарите.
Принц едва мог дождаться часа, когда отправлялся к своей прекрасной Маргарите; визиты его с каждым днем делались дольше; сначала он приезжал к ней на несколько часов, затем на полдня, а теперь Маргарита уже рано утром видела поднимавшуюся по дороге пыль, которая возвещала ее о приезде возлюбленного.
Сопровождаемая одной из служанок, она весело бежала через сад к ограде, чтобы встретить принца.
Маргарита была так счастлива, что желала видеть такими же счастливыми всех на свете. Она вспомнила Вальтера, бедного садовника, доброго и честного, которому так тяжело жилось на свете, и, желая облегчить его участь, хотела просить его переселиться к ней, чтобы смотреть за садом, окружавшим виллу.
Принц, которому она так простосердечно сообщила о своем намерении, одобрил ее план.
Маргарита приказала привести садовника на виллу, но когда он явился, то встретил ее не так, как бывало прежде. Вальтер любовался прелестью сада и виллы, а когда увидал Маргариту в изящном белом платье, грустно покачал головой, невольно подумав о ее будущем. Девушка приветливо и весело пошла навстречу и, как и прежде, протянула ему руку.
— Милый Вальтер,— произнесла она,— я призвала тебя сюда для того, чтобы предложить тебе один вопрос
Вальтер был потрясен до глубины души, держа в своей грубой, жесткой руке маленькую нежную руку Маргариты; ему стало вдруг так грустно, что он готов был плакать,— девушка, которую он знал столько лет и искренне любил, была окружена такой пышностью и роскошью, что он почувствовал невольный страх за нее.
— Я хотела тебя спросить, не согласен ли ты оставить свою тяжелую работу и смотреть за моим садом, это было бы самым подходящим для тебя? Согласен ли ты?
— Нет, Маргарита, я не могу согласиться.
— Как, ты отказываешься? Я не ожидала этого от тебя, Вальтер.
— Я лучше останусь при своей работе, мне кажется, я не приживусь тут, Маргарита.
— Но разве сад этот не прекрасен? Или ты думаешь, что я не буду заботиться о тебе? Ты всегда был со мною ласков и добр, и я хотела бы отплатить тебе добром за это.
— Ну, что ты, я стоял бы тебе только поперек дороги, Маргарита. Меня как будто что-то гонит отсюда, и мне снова кажется, что мое присутствие необходимо, чтобы при случае защитить тебя! Но ты смеешься над этим, так как стала теперь богатой, знатной барыней, а я всего лишь бедный работник. И потому оставь меня на прежнем месте, не сердись, я не могу иначе поступить. Хотя ты не носишь больше своего бедного черного платья, не ходишь больше с корзинкой в руке по нашей пустынной дороге и не поешь ночью заунывных песен, хотя ты оставила хижину и сделалась богатой, я мысленно везде вижу тебя, и, признаюсь, тогда мне хорошо. Часто бывает, что я слышу твой чудный голос, но это ночной ветер колышет кусты у тех камней, на которых ты часто охотно сиживала в своем черном платье.
— У меня и до сих пор сохранилось это черное платье, Вальтер,— сказала девушка и задумалась над словами бедного садовника; она поняла его мысли, но вдруг продолжала: — Тут так прекрасно в парке, Вальтер, я и тут пою по вечерам.
— Мне нельзя тебя слушать.
— Если ты будешь смотреть за моим садом, то меня услышишь!
Вальтер колебался.
— Прощай, Маргарита! — быстро произнес он и отвернулся, чтобы скрыть свое волнение.— Может быть, мы когда-нибудь увидимся: да сохранит тебя Бог! Цветок, который я вижу в твоих волосах, прекрасен, но он скоро завянет… прощай… я не могу…
Вальтер быстро удалился; Маргарита с удивлением посмотрела ему вслед, она не могла понять значения его слов; в тревожном волнении она отправилась назад к террасе и тут увидела, наконец, поднявшуюся на дороге пыль; сердце ее радостно забилось: это приближался он — Вольдемар.
Тут же забыты были странные слова Вальтера, забыт был и его неблагодарный отказ! Весело сбежав по ступеням, она бросилась к решетке; принц соскочил с лошади, со счастливой улыбкой обнял свою возлюбленную и, весело беседуя, оба направились в дом, так как наступал вечер и в парке стало прохладно и сыро.
Они прошли в роскошную и уютную залу. Прислуга зажгла канделябры. Подали ужин, и Маргарита с принцем весело чокались. Потом юная красавица подошла к роялю. Принц пригласил к ней учительницу музыки, и Маргарита брала уроки фортепьяно и пения. Теперь, демонстрируя свои успехи, она сыграла несколько пьес и спела любимые принцем романсы.
Вольдемар слушал, стоя позади ее стула и не спуская глаз с прелестной девушки.
Очарованный ее пением, он обнял ее за талию, усадил рядом на оттоманку и стал шептать о своей бесконечной любви к ней. Она слушала его с бьющимся сердцем и со слезами радости на глазах. Уста молодых людей слились в долгом и нежном поцелуе.
— Я твой навеки, навеки,— говорил принц,— но будь же и ты моей до конца!
И Маргарита отдалась ему — исполненная бесконечной любви, она забыла обо всем на свете ради принца.
— Дитя мое, дитя мое! — раздался в полуосвещенной комнате чей-то голос. Был ли это голос Эбергарда, который предостерегал свою дочь в эту роковую минуту?
Прекрасная Маргарита не слышала ничего, она внимала только клятвам, которые шептал ее возлюбленный. Без сомнений и вопросов она отдалась ему.
— Прекрасная Маргарита!— раздался трепетный голос, как будто ее звал ангель-хранитель.
Но было поздно!
XIV. УТРАЧЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Камергер Шлеве, которого все еще не оставляла в покое мысль, что прекрасная Лорелея дважды ускользала из его рук, готовил в тиши свои темные планы. Сначала его неотвязно преследовало страстное желание пусть со временем, но все-таки овладеть Маргаритой, но потом оно сменилось глубокой ненавистью к ней. Когда у него пропала всякая надежда завладеть девушкой, он решил погубить ее. И ему представилось несколько случаев осуществить свои планы, когда король и придворные разъехались летом на воды. Камергер Шлеве был ловким Мефистофелем! Он не ошибся, когда говорил Леоне, что страсть принца к девушке ослабеет, как только ему удастся овладеть ею, это произошло, и теперь надо было занять принца чем-нибудь другим или очернить в его глазах Маргариту.
В один из дней ему представился превосходный случай — он получил от подкупленной им служанки Маргариты весть, которая привела его в восторг.
Принц ежедневно после обеда ездил со своим камергером в парк, а затем верхом отправлялся к Маргарите. Последнее время это случалось не каждый день, как сначала, что, разумеется, не ускользнуло от зорких глаз барона Шлеве.
— Как бы прекрасно ни было здесь,— сказал камергер, подъезжая с принцем в элегантном экипаже к парку,— я все же посоветовал бы вашему королевскому высочеству воспользоваться лучшим временем года и поскорее оставить пыльную столицу.
— У вас, без сомнения, уже и план приготовлен? — с усмешкой спросил принц.
— Должен признаться, ваше королевское высочество, что я не принял еще окончательного решения, я жду, на что решится одна дама, все более интересующая меня, дама, которая так же прекрасна, как и умна.
— Гм! Догадываюсь, кого так расхваливает барон фон Шлеве.
— Я жду решения этой дамы, она превратит в рай то место, где поселится.
— Так мисс Леона Брэндон оставляет столицу?
— Да, ваше королевское высочество, мне так говорили.
— Вы слышали это из достоверных источников?
Камергер улыбнулся.
— О, мисс Леона очень горда и холодна, мой принц, я имел честь побывать в ее салоне и говорить с ней, признаюсь, я ослеплен!
— Я слышал, она не будет более выступать?
— Да, мой принц, она не желает более показываться перед публикой.
— Жаль, она поистине чудо!
— Чудо — это именно то слово, ваше королевское высочество. Мисс Леона показывается со своими львами только перед избранными!
— Вам повезло, господин барон. Если я не ошибаюсь, та грациозная наездница, что галопом мчится нам навстречу,— предмет нашего разговора!
Камергер Шлеве поднял глаза. По широкой аллее, по сторонам которой тянулись дорожки для прогулки, приближалась наездница, на которую с любопытством и удивлением были устремлены взоры всех гуляющих и катающихся.
На превосходной белой лошади в длинной черной амазонке скакала прекрасная Леона. Она гордо и спокойно сидела в седле, держа в правой руке поводья, а в левой — изящный хлыст. Лиловый бархатный берет г белым страусовым пером украшал ее голову. На ней не было ни золота, ни других украшений, на сбруе лошади не было серебра. Леона отлично знала, что это лишнее,— у нее без того был царственный вид.
Чуть позади ее сопровождал шталмейстер.
— Вы правы, господин барон,— проговорил принц, приказав ехать тише, чтобы лучше рассмотреть лицо прекрасной наездницы.— Мисс Леона, действительно, необыкновенно интересна.
Шлеве обернулся, в его серых глазах блеснула радость.
Принц поклонился прекрасной наезднице, камергер последовал его примеру, многозначительно посмотрев на нее. Леона гордо и холодно ответила на поклоны.
— Странно,— размышлял вслух принц,— неужели мисс Брэндон в самом деле так неприступна и холодна? Это было бы неестественно!
— Она женщина, ваше королевское высочество!
— Что вы имеете в виду?
— А то, что она может быть настолько слаба, чтобы принадлежать всякому, кто сумеет ее покорить! Какая женщина в состоянии сопротивляться искушению, мой принц?
— Бывают исключения!
— Извините, если я усомнюсь в этом!
— Вы настолько опытны, господин барон, что я охотно верю вашим словам, но нет ничего труднее, как заглянуть в человеческое сердце!
— Вы найдете в женщине все, мой принц, кроме верности! И если вы даже поклянетесь, что нашли женщину, заслуживающую полнейшего доверия, и если она держит свои клятвы, так это только до первого случая, который ей представится, а затем ни одна не устоит против искушений.
— Я могу привести пример, который докажет вам несправедливость ваших слов!
— Я с удовольствием выслушаю вас, ваше королевское высочество! Однако должен предупредить вас, что если то исключение до сих пор сохранило верность, это не служит ручательством на будущее время! Могу вас уверить, пока ей не подвернулся искуситель, но она в свое время поддастся соблазну,— проговорил камергер с грустным видом.— Я всегда говорю правду, даже если разрушаю лучшие надежды, но мне кажется, что лучше предостеречь человека заранее, иначе разочарование будет особенно тяжелым!
— Ну, посмотрим! Я уверен, что та девушка, которую и вы знаете и которой я доверяю более всего на свете, оправдает мои слова не только теперь, но и впоследствии.
Барон улыбнулся, покачав головой.
— Вы сомневаетесь? — воскликнул принц, оживившись.
— Я прошу ваше королевское высочество не увлекаться раньше времени! Наслаждайтесь, принц, наслаждайтесь, сколько хотите и можете, но не надейтесь и не любите, это все представления, которые уже отжили свой век.
— Ваши слова побуждают меня убедиться, не ошибаюсь ли я в прекрасной Маргарите!
— Она прошла отличную школу у госпожи Робер, ваше королевское высочество; она дикий цветок, но я сомневаюсь в ее наивности.
— Так вы думаете, что все это притворство? Ее очаровательная улыбка заучена перед зеркалом?
— Я не был свидетелем,— отвечал камергер, пожимая плечами и иронически улыбаясь.— Но повторяю, не следует слишком доверять людям. А мой девиз — наслаждение! К чему вопросы, сомнения, доверие; наслаждение — вот венец жизни, и полагаю, я не ошибся, вы согласитесь со мной — ваше королевское высочество уже успели насладиться! — Камергер Шлеве плутовски засмеялся.
Принц невольно улыбнулся ему в ответ, но задумался над словами Шлеве.
— Я непременно хочу знать, каким образом меня могли обмануть,— сказал принц.— Это мне послужит на пользу для изучения людей. Обещаю вам, господин барон, что вы поедете со мной: если я ошибся в этой девушке, то в будущем всегда и во всем буду слепо доверять вам!
— Женщины умны, как черти, ваше королевское высочество. И эта прекрасная девушка устроит так, чтобы ее не застигли врасплох!
— В таком случае мы с вами вместе так часто и долго будем ездить к ней, пока вы не убедитесь в справедливости моих слов или пока не найдете доказательства противного!
— Лучше бы, ваше королевское высочество, я вам ничего не говорил…
— Это отчего же? Вы что, отказываетесь от своих слов?
Камергер улыбнулся, заранее уверенный в победе.
— Нет, мой принц, я хочу избежать неприятной сцены!
— О, обещаю вам, я только посмотрю, больше ничего! Только докажите мне справедливость ваших слов, и я успокоюсь! Довольно с вас этого?
— Совершенно, ваше королевское высочество! Я не выношу сцен, в которых виновная сторона прибегает к раскаяниям, клятвам. Мне ужасно неприятно быть причиной этих ложных клятв! Чего не наделаешь от страха и нужды, мой принц, и это меня беспокоит!
— Не тревожьтесь, господин барон! Начнем сегодня же. А, вот граф Монте-Веро,— прибавил принц, увидев приближавшийся элегантный экипаж, запряженный четверкой вороных.— Странно, что граф не отправился еще к его величеству в замок Солитюд!
В то время как Эбергард, почтительно поклонившись принцу, промчался мимо, камергер заметил:
— Граф Монте-Веро собирается в замок через несколько дней. Говорят, у него странная причина оставаться еще в столице!
— Вы, кажется, знаете все тайны двора, господин барон! И что Же это за странная причина?
— Как будто бы граф Монте-Веро разыскивает свою дочь, которая находится в низших слоях общества!
— Это удивительно!
— Это почти романтичная, ваше королевское высочество, но все-таки правда! Мне казалось, что подобные приключения бывают только в романах, но в жизни случаются еще более невероятные вещи.
— Повернем к вилле, господин барон, этой аллеей мы пройдем прямо к ней!
— Но вы обыкновенно ездите по другой дороге?
— Но сегодня я избрал эту дорогу именно для своих наблюдений! Вы видите, какое глубокое впечатление произвели на меня ваши подозрения!
— Подозрения? — повторил камергер, приказав ехать по аллее, что зела к вилле.— Вы меня весьма огорчаете, ваше королевское высочество! Я позволил себе лишь сообщить вам о собственном опыте!
— Ваши слова не оставляют меня в покое, называйте это как хотите! Уже смеркается, так поздно я еще никогда не приезжал на виллу, и потому меня там не ждут.
Камергер был вне себя от радости и внутренне уже заранее торжествовал.
Счастье Маргариты, не подозревавшей подлых замыслов барона, было безмерным. Кто осудил бы эту всеми покинутую невинную девушку за то, что она отдалась тому, кто клялся ей в вечной любви и верности? Она не сомневалась в нем ни минуты, простосердечно слушала его и была рада, что нашла наконец человека, который полюбил ее.
Она любила принца со всею силой своей души, не вдаваясь в расчеты и сомнения! И как же могло быть иначе? У нее не было нежной матери, которая могла бы вовремя предостеречь ее, она пала, сама того не зная!
Теперь же, когда она по вечерам сидела одна в своей комнате, глядя вдаль, в тихую летнюю ночь, ею овладевала какая-то тревога, сердце ее сжималось, она готова была плакать — быть может, это потому, что возлюбленный ее порой заставлял себя долго ждать.
«Чего я боюсь,— говорила она себе после кратких раздумий, и ее прекрасное лицо снова озарялось радостью.— Что меня беспокоит? Он любит меня, в этом он мне клялся; сокровеннейшее желание моей жизни исполнилось, и все-таки мною овладевает какой-то необъяснимый страх. Странно! К чему же я наконец стремлюсь, чего желаю?»
Было ли это предчувствием горя, которое — увы! — слишком рано постигло ее?
Девушка невольно вспомнила слова Вальтера, которые он сказал ей на прощание: «Цветок в твоих волосах завянет».
«О, тогда он завтра же принесет мне другой», — хотела она тогда воскликнуть, зная своего нежно любящего Вольдемара.
Цветок завял, и принц иногда не являлся, чтобы поднести ей свежий!
«Он не может приехать, его, наверно, задержали, не сомневайся,— шептал ей тогда тайный голос.— Он любит тебя и всецело принадлежит только тебе!» — «Но он когда-то сказал, что теряет покой, если один день не может видеть меня, тогда он должен приехать даже ночью, чтобы хоть минутку побыть со мной! Как он обо мне заботится, мне иногда кажется, что я сказочная принцесса! Но как грустно и тихо идет время в его отсутствии».
Когда однажды вечером несколько дней назад она стояла у открытого окна и с грустью глядела на небо, на загоревшиеся звезды, ей вдруг послышались знакомые звуки заунывной песни, которую она пела, живя у госпожи Фукс. Звуки долетали до нее все яснее и яснее, и наконец она уже различала даже слова этой знакомой ей песни.
Невольные слезы покатились из ее глаз, она вспомнила прошлое, эта песня навела ее на глубокие раздумья. Ей было и грустно и хорошо. Это была ее любимая песня. Без сомнения, это пел Вальтер, добрый Вальтер! Он был с нею так ласков и искренен, а она не успела его за это ничем отблагодарить! Песня звучала как упрек; Маргарита забыла, что он отказался смотреть за ее садом, она хотела поблагодарить его за то, что он и теперь все еще думал о ней! Она решилась на это, не видя в этом ничего предосудительного!
Служанки ее видели, как она в позднее время, услышав эти звуки, вышла за ограду сада.
«Он так же грустен, бедный Вальтер, как прежде была я,— говорила она про себя, возвращаясь на виллу,— но он никогда не может быть для меня тем, чем являешься для меня теперь ты,— прибавила она, думая о принце.— Я люблю тебя, тебе одному я принадлежу, ему же я хотела бы просто помочь как брату».
— О Господи,— прошептала она, входя в свою роскошную спальню,— мне так страшно, сохрани и помилуй меня! Сохрани моего доброго Вольдемара и обрати его мысли ко мне!
Если бы принц услышал эти слова, несчастью и горю никогда бы не бывать, но он, взволнованный словами хитрого Шлеве, отправился с ним вечером в виллу, и именно в то время, когда Маргарита разговаривала с Вальтером у решетки сада, прохаживаясь взад и вперед; она и не подозревала, что за ними наблюдают и что этой невинной встречей воспользуются для того, чтобы навеки разлучить ее с принцем! Она и не предчувствовала, какие грозные тучи собираются над ее головой; она была чиста и спокойна. Бедная девушка дорого поплатилась за свою отзывчивость.
Она утешала своего одинокого и покинутого друга, насколько могла, говорила, чтобы он уповал на Бога, не зная, что именно ее недоставало ему для счастья, что он любил ее и она не могла принадлежать ему!
Но когда она протянула ему руку на прощание и сказала: «Вальтер, мы с тобой теперь помирились, ты остаешься другом бедной Маргариты, хотя отказываешься принять от нее помощь»,— и когда Вальтер, дожав протянутую ему руку, твердым голосом ответил: «Я останусь им навеки!» — и быстро удалился, сердце Маргариты, возвращавшейся к калитке сада, вдруг сжалось от страха. Вокруг было темно, она остановилась, густые липы бросали такую густую тень, что на аллее нельзя было ничего разглядеть.
Но тут из тени выехал экипаж и сделал перед калиткой большой круг. Маргарита невольно приблизилась к нему на несколько шагов, в первую минуту она подумала, что это, быть может, экипаж принца, не заставшего ее дома. Но потом поняла, что это едва ли возможно, так как она все время не теряла из виду ворот, да и принц обычно приезжал к ней верхом. Вдруг из куста вышли двое мужчин и направились к экипажу.
Маргарита вскрикнула, она не ошиблась: это действительно был принц, а вместе с ним ненавистный ей человек. Она увидела, как Вольдемар остановился в нерешительности, и тут же услышала:
— Ваше королевское высочество, вы обещали мне избежать сцены!
— Раз вы сдержали слово, я тоже сдержу!
Принц и его спутник сели в экипаж — и тут из груди Маргариты вырвался громкий крик, тайный голос говорил ей, что в эту минуту она теряет все! Но она была так чиста и невинна, что не могла еще объяснить себе происшедшего.
На следующий день Маргарита напрасно ждала своего возлюбленного, день показался ей вечностью, тревога ее с каждой минутой возрастала. Она все еще не хотела верить, что Вольдемар оставил ее, разрушив их счастье.
Вечером после долгого ожидания на дороге она отправилась в спальню, но не могла сомкнуть глаз. Страшные мысли мучили: она снова была покинута, участь ее была еще хуже прежней. Слезы лились из глаз девушки, орошая шелковые подушки.
Утром она поднялась, как только первые лучи солнца блеснули сквозь шитые золотом занавеси, накинула белый пеньюар и дрожащей рукой написала принцу письмо, в котором говорила, какое горе он причиняет ей своими редкими посещениями; если и прочитав эти строки, он не приедет, значит, он забыл и покинул ее.
Маргарита ждала с все возраставшим нетерпением, то одушевляясь надеждой, то впадая в отчаяние. Ей казалось невозможным, чтобы Вольдемар, поклявшийся ей в вечной любви, вдруг отвернулся от нее.
В лихорадочном волнении она ждала его, день проходил, и со страхом и трепетом она встретила длинную ужасную ночь. Не находя себе места, она металась по комнате; служанки перешептывались, опасаясь недоброго. Маргарита не отвечала на вопросы, не слушала песни Вальтера, бродившего ночью у ее виллы, с напряженным вниманием следила она за дорогой, откуда должен был приехать ее возлюбленный. Не раз ей слышался вдали Топот копыт, и она со слезами радости бросалась к окну.
Напрасно, он не приезжал!
Под утро она без чувств упала на постель.
Очнувшись, она хотела было подняться, но ноги отказывались ей служить!
Служанки сбежались к ней в спальню. Она шептала какие-то бессвязные слова, а вскоре бледное безжизненное лицо молодой женщины запылало ярким румянцем. Она была без чувств, но любовь Маргариты была так сильна, что наполняла даже ее лихорадочные сны.
Душа ее всецело принадлежала тому человеку, который посвятил ее в тайны любви, чтобы теперь, отвернувшись, повергнуть в отчаяние.
XV. ЛЮБИМЕЦ КОРОЛЯ
Перед высокой серой стеной, которую украшали колонны с мраморными вазами, ходили двое часовых с ружьями на плече. Они встречались у широких распахнутых ворот, по сторонам которых стояли их будки, а затем снова расходились.
Эта старинная стена окружала прекрасный парк, где находился Солитюд, любимый замок короля. Каждое лето с наступлением жарких дней король с небольшой свитой отправлялся в этот восхитительный оазис, чтобы несколько недель прожить вдали от шумной столицы в тиши и уединении.
От широких ворот, по обеим сторонам которых стояли могучие каменные львы, вела прохладная и тенистая аллея. Она заканчивалась блестящей массой вода, посреди которой едва не до облаков бил мощный фонтан. Вода, ниспадая, разлеталась в блестящую пыль, в которой играла радуга.
Вокруг бассейна располагались обвитые густой зеленью беседки. Слева, скрытая зеленью, виднелась часовня, справа на холме, окруженный цветами и редкими растениями, стоял прелестный замок с двумя башнями. Его нижние этажи были увиты виноградными лозами.
Если бы перед замком не прохаживались двое часовых, замок можно было бы принять за особняк богатого частного лица. Цветущие апельсиновые деревья в кадках украшали лестницу, что вела к мраморному порталу, над которым красовался лепной королевский герб. Вокруг не было видно ни хозяев замка, ни стоявших без дела лакеев, только седой кастелян, в котором по покрытому шрамами лицу можно было сразу узнать старого воина, охранял из своего окна покои короля.
Наверху, в вестибюле, находился дежурный флигель-адъютант, иногда здесь проходил старый камердинер Биттельман, любимец короля, который днем и ночью должен был находиться возле него.
Старый кастелян, любивший рассказывать о своих подвигах еще в войне с Наполеоном, вдруг услышал на аллее шаги. Кто бы это мог быть, если король сейчас находился в своей любимой зеленой комнате, где не принимал никаких визитов?
Старик подошел ближе к окну. К замку твердым, спокойным шагом подходил высокий элегантный мужчина.
Его легкая летняя одежда состояла из изящного партикулярного платья и соломенной шляпы, что придавало его наружности несколько странный вид. На груди гостя сиял бриллиантовый орден, других украшений на нем не было.
Старый кастелян не знал этого господина с темно-русой бородой и тонкими, благородными чертами лица и потому вышел на портал.
Высокий незнакомец, еще раз окинул взглядом парк, который только что миновал, и направился ко входу.
— К кому вы идете? — отрывисто спросил старик со свойственной ему воинской строгостью.
— К королю! — ответил незнакомец.
— Его величество всем без исключения не дает здесь аудиенции, это должны были сообщить вам уже при входе в парк!
— Но для меня его величество сделал исключение,— улыбнулся незнакомец.— Можете смело меня пропустить!
— Это каждый может сказать о себе — мне дано приказание не впускать в покои короля никого незнакомого!
— Вы надежный сторож, так потрудитесь доложить обо мне наверху господину адъютанту, я граф Монте-Веро!
— Извините, ваше сиятельство,— смутился кастелян, невольно становясь по старой привычке во фронт,— я никогда не имел чести, я не мог вообразить…
— Не иначе, вы ожидали встретить графа Монте-Веро в роскошном мундире, а между тем видите его в простом партикулярном платье. Я сказал вам, что составляю исключение!
— Единственное исключение, пожалуйте, ваше сиятельство, и не сердитесь на меня! Я должен нести свои обязанности,— прибавил он.— Надеюсь, что не заслужу вашей немилости.
— Любезный друг, как я могу сердиться, когда вы так добросовестно исполняете свою службу! — ответил Эбергард, потрепав старика по плечу.
— Какой хороший господин! — бормотал про себя кастелян, когда граф, имевший доступ к королю во всякое время без доклада, подымался по лестнице:— A la bonne heure![3].
Старик имел обыкновение употреблять в разговоре французские слова, чтобы показать, что сражался с французами и чтобы внушить лакеям и слугам уважение к себе.
Адъютант почтительно раскланявшись с Эбергардом, указал ему дорогу в зеленую комнату, где находился король.
Биттельман, старый камердинер, обрадовался, увидав графа. Эбергард, как обычно, удостоил добросовестного старика несколькими милостивыми словами и любезно ответил ему на почтительный поклон.
Графа Монте-Веро любили и уважали все, кто его знал, и он заслужил это. Два-три дня назад он в сопровождении Мартина посетил новое громадное заведение, которое основал близ местечка Б. Это был машиностроительный завод, где под началом мастера Лессинга работало несколько тысяч человек. С радостью граф замечал, что заведение это, которое он назвал «Йоганновой долиной», обещало превратиться вскоре в городок, так как по его приказанию для рабочих с семействами там были выстроены хорошие, теплые дома.
Эбергард проводил бессонные ночи в переговорах с архитекторами и мастерами, чтобы сделать нужные приготовления и расчеты. Английские и немецкие банки, получив для графа большие суммы из Бразилии, выплачивали ему громадные деньги, необходимые для этих предприятий. Эбергард один вел дело, один стоял во главе этого гигантского предприятия, посвящая ему свои силы и богатство, и ему доставляло радость, что дела имеют столь блестящий успех и дают пищу и работу многим бедным семействам.
После долгого перерыва сегодня он решился навестить короля. Миновав залу для аудиенции, граф свернул в картинную галерею; она была невелика, но в ней были редкие и прекрасные полотна. Останавливаясь иногда перед какой-нибудь картиной, он дошел до комнаты, устланной коврами,— и тут никого из свиты не было. Лишь портьера отделяла его от короля; он подошел к ней и приоткрыл одну сторону.
Ему открылась небольшая, но высокая комната с большими полукруглыми окнами, распахнутыми в парк. Камин, столы и стены в ней были из малахита. Это драгоценное убранство было подарком от императора всероссийского.
Посреди комнаты на большом столе были разложены карты, книги, бумаги. Часы на камине звонко пробили, пять часов.
Король стоял спиной к двери возле ближайшего окна, перед пюпитром, на котором был установлен портрет. Свет, падавший на него от окна, позволял разглядеть изображенную на нем женщину. Этот портрет всегда был при короле. В столице он находился в его кабинете, а в случае отъезда камердинер Биттельман осторожно укладывал его в ящик палисандрового дерева — королю не надо было давать на этот счет приказаний, он знал, что, где бы он ни был, портрет этот всегда будет при нем.
Эбергард узнал в прекрасном лице, на которое смотрел король, погруженный в воспоминания, ту самую принцессу, большой портрет которой висел в замке в зале Кристины. Без сомнения, король любил эту прекрасную принцессу, и необъяснимые причины, быть может, политические расчеты, заставили его пожертвовать этой любовью для короны. Он женился на другой, выказывал ей глубокое уважение и внимание, как подобает королю по отношению к своей супруге, но любовь его, любовь искренняя и нежная, всецело принадлежала женщине, изображенной на портрете.
Но где же находилась принцесса Кристина? Никто о ней не говорил, ничего о ней не было слышно! Может быть, и она, против своей воли, должна была принять руку какого-нибудь властелина. Или ее уже не было в живых.
Эбергарду показалось неловким быть долее свидетелем этой сцены, и потому он хотел удалиться так же тихо, как и пришел, но тут король обернулся на движение портьеры и увидал Эбергарда.
— Останьтесь, мой друг,— проговорил король. Исполненный грустных дум, он сначала закрыл картину шелковой занавеской, а потом протянул руку графу Монте-Веро.— Войдите, именно с вами я расположен говорить теперь! Я не знаю почему, быть может, потому, что вы благородный человек, или, быть может, потому, что я счастлив, когда имею подле себя честного и открытого человека, но мне кажется, и как это ни загадочно, что какая-то другая причина заставляет меня радоваться вашему приходу именно в тот час, когда я предавался воспоминаниям!
— Кому из нас не доводилось бороться с ними в жизни, ваше величество, и только в борьбе этой на минуту насладиться тем, чего нас лишило Провидение!
— Совершенно верно, граф!
— Я говорю по опыту, ваше величество!
— Неужели и вы, которого судьба наградила такой завидной долей, имеете основание жаловаться на прошлое счастье? Вот этого я не думал!
— Государь, у меня в жизни были страшно тяжелые минуты, и даже в данный момент, когда я кажусь вашему величеству бесконечно счастливым, меня точет страшное горе. У меня были тяжелые минуты, но у меня достало сил выйти из борьбы невредимым и при воспоминаниях никогда не забывать долга по отношению к людям!
— И несмотря на то, вы имеете немало врагов! — вероятно, король вспомнил те Жалобы или подозрения, которыми старались оклеветать в его глазах графа.
— Они не могут смутить нас, ваше величество, если мы по совести исполняем свой долг!
— Но они могут повредить нам и возбудить в нас гнев!
— Ваше величество, мы должны прощать тех, кто во имя низких и подлых расчетов клевещет на своих ближних!
Король молчал, в раздумье глядя на Эбергарда.
В эту минуту из-за распахнувшейся портьеры показался камердинер Биттельман. Он держал на серебряном подносе большой запечатанный конверт.
— Для графа Монте-Веро,— он поднес Эбергарду письмо.— Оно привезено сюда нарочным.
— Не медлите, распечатайте его,— сказал король, когда камердинер удалился.— Может быть, оно содержит важные известия!
— Это вести из Монте-Веро, ваше величество!
— Из вашей немецкой колонии в Бразилии? Любопытно!— с участием произнес король.
Эбергард распечатал и прочел письмо, лицо его просияло.
— Разрешите прочесть? — спросил король.— Меня весьма интересует ваше отдаленное владение!
Эбергард почтительно подал королю письмо, оно содержало трогательную благодарность тех многочисленных переселенцев, которых Эбергард встретил в Лондоне и послал в Монте-Веро. Чего они не имели на своей родине, то нашли там, и теперь, исполненные благодарности, с усердием молились о ниспослании всего наилучшего их благодетелю.
— Я вам завидую, граф. Как вы должны быть счастливы, как хорошо должно быть на душе, когда получаешь такую благодарность!
— Да, ваше величество! Осчастливить кого-нибудь — это высшее наслаждение, оно сближает нас с Создателем! Такой час заглушает в нашей памяти тысячу раз перенесенное горе!
— Вы только что сказали, что вам в жизни многое пришлось пережить, признаюсь, я охотно выслушал бы историю вашей жизни! Не думайте, что мною движет любопытство, я не знаю, достоин ли я вашей откровенности. Я хотел бы знать,— продолжал король, подводя Эбергарда к дивану, стоявшему близ завешенной картины и садясь рядом с ним,— какими путями вы достигли вашей цели?
— Я еще не достиг ее, ваше величество, до тех пор, пока мы живы, мы все к чему-то стремимся, желаем чего-то достичь!
Летний вечер опускался на парк; солнце скрылось за густыми деревьями; показывались первые звезды; тишина, нарушаемая иногда лишь пением птиц, легла на мир; свежий аромат вливался в открытые окна.
Мягкий полумрак как нельзя более подходил к настроению собеседников.
— Мне до сих пор не удалось открыть тайну моего происхождения! — начал Эбергард после краткой паузы.— Моей матери я никогда не видал! С тех пор, как помню себя, я находился на попечении доброго старика, которого я называл отцом; он как-то раз сообщил мне, и этого я никогда не забуду, что при моем рождении на небе показалась звезда с длинным хвостом, комета, предвестница великих событий.
Старый отец Иоганн жил отшельником и был уважаем и любим селянами. Он воспитывал меня, обучил иностранным языкам, познакомил с событиями прошлого и со странами земли. Он был человеком ученым и благочестивым.
Недалеко от нашего отшельнического жилья возвышался гордый старинный замок с высокими башнями. Богатство и расточительность царили в нем. Этот замок принадлежал графине Валеске Понинской, которая пребывала в нем зимой и весной с единственным своим ребенком, прекрасной маленькой девочкой. Летом она ездила с ней на воды в отдаленные страны, в Париж или Италию.
Маленькая Леона иногда приходила со своей служанкой к отцу Иоганну, и я подружился с ней. Она уже тогда в играх выказывала властолюбие и гордость, но именно это мне в ней и нравилось, и я любил играть с маленькой очаровательной Леоной.
Когда я вырос и добрый отец увидел, что я быстро развиваюсь и что труды его не пропали даром, он как-то сказал мне, что настало время подумать о моем будущем. Он спросил меня, какую карьеру я собираюсь избрать, и я с юношеским пылом воскликнул:
— О, отец Иоганн, мой добрый отец Иоганн, я хочу быть солдатом, офицером! Это мое высшее желание!
Я как теперь вижу улыбку, просиявшую на его благородном лице при этих словах.
— Я так и думал, Эбергард,— сказал он.— Ничего не препятствует исполнению твоего желания! Ступай, становись под знамена большого войска и будь храбрым, ревностным солдатом! Ты обучен настолько, что в короткое время без труда можешь получить шпагу офицера! Я дам тебе все, что понадобится! Вот тебе необходимые бумаги, которые от тебя потребуют, вот тебе деньги, чтобы ты ни в чем не терпел нужды!
— Как звали вашего отца Иоганна? — прервал король.
— Иоганн фон дер Бург, ваше величество! Я вступил под именем Эбергарда фен дер Бурга в войско соседней с нами страны.
— Фон дер Бург — старинная дворянская фамилия, господин граф, вы ее более не носите?
— Я носил эту фамилию не по праву, мой повелитель! Человек, воспитавший меня, а именно Иоганн фон дер Бург не был моим отцом! Перед смертью он открыл мне эту тайну!
— Как же ваше настоящее имя?
— Отец Иоганн умер прежде, чем мог сообщить мне его!
— И вы на этот счет не нашли никакого документа или письма?
— Ничего, мой повелитель! Я должен был заслужить себе имя! Но я забегаю вперед! Вскоре молодого Эбергарда фон дер Бурга произвели в офицеры, так как он ревностно исполнял свой долг. Я был бравым солдатом, и мне часто говорили, что я гожусь в воины. Даже старый отец Иоганн, которого я приехал навестить, увидав меня, плакал от радости!
Затем мне суждено было увидать снова Леону, молодую графиню Понинскую, с которой я играл в детстве. Ребенок этот превратился в прекрасную девушку. И именно эта красота привлекала меня. Образ ее всюду преследовал меня, я жить не мог без нее! Леона видела это; в ответ на мою любовь она с улыбкой смотрела на меня своими чудными глазами и давала мне понять, что и она не совсем равнодушна ко мне!
Но мое счастье было непродолжительным.
Скоро графиня Понинская уехала со своей прекрасной дочерью Леоной в Париж. Говорили, она намеревалась выдать ее за миллионера, так как громадное состояние ее, вследствие безмерной расточительности, пришло в такой упадок, что графиня принуждена была продать свой чудный старинный замок.
Я же, увлеченный своей пламенной любовью, решился последовать за ними. Отец Иоганн предостерег меня, и это был первый раз, когда я ослушался его, первый и последний! Теперь я горько раскаиваюсь, но близок локоток, да не укусишь. Я жестоко поплатился за непослушание. Я мечтал о Леоне и решился во что бы то ни стало добиться ее. Я с радостью отдал бы за нее жизнь!
Эбергард на минуту остановился, король внимательно слушал его рассказ.
Старый камердинер, удивленный, что так долго не раздается колокольчик, появился сам и стал на пороге, ожидая приказания зажечь канделябры. Король знаком показал ему не мешать: выплывшая из-за деревьев луна светила прямо в зеленую комнату.
— Добрый отец Иоганн! — продолжал Эбергард, взволнованный воспоминаниями.— Он согласился на мое пламенное желание. Получив повышение по службе, я поехал в Париж, чтобы испросить у графини руки ее дочери. Графиня согласилась после того, как я объявил ей, что ничего не желаю, ничего не требую, кроме Леоны.
Тогда мне было двадцать лет, Леоне девятнадцать. Но для своих лет я был так развит, был такого высокого роста и крепкого сложения, что казался старше. Леона сделалась моей женой — желание мое было исполнено, цель моей жизни была достигнута! Я был так счастлив, что, казалось, не было на свете человека счастливее меня!
Наступило время дивного блаженства. Мать Леоны жила в Париже, мы поселились в местечке Б., куда я получил назначение. Мы с Леоной вдвоем навещали отца Иоганна, и он, добрейший в мире человек, был рад нашему счастью и нашей взаимной любви, так как видел, что без Леоны я не нашел бы радости в жизни. Леона же, прекрасная, гордая женщина, при таких посещениях рвалась как можно скорее возвратиться в шумное и веселое местечко Б., как будто только там находила удовольствие. Я приписывал это желание сократить наши посещения, что, однако, могло глубоко оскорбить отца Иоганна,— горестному воспоминанию, которое, вероятно, вызывал в ней вид их чудного старинного замка.
Возвратившись в Б., я снова посвятил жене всю мою любовь и мое внимание. Однако после недолгого счастья меня вдруг постиг первый неожиданный удар судьбы.
Леона против моего желания стала предаваться азартной игре, она разоряла меня, проигрывая громадные деньги и выдавая векселя, и я не в состоянии был уплатить такие огромные суммы. Я был близок к помешательству, меня ожидал страшный позор, если бы я не нашел выход! И не было человека в мире, которому я мог бы излить свою душу!
Наконец после долгих колебаний я решился ехать к отцу Иоганну. Он помог моему горю, пожертвовав всем, что имел.
Леона, видя приближение тяжелого для нее времени, поклялась с этой минуты жить только для меня, и когда она вскоре после того родила ребенка, прелестную девочку, я простил ее и забыл все, что произошло между нами, вне себя от радости прижимая к груди мать и дочь.
Счастье, которое я надеялся найти, улыбалось мне довольно долго; я ощущал высшее блаженство, когда ребенок, протягивая ко мне ручки, звал меня отцом. Для каждого другого был бы непонятен лепет этого восхитительного создания, меня же он приводил в неописуемый восторг — только родительское сердце понимает этот язык.
Это были блаженные дни. Во мне не рождалось ни сомнений, ни подозрений даже тогда, когда молодой итальянец, остановившись проездом по Германии в Б., привязывался к нам все более и более. Даже тогда, когда он, думая, что за ним не наблюдают, не спускал страстных глаз с моей прекрасной жены, я не считал возможным, чтобы Леона могла изменить мне хотя бы пожатием руки.
Я поверил бы всему на свете, кроме того, что она, любившая меня, как уверяла, до безумия, могла изменить мне.
Леона, дабы отвлечь меня от тяжелой службы, договорилась с молодым итальянцем Франческо, что он будет совершать со мной прогулки по живописным окрестностям Б. Я недолюбливал Франческо, мне претила его чрезмерная любезность,.но я относил это за счет того, что вообще трудно схожусь с людьми.
Дочери было уже два года, когда однажды ко мне зашел Франческо. Он уже не раз назначал день своего отъезда на родину, но никак не мог собраться в дорогу. В этот раз он пригласил нас на итальянскую оперу. Леона по легкому нездоровью отказалась ехать с нами, но так мило просила меня не оставаться из-за нее дома, а послушать прекрасную музыку, что я наконец согласился на ее просьбы и уехал с молодым итальянцем, по обыкновению весьма нежно простившись с женой.
Мог ли я подозревать, что это прощание будет на всю жизнь?
Франческо показался мне взволнованным более обыкновенного, но я не обратил на это особого внимания.
Дружески беседуя, мы дошли до театра, и я в душе сожалел, что болезнь помешала Леоне разделить наше общество.
По окончании первого акта Франческо с радостным лицом сообщил мне, что увидел своего товарища и потому просит извинить его, если он на несколько минут удалится, чтобы поговорить с ним.
Я просил его не стесняться.
Когда Франческо удалился, ко мне подошли двое давно знакомых мне офицеров и просили меня последовать за ними. Они сказали это таким тоном, что я последовал за ними, ни о чем не спрашивая.
Когда мы оставили театр, было уже совсем темно. Офицеры просили меня поспешить домой. Я с удивлением посмотрел на них; только позже я узнал, что им уже несколько недель было известно о том, что мне готовилось! Они сочувственно пожали мне руку и просили действовать спокойно и рассудительно.
Я не сказал ни слова, ужасные предчувствия наполняли мою душу, когда я мчался к своему дому, где находились моя жена и дочь. «Будь спокоен,— сказал я себе.— Скоро ты все узнаешь!»
Я пришел вовремя. Я нашел Леону, мою жену, буквально час назад уверявшую меня в вечной любви, в объятиях Франческо!
Под впечатлением воспоминаний Эбергард закрыл лицо руками, Король с участием и грустью смотрел на него.
— Что я делал и говорил,— продолжал граф Монте-Веро,— не знаю, но помню, что руку, готовившуюся схватить саблю, я прижал к груди, так как сознавал, что мой соперник стал жертвой жестокого кокетства моей жены! Я пощадил его, жена моя была виновата! Оправившись от потрясения, она встала и совершенно спокойно сказала, что не может долее выносить тихой и уединенной жизни,
В эту минуту я лишился всего на свете, сердце мое разрывалось от боли. Но было безумием губить себя из-за этой злой и гнусной женщины, которую я прежде так пламенно любил.
Я не мог оставаться в доме, где попрали мою честь. С разбитым сердцем я отправился к отцу Иоганну. Его честная, прямая душа по-прежнему оказывала на меня благотворное влияние, Некоторое время я провел у отца Иоганна, но вскоре он умер.
Но и этим мои испытания не кончились. Леона не отдавала мне моей дочери, и закон решил оставить ее у матери до шестнадцати лет. Тогда я решил уехать куда-нибудь в пустыню, чтобы там заглушить свое горе; я не знал, куда именно отправиться, но понимал, что это должны быть отдаленные края, где бы ничто не напоминало о прошлом!
Я бежал через море! Более года я объезжал Новый свет, где многие искали и ищут себе новую родину. Нередко мне приходилось терпеть лишения, не раз мне грозила опасность и даже смерть, но я боролся, уповая на Бога.
Эта борьба благотворно подействовала на мою измученную душу. Я был слишком одинок и несчастлив! Я лишился всех, кого любил: того, которого считал своим отцом, жены, обожаемой дочери, даже имени лишился, так как то, которое носил, принадлежало не мне. Тогда-то я и узнал ту степень горя и страданий, в которой смерть является желанной избавительницей! Но я пережил свое отчаяние и с той минуты не боялся смерти.
Под именем Эбергарда я проехал громадную территорую Бразилии, где в то время были ужасные сражения.
С оружием в руках мне удалось спасти жизнь императору Педру: я вырвал его из рук неприятеля, когда императора покинуло его разбитое войско. Император даровал мне титул графа Монте-Веро и подарил пустынную местность того же названия, обработка которой требовала усиленных трудов, каких я и желал.
И труд мой имел успех! Через пять лет Монте-Веро стало процветать, о моей колонии заговорили, сам император навестил меня, чтобы посмотреть на нее.
И все же в ночной тиши, когда я в одиночестве сидел в доме или на зеленой веранде, глядя туда, где вдали лежало мое отечество, передо мной вставали грустные воспоминания прошлого. Все, чего я лишился, живо воскресало в моей душе, но я настолько собрался с силами, что смотрел на все это, как на могилу.
Проходили годы, и наконец настало время, когда я по праву мог требовать свою дочь, мысль о которой ни на минуту не давала мне покоя. Я оставил на верных управляющих Монте-Веро и отправился в свое отечество. Я ступил на почву его с воспоминанием, которое всегда было и будет путеводной звездой в моей жизни,— это воспоминание об отце Иоганне! Близ местечка Б., где он похоронен, я поставил ему памятник.
— Это я слышал,— сказал король.— Но где же ваша дочь?
— Я ее не нашел! — с дрожью в голосе заключил Эбергард свой рассказ.
— Ужасная участь! — прошептал король.
— Я потерял свою дочь и вряд ли найду ее когда-нибудь! — Эбергард поднялся..
На глазах короля выступили слезы. Не в состоянии найти слова утешения, он молча прижал Эбергарда к сердцу.
XVI. ПРИНЦ ВОЛЬДЕМАР И ЕГО ТЕНЬ
Прошло несколько недель после беседы короля с Эбергардом. Однажды вечером по узкой столичной улице шли двое, плотно закутанные в плащи. Был дождливый, суровый вечер. Слабый свет уличных фонарей не позволял узнать этих мужчин, так как шляпы их были надвинуты на глаза. Тот, что шел чуть впереди, похоже, имел на боку шпагу, так как из-под плаща поблескивал конец ее ножен. Второй мужчина следовал за ним. При свете фонаря можно было заметить, что он прихрамывал на левую ногу.
— Здесь? — спросил тот, что шел впереди, когда они остановились на углу.— Я не знаю названий этих улиц!
— Вторые ворота налево, ваше королевское высочество,— ответил другой, указывая рукой на длинный и высокий каменный забор, тянувшийся вдоль одной стороны, между тем как по другую сторону стояли низкие дома, некоторые окна слабо светились.
— Мы пустились в странные похождения и, признаюсь, пока отнюдь не приятные, господин барон! В такую погоду!
— И притом пешком! Но мы уже дошли!
— Ворота заперты! — сказал принц Вольдемар, нажимая рукой в белой перчатке на мокрый замок.
— Позвольте мне устранить это препятствие, ваше королевское высочество! — тихо проговорил камергер Шлеве, подходя к воротам.
Принц уступил ему место.
— У прекрасной мисс Брэндон, оказывается, крепкие запоры! — воскликнул принц.
— Ну и красавица же она! Впрочем, нет сомнения, ваше королевское высочество, что это имя вымышленное: прекрасная иностранка — графиня по происхождению, — прошептал фон Шлеве и осторожно постучал.
— Фигура и манеры в самом деле обнаруживают высокое происхождение этой женщины, вы, без сомнения, знаете ее настоящее имя?
— Да, ваше королевское высочество! Я назову его, когда мы увидим прекрасную графиню!
— Отчего же только тогда?
— Чтобы увеличить эффект! — прошептал камергер, в то время как на дворе за стеной послышались шаги.
Знала ли горничная Леоны о приходе этих двух господ, стоявших у ворот? Казалось, что знала, так как, подойдя ближе, она улыбнулась.
— Кто там? — все-таки спросила она из осторожности.
— Отопри, маленькая Церлина,— тихо отозвался фон Шлеве.
— Подайте о себе какой-нибудь знак, чтобы я знала, кто вы, теперь так часто обманывают!
— Глупенькая, мы же стоим под дождем!
— Я тоже, ваше превосходительство!
— Леона и Эбергард! — сказал Шлеве, не раз тщетно добивавшийся узнать у горничной об отношениях ее хозяйки и графа и потому воспользовавшийся на этот раз их именами, чтобы дать о себе знать.
Ключ осторожно повернулся в замке, затем дверь подалась под напором камергера.
Принц и его спутник вошли во двор, между тем как миловидная Церлина быстро заперла ворота.
Перед ними возвышалось высокое и широкое здание, которое занимала Леона со своими слугами. Из окон замка доносились тихие звуки музыки.
Церлина быстро повела господ ко входу, который едва виднелся во мраке, так как осторожная горничная загасила свечу.
— Потрудитесь дать мне ваши руки,— попросила она.— Я вас поведу! Положитесь на меня, но будьте осторожнее! Графиня опасна, когда гневается, и нам всем достанется, если она вдруг заметит, что кто-то наблюдает, как она играет на своем любимом инструменте! — не без кокетства заметила горничная.
— Не бойся, моя маленькая пташка! — отвечал камергер, беря Церлину за руку, между тем как другой рукой она взяла руку принца.
— Куда ты нас ведешь? — спросил Шлеве с улыбкой.
— В спальню графини! — прошептала Церлина.
— Превосходно! — шепотом заметил камергер.
— Графиня прекраснее всех на свете! Просто наслаждение смотреть на нее, я часами стою перед ней и не могу налюбоваться.
С этими словами горничная Леоны повела обоих господ через темным коридор, затем они все поднялись по лестнице, оттуда вошли в огромную залу с мраморным полом, на котором шаги их были едва слышны.
Наконец Церлина остановилась и осторожно открыла высокую дверь — ослепительный свет упал на нее и ее спутников; она многозначительно приложила палец к губам и пошла вперед.
Принц и камергер последовали за ней, в ярко освещенной комнате не было ни души, только звуки музыки, едва слышные во дворе, теперь звучали достаточно громко.
Комната, в которую они вошли, была тепла и надушена, полы устилали драгоценные ковры. В нишах, обвитых плющом и редкими растениями, стояли мраморные бюсты и скульптуры. Стены украшали картины, на них то сатиры играли с прекрасными дриадами, то в танце замерли богини. Всю заднюю стену занимала громадная картина, изображавшая Венеру с распущенными волосами, вышедшую из воды.
Дав своим спутникам осмотреть эти редкие картины, Церлина, наконец, раздвинула тяжелую портьеру.
Камергер незаметно следил за выражением лица принца, когда тот входил в следующую комнату, убранную с восточной пышностью и роскошью. Пол и стены здесь были покрыты персидскими коврами удивительных цветов, а с расписанного потолка спускались пять огромных светильников в виде красных матовых шаров, которые распространяли розоватый свет. У противоположной стены под белым шелковым балдахином с золотыми украшениями и кистями стояла постель графини. Балдахин поддерживали белые мраморные колонны, обвитые живыми белыми цветами. Маленькие мраморные столики на золоченых ножках, кресла и низкие кушетки с золочеными спинками, мраморные статуи и вазы с цветами и фруктами довершали убранство этой комнаты.
В стороне от постели находилась ярко освещенная газовыми рожками ниша, Ее стены были из хрустальных зеркал, в которых владелица этого замка могла осмотреть себя со всех сторон. Одно из зеркал служило дверью в белую мраморную купальную залу без окон.
Церлина подошла к портьере, которую трудно было сразу заметить между коврами, и знаком подозвала своих спутников.
Принц был так ослеплен представившейся ему картиной, что торжествовавший камергер, с дьявольской хитростью приготовивший всю эту затею, должен был шепнуть ему, чтобы он умерил свой восторг и был как можно осторожнее.
Камергер Шлеве, словно тень стоявший за принцем и как демон разрисовывавший ему картины, перед которыми не может устоять человек, в жилах которого течет горячая кровь, с удовольствием замечал, что тот, кто звался его господином и повелителем, все более и более становился его рабом.
А что Леона? Не участвовала ли и она в этом хитроумном плане? Знала ли она, что в то время, как она полулежала на мягких подушках дивана, за нею наблюдал принц, скрытый портьерой?
Случайно ли она так высоко приподняла свое темно-красное атласное платье, или это была коротенькая юбка, которую она, презрев условности и желая отдохнуть в эти вечерние часы, предпочла модному, неудобному платью со шлейфом?
Похоже, что не случайно,— уж слишком расчетливо прозрачная вуаль подчеркивала прелесть роскошных форм, которые казались еще соблазнительнее и таинственнее под легким покрывалом. Прекрасные темные волосы Леоны, украшенные маленькой золотой диадемой, ниспадали на ослепительно белые плечи. На ее благородном лице в эту минуту властолюбие и надменность уступили место выражению сладкой мечтательности.
Пальцы Леоны слегка касались струн мандолины, лежавшей на ее коленях. Перебирая струны, она своей игрой тихо сопровождала волшебную музыку, которая лилась неизвестно откуда. Темные мечтательные глаза, полуприкрытые веками, были устремлены на двух грациозных сильфид, которые танцевали перед ней.
Принц замер, глядя на полулежавшую Леону и танцовщиц.
Прекрасная музыка, благоухание цветов производили магическое действие.
Обе стройные баядерки, в светло-розовых трико и коротеньких прозрачных юбочках, были слишком соблазнительны для глаз одной графини, так что очень может быть, что их присутствие было уготовано подслушивавшим за портьерой.
Камергер видел, что Вольдемар совершенно очарован представившимся ему зрелищем.
— Кому бы вы отдали пальму первенства, ваше высочество? — прошептал он так тихо, что принцу казалось, что внутренний голос спросил его.
— Без сомнения, ей, только ей одной! — отвечал Вольдемар, очарованный полулежавшей красавицей.
— Прекрасная графиня Леона Понинская несравненна. На свете нет подобной красавицы. Как ни прекрасны обе баядерки, которых мы видим, но они блекнут перед дивной графиней, скрывающей еще от наших взоров венец своей красоты. Как велика должна быть сила ее соблазна,— прибавил камергер почти неслышно,— когда спадет это покрывало.
Камергер видел, что достиг своей цели: принц принадлежал графине, его союзнице!
Неслышно, с ловкостью кошки он исчез. Принц в упоении страсти не заметил его удаления.
Бой часов возвестил о наступлении ночи, Леона встала с дивана, танцовщицы скрылись. Теперь только принц увидел, что широкое красное атласное платье было так коротко, что оставляло видными ее прекрасные ноги в белых шелковых чулках. Леона положила мандолину на диван и позвонила в маленький золотой колокольчик, что стоял на мраморном столе.
На звон его в залу явилась Церлина.
Графиня дала своей кокетливой горничной какое-то приказание, и вскоре та принесла ей на серебряном блюде шампанское и бокал.
Церлина налила своей госпоже шампанского, Леона выпила и приказала служанке удалиться. И вот эта Юнона, эта неотразимой красоты женщина, подняв свою округлую руку, раздвинула портьеру и ступила на бархатный ковер своей спальни.
В зале было ослепительно светло, так что Леона, войдя в свою слабо освещенную спальню, не сразу различила там человека. Она увидела его, только когда он бросился перед ней на колени, страстно покрывая поцелуями ее ноги.
Леона хотела позвать на помощь, но узнала принца.
Улыбаясь, смотрела прекрасная графиня на влюбленного молодого человека, прижимавшего свое лицо к ее коленям, но затем ласково, но со свойственной ей твердостью попросила его удалиться.
— Я исполняю твое приказание только потому, что мне повелевают твои прелестные губы, потому, что твои дивные глаза, царица всех женщин, говорят мне, что ты мне и впредь позволяешь лежать у твоих ног, и, наконец, потому, что я должен тебе повиноваться! — горячо говорил принц.— В тебе столько могущества!
Он еще раз горячо поцеловал маленькую руку графини и медленно вышел из комнаты.
Леона холодно и с презрением посмотрела ему вслед.
— Все вы — мои рабы! — злобно фыркнула она.
XVII. НА ДОРОГЕ
Как уже известно читателю, Маргарита тяжело заболела; долго тянулись дни ее выздоровления. Мало-помалу силы ее восстанавливались, и она могла уже выходить без посторонней помощи. Тщетно изо дня в день ждала она возвращения своего возлюбленного: она все еще не примирилась с мыслью, что принц мог ее покинуть.
«Это невозможно,— шептал ей внутренний голос.— Он, поклявшийся тебе в вечной любви, явившийся твоим избавителем во сне и наяву, тот, с кем ты вкусила все блаженство любви, он не может покинуть тебя!»
А между тем дни проходили за днями; на сердце у нее становилось все тяжелее и тяжелее, и страх ее увеличивался. Чем прекраснее был короткий сон любви, чем горячее и искреннее отдалась она своему возлюбленному, тем мучительнее были эти дни жестокого испытания. Вольдемар не удостоил даже ответа ее строки, исполненные любви! Неужели он был так жесток, неужели он не любил ее?
Нет, тут принц не был виноват. Письма Маргариты оказались в руках Шлеве, Если бы камергер передал их принцу, бывший любовник не мог бы не внять просьбам и уверениям бедной покинутой девушки, которая видела в нем единственную опору.
Камергер сжег письмо, на которое Маргарита возлагала свою последнюю надежду, как часто он поступал и с прошениями, поступавшими к принцу. Хитрый царедворец оставлял только те, которые могли ему принести выгоду.
Когда наконец принцу сообщили, что Маргарита опасно больна, он приказал пригласить к ней лучших докторов, а сам в сопровождении камергера, заботившегося о его пикантных развлечениях, отправился на воды и возвратился домой только в конце осени. Первым делом он поспешил во дворец графини Понинской, которая и сгладила в нем последние воспоминания о прекрасной Маргарите. Правда, иногда он осведомлялся о ней у камергера, который неизменно сообщал, что Маргарита совершенно здорова и окружена заботой.
Сильная лихорадка, населявшая бред бедной девушки ужасными картинами и призраками, все еще не оставляла ее; в ту дождливую ночь, когда Вольдемар стоял на коленях перед Леоной, она в первый раз пришла в себя. Тревожно озираясь, она искала возлюбленного, но нашла только служанку, которая спала у ее постели.
Слезы застилали ей глаза, и она снова впала в беспамятство, от которого ее никак не могли избавить доктора, боявшиеся прописывать ей сильные лекарства, чтобы не подвергать опасности зародившуюся в ней новую жизнь.
Наконец нежный организм Маргариты преодолел страшную болезнь. Не содействовала ли этому новая сила, которую Бог часто дарует женщине, когда она чувствует под своим сердцем другое существо?
Борьба, которую эта сила вела с ужасною болезнью, продолжалась несколько месяцев, наконец лихорадка стала проходить, и Маргарита очнулась, чтобы снова почувствовать свое одиночество. Но сердце ее кроме этого мучительного горя наполняло еще другое чувство, которое то приводило ее в уныние, то дарило радость,— она имела залог любви, который никто не мог отнять у нее, залог, которому небо готовилось даровать жизнь, чтобы он вечно был свидетелем клятв, данных ей возлюбленным в ту незабываемую весеннюю ночь.
Весна уже давно прошла, и клятвы были забыты; на дворе было холодно и мрачно, ветер завывал в голых деревьях, и от прелести тех блаженных ночей не осталось ничего, кроме воспоминаний и сомнений.
Маргарита встала, в голове ее созрело отчаянное решение: она хотела предстать перед принцем и спросить его, возможно ли, правда ли, что его признания и клятвы были ложны и что он хочет покинуть ее; она чувствовала, что не может тут долее жить и что священный долг заставлял ее спросить того, который взялся быть ее покровителем и защитником, действительно ли он ее покидает на произвол судьбы.
Мысль эта придала ей сил.
Она попросила служанку выйти из комнаты и встала с постели. Роскошное убранство ее комнат было ей отвратительно, она ни до чего не могла дотронуться. Роскошные платья, в которых Маргарита являлась своему возлюбленному, тоже вызывали в ней отвращение, и она стала искать что-то в дорогом резном шкафу. Наконец лицо ее просияло — она нашла скромное черное платье, которое носила до знакомства с принцем, и вынула его. Маргарита целовала это платье, заливаясь горькими слезами, потом быстро надела. Оно снова стало ей впору — перенесенная болезнь произвела эту перемену. Накинув на шею старый полинявший платок, она тихо вышла из виллы.
Была холодная ночь; дул резкий ветер, пробиравший до костей, дорожки в саду были занесены снегом. Маргарита остановилась и обвела их взглядом — когда-то она гуляла здесь веселая и счастливая, а теперь бежала отсюда, полная горя и отчаяния; она закрыла лицо маленькими дрожащими руками и отерла слезы, катившиеся из ее прекрасных голубых глаз, затем поспешила к воротам, отворила калитку и вышла на широкую дорогу, окаймленную голыми деревьями и кустарником. Быстро побежала она по этой дороге к городу, чтобы найти принца и спросить его, действительно ли он забыл и покинул ее. Неужели все его клятвы и уверения были пустыми словами?
Маленькие усталые ноги скоро отказались ей служить, но Маргарита боялась присесть, чтобы отдохнуть, чувствуя, что от усталости может уснуть.
Она поспешила дальше; ветер играл ее легким черным платьем; длинные белокурые волосы рассыпались по плечам; словно ночная тень, едва касаясь земли, бежала бедная девушка по мерзлой дороге и через Покрытое инеем и снегом поле. Вдали уже виднелись очертания огромного города.
Вокруг не было ни души, не слышно было ни звука, только завывал ночной ветер. Маргарита не знала в эту минуту ни боязни, ни страха, она не чувствовала, что ее ноги промокли, что иссохший шиповник расцарапал ей до крови руки и разорвал платье. Безостановочно спешила она дальше, чтобы в ту же ночь удостовериться, действительно ли ее не обманывало предчувствие.
Тут впереди на дороге послышались голоса. Маргарита остановилась и стала прислушиваться; казалось, несколько человек затеяли ссору; вдруг крики прервал выстрел, за ним последовали другие.
— О Боже,— прошептала Маргарита, падая на колени,— защити меня и дай мне сил! Я спешу к нему, я должна узнать, действительно ли я покинута и безродна! Сжалься надо мной, Отец Небесный, не допусти, чтобы я погибла тут на дороге! Дай мне силы перенесть то, что мне предстоит! Святая Матерь Божия, защити и сохрани меня, ты знаешь мое сердце, ты сама была на земле, сжалься над девушкой, которая, покинутая и беспомощная, простирает к тебе руки!
И тут коленопреклоненной девушке показалось, будто она слышит слова: «Не печалься, я сам страдал! Господь Бог испытует своих любимейших чад, будь мужественна и покорна!»
Маргарита встала, провела окоченевшей рукой по лбу и снова пустилась в путь; напугавшие ее голоса удалялись. Уже можно было различить дома предместий по огонькам в окнах; послышался отдаленный бой башенных часов, пробивших одиннадцать раз.
Маргарита остановилась, разглядела, что стоит перед широкой рекой, протекавшей через столицу.
Странная дрожь била бедную Маргариту, увидевшую в эту минуту коварную гладь, которую только что наступившая зима покрыла тонким блестящим льдом.
Она остановилась в нерешительности, но затем с отвагой, которую человеку придает отчаяние, стала спускаться с берега. «Если тонкий лед и не выдержит меня,— думала она,— то волны вместе со мною схоронят и мои сомнения и мучительный страх моей души».
Но под ее сердцем покоился долг самосохранения. Осторожно поставила она ногу на лед, а потом быстро побежала по гладкой темной поверхности. Лед хрустел под ее ногами. Едва она достигла середины реки, как раздался страшный треск, и широкие трещины заблестели позади и впереди нее. Маргарита почувствовала, что выступившая вода омочила ее и без того окоченевшие ноги. Она увидела себя близкой к смерти. Вокруг с треском кололся лед и при каждом ее шаге крошились льдины — стоило только бедной Маргарите поскользнуться, и холодная темная вода сделалась бы ее могилой.
Сознавая это, она в лихорадочном волнении спешила дальше; нога находили минутное прочное место; наконец, задыхаясь, она достигла берега, одним отчаянным прыжком вскочила на почти отлогий край, ухватилась за кустарник и, цепляясь за него, с трудом добралась до дороги, тянувшейся вдоль реки.
Теперь последняя опасность была позади — почти рядом светились окна домов. Воодушевленная этим, Маргарита направилась к ним и была очень удивлена, увидев в окнах множество зажженных свечей. Несмотря на позднее время, на улице было оживленно.
Наконец Маргарита подошла к какому-то бедному домику, в котором также приветливо светились огоньки и раздавались крики веселья, и заглянула через окно в низенькую, скромную комнатку.
Маргарита всплеснула руками — в бедной комнатке стояла украшенная свечами елка, которую родители зажгли для своих детей. Малыши весело прыгали и танцевали вокруг стола, прижимая к себе дешевые, но дорогие для них подарки, между тем как в стороне отец и мать, счастливо улыбаясь, наслаждались радостью своих детей.
Сегодня была ночь под Рождество.
Бедная Маргарита никогда в жизни не стояла возле зажженной душистой елки, никогда любящая рука не приготовила ей даже самого маленького рождественского подарка, никогда она не испытывала радости, которую в эту ночь испытывали почти все дети столицы. Она всегда довольствовалась тем, что, подобно сегодняшней ночи, смотрела в окна, где горела елка, и улыбалась сквозь слезы при виде чужой радости.
Так стояла она и сегодня, глядя на зажженную елку. А ведь был человек на свете, который с невыразимой радостью сделал бы этот вечер прекраснейшим в ее жизни, который томился тоскою по ней и жаждал ее найти, чтобы вознаградить за все бедствия, что довелось перенести ей; но Маргарита его не знала, и он ее не нашел, хотя час назад, как мы увидим в одной из следующих глав, был очень близко от нее.
Наконец Маргарита отошла от освещенного окна и поспешила дальше. Люди останавливались, с жалостью и удивлением глядя на закутанную в платок девушку, вероятно, бездомную, которая бродила по улицам, между тем как вокруг царили веселье и радость. Но никто не спросил бедную Маргариту, одетую в худое черное платье, куда она спешила в эту холодную ночь.
Маргарита отыскивала самые безлюдные улицы, пробираясь к королевским воротам, через которые надо было пройти, чтобы достичь замка принца Вольдемара.
Солдаты, что стояли на часах у королевских ворот, увидев молодую девушку, шедшую по улице, с хохотом бросали ей вслед похабные вопросы, но Маргарита, не обращая на них внимания, поспешила дальше, к цели своего ночного странствия, и через несколько минут быстрой ходьбы она вышла на дорогу, окаймленную с обеих сторон густыми деревьями, которая вела к парку принца, окруженному железной решеткой. Наконец сквозь деревья Маргарита увидела оранжереи, а напротив них домики садовников. В глубине, окруженный старыми каштанами, высился замок, окна его тоже были ярко освещены.
В замке шел пир горой, лилось шампанское, лакеи подавали изысканные блюда. Сегодня принц удостоился чести принимать у себя графиню Понинскую. Громкая музыка раздавалась с богато декорированной галереи, и принц осушал один бокал за другим за здоровье прекрасной Леоны.
Маргарита подошла к маленькой калитке в решетке, через которую она намеревалась войти, чтобы не быть остановленной стражей. Аллейка вела от калитки к террасе, которой пользовались только летом, но сквозь выходившую на нее застекленную дверь лился такой яркий свет, что Маргарита решилась вызвать принца именно там, а не в портале, где было много лакеев и кучеров.
Она взглянула на высокие окна, из которых долетали музыка и звон бокалов; за тяжелыми, шитыми золотом занавесями пировали знатные гости; столы ломились от яств и вин; боковые залы, слабо освещенные, манили к отдыху и интимной беседе, принц Вольдемар, ведя под руку прекрасную Леону, только вошел в одну из этих зал, когда Маргарита постучала в стеклянную дверь.
Никто не услышал, никто не отворил ей дверь.
Она постучала громче и наконец услышала недовольный голос.
— Кто тут так бесцеремонно стучится? — спросил голос.
— Отворите, сударь, я должна видеть принца,— дрожащим голосом отвечала Маргарита.
— Вы с ума сошли? Или это привидение, явившееся среди ночи? Посмотрим! Удалитесь скорее, если вы из плоти и крови, а не то я спущу на вас Плутона и Лею!
— Сжальтесь, пустите меня к принцу, я должна с ним переговорить! — умоляла Маргарита.
— Мне еще прошлой ночью казалось, что тут кто-то бродит! Уж очень жалобно она плачет и умоляет, не иначе притворяется!
Раздался свист, зазвенели ключи. Дверь отворилась, и кастелян замка со свечой в руке направился к Маргарите. И тут же на нее бросились две собаки. Маргарита отчаянно закричала. Кастелян попытался отозвать взбешенных собак, но было уже поздно: оскалив зубы, животные кинулись на Маргариту.
В эту минуту камергер Шлеве сошел вниз, чтобы посмотреть, отчего крик, что случилось. Через стеклянную дверь он увидел девушку в худой одежде, на которую только что кинулись собаки, но животные, казалось, были сострадательнее людей, хотя они и продолжали рычать, но отстали от несчастной, не тронув ее.
— Тут какая-то неизвестная, господин барон,— почтительно проговорил кастелян,— которая хочет переговорить с его высочеством, именно здесь и именно сейчас. Я счел, что это обман, но, кажется, она сумасшедшая: разорванное платье, широко раскрытые глаза…
— Ступайте, вы больше не нужны,— усмехнулся камергер — он узнал Маргариту.— Да возьмите с собой собак. Бедная женщина, она, наверно, пострадала.
Кастелян вместе с собаками возвратился в коридор. Камергер затворил за ним дверь.
Маргарита стояла подавленная — спущенные на нее животные не так сильно испугали ее, как появление этого человека.
— Вот она, упрямица! — проговорил камергер, подходя ближе и рассматривая Маргариту.— О, что за явление в таком виде среди ночи!
Маргарита собрала последние силы.
— Я должна переговорить с принцем, сведите меня к нему! — попросила она.
— К принцу? В таком наряде, любезная? Его высочество никогда бы не простил мне этого.
— Я вам обещаю, он простит вам все, если увидит, услышит меня.
— Его высочество сидит сейчас за столом. Что вам надо от принца?
— О, назовите ему мое имя, скажите, что я в отчаянии поспешила сюда, чтобы из его уст улышать…— Маргарита замолчала, холодная дрожь пробежала по ее телу, когда она услышала тихий хриплый смех камергера.
— Любит ли он еще вас? — закончил он шепотом.— Убедитесь в этом сами, посмотрев на себя. Принц сидит за столом со знатной и прелестной дамой и пьет за ее здоровье! Неужели вы думаете, что такая шутка, как любовь к вам, может продолжаться дни и месяцы? Если бы его высочеству было угодно видеть вас, он уже давно поспешил бы к вам на виллу. Но, увы, гордая и прекрасная графиня совершенно овладела сердцем принца, и поверьте, что при встрече с вами его единственным вопросом будет: кто вы такая?
Маргарита, с лихорадочным напряжением следившая за словами этого ужасного человека, невольно посмотрела сначала на себя, а потом на окна. Неужели возможно, чтобы тот, который еще так недавно клялся ей в вечной любви и верности, уже любил другую? Неужели правда, что все, что для нее составляло жизнь, для него было только быстротечной шуткой?
Она пробормотала что-то несвязное и закрыла лицо руками.
— Вы были слишком упрямы,— проговорил камергер, подходя к ней, между тем как она невольно отступила назад.— И теперь за это наказаны! Вы могли бы жить в роскоши и пользоваться всеми радостями жизни, вместо того чтобы являться теперь в этом более чем жалком обличье!
— Мерзкий человек! — как бы пробудившись от лихорадочного сна, воскликнула Маргарита.— Ты снова напомнил отвращение, которое внушил мне и которое я старалась забыть! Прочь от меня! Назад! Не смей дотрагиваться до меня своими гадкими руками, как тогда, в комнате той купленной твари,— сегодня ты имеешь дело с женщиной, которая тебе не по плечу!
Маргарита, гордо выпрямившись, стояла перед изумленным бароном; ее прекрасные голубые глаза блестели мрачным огнем. Каждый мускул ее нежного тела напрягся, а лицо выражало крайнюю ненависть и презрение.
В эту минуту она собрала все свои силы, чтобы защитить себя. Маргарита не чувствовала боли под сердцем, она только сознавала, что все ее надежды рухнули, но твердо решила не поддаваться этому низкому человеку.
— Вас придется удалить, как сумасшедшую, если вы не угомонитесь,— проговорил камергер.— Замок его высочества — не место для нищих!
— Помогите! — раздался сдавленный крик, и послышалось падение тела.
Камергер поспешно вернулся в коридор. Убедившись одним взглядом, что никто не был свидетелем происшедшего, он запер за собой двери и как ни в чем не бывало возвратился к столу.
Улыбаясь, он стал чокаться с гостями принца Вольдемара, который клялся графине Понинской в своей горячей любви.
Внизу же, на ступенях, ошеломленная падением, лежала бедная, покинутая Маргарита.
XVIII. БАЛ
За несколько дней до событий, описанных в предыдущей главе, во дворце русского посла происходили приготовления к приему высоких гостей. Дворецкий и управляющий князя Долгорукого, исполняя приказание своего господина, старались, чтобы празднество было обставлено как можно богаче, так как король и весь двор приняли приглашение князя. Гордая княжна тоже желала в этот вечер видеть у себя царскую роскошь. У прекрасной, холодной Ольги была на то своя тайная причина. Если сам князь, принимая у себя короля, хотел только блестяще затмить своего государя, то все старания его дочери были направлены на то, чтобы ослепить графа Монте-Веро волшебной роскошью и превзойти его хотя бы блеском бриллиантов и канделябров. Она с нетерпением ждала назначенного вечера, желая показать графу Монте-Веро все свое превосходство над ним.
Камер-фрау княжны надела на нее выписанное из Парижа белое шелковое платье, затканное цветами, которое подчеркивало величественную фигуру юной княжны, Ее густые черные волосы длинными локонами ниспадали на ослепительно белую шею, на которой сверкало драгоценное колье, голову украшала бриллиантовая диадема — королева не могла быть одета богаче. Живую полураспустившуюся розу княжна сама приколола к груди и взяла в руки великолепный портбукет с душистыми цветами, на которых покачивалась искусно сделанная бриллиантовая бабочка.
Когда Ольга ступила в прекрасно декорированную залу, первые гости уже находились там.
Громадная зала была наполнена волшебным светом, который распространяли бесчисленные золотые канделябры, бра и люстры.
Зеркальные стены отражали этот магический свет. В одном углу залы находилась эстрада для капеллы, скрытая от взоров гостей белым шелковым занавесом, затканным золотом. По сторонам стояли темно-зеленые бархатные кресла, а между ними маленькие малахитовые столики, на которых стояли вазы с душистыми цветами и экзотическими фруктами.
Посреди залы между увитыми цветами колоннами бил высокий фонтан.
По одну сторону залы возле окон неподвижно, как статуи, стояли два казака, крепостные князя, на серебряных подставках они держали гербы князя, украшенные золотом и драгоценными камнями.
По другую сторону залы, подле эстрады, были устроены белые шелковые палатки, в них возле столиков с яствами и прохладительными напитками стояли лакеи, которым дворецкий тихо отдавал приказания.
В зале имелись двери, за которыми глазам изумленных гостей представала то очаровательная голубая комната, то роскошная гостиная, обитая красным бархатом и уставленная такою же мебелью. На стенах этих мягко освещенных комнат в золотых рамах висели портреты членов императорской и княжеской фамилий.
Мягкие оттоманки и кресла манили к отдыху и беседе тех, кто желал на несколько минут отказаться от строгого этикета залы.
Мало-помалу съезжались приглашенные, роскошные палаты русского посла наполнялись. Князь приветливо встречал входящих, а княжна Ольга беседовала с супругами и дочерьми высоких гостей и особенно мило приветствовала принцессу Шарлотту, явившуюся в сопровождении матери.
Шарлотта была в голубом шелковом платье, подобранном белыми розами. Ее темные волосы украшал венок, выполненный итальянской мозаикой. Бриллиантовый крест сверкал миллионами огней на ее прекрасной груди.
Между тем как она отвечала на любезности молодой княжны, глаза ее искали кого-то среди блестящего собрания. Видно, не найдя, кого искала, она снова обратила взгляд на хозяйку дома.
Дворецкий, по приказанию своего господина, подал знак капелле, и раздались звуки гимна.
Гости образовали широкий полукруг, и посланник российского императора с дочерью вышли на лестницу, чтобы встретить августейших гостей. Когда Ольга, низко поклонившись королеве и услышав от нее ласковые слова, подняла взгляд на короля и его свиту, мороз пробежал но ее коже при виде высокого, спокойно смотревшего на нее графа Монте-Веро.
Королева, в малиновом бархатном платье с длинным шлейфом, передала своей придворной даме, графине Монно, горностаевую мантию и, взяв юную княжну за руку, вместе с нею, сопровождаемая королем, князем и графом Эбергардом, под звуки народного гимна вошла в залу.
После приветствий граф Монте-Веро, поздоровавшись с кавалером де Вилларанка, оглядывал блестящее собрание.
Эбергард, как и князь Долгорукий, был в черном фраке и белом жилете, на груди его сверкал его бриллиантовый орден; на нем не было ни перстней, ни золотого шитья, как у большинства присутствующих, но все равно он был самым красивым и заметным из собравшихся здесь мужчин.
Принцесса Шарлотта в другом конце залы беседовала с каким-то незнакомым господином, которого граф Монте-Веро уже встречал однажды при дворе. Он понравился ему своим непринужденным обращением; это был художник Конрад Вильденбрук, единственный представитель среднего сословия среди гостей, но он имел такие изысканные манеры и разговаривал с таким достоинством и светским тактом, что, казалось, от рождения принадлежал к высшему обществу.
Король, любивший искусство, особенно покровительствовал художнику Вильденбруку, который, несмотря на свою молодость, создал уже множество прекрасных произведений, и с удовольствием отмечал, что живописца принимали во всех аристократических салонах столицы. Смелость и решительность во взоре юного художника, его высокий лоб, черная вьющаяся шевелюра, окладистая борода, правильные черты прекрасного лица и сильная, превосходно сложенная фигура делали его недюжинным красавцем.
Конрад Вильденбрук рассказывал принцессе о своих путешествиях и, когда заговорил о том, что Несколько времени назад, делая зарисовки прекраснейших мест в разных концах света, посетил Бразилию и познакомился там с Монте-Веро, Шарлотта любезно попросила стоявшего подле нее молодого банкира Армана подозвать графа Эбергарда.
С изысканной вежливостью молодой богач поклонился очаровательной принцессе и прошел сквозь толпу гостей к графу Монте-Веро, с которым недавно познакомился при решении кое-каких денежных дел и который произвел на него сильное впечатление не только своими несметными богатствами, превосходившими его собственные, но и различного рода великими предприятиями и старанием служить человечеству.
— Господин граф,— с почтительным поклоном обратился к Эбергарду Юстус Арман, улыбка на его слегка побледневшем лице выдавала странность полученного им поручения,— я очень рад, что нашелся случай подойти к вам. Позвольте признаться, что я, узнав о ваших великодушных усилиях и благотворительных предприятиях, часто ловлю себя на мысли, что хотел бы быть полезным вам и походить на вас.
— Вы слишком высокого обо мне мнения, господин Арман, поверьте, это не более чем опыты, совершаемые с добрым намерением, но позвольте, если вы уж выразили желание, воспользоваться вашими услугами.
Повелевайте мною, я буду счастлив, если попаду в число ваших последователей. Однако в настоящий момент я имею к вам поручение. Ее высочество принцесса Шарлотта желает, чтобы вы приняли участие в ее беседе с господином Вильденбруком.
— Весьма благодарен вам, господин Арман. Поспешу к принцессе. Надеюсь вскоре снова увидеть вас.
— Весь к вашим услугам, господин граф!
Тем временем Конрад Вильденбрук с воодушевлением описывал внимательно слушавшей его принцессе громадную и богатую колонию Монте-Веро.
— Это, бесспорно, прекраснейший уголок земли, ваше высочество. Я остановился, как при входе в рай, когда, после продолжительной скачки по степям и диким лесам, в сопровождении моего любезного проводника, господина Фон Вельса, вдруг достиг горной цепи, откуда открывался дивный вид на обширные долины и луга, отличающиеся богатейшей растительностью. Это поистине благодатная страна. И все это создано, принцесса, заботливыми руками графа.
— Как далеко находится Монте-Веро от Рио-де-Жанейро?
— В трех днях пути. Мне рассказывали, что земли эти, прежде чем граф с таким удивительным терпением и умением занялся их обработкой, были пустынны, непроходимые леса чередовались здесь с поросшими травой степными пространствами, где не было ни одной человеческой души. А теперь! Повсюду плантации сахарного тростника, на которых работают черные и белые, и не под грозным кнутом грубых надсмотрщиков, а под надзором немцев-инспекторов, которые получают такое щедрое вознаграждение за свои труда, что лица всех светятся довольством. Здесь же можно увидеть поля, засеянные рожью, ячменем, пшеницей и рисом, а также плантации с табаком и хлопчатником. Под сенью высоких пальм скрывается селение с церковью и школой. Повсюду там царит мир и порядок, и вам кажется, что вы перенеслись в самую благословенную часть нашего отечества, пока кедры и бананы, огромные вьющиеся растения, пальмы и роскошные финиковые и апельсиновые деревья не напомнят вам, что вы находитесь на далеком юге.
— О, могу себе представить, сколь очарователен этот вид! — подхватила принцесса.
— Живописно катит свои воды между лесами и полями большая река. Корабли перевозят плоды труда Монте-Веро в отдаленные торговые города и в Рио-де-Жанейро, и все это делается с редким усердием и даже с радостью. Какой противоположностью являются другие имения, где вы слышите стоны черных и удары кнута надсмотрщиков. В Монте-Веро тысячи людей нашли себе благословенную родину.
— Это прекрасно! Прекрасно! — воскликнула Шарлотта.
— Виллы графа живописно раскинулись под сенью леса; но его любимое место — дворец, построенный на немецкий лад и окруженный великолепными садами. Он находится высоко над рекой, откуда открывается вид на обширные поля.
— Вы возбудили во мне желание увидеть этот земной рай!
— В эту минуту Эбергард подошел к принцессе и молодому художнику, который с таким воодушевлением описывал его владения. Шарлотта приветливо обратилась к графу, между тем как тот вежливо поклонился ей.
— Я была долго лишена вашего общества,— проговорила принцесса,— и мне кажется, что вы и сегодня не подошли бы ко мне, если бы не случай попросить вас сюда, чтобы принять участие в беседе, которую я с таким удовольствием веду с господином Вильденбруком.
Эбергард поклонился художнику, а принцесса грациозным движением руки указала на графа.
— Граф Монте-Веро,— проговорила она, довольная изумлением и смущением молодого живописца.— Беседа эта действительно доставляет мне удовольствие,— продолжала Шарлотта.— Я надеюсь, и вы разделите его, если узнаете, что речь идет о Монте-Веро, где недавно побывал господин Вильденбрук.
Эбергард с интересом посмотрел на художника, который, в свою очередь, с удивлением глядел на графа.
— Заслужил ли я вашу милость, принцесса?
— Неужели вы, госпочин граф, уже забыли наше странное приключение в Шарлоттенбрунском лесу, когда вы мне спасли жизнь? Мне кажется, я, несмотря на все ваши старания везде удаляться от меня, должна выказывать вам свою признательность тем, что живо интересуюсь всем, что касается вас. Поэтому я сегодня с удовольствием слушала рассказы о Монте-Веро.
— Как я благодарен вам, ваше высочество, за то, что вы так высоко цените маленькую услугу, которую мне удалось оказать вам,— проговорил Эбергард, и, обратившись к Конраду Вильденбруку, продолжил: — Очень жаль, что я не имел удовольствия приветствовать вас в Монте-Веро как немца.
— Господин фон Вельс был так любезен…
— О, он мой большой друг…
— Он сообщил мне, что вы, господин граф, на несколько лет отправились в Европу.
— Когда же посетили вы мою новую родину?
— Восемь месяцев назад. Ваши управляющие показывали мне плантации, поля и леса, и я рад сообщить вам, что ваша колония находится в наилучшем состоянии. Я даже привез зарисовки некоторых мест Монте-Веро, которые особенно красивы.
— Вы очень обрадовали меня, господин Вильденбрук, можно ли мне видеть ваши эскизы?
— Я тоже желаю видеть их — вы возбудили мое любопытство,— сказала принцесса.
— Позвольте мне, ваше высочество, посвятить их вам.
— Но ведь в таком случае я лишу их господина графа.
— Я сделаю копии,— ответил художник,— и не премину поднести их вам, господин граф,— прекрасное воспоминание о принадлежащем вам рае.
— Вы очень щедры, господин Вильденбрук! Я надеюсь благодаря этим картинам увидеть, наконец, графа Монте-Веро в нашем замке, что до сих пор не удавалось, несмотря на приглашение моей августейшей матери.
— Милостивая принцесса,— отвечал Эбергард, между тем как художник продолжал беседу с Арма-ном,— нами всеми повелевает деспот, против которого я уже часто замышлял революционные заговоры, жестокий, неумолимый деспот — время. Со времени моего приезда я посвящаю свои незначительные силы некоторым предприятиям.
— Я слышала о них.
— У меня остается так мало времени, что я должен просить извинения…
— Мне казалось, что после той незабвенной ночи я имела некоторое преимущество, но теперь вижу, что ошиблась! — проговорила Шарлотта, поднося к губам поданный ей бокал с шампанским.
В эту минуту мимо беседовавших под звуки музыки пронеслись танцующие пары — королева с принцем Августом, княжна Ольга с принцем Этьеном, графиня Монно с кавалером де Вилларанка и другие. Эбергард посмотрел на танцующих, и взгляд его встретился со взглядом красавицы княжны, которая при каждом повороте устремляла на него свои темные холодные глаза.
Заметила ли это принцесса?
Юстус фон Арман пригласил на танец какую-то придворную даму, между тем как художника подозвали к королю, который вместе с хозяином стоял у окна.
В зале стало жарко; фонтаны с душистой водой не могли уже освежать и очищать тяжелый воздух. Король, сопровождаемый князем и художником, отправился в голубую гостиную. Присутствующие, предаваясь веселью, не заметили, как удалился король, только от внимания принцессы Шарлотты это не ускользнуло.
— Ваше высочество, вы, кажется, не любите танцевать? — спросил Эбергард, прерывая молчание.
— Я предпочитаю, подобно моему августейшему дяде, прохладу одной из боковых комнат, потрудитесь проводить меня туда, господин граф.
Эбергард отворил дверь в зеркальной стене, и принцесса вошла в прохладную залу, наполненную светом красноватых светильников, где сидели и прохаживались отдельные гости. Увидев ее под руку с графом Монте-Веро, придворные стали мало-помалу удаляться, чтобы не мешать.
Тихо доносились звуки музыки; на стенах висели портреты мужчин и дам в русских национальных костюмах — изысканное немое общество, с которым прекрасная пара вскоре осталась наедине.
Шарлотта не заметила, как гости один за другим вышли из залы; она была слишком увлечена беседой с Эбергардом и часто подымала на него свои прекрасные кроткие глаза.
Принцесса любила Монте-Веро; она не могла больше скрывать этого — сердце ее радостно забилось при сегодняшней встрече с ним. Она любила этого прекрасного человека, каждое слово которого, каждое движение обнаруживали его внутреннее совершенство и благородство, она любила его тем сильнее, чем сдержаннее он был при своей очевидной искренней привязанности; это спокойствие при такой глубине чувств, это изумительное умение владеть собой производили еще большее впечатление на юную принцессу, которая увидела в нем олицетворение своего идеала и впервые в жизни полюбила пылко и нежно.
А Эбергард? Знал ли он, что Шарлотта любит его, и отвечал ли он на эту любовь?
Граф Монте-Веро чувствовал глубокую привязанность к очаровательной принцессе, которая нравилась ему своим чистосердечием и женственностью. Его привязанность к ней росла. Привязанность эта была пока слабым мерцанием, осветившим его сердце, но со временем могла перейти в горячую, страстную любовь.
— Мне кажется, когда я нахожусь рядом с вами,— начала Шарлотта,— я не должна иметь от вас тайн, должна излить вам все, что меня наполняет и волнует, и спросить вас, чувствуете ли вы то же самое. Для меня было бы величайшим счастьем иногда хотя бы слышать от вас: «Я чувствую то же самое», потому что все, что вы говорите и делаете, я почитаю как святыню.
— Я вас понимаю, Шарлотта,— прошептал Эбергардт. Я не знаю, что меня так сильно волнует, когда я — что случается так редко — вижу вас, Эбергард, но к чему искать разъяснения тому, чему, может быть, лучше всего остаться неразгаданным.
— В нас есть целый мир, принцесса, и в нем мы переживаем все прекраснее, чем может нам представить действительность. Пусть это будет утешением для тех, кто не могут принадлежать друг другу, хотя сердца их соединены навеки.
Шарлотта, взволнованная словами графа, хотела что-то ответить, но тут дверь отворилась, и пылкие слова, идущие от самого сердца и готовые сорваться с ее уст, так и не прозвучали.
В дверях показалась королева, а за нею княжна Ольга, которая, по-видимому, и привела ее сюда. Может быть, она только и ожидала случая, чтобы ввести королеву, которой было жарко в танцевальной зале, в прохладную красную комнату, куда, как она видела, вошли принцесса с графом. По мрачному блеску глаз было видно, что ее сильно взволновала мысль, что эта пара оставалась наедине.
При появлении королевы принцесса, преодолевая волнение, подошла к ней. На прекрасных губах гордой княжны появилась язвительная улыбка.
— Дорогая Шарлотта,— ласково проговорила королева,— я очень рада, что нахожу тебя здесь, чтобы провести с тобой недолгое время до возвращения в замок. Я уже поручила графу Монно известить о том адъютантов. Благодарю вас за интересную беседу, дорогая княжна,— обратилась она к Ольге,— и выразите мою искреннюю благодарность вашему многоуважаемому отцу за доставленный мне приятный вечер. Мое здоровье так расстроено, что я предпочитаю возвратиться с его величеством, моим супругом, в замок, однако не желаю нарушить этим продолжение прекрасного празднества.
Эбергард, молча и церемонно поклонившись королеве и ее племяннице, возвратился в залу вслед за молодой княжной, которая испытывала потребность унизить всеми отличаемого графа. Ей не давало покоя, что этот гордый человек неизменно встречает ее с холодностью.
Когда их величества и члены королевского дома удалились, в зале образовались беседующие группы. Ольга села в кресло, стоявшее у окна, и попросила вставших со своих мест Армана и Вильденбрука не стесняться и продолжать разговор.
Эбергард обменялся несколькими словами с князем и приблизился к его весьма взволнованной дочери. Он остановился перед ней, устремив на нее пристальный взгляд.
Княжна молча ответила на поклон графа; ни слова не вырвалось из ее побледневших, дрожащих губ, но причиной тому была уже не прежняя холодная гордость.
Слова Эбергарда звучали как вечное прости, видно было, что он решился избегать ее.
Княжна почувствовала дотоле неведомую ей сильную боль в груди.
Когда Эбергард вышел из дворца русского посольства, чтобы, несмотря на резкий ветер и снег, отправиться домой пешком, ему показалось, что наверху в окне что-то мелькнуло. И он увидел перед собой на снегу что-то красное. Были ли это красные розы, которые княжна Ольга носила на груди?
Граф Монте-Веро, занятый своими мыслями, переступил через них.
XIX. ГОСТИ ЧЕРНОЙ ЭСФИРИ
Канун Рождества. покрытых снегом улицах столицы было оживленно. Отцы и матери спешили с елками, несли корзины с яблоками, покупали подарки. Стайки мальчишек с веселыми криками подбегали к возведенным на дворцовой площади лавкам, где были выставлены елочные игрушки, подарки для детей и взрослых, которые торговцы громко предлагали прохожим.
Неподалеку от этого базара, за рекой, через которую был переброшен широкий железный мост со статуями, раскинулся обширный еврейский квартал с бесчисленными узкими и грязными улицами. Серые ветхие дома здесь были переполнены жильцами, а в смрадных подвалах торговали старыми вещами. Грязные, оборванные дети, сгорбленные старики и громкоголосые женщины с восточным типом лица сновали по улицам.
Иногда здесь можно было прочесть над дверью: «Ссуда денег под залог», а если бы чаще осматривали скрытые склады тряпичников, едва освещенные и известные только посвященным, то нашлись бы многие вещи, владельцы которых и полицейские напрасно искали уже долгое время. Здесь укрывались подозрительные лица, которые почему-либо имели основание избегать полиции.
Когда начало смеркаться, в одну из узких улочек на, пути от монастырского рынка свернули двое. Они не бросались никому в глаза — их одежда была обычной для этой части города. Одной была маленькая, сгорбленная женщина, в старой соломенной шляпе с широкими полями, скрывавшими почти все ее лицо, и в бесцветном клетчатом платке; в руке она держала большой старомодный красный зонт.
Рядом с нею шел мужчина; он тревожно озирался и старался оставаться в тени домов, так что даже самому невнимательному наблюдателю было ясно, что он чего-то боится. На нем был коричневый застегнутый до верху сюртук и надвинутая на глаза старая темно-серая шляпа.
— Ты смельчак, Фукс,— прошептала сгорбленная старуха,— что если бы тебя узнала не я, а кто другой?
— Другому я едва ли дал бы себя узнать, ты знаешь, Паучиха, я человек решительный!
— Верно, тебе уж особенно надо было выйти! — проговорила госпожа Робер не без любопытства.
— Точно так же, как и ты не станешь даром утруждать своих ног в такую пору.
— Это ты верно сказал. На старости лет еще не иметь покоя по вечерам!
— Скажи-ка лучше, куда делась Маргарита, которую ты выманила у моей жены, проклятая Паучиха? — убедившись, что вокруг никого нет, Фукс схватил за руку испуганную старуху.
— Выманила! Да ты шутишь, Фукс! — отвечала старуха.— Ведь я дорого заплатила за нее!
— Я хочу знать, где эта девушка,— говори скорее» или тебе плохо будет!
Бедная старуха поняла, что не отделается молчанием. Тем более что эта часть города была далеко не безопасной.
— Я скажу тебе, но только отпусти мою руку! Она у богатого лорда Уда!
— Сколько заплатил тебе этот старик? Ты получила бы втрое больше от отца этой девушки!
— Мне давно уже известно, что Маргарита — дочь богатого человека. Я сама жалею, что сделала глупость.
— Маргарита у лорда Уда — я тебе шею сверну, если ты меня обманула!
— Там ли она теперь, я не знаю, но я продала ее этому старому ловеласу.
— Ага! Я вижу, ты побывала уже у старика и узнала, что ее там нет!
— Я ничего не могла узнать от лакеев,— ответила Паучиха, хотя отлично знала, что Маргарита в настоящее время находилась на вилле принца Вольдемара. Но старуха имела свои виды на девушку, так как фон Шлеве сказал ей по секрету, что Маргарита родная дочь графа Монте-Веро.
— Я говорю вам это только из сострадания к девушке и отцу с условием, что еще сегодня вечером вы сообщите об этом графу,— сказал ей барон,— он щедро вознаградит вас и сейчас же, как только стемнеет, отправится в виллу за своей дочерью.
Легко можно догадаться, как старуха желала в эту минуту отделаться от мерзкого Фукса, чтобы тут же отправиться на Марштальскую улицу, где жил граф. Она проклинала случай, который свел ее именно в эту минуту с преступником. Но вот из соседнего дома вышло несколько евреек.
— Будь ты проклята! — пробормотал Фукс, отпуская руку Паучихи, которая быстро отошла от него. Радуйся, что уже шесть часов, а то бы так просто не освободилась от меня!
Видя, что Паучиха направилась к Монастырской площади, Фукс быстро нырнул в один из домов, входная дверь которого была открыта настежь. Возле темного коридора, куда он вошел, за стеной находилась лоскутная лавка, над ней красовалась вывеска: «Магазин платья Шаллеса Гирша».
Фукс, по-видимому, отлично знал этот низкий старый дом. В двух шагах от двери было уже так темно, что не видно и собственной руки, но Фукс уверенно миновал крутую грязную лестницу, что вела наверх, где жил владелец дома Шаллее Гирш, и прошел к двери, которая всегда была заперта. Но Фукс принадлежал к числу тех, перед которыми она отворялась. Для этого он наступил на подкову, прибитую у порога.
Из мрака пахнуло сырым, холодным воздухом — он оказался под открытым небом во дворе.
Этот двор, подобно тюремному, был окружен со всех сторон высокими стенами. Впереди при блеске снега был виден флигель с низкими окнами, а за ним возвышалось строение, которое своими крохотными окошками походило на конюшню или сарай. Фукс приблизился к нему и спустился по лесенке в подвал.
Ни один лучик света не проникал через подвальные окошечки с железными решетками, но за ними явно кто-то находился, так как Фукс три раза постучал в окно.
Услышав шаги за дверью, Фукс расстегнул свой сюртук, под которым оказался черный шелковый жилет, на нем блестела тяжелая золотая цепь.
— Кто там? — спросил женский голос.
— Тот, кого ты ожидаешь, прекрасная Эсфирь, отвори!
Задвижка отодвинулась, и дверь отворилась. На пороге показалась фигура девушки, державшей в руке свечу.
Эсфирь была дочерью Шаллеса Гирша и опасной союзницей самых ловких мошенников великого города. Ее мать, Сара, была сестрой известного Икеса Соломона из Лондона, который принадлежал к числу богатейших торговцев краденым. Икес Соломон умер в глубокой старости, но сыновья продолжали его ремесло и постоянно поддерживали отношения с Шаллесом Гиршем. Полиция не подозревала, какого рода торговлей занимался этот человек, его считали оптовым торговцем старым платьем, которое он пересылал через Англию в Америку. Этот ловкий преступник умел хорошо прятать концы в воду. Кроме того Шаллес Гирш давал в своем доме тайный приют преследуемым собратьям по ремеслу, на чем отлично наживался, так как они за надежное убежище часто отдавали ему почти всю выручку своей ночной охоты. Хозяйкой и распорядительницей в этом притоне преступников была его дочь, Эсфирь, которая носила прозвище «ЧЕРНАЯ».
Эту Черную Эсфирь, возможно, узнают многие посетители Эмса, Висбадена и Баден-Бадена; блистая роскошными туалетами, она в сопровождении ловких мошенников являлась летом на воды, где обирала легкомысленных влюбленных стариков,— эта восточная красавица стояла теперь перед Фуксом. Высокую и стройную фигуру обтягивало черное платье, из-под которого виднелась красная юбка и маленькие ноги в изящных башмачках. Длинные черные локоны подчеркивали белизну прекрасных плеч. Большие темные глаза ее горели тем обжигающим огнем, что свойствен восточным женщинам. Она подала Фуксу свою маленькую белую руку.
— Здравствуйте,— она, многообещающе улыбнулась. Фукс запер дверь на задвижку и хотел было обнять прекрасную Эсфирь, но она с ловкостью кошки ускользнула от него и поспешила по неровным, старым доскам пола, крикнув ему:
— Вас уже ждут, не мешкайте!
Она скрылась, пройдя мимо старой лестницы, что вела в верхний этаж, и через люк в полу по крутой лесенке спустилась в нижнее помещение.
— Последний запирает! — крикнула она шутливым тоном следовавшему за ней Фуксу; эта легкая беззаботность в сочетании с ее красотой была ее опаснейшим оружием.
Фукс последовал за Эсфирью, закрыв за собой потайной люк.
Они оказались в подвале, где для виду был рассыпан картофель и лежали другие овощи; только глухой шум голосов и стук стаканов, доносившийся из глубины темного подвала, свидетельствовали, что это помещение служило местом тайного сборища. Фукс следовал за Черной Эсфирью, любуясь ее маленькими ножками. Голоса становились все громче и наконец Эсфирь остановилась перед высоким шкафом с полками, на которых стояли старые пустые цветочные горшки и несколько бутылок. Задняя стенка этого шкафа прикрывала вход в другую часть подвала, для этого нужно было только открыть дверцу шкафа. При внезапном обыске шкаф этот представлял необходимую домашнюю утварь, никто не подозревал о его истинном назначении.
Прекрасная Эсфирь отворила эту хитрую дверь; густым смрадом пахнуло из освещенного красноватым светом помещения, где за столом, уставленным бутылками и стаканами, сидели известные нам четверо бандитов. Рыжий Эде, который в компании с товарищем с немалым успехом посетил ночью какой-то богатый магазин шелковых товаров, угощал сегодня своих друзей отменным вином, тоже, без сомнения, краденым, так как Черная Эсфирь не очень дорого брала за него.
— Вот и он! — вскричал Кастелян.— А мы только тебя и ждали, — обратился он к вошедшему Фуксу.
Один из собутыльников встал с неуклюжего табурета и подал бывшему канцеляристу свою сильную руку, он был невысок ростом, но весьма крепок с виду. Его безбородое лицо дышало здоровьем; темно-русые волосы были коротко острижены, а глаза не выражали ровным счетом ничего. На нем была грязная блузка, которую он носил в память о своем прежнем кузнечном ремесле, и старая потертая фуражка; в руке он держал стакан, будто не мог оторваться от него,
Рыжий Эде походил сегодня на денди; даже свою рыжую бороду он выкрасил в темный цвет, а волосы намазал душистой помадой.
Подле него, счастливо улыбаясь, сидел толстяк доктор, а напротив — чернобородый Дольман. Подперев голову руками, он разглядывал вошедшего Фукса и Черную Эсфирь, которая из предосторожности заперла за собой дверь. Ни одного окна не было в этом мрачном подземном помещении с грязными стенами.
— Как, ты еще не на виселице? — со смехом спросил доктор Фукса.— Черная Эсфирь, стул и стакан! Я каждый раз думаю, что вижу тебя в последний раз.
— Ну, господа, попадись я, вам всем будет плохо!
Взрыв хохота был ответом на это дружеское уверение Фукса, который, не дожидаясь, пока Эсфирь принесет ему стакан, залпом осушил стакан Рыжего Эде.
— Время — деньги, нельзя терять ни минуты,— сказал Кастелян,— но сперва следует опорожнить эти две бутылки. Иди, Фукс!
Он чокнулся с бывшим канцеляристом, который не отрывал взгляда от Эсфири.
— Ну, говори! — нетерпеливо воскликнул Дольман.— ты же созвал нас, чтобы что-то сообщить.
— Теперь все в сборе, я не люблю повторяться,— ответил Кастелян, вынимая из блузы какое-то письмо,— речь идет о маленькой ссоре, из-за нее-то мы и должны отправиться в десять часов в засаду.
— А деньги где? Ты уж, верно, опять спустил их? — прервал его Рыжий Эде.
— Деньги мы получим, как только обтяпаем дело,— пояснил Кастелян.— Нынче вперед не платят.
— Тут что-то неладно! Кто станет подставлять свою шкуру, если нет уверенности? — спросил доктор.— Я на это не согласен!
— Taк отстань от нас, толстяк, от тебя все равно мало толку! — громко воскликнул Кастелян, вскочив с места.— Нас все-таки останется четверо, ведь разговор о маленьком нападении! Сегодня вечером, между девятью и одиннадцатью часами, какой-то господин проедет в карете или верхом по Лихтенфельдской аллее. Очень может быть, что он будет иметь при себе одного или двух провожатых. Он тайно посетит виллу, что в конце аллеи, с правой стороны. Так сказано в письме! — Кастелян сложил бумагу.
— В письме еще что-то сказано, не обманывай нас! — воскликнул Рыжий Эде.
— Ну да, тут еще сказано, что этот господин обыкновенно носит при себе много денег. Я уже составил план! Дольман и Рыжий Эде бросятся на лошадей и займут кучера или рейткнехта; доктор станет на карауле, а мы с Фуксом займемся остальным. Думаю, что в полночь мы снова будем у прекрасной Эсфири и не с пустыми руками.
Кастелян тайком толкнул сидевшего подле него Фукса, давая ему понять, что в этом деле есть еще более важные обстоятельства, которые он сообщит ему позже.
Еще раз зазвенели стаканы; с грубыми шутками и громким смехом выпили гости Черной Эсфири за успех предприятия, которое готовились совершить. Только Дольман был молчалив и по временам недоверчиво поглядывал на Фукса, которого ненавидел, и на Кастеляна, у которого, по-видимому, были задние мысли.
Рыжий Эде надел шляпу и запел какую-то песню.
— Вы идите вперед, а мы с Фуксом — за вами,— сказал Кастелян.— На Лихтенфельдской аллее встретимся у кустарника, возле виллы. Есть ли у вас при себе оружие?
— Что за вопросы! — возмутился Рыжий Эде.
— Ну, о тебе я не беспокоюсь, я спросил доктора. Но идите, идите, уже пора!
Дольман, доктор и Рыжий Эде вышли, сопровождаемые Эсфирью, которая последовала за ними со свечой в руке.
Оставшись наедине с Фуксом, Кастелян признался:
— Дело будет не таким легким, как они думают. Тот, на кого мы готовимся напасть, говорят, имеет дьявольскую силу.
— А кто это? — спросил Фукс.
— Это граф Эбергард Монте-Веро.
— Эбергард Монте-Веро? — повторил Фукс, глаза его заблестели.
— Ты знаешь его?
— Да, почти.
— Он, видно, имеет какое-нибудь тайное намерение, похищение или что-нибудь вроде.
— Похищение? А чья это там вилла?
— Принца Вольдемара.
— Гм! — проговорил Фукс, размышляя и глядя перед собой.— Это дело начинает меня забавлять, но жаль, что ты сообщил о нем другим, мы бы его вдвоем сделали!
— Я так и хотел сначала; но потом случайно узнал от хромого Карла, с которым когда-то обучался слесарному ремеслу,— его сестра служит в замке,— что у этого графа недюжинная сила и что его, кроме негра, всегда сопровождает еще один лакей. Если считать и кучера, то их будет четверо, а это нам не по силам.
— Гм! Ну, а если мы отправим к праотцам этого самого Эбергарда и его провожатых, что тогда?
— Тогда мы разделим деньги и отпустим товарищей, а в двенадцать часов будем уже на Марштальской, где находится дворец графа. Там только несколько лакеев, и нам нетрудно будет туда попасть! Нажива наша будет изрядной. Говорят, граф потрясает всех при дворе своими сокровищами.
— У тебя, как видно, хорошие друзья!
— Он подарил королю три черных бриллианта. Черт возьми, Фукс, скорее бы попасть на Марштальскую!
— Мне кажется, что за этого Эбергарда лучше приняться уже тогда, когда он поедет обратно.
— На этом мы теряем время.
Черная Эсфирь возвратилась.
— Ты проводила их до улицы? — поинтересовался Фукс.
— Кругом тихо, никого нет, соседи все сидят по домам, на дворе холодно и ветрено и к ночи, как видно, пойдет снег.
— Так отправимся в путь, кланяйся старику Шаллесу и Саре.— Кастелян надвинул фуражку на глаза, а Фукс застегнул свой сюртук.
Черная Эсфирь проводила и их.
XX. НАПАДЕНИЕ
В тот самый вечер в канун Рождества, кетда Маргарита бежала из дворца принца и гости Черной Эсфири отправились на ночной грабеж, Паучиха, по наущению камергера фон Шлеве, спешила ко дворцу графа Монте-Веро на Марштальской улице.
Эбергард же проводил этот день в обществе молодого художника, закупая полезные подарки, чтобы порадовать малоимущий люд бедных предместий и кварталов.
Под вечер к нему явились Ульрих и доктор Вильгельми; между тем как первый сидел с графом в его рабочей комнате, толкуя о новых предприятиях и обсуждая разные планы, доктор отправился к Рудмиру, казаку, которого Эбергард подобрал на улице с сильными ушибами и перевез к себе.
Казак, которого доктор Вильгельми застал уже в лучшем состоянии, совсем не знал, какая перемена вдруг произошла в его судьбе. Он лежал, чего до сих пор с ним не случалось, на чистой постели, покрытый теплыми одеялами, а у его изголовья сидел лакей, который заботливо ухаживал за ним, и, что всего удивительнее, каждый день приходил его спаситель и справлялся о здоровье. Тогда казак шептал, обращаясь к графу, на непонятном языке какие-то слова и силился приподняться, чтобы поцеловать ему руку.
Доктор сообщил Эбергарду, что казак близок к выздоровлению, и простился, сказав, что должен посетить еще многих больных, которые подают меньшие надежды.
Этот друг человечества неусыпно занимался наукой, расширял круг своих знаний, но находил особое удовлетворение в помощи страждущим собратьям.
Ульрих также простился с Эбергардом, чтобы зажечь елку для своих детей в комнате старого, разбитого параличом дедушки. Эбергард любил и уважал отца Ульриха и попросил от души поздравить его с наступающим праздником.
Когда Эбергард спустился в залу, уже стемнело. Он ожидал художника Вильденбрука и Юстуса Армана, которые занимались раздачей купленных им подарков. Наступавший вечер Эбергард хотел посвятить воспоминаниям, сидя перед портретом отца Иоганна.
Но когда Сандок отворил дверь залы, Эбергард увидел на мраморном столе зажженную елку. Это был приятный сюрприз. Возле елки с довольным лицом стоял Мартин — эта елка была его затеей. Эта сохранившая запах леса елка с восковыми свечами вызвала в Эбергарде воспоминания о том давно прошедшем времени, когда отец Иоганн такие елки каждый год устраивал для него. Он молча подошел к Мартину и крепко пожал ему руку.
— Не стоит благодарности, господин Эбергард! — проговорил честный моряк.— Не стоит благодарности! Посмотрите-ка, что здесь приготовил для вас господин Вильденбрук. Он так прекрасно нарисовал на полотне наше Монте-Веро!
Эбергард увидел три картины, стоявшие за елкой, которых он, войдя, не заметил. Это были те самые картины, о которых художник несколько дней назад говорил на балу принцессе.
На одном из полотен была его прекрасная вилла. Он узнал даже своих управляющих и двух больших собак, лежавших у веранды; каждая пальма, каждый куст были как живые. Эбергард невольно улыбнулся.
На двух других картинах были изображены плантации сахарного тростника и река и гавань Монте-Веро. Эбергард долго не мог оторвать взгляд от произведений Вильденбрука.
Вдруг чья-то рука тихо легла на плечо Эбергарда, Мартин с вежливым поклоном отступил в сторону — это был художник, который вошел в залу вместе с Юстусом Арманом.
Эбергард протянул им руки.
— Какой сюрприз, дорогой Вильденбрук! — воскликнул он.
— Мертвые копии ваших живых творений!
— Но ведь вы, кажется, обещали подарить их принцессе Шарлотте?
— Совершенно верно, господин Эбергард,— отвечал художник, которого граф Монте-Веро, как и Юстуса Армана, просил называть себя по имени, опуская титул.— Но очаровательная принцесса предпочла взять себе копии и предоставить вам оригиналы, она — ангел!
— От души благодарю вас, дорогой друг, и позвольте вам сказать, что вы своим подарком украсили мне сегодняшний вечер и сделали его незабываемым.
— Как и вы сделали то же для многих!
— С вашей помощью!
— Все прошло. превосходно, сколько радостных лиц видели мы! — сообщили молодые друзья Эбергарда.— Не назвав ни себя, ни того, кто прислал подарки, мы все раздали, и теперь семьи бедняков с радостью встретят рождественский праздник.
— Ну, по крайней мере вы не принадлежите к тем волкам в овечьей шкуре, которые называют себя друзьями и благодетелями бедных и хвастают подаяниями, преследуя только свои собственные эгоистичные цели.
— Еще к нам присоединился молодой русский офицер, который просил позволения принять участие в нашем деле,— сказал Вильденбрук.— Он мне очень понравился, несмотря на свою молодость. Он в течение всего дня помогал нам и сам пожертвовал значительные суммы.
— Странно! Как его имя?
— Имя его Ольганов, он лейтенант синих гусар.
— Это лейб-гвардия российского императора, организованная по образцу нашей отечественной.
— Совершенно верно, молодой Ольганов был в прекрасном мундире, он отличный наездник,— заметил Вильденбрук.
— Он, по-видимому, уже слышал о вас,— прибавил Юстус, обращаясь к Эбергарду, который, раздвинув подвижную стену в глубине комнаты, показал своим друзьям блестящий символ, значение которого им было известно.
В эту минуту в портале дворца раздался душераздирающий крик, друзья невольно вскочили. Эбергард быстро выбежал на лестницу, Вильденбрук и Арман последовали за ним.
Странное зрелище представилось их глазам.
Негр Сандок, словно тигр набросившийся на какое-то человеческое существо, так крепко прижал его к каменному полу, что человека под ним едва можно было различить. Только подбежав к боровшимся, Эбергард и Мартин увидели, что это была женщина.
С торжествующей улыбкой, в которой вдруг отразилась вся проснувшаяся в нем неукротимость, негр держал высоко над головой несколько маленьких серебряных чаш, которые, вместе с изящными статуэтками на пьедесталах, украшали портал.
— Воровка,— кричал он на португальском языке.
— Помогите, он меня задушит, умираю! — стонала женщина.
Мартин приказал Сандоку выпустить свою добычу, что тот и сделал, и теперь можно было видеть, что кричавшая была сгорбленной старухой, она стонала и плакала, стараясь вызвать жалость.
— Я видел, как эта женщина вошла в портал,— начал Сандок, сверкая глазами,— как она стала озираться кругом и, не увидев никого, подошла к колонне. О, у Сандока глаза, как у дикой кошки. Старуха схватила эти серебряные чаши, высыпала из них цветы и спрятала добычу под платок, но тут Сандок подскочил и схватил ее.
Мартин невольно засмеялся при виде торжествовавшего негра и старухи; та, состроив плаксивую физиономию, наклонилась, чтобы поднять свой красный дождевой зонт, который она от страха выронила из рук.
Читатель, без сомнения, узнал в сгорбленной старухе Паучиху, визит которой во дворец графа Монте-Веро начался столь неблагоприятно.
План камергера фон Шлеве, которого мы уже узнали из письма Кастеляна, очевидно, рухнул бы, если бы негр не заметил воровства госпожи Робер и позволил бы ей улизнуть с добычей. Тогда она, по всей вероятности, исполнила бы поручение к Эбергарду только на следующий день.
— О сударь,— простонала старуха, долго кашляя, чтобы придумать отговорку.— О сударь, избавьте меня от этого дьявола! Я, которая в чести дожила до седых волос, вдруг стану воровать! Да избавит меня Бог от такого греха!
Негр, который не понимал слов старухи, со сверкающими глазами следил за выражением ее лица и по нему догадывался о смысле ее речей, утверждал, что видел, как старуха уже спрятала серебряные чаши под платок.
— Я хотела только осмотреть их, так как еще никогда не видела таких ценных вещей! Ведь я имею поручение к господину графу…
— Поручение к господину графу Монте-Веро? — Мартин недоверчиво посмотрел на старуху, которая в своем выгоревшем платке и старой шляпе походила на нищую.
— Да, я имею важное поручение к нему, которое могу сообщить только с глазу на глаз. И скажу вам, он вдвое больше вознаградит меня, чем стоит эта чаша, он даже убьет это черное чудовище, которое почти задушило меня, если услышит, что тогда потерялось бы известие, из-за которого я, старая, больная женщина, пришла сюда в холод и снег, да и еще в такое позднее время!
Эбергард подошел ближе и внимательно осмотрел старуху, которая возбуждала жалость своим ужасным кашлем.
— Что вам надо от графа? — спросил он.
— Это я могу сообщить только ему самому,— прошептала Паучиха, подойдя к Эбергарду, чтобы быть подальше от негра.
— Можете здесь без всяких опасений сказать то, что вам надо.
— Даже если вы мне Бог знает что пообещаете, сударь, сообщение свое я могу сделать только господину графу.
— Так следуйте за мной, я тот, кого вы ищете.
— О, вы господин граф! Какой позор! Мне, несчастной, пришло в голову из любопытства осмотреть чаши, а этот черный злодей подозревает, что я с другим намерением тронула эти вещи,— жаловалась старуха, следуя за Эбергардом по мраморным ступеням и жадным взором осматривая редкостные растения и дорогие ковры.
Эбергард думал, что сгорбленная старуха хочет просить его о пособии, и, хотя больше верил словам Сандока, все же решил избавить ее от дальнейших преступлений, назначив ей пожизненное вспомоществование. При этом ему смутно припомнилось, что он уже где-то видел эту старуху, и потому, войдя в залу, при виде которой госпожа Робер в восторге всплеснула руками, он сказал ей:
— Садитесь. Как ваше имя?
Паучиха недоверчиво поглядывала на художника и Армана, которые, отойдя в сторону, рассматривали прекрасные статуи у камина.
— Почему вы мешкаете, любезная? — продолжал Эбергард, видя смущение старухи, и подвинул к ней свое кресло.— Доверьтесь мне смело, зачем вы пришли.
— Говорите тише, милостивый государь, дело касается не меня, а вас.
— Значит, вы тем смелее можете приступить к делу; эти господа могут знать все, что касается меня.
— В таком случае я скажу вам: я принесла вам известие о вашем ребенке.
— О моей дочери?! — воскликнул Эбергард с радостным изумлением.— Говорите, дрожайшая, и скажите мне правду, тогда я не только выполню свое решение облегчить вам старость, но и щедро вознагражу вас.
— О господин граф, я хоть и бедна и больна,— проговорила Паучиха с ловким притворством и напускною грустью,— но не за тем пришла к вам. Я понимаю, как вы страдаете! И при богатстве бывают слезы! Но ваше потерянное дитя нашлось. Я случайно узнала, что та прекрасная молодая девушка — ваша родная дочь; да-да, в этом нет сомнения, когда взглянешь на вас. Я всегда говорила, что эта очаровательная девушка высокого происхождения!
— Так скажите мне, где я могу найти ее? — быстро проговорил Эбергард.
— О, я уже вижу вашу радость, еще несколько часов, и вы найдете свою дочь. Не сомневайтесь в моих словах, господин граф, и поспешите туда. Будь я проклята, если вы не найдете свою дочь!
— Возьмите мой кошелек и приходите завтра снова, вы получите богатое вознаграждение.
— Тысячу раз благодарю вас, господин граф, но завтра я не приду. Я не нищая! Я это делаю из человеколюбия! — сказала госпожа Робер, взвешивая туго набитый кошелек.— Поспешите в Лихтенфельдскую аллею, в конце ее стоит вилла, там вы найдете свою дочь.
— Кому же принадлежит эта вилла?
— Как мне, бедной старухе, знать это, господин граф! Я даже и не знаю, каким образом попала туда ваша прекрасная дочь. Поспешите, посмотрите сами, правду ли я сказала вам.
— Поведайте мне, как вас зовут и где вы живете, добрая старушка, чтобы я мог доказать вам свою благодарность и вместе с дочерью отыскать вас.
— Отпустите меня, господин граф, я уже вознаграждена, вы сделали больше, чем надо.
Паучиха одним взглядом убедилась, что получила значительное число золотых монет, и сердце ее запрыгало от радости. Она простилась с добрым графом, пожелав ему всего хорошего, и на всякий случай внимательно присмотрелась к зале и ее выходам, сознавая, что никогда еще не видала такого роскошного, богатого убранства.
Когда госпожа Робер, кашляя и стеная, стала спускаться по мраморным ступеням, чтобы скорее убраться из поля зрения негра, Эбергард рассказал своим друзьям, почему его так сильно взволновало сообщение старухи, и оба решили, так как было уже поздно, сопровождать графа.
— Я принимаю вашу дружескую услугу,— проговорил Эбергард, приказав оседлать трех из своих лучших верховых лошадей,— не потому, что боюсь пуститься в путь один, а потому, что ваше общество доставляет мне удовольствие. Мартин, ты последуешь за нами в карете, на дворе очень холодно, и если, Бог даст, я найду свою дочь, мне бы хотелось со всеми удобствами доставить ее сюда в этот поздний час.
Около десяти часов они спустились вниз, чтобы сесть на ожидавших их у подъезда лошадей. Ветер хлестал им в лицо, и они поскакали, плотнее закутавшись в свои плащи, между тем как Мартин последовал за ними в крытом экипаже.
Когда они проезжали мимо королевского замка, Эбергард заметил офицера, который, остановив свою лошадь, бросил какому-то старику, сидевшему на углу возле стены, несколько золотых монет.
— Посмотрите, Юстус,— крикнул Вильденбрук,— не наш ли это синий гусар?
— Без сомнения, это он!
Молодой красивый русский офицер тоже заметил трех приближавшихся к нему всадников. На нем была накинута тонкого сукна шинель, которая ниспадала по обеим сторонам лошади на его ноги, вдетые в серебряные стремена.
— О, добрый вечер, господа! — сказал он по-французски, направляя свою небольшую, но красивую лошадь к всадникам.— Куда вы направляетесь в столь поздний час?
— Господин лейтенант Ольганов, господин граф Монте-Веро! — отрекомендовал Юстус.
— Наконец-то я удостоился чести быть вам представленным, господин граф. Я уже давно желал этого.
— Мне кажется, что я вас уже где-то видел и слышал ваш голос, господин лейтенант, или, может быть, меня обманывает странное сходство?
— Я уже два раза имел удовольствие быть подле вас, не будучи, однако, замечен вами: год тому назад в цирке и недавно на балу у князя Долгорукого.
— То-то ваше лицо мне все-таки кажется знакомым.
— Как здоровье бедного казака, господин граф?
— А, вы хотите представить мне доказательство! — улыбнулся Эбергард, между тем как Вильденбрук видел по лицу графа, что ему тяжело долее оставаться здесь.
— Не угодно ли вам поехать с нами, господин Ольганов, мы отправляемся в недалекую экспедицию,— проговорил он, обращаясь к молодому русскому.
— С удовольствием, если не буду вам, господин граф, в тягость.
— Мне очень приятно познакомиться с вами, так как вы друг моих друзей.
— И надеюсь со временем ближе сойтись и с вами.
Вскоре они достигли предместья и свернули в аллею, которая протянулась вплоть до виллы принца. Шум улиц замолк, вокруг никого не было видно. Ветер приносился над полями, покрытыми мраком, и так сильно завывал в ветвях старых лип, окаймлявших аллею, что всадники не слышали более шума следовавшей за ними кареты.
Наконец они приблизились к той части дороги, где по одну сторону тянулся высокий кустарник.
Эбергард только хотел сказать своим друзьям, что вилла, без сомнения, находится на правой стороне, как вдруг знакомый звук заставил его дернуть лошадь за поводья.
Ему послышалось, что кто-то взвел курок.
Может быть, это хрустнула ветка? Нет, Эбергард отлично различал такие звуки. И тут же раздался свист и послышались слова Мартина:
— Назад, я убью всякого, кто подойдет ко мне!
— Мое предчувствие! — пробормотал Эбергард и остановил свою лошадь.
Это было знаком для его изумленных спутников сделать то же самое.
— Черт возьми, мы без оружия! — проговорил Вильденбрук.— Это разбойники!
— Они убегут, когда увидят, что на них наскочили всадники! — шепнул Эбергард и дал своей лошади шпоры, так что через несколько секунд был возле кареты.
Он увидел, что двое бандитов набросились на Мартина, предполагая, что тот, которого они хотели ограбить, сидит в карете, между тем как третий схватил лошадей, ставших на дыбы.
Эбергард кинулся к нему и толкнул его под ноги взбешенных лошадей.
Вильденбрук и Юстус принялись за двух других мошенников.
Началась ужасная борьба.
Фукс в ту же минуту выстрелил в Мартина, но, к счастью, благодаря внезапному движению лошадей, пуля пролетела сквозь противоположное окошко кареты; Рыжий Эде схватился с Юстусом Арманом, а русский офицер вдруг заметил широкоплечего доктора, который стоял на карауле, но теперь тоже хотел вмешаться в бой. Раздался второй выстрел, на этот раз пуля достигла своей цели, попав в Вильденбрука. Эбергард подбежал, чтобы поднять раненого, между тем как в ту же минуту Мартин бросился на Фукса и сильным ударом кулака сбил его с ног.
Страшное зрелище представлял собой этот рукопашный бой во мраке ночи, освещаемый только неровным и тусклым светом каретных фонарей; один из них с треском разбил Рыжий Эде, защищавшийся от наскочившего на него всадника.
Кастелян распахнул дверцу кареты, но, найдя ее пустой, с яростью бросился на офицера, который хватил дсктора в глаз.
Этот-то шум голосов и выстрелы услышала бежавшая Маргарита. Она упала на колени и стала молиться. Не почувствовала ли она, что тот, кто дал ей жизнь и теперь искал ее, находится в эту минуту в величайшей опасности?
Дольман, которому поручено было держать лошадей, увидел, как тщетны усилия Рыжего Эде, как Фукс свалился на землю; бешенство овладело им, одним прыжком подскочил он к Эбергарду, который старался привести в чувство раненого Конрада, и руки его уже готовы были сомкнуться на шее графа. Но в этот самый миг Эбергард, словно на чей-то зов, быстро обернулся. Свет фонаря упал на благородное лицо графа, и глаза его встретились с глазами того, кто готовился его убить.
Дольман попятился назад — он узнал Эбергарда, и его руки бессильно опустились.
По другую сторону кареты Мартин пришел вовремя на помощь офицеру; в минуту волнения честный моряк не заметил, что молодой русский сильно испугался, когда Кастелян ножом распорол живот его лошади и офицеру посчастливилось соскочить с упавшего животного.
Мартин бросился на Кастеляна в тот миг, как раздался громкий крик Дольмана:
— Назад, это не те! — повторяя эти слова, доктор стал отступать.
Эбергард узнал Фукса. Ошеломленный ударом Мартина, он лежал подле Вильденбрука, и граф хотел наконец передать этого мошенника в руки правосудия, для чего положил его вместе с раненым в карету.
Но тут лошади тронули, художник упал на подушки, а Дольман, взвалив на плечи бесчувственного Фукса, понес его в кустарник. Рыжий Эде был весь в крови, но Кастеляну удалось-таки сильно ранить Мартина ножом.
— Назад! — кричал Дольман.— Отступаем!
Мошенники решили, что к неприятелю приближалось подкрепление, и последовали за доктором.
— Черт возьми,— пробормотал Мартин, пустившись вслед за бежавшими,— ведь и Дольман с ними!
Эбергард остановил его от преследования, сказав, что разбойники лучше знакомы с местностью и имеют при себе оружие. К тому же и рана, полученная Мартином в бок, причиняла ему ужасную боль.
Молодой гусар, который потерял в борьбе свою лошадь, сел к Вильденбруку, постепенно приходившему в себя. Эбергард и Юстус помогли Мартину влезть на козлы и направились к вилле. Они нашли там прислугу, которая была в величайшем волнении. Все заметили исчезновение Маргариты и обыскивали комнаты и сад.
Но напрасно!
Надежда графа де Монте-Веро найти свою дочь рушилась.
XXI. ДЕТОУБИЙЦА
Бедная Маргарита без чувств распростерлась на ступенях. Рука низкого человека столкнула ее с порога замка; бесприютная девушка, покинутая и презренная, лежала в парке принца. Ее лучшие и святые чувства были растоптаны. Все, что она чтила как святыню, было поругано и осмеяно.
Если бы даже ее и нашел любящий отец и привел в свой замок, если бы он прижал ее к своему сердцу и отдал ей все сокровища, счастье ее жизни было разрушено навсегда.
Когда Маргарита очнулась после продолжительного обморока, была уже глубокая ночь; она приподнялась и почувствовала острую боль. Понемногу она припомнила, где находилась; все случившееся воскресло в ее памяти, и она в отчаянии закрыла лицо окоченевшими руками.
Все было потеряно! Она не имела более убежища, она должна была бежать, чтобы скрыть свой позор в глуши и уединении. Она не имела никого на свете, кто бы мог ее приютить у себя на предстоящее тяжелое время. Принц, на которого она имела священное, неоспоримое право, забыл и покинул ее — куда же ей было деваться теперь?
Вдруг Маргарита вскочила, она почувствовала, что не принадлежит более себе, глаза ее еще раз устремились на высокий замок, в окнах которого погасли огни; она подняла руку, как бы желая стряхнуть с себя последнее воспоминание, отвернулась, прошла мимо ворот и направилась в лес, по другую сторону которого было кладбище.
— Счастлив тот, кто покоится здесь! — мрачно проговорила Маргарита, глядя на занесенные снегом могилы и, сама не зная куда, побрела дальше.
Когда она снова подняла глаза, первый бледный луч утренней зари упал на покрытую снегом землю. Маргарита с удивлением огляделась и теперь только поняла, что, не замечая того, прошла парком и полями к саду, откуда начиналась Мельничная улица; напротив, на отдаленной Морской улице, находилась хижина тетки Фукс. Маргарита содрогнулась, «лучше умереть, чем опять вернуться в этот притон мучения бедных сирот!» — сказала она себе.
— У тебя есть друг, который постоит за тебя душой и телом! — послышался ей чей-то голос.
Маргарита в испуге обернулась, после всех бедствий последней ночи она ожидала только еще худшего и уже готова была снова бежать.
— Останься! — сказал тот же голос.— Я готов помочь тебе!
— Это ты, Вальтер? — прошептала Маргарита.
— Это было мое предчувствие,— продолжал Вальтер.— Я не мог спать всю ночь и встал еще до рассвета, хотя сегодня праздник.
— Праздник? — повторила Маргарита, как бы просыпаясь от тяжелого сна,— в этом одном слове выразилось все ее отчаяние.
— Откуда идешь ты, Маргарита? О, Боже, твои ноги в крови, платье изорвано…
— Не спрашивай меня, Вальтер, а то я должна бежать дальше…
— Твое милое лицо так исхудало и побледнело, твои маленькие руки окоченели, я не буду больше спрашивать: я вижу довольно и без твоих слов. Я знаю все, Маргарита, и мог предсказать это уже тогда, когда в последний раз говорил с тобой у виллы. Но ты не послушалась меня! Ты жила в счастье и богатстве, я же был бедным работником. Теперь же я имею право сказать тебе: прими мою руку, она мозолиста от работы, но сумеет охранить тебя! Не отталкивай меня, Маргарита, я буду работать для нас обоих! Если пища наша и окажется скудной, она все-таки будет добыта честным трудом. Я никогда не буду ни упрекать, ни огорчать тебя, пойдем, не мешкай, вон, слышишь ли, колокола возвещают о наступлении праздника, так пусть же этот день будет и настоящим праздником для меня! Пойдем, я понесу тебя на руках, для тебя я готов на все, потому что я люблю тебя, Маргарита!
— Твоя любовь слишком велика, Вальтер, я не достойна ее. Меня мучит твое отношение, ты слишком добр.
— Я всегда думал о тебе, Маргарита! Я часто ночами бродил возле твоего дома, но ты не слышала моей песни или не хотела слышать ее. Потом я подумал, что тебя нет более в знатном доме, я стал спрашивать и искать тебя, иные говорили мне, что ты при смерти, больна, другие же удивлялись моим вопросам. Ведь они не знали, как я люблю тебя! Теперь же сам Бог посылает тебя ко мне. Не отталкивай меня, Маргарита, я могу работать и стану еще прилежнее, когда буду знать, что работаю для тебя!
— Этого не должно быть! Пусти меня!
— Тебе некого спрашивать, кроме своего сердца. Никто не может запретить тебе сделаться моей! Ты отворачиваешься, ты дрожишь, Маргарита, что случилось?
— Не спрашивай меня, мы разлучены, я не могу принадлежать тебе! Мне нет больше спасения!
— Нет! — воскликнул он, поняв все и в отчаянии ломая руки.— Да будет проклят тот, кто похитил тебя у меня и погубил!
Вальтер закрыл лицо руками и громко зарыдал — все надежды и мечты его рушились. Но по своей сердечной доброте он решил ей простить все, все забыть. Ее несчастье глубоко тронуло его душу.
— Я хочу перенести все с тобой вместе, я прощаю тебя, приди ко мне!
Но в эту минуту Маргарита скрылась от его взора, она не хотела принять его жертвы, решившись в одиночестве нести свою горькую долю.
Вальтер звал ее, но напрасно. Бледное зимнее солнце, проступившее из низких облаков, осветило поля и дороги, но бесприютной девушки нигде не было.
Добежав до дороги, Маргарита бесцельно, словно преследуемая какой-то неведомой силой, поспешила дальше. Крестьяне, празднично одетые, спешили в церковь, они с удивлением смотрели на молодую девушку, силы которой, по-видимому, совершенно истощились. Утомленная и изнуренная, она тащилась дальше и достигла какой-то деревни, в которой добрые крестьянки дали ей поесть и приготовили постель.
Конечно, все желали знать, кто она и откуда, но Маргарита упорно молчала; когда крестьянки поняли, что она скрывает свое прошлое, то отказали ей в приюте, полагая, что она преступница. Одна крестьянка, сжалившись над одинокой девушкой, дала ей тайком на прощание кусок хлеба, которым Маргарита питалась целый день, а чтобы утолить жажду, она разламывала щепкой лед в лужах и канавках и пила эту зловонную, грязную воду.
Холодные ночи она проводила в лесу под деревьями, а если слышался лай собак, что указывало на близость деревни, то она отыскивала какой-нибудь сарай на окраине и тайком пробиралась туда.
Так бродила она, преследуемая какой-то непонятной тревогой, и сама того не замечая, после нескольких дней очутилась на том самом месте, откуда отправилась,— недалеко от замка принца Вольдемара. Тут силы окончательно оставили ее и, изнемогая от боли, она упала на землю.
Была морозная январская ночь. Ветер завывал в ветвях деревьев и с шумом бился в окна высокого замка и бедной сторожки возле кладбища Святой Марии неподалеку; сучья с хрустом падали на мерзлую землю, и к полуночи ветер превратился в ураган, который с корнем вырывал большие деревья и срывал крыши домов. Темные серые тучи неслись по небу, снег чередовался с крупным градом.
В предместьях и одиноких домиках заблестели огоньки; разбуженные ураганом жители молились и читали евангелие; даже кладбищенский сторож, с дома которого ветер с грохотом сорвал оконные ставни, разбудил своих рабочих и вместе с ними начал молиться.
В эту минуту из-под густой тени деревьев выползла сгорбившаяся женщина и побрела к дороге, что вела к замку принца; ветер играл ее развевающимися волосами и бедным черным платьем. Женщина что-то держала в руках; прерывисто и тяжело дыша, она с трудом дотащилась по снегу до решетки; глаза ее лихорадочно сверкали, грудь высоко вздымалась.
Женщина остановилась и прислушалась: завывание ветра заставило ее вздрогнуть — оно звучало, как раздирающие душу крики ребенка. Но вокруг никого не было.
Она потащилась дальше, видно было, как тяжел был для нее каждый шаг, наконец женщина достигла ограды; ветер разорвал серые тучи, в просвет выглянула бледная луна и осветила высокий замок и одинокую женскую фигуру.
Лицо женщины было обращено к окнам дворца; отчаяние светилось в ее глазах, полных страдания и страха. В своих дрожащих руках женщина держала двух маленьких существ, тщательно завернутых в худенькое платье.
Вдруг женщина отвернулась от замка, где ее никто не слышал и не видел, отчаяние отразилось на ее бледном лице, страшная мысль мелькнула в ее воспаленном от мук мозгу. Исполненная страха и тревоги, она поцеловала этих двух крошечных существ, которым только что дала жизнь, и, желая оказать им благодеяние, тут же хотела привести в исполнение свой ужасный приговор.
Что происходило в эту минуту в душе этой бедной женщины? Неужели она думала, что окажет благодеяние, если лишит новорожденных жизни? Или, забыв в своем горе, что теперь зима и все дороги занесены снегом, Она хочет бросить этих невинных созданий на произвол судьбы в надежде, что их подберет какой-нибудь добрый прохожий и даст им кров, чего не может сделать их бесприютная мать?
Она забывает, что станет тогда убийцей,— крошечные существа не перенесут холода. Ослепленная, близкая к умопомешательству, она берет одного ребенка, плотнее заворачивает его в тряпки, судорожно прикасается к нему губами, кладет на дорогу подле кустарника и быстро убегает.
Но вдруг она начинает прислушиваться, ей кажется, что приближаются шаги; она немного отходит, кладет второго ребенка под тень старого ветвистого дерева, также бессознательно целует его и, пробравшись сквозь кусты, пускается бежать, словно гонимая фуриями.
Сквозь лесную чащу с воздетыми к небу руками мчится бедная Маргарита, будто ночное привидение, все дальше и дальше, как бы желая убежать от самой себя; ее когда-то прекрасные, теперь же впалые глаза тревожно озираются кругом, шаги ее становятся все меньше и меньше, и наконец, испустив крик, она падает на землю.
Но вот буря мало-помалу улеглась, засияли звезды, выглянувшая из-за туч луна осветила бледное, безжизненное лицо детоубийцы.
XXII. ЗВЕЗДНАЯ ЗАЛА
Когда граф Монте-Веро вернулся во дворец и поднимался по лестнице в свои покои, он чувствовал, как надрывается от боли его сердце. Единственное, что помогало ему превозмочь личное горе, была его деятельность на благо человечества. Эта миссия была так высока и прекрасна, что никакие жизненные испытания никогда не позволяли ему отступать от цели, которая озаряла его путь.
Когда на улице раздался колокольный звон, Эбергард направился в часовню королевского замка, чтобы после разочарований этой ночи дать своей душе тихий, мирный час.
Часовня, позолоченный купол которой возвышался над одним из флигелей, была невелика. Стены ее украшали высокие фрески. Двенадцать апостолов в натуральную величину стояли по обеим сторонам алтаря, над ним висел великолепный образ с изображением Христа, Марии и Марфы.
Слабый свет, наполнявший часовню, и тихие звуки органа оказывали умиротворяющее действие на душу. На алтаре между высокими свечами стояло золотое распятие, перед алтарем выстроились скамьи для молящихся, справа находились несколько кресел для королевского семейства, а слева — для высоких гостей.
Королева каждое утро отправлялась на мессу, которую служили в соборе неподалеку от замка, король же предпочитал часовню.
Когда Эбергард вошел в часовню, все места уже были заняты членами двора; священнослужителя еще не было, только звуки органа наполняли пространство под куполом.
Король заметил графа и подослал к нему своего адъютанта, чтобы попросить его к себе. Граф Монте-Веро с каждым днем делался ему все необходимее. Он тепло приветствовал его и предложил стул подле себя. По другую сторону от короля сидела королева, позади стоял принц Вольдемар, из-за его плеча выглядывал бледный камергер. Тут же подле матери сидела очаровательная принцесса Шарлотта. Румянец покрыл ее щеки, когда она увидела Эбергарда. Сегодня на его мужественном лице она уловила выражение какой-то тайной грусти.
Когда месса закончилась, король проводил августейшую супругу и, направляясь к своим покоям, пригласил с собой графа. За ними не последовал никто из свиты — очевидно, король хотел что-то сообщить своему любимцу без свидетелей.
Рабочая комната короля имела круглую форму. Пол устилал драгоценный ковер, вдоль стен стояли мягкие стулья и кресла, обитые сипим бархатом, на двух столах лежали книги и бумаги.
Когда портьера закрылась за Эбергардом, король подал ему руку и подвел графа к дивану у камина. Между камином и окном Эбергард заметил картину — это был тот самый портрет, перед которым он застал короля в замке Солитюд, теперь она была не покрыта, и граф мог рассмотреть прекрасное кроткое лицо принцессы Кристины, которая, по всей вероятности, имела когда-то большое влияние при дворе, потому что портрет ее в натуральную величину висел в названной ее именем зале, а этот, поменьше, повсюду сопровождал короля. Казалось, что с жизнью этой молодой прекрасной принцессы была связана какая-то тайна, которой никто не смел или не мог раскрыть, так как на все расспросы Эбергарда одни пожимали плечами, другие — уклонялись от ответа.
Король заметил, как пристально граф смотрел на картину; похоже, с языка его готово было сорваться какое-то признание, но оно осталось непроизнесенным.
— Я попросил вас сюда, господин граф,— начал король,— для того, чтобы сообщить вам желание, которое было вчера выражено моим семейством. Я разделяю это желание, хотя мне, в отличие от принцесс, нетрудно исполнить его.
— Могу ли я вам помочь в приведении этого желания в исполнение? — спросил Эбергард, так как король молчал.
— Разумеется, это зависит только от вас! Дело в том, что все хотят посетить ваш дворец, который славится своим великолепием и потому возбуждает всеобщее любопытство. Я сам мог бы без особых церемоний посетить вас в один из дней, полагая, что вы гостеприимно откроете мне свои двери, но незамужним принцессам, как вы знаете, этикет запрещает приехать к вам. Поэтому надо придумать какой-нибудь повод, чтобы исполнить желание дам.
Эбергард с удовлетворением слушал короля.
— Честь, которая мне оказывается, заставляет меня придумать выход. И мне кажется, что я его нашел. А что если я отдам свой дом в один из следующих дней в полное распоряжение вашего величества?
— О нет, дорогой друг, мы не можем принять этого, так как вы оставили бы в таком случае свой дворец. Дело в том, что все хотят не просто видеть вашу собственность, но и застать вас в ней! Что если бы вы в один из следующих вечеров устроили у себя маскарад? Это явилось бы удобным случаем исполнить давнишнее общее желание.
— Я спешу, ваше величество, чтобы приняться за приготовления, и надеюсь…
— Все еще вы придерживаетесь формы, хотя мы наедине! — прервал король графа.— Неужели вы отказываетесь называться моим другом? Позвольте мне сказать, что я всей душой люблю вас, может быть, это признание скорее заставит вас говорить со мной так, как говорят с другом. Я имею свои тайные планы на будущее, и для этого необходимо, чтобы мы сблизились, граф Эбергард, не забывайте этого. Ну, а теперь до скорого свидания в вашем дворце!
Граф Монте-Веро поклонился; дружеское обращение короля и особенно его последние слова произвели на него глубокое впечатление. Какие планы имел король на будущее? Уж не хотел ли он сделать его своим министром?
Эти мысли и вопросы занимали Эбергарда, когда он вышел из покоев короля. Он тотчас же должен был отдать приказания о приготовлениях к маскараду в своем дворце, хотя в душе ему было не до веселья. Граф не стремился к тому, чтобы сделаться сановником в своем отечестве, но ему все-таки было приятно, что король так дружески обращался с ним, и он во что бы то ни стало хотел исполнить его желание. Через несколько дней он известил короля, что остается лишь назначить вечер, и король избрал ночь на Новый год, обещав позаботиться о появлении принцесс и княжны Ольги.
Эбергард разослал приглашения придворным и друзьям. Он не хотел возражать королю, когда тот упомянул о княжне Ольге, хотя должен был сознаться, что ее присутствие будет ему крайне неприятно.
Прежде чем мы опишем съезд гостей во дворец на Марштальской, бросим взгляд на покои графа Монте-Веро, назначенные им для приема.
То, что находилось за высокой дверью портала, до сих пор составляло для нас тайну, теперь же она открывается перед нами и представляется во всей своей роскоши.
Перед нами широкий, ярко освещенный вестибюль. Пол устилают тигровые шкуры, которые так искусно сложены, что образуют единое целое. У входа по обеим сторонам лежат на пьедесталах белые мраморные львы, из пасти каждого струится душистая вода. Колонны здесь перемежаются с бюстами, и наконец справа и слева бархатные портьеры скрывают роскошно устроенные гардеробные для мужчин и дам.
Словно в синеватом тумане, открывается вход в звездную залу.
Лакеи в богатых ливреях поднимают голубой занавес, и мы входим в святилище этого дворца.
Звездная зала овальная, с высоким потолком. Мы с удивлением озираемся кругом, потому что не знаем, откуда струится матовый свет, наполняющий это обширное помещение; вдруг глаза наши устремляются к потолку: он, подобно небесному своду, усеян блестящими звездами. Невыразимо прекрасен вид этого искусно сделанного неба, на котором сияют многочисленные звезды. Там, где потолок опускается к голубым колоннам залы, он кончается голубыми, тоже усеянными звездами, прозрачными занавесями, которые так тонки, что хотя и скрывают от глаз гостей галерею с находящейся на ней капеллой, но не мешают проходить даже самым нежным звукам скрипки или арфы.
За двенадцатью колоннами скрываются четыре залы, отделенные от звездной залы голубыми портьерами, и восемь ниш за спущенными занавесями. Ниши эти теперь открыты и представляются глазам входящих; они образуют живописно освещенные голубые гроты. Залы закрыты.
Позади колонн из чаш, наполненных цветами, бьют прекрасные фонтаны. Белый мраморный пол распространяет волшебное свечение, отражая свет множества ламп с матовыми плафонами.
В звездной зале нет ни золотой лепнины, ни других блестящих украшений, но, несмотря на это, она так великолепна, что король, в накинутом на плечи черном шелковом домино, в черной атласной маске, войдя в нее вслед за королевой, в изумлении остановился. Вскоре явились также принц Август и принц Этьен, Лорд Уд и министры, кавалер де Вилларанка, молодой лорд Фельтон и наконец принц Вольдемар в костюме дона Карлоса, в сопровождении своего камергера, одетого в костюм Альбы.
Эбергард, который на сегодняшний вечер был освобожден от роли хозяина, также смешался с толпой масок. И хотя на нем был белый шелковый плащ с красным крестом и лицо скрывала маска, его высокий рост и прекрасная фигура выдали его большей части гостей. В залу беспрестанно входили новые маски в самых неожиданных и роскошных костюмах.
Молодой художник, одетый корсаром, идя под руку с маркизом, облаченным в старо-французский костюм, раскланялся с графом Монте-Веро и стоявшим рядом с ним доктором Вильгельми, который был в костюме времен Людовика XIV.
— Если я не ошибаюсь,— шепнул Эбергард,— то под маской маркиза скрывается наш Юстус Арман. Приветствую вас от всей души, и вас также, дорогой Вильденбрук. Счастлив, что происшествие в ночь на Рождество не повлекло за собой серьезных последствий, или, быть может, вы их скрываете?
— О нет, господин Эбергард! Достойно ли погибнуть от руки таких жалких уличных разбойников? Мне кажется, так дешево мы не продадим свою жизнь. Посмотрите на Царицу ночи! Эта прелестная маска будто наперед знала звездную залу, выбирая свой костюм.
— В самом деле,— отозвался Арман,— и обратите внимание, каждая звезда на ее длинном черном платье — драгоценный камень.
На лице Эбергарда мелькнула едва заметная улыбка: возле этой высокой и величественной дамы, которой король только что написал что-то на ладони, он увидел невысокого роста господина в черной маске, в котором узнал князя Долгорукого. Значит, Царицей ночи была его холодная, гордая дочь Ольга, которая не могла побороть в себе желания повидать дворец графа и придумать что-нибудь другое, что бы превосходило и затмевало его.
Секретарь Людовика и маркиз, тихо беседуя, прохаживались по зале, за ними следовали крестоносец и корсар. Когда они проходили мимо масок, окружавших короля, на них устремился взгляд Царицы ночи.
Ольга узнала Эбергарда, ее грудь высоко вздымалась; образ Эбергарда все более овладевал сердцем гордой княжны.
В эту минуту в залу, сопровождаемая дамой в маске, вошла нимфа в таком прекрасном костюме, что все взоры обратились к ней. На ее белом платье, украшенном живыми цветами, каплями воды сверкали алмазы. Лицо нимфы прикрывала маленькая атласная маска.
Гостей уже было так много, что прекрасная нимфа быстро смешалась С толпой, между тем как граф незаметно подал знак открыть залы.
Распахнулись голубые портьеры; в большой буфетной напротив входа столы ломились от лакомств и прохладительных напитков, в остальных комнатах мягкие диваны и кресла манили к отдыху и беседе. Отсюда можно было видеть все, что происходило в Звездной зале.
Король под руку со своей августейшей супругой, в сопровождении нескольких придворных, вошел в одну из гостиных, между тем как многие маски, составив пары, интимно беседуя, прохаживались по залам или сидели в уютных полутемных нишах с бокалами пенящегося шампанского. Сдержанный тон исчез совершенно. Пробило полночь, и все стали поздравлять друг друга с наступлением Нового года.
Царица ночи, разговаривавшая с доном Карлосом, вдруг увидела, что крестоносец подошел к нимфе, и, похоже, это сильно смутило ее, так как она поспешно распрощалась со своим кавалером и вместе с князем еще до отъезда короля оставила залу и дворец.
Граф Эбергард, заметив Вильденбруку и Арману, что в числе гостей нет еще молодого русского офицера, которого он лично пригласил к себе, быстро поднял водяную лилию, которая выпала из рук нимфы, и передал ее очаровательной владелице, бросив на нее испытующий взгляд.
— Вы меня не узнаете? — прошептала маска.— Я вижу, вы меня не узнаете. Это меня огорчает. А вот я узнала вас, как только вошла. Позвольте мне вашу руку.
Нимфа написала на его ладони Э, М, В.
— Доказать ли мне вам, что и я узнал вас? — спросил Эбергард.
— О, я сгораю от нетерпения.
Граф написал на ее руке буквы П, Ш.
Нимфа крепко сжала руку Эбергарда, который предложил очаровательной принцессе пройтись по зале.
— Знаете ли, граф, кто на самом деле зачинщик маскарада? Я вам скажу: я еще никогда не ожидала празднества с такой радостью, как сегодня.
— Что же, и вы не разочарованы?
— Конечно, нет! Но вы хотите, чтобы я сказала, что оно мне очень, очень нравится. Я этого не сделаю.
— Вы уже это сделали, произнеся второе «очень» с особым ударением.
— Ну, а если оно и так?
— В таком случае, это доставляет мне несказанную радость! — ответил Эбергард так задушевно, что принцесса Шарлотта невольно подняла на него свои голубые мечтательные глаза,
— Граф Эбергард, только теперь, когда я прохаживаюсь с вами по этой волшебной зале, произнесенные мною слова стали истинной правдой.
— Как мне понять это, милостивая принцесса?
— Как подсказывает ваше сердце, граф Эбергард! Такую благородную душу, как ваша, этот голос никогда не обманет. Даже мой августейший дядя, король, который очень нелегко привязывается к людям, считает вас своим другом. Посмотрите, как он на нас смотрит; он снял маску и улыбается, таким веселым я его никогда не видела.
— Ваши слова — бальзам для моих сердечных ран, Шарлотта,— сказал Эбергард, тронутый откровенностью принцессы.— Вы с удивлением смотрите на меня, как будто хотите спросить, что это за раны. О, не спрашивайте! У меня горькое прошлое. Я провожу в страданиях целые ночи, скрывая от людей свои муки, и потому я стараюсь иногда забыться от всего.
— Так забудьтесь же и сегодня, отбросьте все, что было с вами горестного! — проговорила принцесса.
— Ваш голос дрожит, Шарлотта. О, соберитесь с силами, час, который настал, будет тяжким для нас обоих, но ведь Бог дал нам силы обуздывать наши чувства.
— Но ведь он дал нам и то невыразимое чувство, которого мы не в состоянии обуздать. Только одно слово я хочу услышать от вас, и тогда найду те силы, о которых вы говорите, Эбергард.
— Так знайте, Шарлотта: я люблю вас, люблю горячо и свято, но не смею назвать вас своей!
— О Эбергард! — прошептала принцесса, опускаясь на диван в уединенной нише.— Вы любите меня! Я счастлива только подле вас!
Портьера опустилась, скрывая влюбленных от любопытных взоров, и Эбергард упал на колени, прикасаясь губами к дрожавшей руке взволнованной принцессы.
Но вдруг Эбергард порывисто вскочил и, дернув за шнур, поднял портьеру.
— Будьте мужественны, Шарлотта, я никогда не смогу вас назвать своей!
Принцесса закрыла лицо руками.
Неподалеку от ниши, где находились нимфа и крестоносец, рядом с Альбой стояла монахиня; если бы в момент, когда поднялась портьера, кто-нибудь сдернул с ее лица маску, то увидел бы демоническую улыбку, с которой она следила за каждым движением Шарлотты.
Еще один человек внимательно наблюдал за графом и принцессой; это был молодой русский офицер, одетый в голубое домино, который только что вошел в Звездную залу. Он поспешно раскланялся с корсаром и маркизом и приблизился к открытой нише.
Эбергард, сидя напротив взволнованной Шарлотты,! увидел офицера, которого тотчас узнал.
— Позвольте мне, ваше королевское высочество,— проговорил он,— представить вам лейтенанта российского императора господина Ольганова.
Шарлотта приветливо ответила на поклон молодого офицера.
— Вероятно, это ваш протеже, господин граф? — прибавила она вполголоса.
— Да, это один из моих молодых друзей, ваше королевское высочество.
Голубое домино устремил взгляд на Шарлотту, как будто хотел прочесть по ее лицу, что только что произошло между нею и Эбергардом.
— Давно ли вы в столице? — спросила принцесса, не в силах долее выносить пристальный взгляд иностранца.
— Несколько недель, ваше королевское высочество.
— И вы намерены остаться здесь?
— Я причислен к посольству, но не стеснен службой, так что имею достаточно времени, чтобы познакомиться со здешним образом жизни и обычаями. По счастливому стечению обстоятельств я познакомился с графом, которому обязан честью быть представленным здесь вашему королевскому высочеству! — проговорил лейтенант твердым, но несколько странным голосом. Возможно, причиной этому была маска, но не был ли молодой русский офицер так же взволнован, как и принцесса?
— Граф Монте-Веро, потрудитесь проводить меня в залу, где подле их величеств сидит моя августейшая мать, мне кажется, что они готовятся отправиться в замок. Надеюсь скоро увидеть вас снова, господин лейтенант, и без маски,— ласково сказала принцесса, обращаясь к низко поклонившемуся ей офицеру, и под руку с графом проследовала через оживленную Звездную залу в гостиную, где сидело королевское семейство.
Голубое домино вошел в нишу и небрежно облокотился о стену, чтобы из полумрака незаметно следить за удалявшейся парой.
Странно! Уж не влюблен ли был молодой русский офицер в принцессу? Что же так сильно волновало его в эту минуту, что грудь его так заметно подымалась и опускалась?
Ольганов видел, как Эбергард провел прекрасную нимфу в гостиную, как король, встав с кресла, пошел им навстречу, затем ему показалось, что двор стал собираться к отъезду, но незаметно, чтобы не лишить удовольствия многочисленных гостей.
Вдруг Ольганов услышал тихие голоса; сначала он подумал, что кто-то говорит под нишей, но затем понял, что разговор шел в соседней нише; он стал прислушиваться, так как услышал имя Эбергарда.
— Они ушли, — проговорил мужской голос, — и стоят рядом с королем.
— Граф и не подозревает, кто скрывается в костюме монахини,— отозвался женский голос.— Нас здесь не подслушивают, барон, а я сгораю от нетерпения услышать, как вы напали на след той девушки, которая, говорят, дочь графа Эбергарда?
Ольганов стал прислушиваться внимательнее.
— Как нельзя более просто, сударыня; я узнал от вас, что эта девушка, еще будучи ребенком, была отдана семейству человека по имени Фукс, а затем мне сказала госпожа Робер, женщина, которая уже несколько раз оказывала мне услуги, что девушка эта по прихоти принца…
— Рассказывайте все.
— …была привезена в его виллу, воспитывалась у этого семейства. Там я убедился в этом и сообщил госпоже Робер, которая дала мне слово известить графа, чтобы он забрал свою дочь.
— Как великодушно и благородно!
— Но, к несчастью, граф пришел слишком поздно. Маленькая дурочка бежала.
— Он найдет ее.
— Может быть! Вас, кажется, тревожит это, сударыня?
— Я ненавижу все, что связано с этим человеком,— тихо проговорила монахиня с такой холодной яростью, что Ольганов содрогнулся.
— Я не хочу проникать в ваши тайны, но вижу, что вы имеете основания ненавидеть графа.
— Вы видите, как сильна моя ненависть, из того, что в эту же ночь, я повторяю вам, граф должен пасть от моей руки!
— Тише, сударыня! Конечно, бывают причины, которые доводят мужчин до дуэли, чтобы убить ненавистного человека, а женщин с горячей кровью — к отчаянным действиям, проследите историю. Но позвольте напомнить вам о его королевском высочестве.
— Принц только что распростился со мной, он должен час посвятить этикету; я воспользуюсь этим, мое оружие незаметно, я привезла его с собой.
— А! — воскликнул мужчина.— Превосходный выбор! Граф перечеркнул все влияние, которое мы до сих пор имели на короля и правительство, честолюбие его так же велико, как и талант покорять женские сердца.
— Значит, тем лучше скорее положить всему этому конец! — проговорила монахиня с едким смешком.
— Мне даже кажется, что принц стал отворачиваться от нас, разумеется, тогда рухнут все наши планы. Так что вы принесете большую пользу, если…
Ольганов не расслышал конца разговора, к тому же он должен был возможно скорее уйти из ниши, так как собеседники явно готовились выйти, и он не хотел быть замеченным ими.
Лихорадочная дрожь пробирала молодого офицера, когда он вышел из ниши и смешался с толпой масок, чтобы отыскать Эбергарда. Тут он увидел, что из соседней ниши, так долго остававшейся закрытой, вышел камергер Шлеве, одетый в костюм Альбы, с монахиней.
Ольганов стал думать, что ему предпринять в эту решительную минуту. Монахиня была высокого роста, и развевающийся коричневый плащ не скрывал ее прекрасного сложения,— кто же это мог быть? Он хотел подойти к обоим и разрушить их черный план, приказав снять с себя маски или повелев арестовать их. Но это было бы безрассудно — ведь у него не было свидетелей. Да и такой поступок с давнишним любимцем двора, который до сих пор, пользовался милостью не только королевы и принца Вольдемара, но и короля, мог иметь неприятные последствия.
Однако надо было на что-то решиться. Ему было известно, что в придворных аристократических кругах не любили влиятельного графа Монте-Веро, но никто не допускал мысли, что у него есть такие смертельные враги, которые способны посягнуть на его жизнь.
Вдруг Ольганов, стоявший посреди залы, увидел Эбергарда, который, беседуя с Юстусом Арманом, направлялся к одной из гостиных. Там никого не было и царил интимный полумрак. В ту же минуту к этой гостиной приблизились Альба и монахиня.
Лакеи разносили на золотых подносах высокие бокалы, наполненные шампанским, Эбергард взял бокал, поднес его к губам и, выпив до половины, поставил на мраморный стол, стоявший посреди комнаты. Монахиня и Альба тоже взяли по бокалу и, подобно ему, поставили их недопитыми на стол. Граф сидел к ним спиной, глядя в Звездную залу на движение масок, и ничего не заметил.
Ольганов, пробираясь к той же гостиной, увидел, как монахиня быстро всыпала что-то в один из бокалов, пододвинула его поближе к Эбергарду.
Тем временем Шлеве со своим бокалом в руке подошел к Арману, чтобы чокнуться, и завел с ним разговор, при котором незаметно, как бы желая что-то сообщить, повел его в Звездную залу.
Эбергард взглянул на монахиню; он уже давно заметил ее высокую фигуру, но узнать, кто эта маска, ему не удалось. И вот он увидел себя с ней наедине. Она подняла свой бокал, который стоял на столе подле бокала графа, и, казалось, намерена была подойти к нему.
Все это произошло так быстро, что только теперь голубое домино подошел к гостиной.
Странное чувство овладело графом при виде монахини, но попытка прочитать что-либо в лице ее была тщетной.
— Желаю тебе счастья в крестовом походе, маска! — проговорила монахиня глухим голосом.
Граф Монте-Веро взял свой бокал, все еще пытаясь понять, кто скрывается под маской монахини.
Она подошла к графу, чтобы чокнуться, но бокалы издали немелодичный звук.
Монте-Веро поднес шампанское к губам.
— Не пейте, Эбергард! — вдруг крикнул голубое домино, быстро отводя руку графа, сжимавшую бокал.— Ради всех святых, не пейте, иначе вы погибнете, вино отравлено!
Монахиня отступила назад, как ужаленная змеей, ее сверкавшие гневом глаза устремились на молодого русского офицера, который лишил ее победы в ту минуту, когда она уже считала себя владелицей сокровищ ненавистного Эбергарда, которого ей наконец-то, как она думала, удалось устранить.
Она засмеялась, как будто слова офицера были сказаны в шутку, и протянула руку к бокалу, который граф все еще держал в руке, чтобы вылить вино на пол, уничтожив обвинение голубого домино.
— Так вы в самом деле графиня Понинская? — проговорил граф.— Значит, предчувствие, овладевшее мною при виде вас, не обмануло меня? Извините, дорогой Ольганов,— продолжал Эбергард, немного успокоившись и пожимая руку офицера,— если я попрошу вас возвратиться назад в залу. Сцена эта может обратить на себя внимание масок, а мне бы не хотелось нарушать всеобщего веселья из-за обстоятельства, касающегося лично меня. Благодарю вас!
— Будьте осторожны! Я неохотно ухожу от вас.
— Мой молодой друг, не беспокойтесь, через несколько минут я буду у вас в зале.
Ольганов вышел. Эбергард и монахиня остались одни.
Леона напрасно старалась выхватить из его руки бокал и затем выйти из комнаты, теперь же она сорвала маску со своего дьявольски улыбавшегося лица.
Эбергард взглянул на эту ужасную женщину, которую когда-то любил со всем пылом своего юного сердца и которой теперь только непредвиденное обстоятельство помешало сделаться его убийцей.
— Да, это я, графиня Понинская, пришла в ваш дворец — разве она не имеет на это права? Может быть, она мешает графу с чужим именем в его любовных похождениях, графу, который женат?
— Страшная женщина! — прошептал Эбергард.— На что ты заставляешь меня решиться?
— А, я теперь в ваших руках, хотите вы сказать, вы желаете меня унизить или заставить решиться на отчаянный шаг, запирая эту комнату. Ведь принцесса уже в своем замке, да и к тому же я не ревнива! Вы хвалитесь благородными поступками и играете великодушными словами, как же вы хотите заставить меня решиться на шаг, которого я добровольно никогда не сделаю? Прошу вас освободить меня, поднять занавес и избегнуть сцены, которая для нас обоих будет одинаково неприятна.
— Дерзкая, ты испытываешь мое терпение!
— Неужели вы, основываясь на безумных словах того незнакомца, хотите лишить меня свободы? Я увидела и узнала все, что хотела узнать в этих залах, неужели вы осмелитесь задержать меня здесь?
Эбергард, остановив на Леоне холодный, испытующий взгляд, приблизился к стене и нажал на пружину. Раздался отдаленный звон колокольчика, после чего потайная дверь отворилась и в ней показалась мощная фигура Мартина.
— Что это значит? — спросила Леона.
— Госпожа графиня! — пробормотал Мартин, с изумлением глядя на монахиню.
— Подай этой даме стул и принеси мне склянку с белой жидкостью, которая стоит в нижнем ящике письменного стола в моей рабочей комнате.
Мартин подал монахине стул и вышел.
— Что вы затеваете? — спросила Леона.
— Прошу вас садиться, я должен исследовать вино, которое вы мне поднесли! — холодно ответил Эбергард, не спуская с Леоны глаз.
Леона поняла, что ее план разрушен, кто-то подслушал ее — как иначе мог этот незнакомец узнать о ее намерениях?
Если бы не он, граф Монте-Веро был бы уже мертв, и никто не мог бы сказать, кто отравил его, тем более никто не подумал бы на графиню Понинскую — никто и не подозревал, что она была на маскараде в его дворце.
Теперь все было потеряно!
Надо было во что бы то ни стало, либо обратившись к благородству и добросердечию Эбергарда, либо прибегнув к какому-нибудь ловкому объяснению, устранить опасность этого часа, и Леона решилась воспользоваться и тем и другим, не унижаясь, однако, перед Эбергардом — на это гордая женщина не была способна.
Мартин, возвратившись, принес склянку со светлой жидкостью.
Эбергард поставил перед собой на мраморный стол недопитый бокал Леоны и тот, что она подала ему, и в каждый влил по нескольку капель из склянки. Вино в ее бокале осталось без изменений, его же вино потемнело, и на дне бокала образовался черный осадок, вероятно, содержавший в себе связанные частицы яда.
Мартин удалился, по-видимому, сильно взволнованный.
— Ну, графиня,— проговорил Эбергард, когда снова остался наедине с Леоной,— что вы скажете на это?
— Конечно, было бы безумием оправдываться. Да, я всыпала в ваше вино яд, я не могла иначе. Эбергард, называйте меня сумасшедшей, преступницей, но кто в состоянии объяснить или укротить страсть женщины, я скорее умерщвлю нас обоих, чем смирюсь с мыслью, что вы любите другую!
Леона стояла, гордо выпрямившись, и вдруг как бы в порыве страсти сделала шаг к Эбергарду, который стоял посреди комнаты со скрещенными на груди руками.
— Хороша же ваша любовь, графиня,— проговорил он ледяным тоном, ни один мускул не дрогнул на его прекрасном, благородном лице.— Один раз вы ее уже доказали, разорив меня фальшивыми подписями и бросив себя и своего ребенка в объятия греха! В самом деле, сударыня, чаша переполнена — выносите сами свой приговор!
Леону била дрожь, она схватилась за спинку стула.
— Вы говорите о прошлом, граф. Когда я в тот вечер вдруг увидела вас в цирке, сердце мое забилось от радости и внутренний голос шепнул мне: «Ну, наконец, твоя жизнь озарится счастьем, он возвратился к тебе, он научился прощать». Но увы! Первое слово, которое я услышала от вас, не было моим именем, вы отказались его назвать и напомнили мне о моем позоре. Это возмутило меня и растоптало последнюю надежду. Я готова была вместе с вами искать нашу потерянную дочь. Я нашла бы ее и с любовью прижала к своей груди, но вы возбудили во мне только ненависть, зависть и ревность. Вы не хотите принадлежать мне, но вы не должны были принадлежать и другой, я это готовилась сделать, хотя бы нам обоим пришлось поплатиться за это жизнью!
Леона указала на бокал с темною жидкостью; она была довольна собой — она видела, что ее слова поразили и тронули Эбергарда.
— Не вспоминайте прошлого, графиня, то, что мне пришлось перенести из-за вас, я не в силах забыть.
— И даже за гробом?
— Там другое дело, но не здесь! Те бумаги, которые содержат подделанную вами подпись и расторжение брака, лежат среди моих документов, туда же я спрячу и яд, который вы мне поднесли,— бывают часы, когда я перелистываю эти документы, чтобы снова убедить себя, наяву ли все это. Довольно! Вы видите, что участь ваша в моих руках, что от меня зависит предать вас земным судьям!
— Земным, но не небесному судие, граф. Ваши последние слова еще более укрепили меня в своем решении. Я хочу раз и навсегда освободиться от всех опасностей и земных искушений! В нескольких милях от маленького города Б. есть монастырь Гейлигштейн — туда я хочу бежать! Прощайте, граф Эбергард! Для моей истерзанной души будет благодеянием жить там в молитве и мире, которого я бы никогда не нашла здесь! Сожгите ваши документы, уничтожьте этих жалких свидетелей вашего обвинения — я стою теперь выше их, выше вас, выше всех — я постригаюсь в монахини!
— Да просветит и простит тебя Бог! Лицемерка в монастыре хуже всякой продажной развратницы. Постригайся в монахини и молись! Да сохранит тебя Пресвятая Дева! Для падших, к числу которых принадлежишь и ты, замкнутость монастыря — настоящее убежище!
Эбергард произнес эти слова, как серьезное наставление, но задушевным голосом; казалось, этот благородный человек хотел еще спасти и возвысить то погибшее существо, которое составляло проклятие его жизни.
Но Леона с торжествующей, язвительной улыбкой подошла к голубой портьере; гордо выпрямившись, считая уже себя неприкосновенной, устремив глаза, сверкавшие ненавистью, на Эбергарда, надела она на лицо маску, надвинула на глаза капюшон и скрылась за портьерой, чтобы, пробившись сквозь густую толпу масок, оставить Звездную залу и дворец графа.
Когда Мартин по приказанию Эбергарда унес бокалы и склянку, крестоносец раздвинул голубую портьеру и возвратился в Звездную залу. Он попросил молодого офицера ничего не говорить о странном происшествии и, казалось, в хорошем настроении присоединился к гостям.
Маскарад продолжался до рассвета. Граф ничем не выказал волнений ночи, он казался веселым и беспечным.
ХХIII. ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА
Камергер и Леона находились в достаточно близких отношениях. Правда, старались скрывать свой союз, чтобы свободнее действовать. Оба ненавидели графа Монте-Веро. И еще больше возненавидели его и боялись с тех пор, как не удалось их третье покушение на его жизнь.
Леона знала, что Эбергард мог довести ее даже до виселицы, так как имел доказательства ее прежних проступков и к тому же знал мучительную тайну, касавшуюся ее матери. Но душу этой честолюбивой женщины наполняло лишь низкое корыстолюбие, еще больше увеличивавшее в ней ненависть к Эбергарду. Она знала, что он владел несметными богатствами, которые должны были принадлежать ей по смерти Эбергарда и его ребенка. Она была его единственной наследницей, наследницей неисчислимых миллионов, благодаря которым могла бы потом блистать как всеми обожаемая красавица-княгиня.
Ненависть Леоны имела еще третью причину. Эбергард постепенно сближался с принцем Вольдемаром, который мало-помалу стал охладевать к мисс Брэндон, казалось, какая-то особенная сила влекла его к графу Монте-Веро. Он освободился также от своей тени, что и заставило камергера фон Шлеве еще крепче соединиться с Леоной, так как он предвидел, что его влияние и власть приходили к концу.
Бледный, постоянно улыбавшийся барон до появления графа Монте-Веро играл весьма важную роль при дворе. Он прибрал к рукам не только принца Вольдемара, но в то же время не забыл и королевы, которая предпочитала его прочим придворным как набожного человека.
Теперь же Эбергард затмил камергера в глазах не только их величеств, но и принца Вольдемара…
Настала пора любой ценой низвергнуть графа.
Шлеве посоветовал графине Понинской идти в монастырь Гейлигштейн, где обещал ей место игуменьи, и оттуда под прикрытием монашеской рясы с его помощью действовать при дворе. Он хотел прибрать к рукам графа Монте-Веро и его дочь, не подозревая, что Леона была ее матерью, но зная достаточно, чтобы причинить сердцу Эбергарда глубокие страдания. Барон горько упрекал себя за то, что в ту ночь, когда Маргарита, бежавшая из виллы принца, вдруг явилась перед ним, он не оставил ее у себя, так как мог бы извлечь из этого немалую выгоду. Но он все еще надеялся с помощью Фукса и Паучихи найти покинутую возлюбленную принца, и тогда у него в руках будет орудие, которым он не только вовлечет Эбергарда в душевную борьбу, в которой отеческая любовь графа возьмет верх, но и подставит ему западню, где он неминуемо должен будет погибнуть.
Вернемся теперь к той январской ночи, когда бедная Маргарита, объятая отчаянием, утратив разум и бросив своих детей, бежала от них и свалилась под покрытыми снегом деревьями.
Если бы обморок продлился до тех пор, когда ледяной мороз окружает человека прекрасными сновидениями, она умерла бы, как и ее дети.
Но Бог решил иначе!
Маргарита внезапно очнулась, как будто ее позвал какой-то голос; эти минуты, которые она в бесчувственном состоянии пролежала на снегу, показались ей часами; она протерла глаза и провела рукой по лбу — сознание снова вернулось к ней, а вместе с ним и вся неимоверная тяжесть ее бедствий.
— О Боже! — воскликнула она, быстро подымаясь.— Мои дети — оба — что я сделала! Мои дети замерзли, и я — их убийца! Надо скорее вернуться назад! Припомнить место, куда в порыве отчаяния я положила их. Где это было? О Матерь Божия, помоги мне — я теряю рассудок! Спаси меня! Да, там, возле кладбища — скорее, скорее беги туда, чтобы согреть их на своей груди!
Маргарита побежала сначала к тому месту дороги, где оставила одного ребенка; с лихорадочной поспешностью оглянулась она кругом — не обманывается ли? Нет, вот два дерева, ветви которых склонились почти на землю. Она нагнулась, здесь, здесь лежал ее ребенок, это видно по сухим листьям, с которых она тогда стряхнула снег, но ребенка не было.
Уж не представилось ли ей в бреду, что она бросила сначала одного ребенка, а потом, отойдя немного, другого?
Маргарита, мучимая смертельным страхом, побежала дальше, громкий крик радости вырвался из ее груди, когда она увидела, как на земле что-то шевельнулось — это был ее ребенок! Но только один — другого не было! Она взяла ребенка на руки и прижала к своему сердцу, потом снова пошла искать под каждым деревом.
Напрасно — второй ребенок исчез бесследно. Отчаяние овладело ею, только теперь материнская любовь со всею силою пробудилась в ней.
Вокруг не было ни души, стояла ночная тишина. Несчастная мать, подгоняемая новой надеждой, снова принялась искать своего ребенка, но напрасно.
Тогда внутренний голос шепнул ей: «Благодари Пресвятую Деву, грешница, за то, что ты нашла и спасла хоть это сокровище. Считай утраченное дитя карой и испытанием небесным! Преклони колени и молись! Что стало бы с тобой, если бы ты нашла детей, дарованных тебе Богом, мертвыми по твоей вине? Кайся и молись!»
Маргарита еще крепче прижала к себе крохотное существо, бережно завернула его в свой платок и, шепча молитву, покинула место, где потеряла второго ребенка.
Уже начало светать, когда она достигла предместья; словно бродячая нищая, шла она мимо низких домов, и добрые прохожие, которые видели ребенка у груди молодой женщины, подавали ей хлеб.
— Куда же ты идешь теперь по снегу в такую стужу? — с участием спрашивали они.
Маргарита пожимала плечами и подымала глаза к небу, как будто хотела сказать: «Я не знаю — спросите
Его».
Как преследуемая, как проклятая, которая не имеет приюта и нигде не находит себе покоя, бродила Маргарита со своей новорожденной дочерью на руках.
Бездомной и покинутой всеми, ей не оставалось ничего, кроме этого маленького сокровища. Бог же наложил на это нежное существо, охраняемое святой материнскою любовью, знак, как будто для того, чтобы мать, потеряв по непредвиденному несчастному случаю и это последнее свое утешение, снова могла найти и узнать его. На плечике малышки было пять красноватых родимых пятен — как раз на том самом месте, за которое камергер фон Шлеве схватил Маргариту, чтобы сбросить ее со ступеней замка.
Маргарита целовала девочку, приговаривая про себя: «Ты не будешь бездомна, как я! Здесь, здесь, ангел мой, должна быть твоя родина! Ты счастливее меня — у тебя есть мать, которая тебя любит! А у меня не было и нет ни одной души, которая бы меня любила. Именно потому, что я знаю, как это невыразимо больно, я еще горячее буду любить тебя и заботиться о тебе, чем другие матери,— ужас овладевает мной при мысли, что я могла сделаться твоей убийцей, что я, ослепленная и в минуту умопомешательства, бросила тебя и другое маленькое, дорогое мне существо! Эта тяжелая минута моей жизни никогда не изгладится из моей памяти.
Как сладко ты спишь, как ты улыбаешься, мое высшее сокровище! Мне кажется, в твоих чертах я вижу того, которому будет вечно принадлежать моя душа! Он покинул и забыл меня — он недостижим и потерян для меня, но я все равно должна его любить, любить горячо и искренне! Когда я целую тебя, мне кажется, что я целую его, когда я смотрю тебе в лицо, передо мной встает его образ, столь дорогой моему сердцу.
Но что,— и Маргарита почувствовала страх,— если твой братик лежит мертвым на дороге, тогда я его убийца! Боже мой, неужели в порыве отчаяния и страха я забыла место, куда положила его! Люди нашли маленький труп — они станут преследовать меня! Детоубийца должна будет умереть на виселице! Надо скрыться, бежать!
Не только страх перед преследователями, но и ужасные угрызения совести мучили бедную Маргариту. Когда наступал вечер, когда ночная тишина ложилась на дорогу леса, она снова и снова возвращалась к кладбищу Святой Марии, искала своего ребенка. Но все напрасно…
Бережно укутав свою девочку, бежала она однажды по лесу в морозную февральскую ночь с того места, где сделалась детоубийцей; мертвая тишина царила кругом, только слышно было, как хрустит снег под ногами; черные стволы деревьев часто представлялись ей издали страшными привидениями, но Маргарита не боялась их и, погруженная в свои мысли, спешила дальше. Там, куда проникали первые весенние лучи солнца, уже из-под снега проступил мох. В отдаленной части парка, где находились небольшие озера с островками, было безлюдно, а изящные железные и березовые мостики обледенели.
Маргарита добежала до мостика через широкий ручей и миновала его. Здесь было несколько дорог. Одна из них вела через широкий мост со львами на высоких пьедесталах. Эти чугунные фигуры в темноте имели пугающий вид. Но Маргарита выбрала узкую дорожку через кустарник и вскоре увидела очертания хижины.
Приблизившись к ней, Маргарита решила искать здесь убежища на ночь.
В хижине было тихо. Да и кого можно найти здесь, в такой глуши. Маргарита подошла к низкой двери, на которой не было ни замка, ни задвижки, и тихо отворила ее. Ее обдало затхлым, смрадным воздухом. В комнате, куда она ступила, было темно. Но вдруг ей показалось, что она слышит глубокое, мерное дыхание.
Без сомнения, в этой жалкой хижине было какое-то живое существо.
Маргарита вскрикнула от неожиданности.
В углу кто-то лежал, во тьме нельзя было узнать, человек ли это или животное.
Маргарита отступила к двери.
— Кто там? — послышался грубый голос,— Отвечай! Кто ты?
— Сжальтесь надо мной, у меня нет приюта.
— Значит, тебя постигла такая же участь, как и меня, дитя,— заключила женщина.— Здесь хватит места нам обеим. Где спит графиня Понинская, там тебе тоже должно понравиться.
По-видимому, старая женщина, которая лежала в углу хижины, встала, между тем как Маргарита после ее странных слов стала тревожно озираться, думая, что перед ней сумасшедшая.
— Затвори дверь, дитя,— женщина подошла ближе и заглянула в лицо Маргариты.— Иначе будет холодно. Что это у тебя?
Маргарита, боясь, как бы незнакомая, неприветливая старуха не отняла у нее то, что было ей дороже всего на свете, еще крепче прижала к себе ребенка, до которого старуха дотронулась рукой.
— Ого, да это, верно, наемное дитя, а может, твое собственное? Такая же молодая, как и я была тогда. Да, все уже давно минуло! — пробормотала старуха.
Она была крепкого телосложения. На вид ей было за пятьдесят. Ее редкие жесткие волосы с проседью прикрывала старая разорванная вуаль, завязанная под подбородком. На лице этой бесприютной старухи не было следов прежней красоты, оно было грубым, с темной, почти медного цвета кожей, глаза утратили прежний блеск. Рваный шерстяной платок покрывал ее плечи. Из-под короткого изношенного платья виднелись обутые в худые башмаки ноги.
— Да, вот что с нами делается на старости лет,— продолжала старуха своим грубым голосом.— Но ты бы могла найти жилье и получше, чем эта убогая лачужка: ты молодая и красивая. Так рано не надо знакомиться с нуждой. Да не бойся ты за своего ребенка, я ему ничего не сделаю!
Маргарита присела на старую скамью, которая стояла возле стены; она не произнесла ни единого слова, а только пристально смотрела на загадочную старуху, которая все еще казалась ей сумасшедшей.
— Дурочка, ни к чему таскаться с такой обузой. Ведь у тебя самой нет ни угла, ни пищи. Ты любишь его и не хочешь расстаться? Так послушай меня: отнеси его лучше в дом какого-нибудь богача и положи перед дорогой резной дверью. Или, может, ты думаешь, что он вознаградит тебя когда-нибудь за нужду и бедствия, которые ты теперь переносишь? Ха-ха-ха! — Старуха хрипло засмеялась и опять забралась в свой угол.— Знаешь ли ты графиню Понинскую, которая живет в городе? — спросила она снова.— Видела ты ее, слышала о ней?
Маргарита отрицательно покачала головой.
— Это моя родная дочь! Да-да, не удивляйся, я жила в богатстве и роскоши, когда была молода. Император лежал у моих ног и целовал мне руки, ха-ха-ха! Теперь же прекрасная Валеска — старая, некрасивая нищая, император умер, и от прежнего богатства не осталось и следа! Жизнь походит на сон!
Маргарите представилась ее собственная участь.
— Значит, теперь вы бедны и покинуты? — спросила она старуху.
— Да, бедна и покинута, кому же заботиться обо мне? Леона, моя дочь, еще знатная и богатая, пока сама не станет вместе со мной просить милостыню. Теперь же она стыдится меня. Но потеряна она, потеряны ее дети, если она имеет их, потеряно все, что происходит от меня, потому что моя мать прокляла меня, а отец мой из-за моего позора лишил себя жизни!
Почему в эту минуту, после произнесенных старухой ужасных слов, по телу Маргариты пробежала холодная дрожь? Ведь она не могла предчувствовать, что эта нищая, встреченная ею в бедной хижине, эта бывшая фаворитка императора, которую расточительность и жажда наслаждений низвергли в такую глубокую пропасть, эта когда-то знатная польская графиня была ее бабушкой.
В один из следующих вечеров, когда Маргарита снова застала в хижине старую нищую, последняя, исполненная злости и ожесточения против всего света, рассказала ей историю своей жизни — путь из волшебного искусственного, сада своего замка с бьющими фонтанами и редкими растениями, из залов князей и графов до настоящей нищеты.
Странная прихоть судьбы! Возлюбленная императора встретила свою внучку, чтобы рассказать ей о проклятье, преследовавшем ее и ее потомков, о проклятье, которое, как мы видим, обрушилось и на бедную Маргариту.
Маргарита мало-помалу привыкла к старухе и уже безбоязненно доверяла ей своего ребенка.
В природе уже начала пробуждаться весна, снег исчезал, деревья покрылись почками, пробивалась зеленая травка. Повеял свежий весенний ветерок, и в одну ночь распустились нежные листья деревьев, и то, чего еще недоставало, довершили теплые солнечные лучи, послышалось сладкое пение птиц и стук дятла, далеко раздававшийся по лесу. Ночью в кустах становилось оживленнее; бездомные и преследуемые законом бродяги, скрывавшиеся зимою в сараях и лачугах предместья, снова отыскивали свои летние квартиры, хотя еще было сыро и не хватало тепла.
В хижину, куда приходили на ночь графиня Понинская и бедная Маргарита, стал днем наведываться сторож парка, который заметил непрошенных жильцов, но ничего не делал, чтобы помешать им, может быть, из сострадания, а может, имея вместе с ночными обитателями парка свои соображения. Он постоянно делал вид, что ничего не замечает, но через несколько дней неизвестные жильцы должны были очистить хижину, так как сторож совсем поселился в ней на лето.
— Вот мы с тобой и бесприютны, Маргарита.
— Но я должна остаться здесь, поблизости, в другом месте я не буду иметь покоя.
— Ты каждый вечер бродишь возле кладбища, неужели все еще надеешься напасть на след своего ребенка? Радуйся, что теперь тебе надо заботиться об одном ребенке, для меня и этого было бы слишком много.
Маргарита посмотрела на бессердечную старуху.
— Спроси-ка кладбищенского сторожа,— посоветовала та,— но осторожно, иначе тебя посадят в тюрьму, спроси при случае, не был ли в один из тех дней похоронен маленький ребенок, может, что и узнаешь,— покойной ночи!
Старуха казалась усталой, потому что, забравшись в свой угол, тотчас же заснула. Маргарита сделала себе постель из листьев и мха и, положив ребенка возле себя, также прилегла. Чудный сон видела она в эту ночь. Ей снилось, будто она сидит в замке принца на мраморном кресле и, полная гордости и радости, держит в руках корону, которую преподнес ей принц, чтобы она как его супруга украсила себя ею.
— Но ведь я так бедна и покинута,— твердила она.
— Нет, ты не бедна и не покинута,— отвечал ей Вольдемар.— Ты должна быть моей супругой и носить эту корону.
Но когда Маргарита подняла взгляд на принца, когда она со счастливой улыбкой, забыв о своем горе и нужде, готова была броситься в его объятия, ее глазам вдруг представилось бледное, страшное лицо его камергера, который, крадучись, приближался к ней. Он следил за каждым ее движением и, надеясь, что она не видит его, протянул свои костлявые руки к ее короне. Она хотела вскочить, но ноги не слушались ее, она хотела позвать на помощь, но язык отказывался служить, и тут ее смертельный враг в мгновение ока вырвал у нее из рук корону!
Маргарита проснулась. Она протерла глаза, сердце ее сильно билось, лоб был покрыт холодным потом.
Что случилось с ней? У нее похитили корону — нет-нет, у нее украли ребенка. Кто был этот жестокий вор? Камергер? Нет! Это была старуха-нищая, Маргарита еще слышала ее быстро удалявшиеся шаги и в один миг вскочила, чтобы вырвать из рук жестокой старухи свою дочь, хотя бы ей это стоило жизни.
То, что во время сновидения наполняло бедную Маргариту таким страхом, было следствием того, что происходило в действительности. Едва она заснула, старая нищая тихо выползла из своего угла. В предместье остановилась странствующая труппа наездников, которая покупала у бедных матерей маленьких детей, чтобы с малолетства извлекать с их помощью доход; им-то и хотела старуха отнести ребенка Маргариты. Напрасно искала она в прошлые ночи удобного случая, и вот он представился: молодая мать, ни о чем не подозревая, крепко спала. Тихо приблизилась старуха к Маргарите и осторожно склонилась над ней, рука молодой женщины была немного откинута в сторону, так что спящего ребенка нетрудно было выхватить.
— На что тебе это дитя? Оно ведь тебе только в тягость,— прошептала старуха.— Ты проснешься, кинешься за мной, но я буду уже далеко. Безумная, на что ты расточаешь свою любовь, я освобожу тебя от обузы!
Маргарита тяжело и прерывисто дышала. Старуха осторожно подвела руки под спящую девочку и схватила ребенка. В мгновение ока воровка достигла двери, и когда Маргарита проснулась, ее и след простыл.
Маргарита бросилась к двери и выскочила из хижины. Было около полуночи. На небе ни звезды. Но со стороны парка слышались удалявшиеся шаги.
Мучимая смертельным страхом, Маргарита бросилась туда и вскоре увидела темную фигуру, которая поспешно удалялась. Нищенка, а это была она, лучше Маргариты знала здешние дорожки и кусты; а заметив преследовавшую ее мать ребенка, кинулась бежать. Бедная Маргарита, глаза которой были устремлены только на убегавшую, оступилась и упала. Поднявшись, бедная женщина закричала, но только эхо, как бы в насмешку, отвечало на душераздирающие крики несчастной матери. В глазах у нее помутилось, силы изменили ей, и она упала без чувств.
XXIV. ЗАГОВОР
В тот самый вечер, когда нищенка, известная в городе как нищая графиня, украла ребенка ^ Маргариты, Черная Эсфирь сидела в своей комнате. Комната находилась в первом этаже, она была низкой и небольшой, но уютной. Тяжелые портьеры на окнах скрывали ее от любопытных взоров. Посреди комнаты с потолка свешивалась розового стекла лампа, которая распространяла приятный свет. Несколько старинных стульев, обтянутых выгоравшим желтым штофом, приобретенных явно по случаю за бесценок, стояли на ковре, устилавшем пол. У одной стены под зеркалом в золотой раме на мраморном столе красовались флаконы с душистыми маслами и эссенциями; у другой — стояла высокая кровать с балдахином, ее белые прозрачные занавеси были задернуты. На резном столе лежали искусственные цветы, письма и золотые украшения.
Черная Эсфирь лежала на кушетке, стоявшей подле этого стола; ее прекрасные темные волосы разметались по белоснежным плечам; розовый свет лампы озарял тонкие черты ее прелестного лица.
Вдруг Черная Эсфирь услышала в коридоре шаги. Она вскочила с кушетки, поправила свое красное шелковое платье и взглянула на золотые часы. Было уже больше десяти, значит, это Шаллес Гирш, заперев свою лавку, поднимается в ее комнату. Но нет, похоже, в коридоре не один человек.
Дверь тихо отворилась, и в ней показалась голова еврея, с виду ему было лет пятьдесят. Его огромная лысина в обрамлении седых волос подчеркивала густоту черных бровей и размеры большого горбатого носа.
Увидев свою прекрасную дочь, еврей гордо улыбнулся.
— Клянусь головой,— как обычно, очень тихо проговорил Шаллес Гирш,— головой, деньгами и прекрасной Эсфирью, моей гордостью, что я потеряю последние волосы от этого Фукса с его планами.
— Этот старый грешник только так говорит,— засмеялся Фукс, входя вместе с Рыжим Эде в комнату Эсфири и затворяя за собой дверь.
— Ты же наперед видишь, чем кончится всякое предприятие, как же тебе и теперь не знать исхода нашего дела? Господин граф Эдуард Монте-Веро,— с иронической улыбкой представил Фукс Черной Эсфири своего слишком хорошо знакомого ей провожатого, который явился сегодня на редкость нарядным.
Эсфирь громко засмеялась.
— Мне Кажется, я уже слышала это имя,— сказала она.
— Без сомнения, мой милый друг, ты могла его слышать: граф Эбергард Монте-Веро с недавнего времени живет в городе. У него огромные владения в Южной Америке. А вот его единственный сын. Граф Эбергард приехал сюда для того, чтобы найти своего единственного ребенка, которого какими-то судьбами потерял,— вот он наконец найден.
— Душа моя, он затевает рискованное дело! Позволь тебе все рассказать! — усаживаясь, сказал Шаллес Гирш.— Этот Фукс — смельчак, ему нечего терять, кроме головы, да и та уже давно потеряна. Они не могли добраться до графа здесь, теперь хотят взяться за него за морем. Это риск, говорю я, риск, какого еще никогда не бывало, и они хотят взять тебя с собой. Без тебя я, разумеется, не дам огромных денег, которые на то нужны! Но ты умна и осторожна.
— Я еще не поняла, в чем же ваш план, да и к тому же я хочу отправиться в Эмс.
— С господином Веловым, чтобы выкупить попугая и обезьяну, которых тот заложил у Леви? — усмехнулся Фукс.
— Неужели ты в самом деле дочь Шаллеса Гирша и племянница Икеса Соломона, которые никогда не занимаются мелочами? Что тебе надо в Эмсе, Черная Эсфирь, или ты опять хочешь выманить у какого-нибудь старика несколько тысяч талеров? Мы дадим тебе миллионы!
— Ты опять расщедрился на нули, Фукс! — рассмеялась прекрасная еврейка.
— Черт меня возьми, если мы не привезем с собой миллионы. Мы затеваем гениальную штуку, она и в твоем и в нашем вкусе. Приготовления уже сделаны, и мы имеем высокого покровителя! Послушай: сперва я намеревался найти дочь графа Монте-Веро, которую тот действительно ищет. Я подумал при этом о тебе, Черная Эсфирь, но здесь было много препятствий. Куда лучше, если мы отправимся с сыном графа,— тут Фукс указан на своего провожатого,— сперва в Лондон, а потом, при помощи твоих двоюродных братьев, в Бразилию.
— Я должен дать на это деньга! — прервал Гирш.
— Не бойся, старый скряга, те, кто дал нам поручение, снабдят нас и деньгами! Понял?
Еврей кивнул головой.
Прекрасная еврейка, которую заинтересовало рискованное предприятие, предлагаемое Фуксом, прочла вполголоса:
«Я жду вас сегодня между одиннадцатью и двенадцатью часами в парке близ кладбища, чтобы вручить вам бумаги, которые нужны для исполнения вашего плана. Не говорите никому об этом письме и приходите одни, вы найдете на означенном месте монахиню».
— Какие бумаги должен ты получить?
— Свидетельство о смерти графа Монте-Веро, утверждение преемником его сына Эдуарда и паспорта для тебя и меня. Ты — моя дочь и невеста графа Эдуарда Монте-Веро, я же буду адвокатом Ренаром.
— Отчаянный план! — пробормотала Черная Эсфирь.
— Здесь нам ничего не сделать, Шаллес,— сказал Фукс, обращаясь к старому еврею, который с блестящими глазами следил за своей дочерью.— Здесь слишком силен надзор и с каждым годом делается все больше всяких устройств, которые мешают нашему ремеслу; только там, за океаном, счастье еще может улыбнуться нам. За нами тут следят и рано или поздно всех поймают, в том числе и тебя, Шаллес Гирш!
Отец Черной Эсфири вскочил.
— Какие дела у меня с вами, что ты осмеливаешься так говорить? За мое доброе сердце, за то, что я даю тебе приют в своем доме, ты хочешь довести меня до виселицы! Негодяй!
— Не горячись, Шаллес,— Фукс дружески потрепал по плечу взволнованного еврея.— Ворон ворону глаз не выклюет, я тебя не предам!
— Ворон? — крикнул взбешенный еврей.— Вы считаете меня своим сообщником? Неблагодарные твари, мошенники!
— Откуда же получаешь ты доходы, чем нажил ты свои богатства, благодарный, великодушный человек? — проговорил Фукс, улыбаясь.
— Черт тебя возьми…
— Этого он не сделает, дорогой Гирш,— прервал Шаллеса Фукс,— во всяком случае теперь это было бы нехорошо с его стороны, так как мы готовимся составить свое счастье! Если вы не хотите помочь нам деньгами и рекомендательными письмами к Соломонам в Лондоне, если вы теперь, когда затевается нечто великое, хотите отказаться от нас, хорошо! Дело пойдет и без вас!
— Что вы тратите попусту время.— сказала, подходя к отцу и Фуксу, прекрасная Эсфирь.— Я разделяю ваш план с условием…
— Требуй, Черная Эсфирь,— Фукс протянул ей руку для скрепления сделки.
— Чтобы вы подчинялись мне! Ты должен охотно исполнять желания своей дочери, а вы — приказания своей невесты. Достаньте бумаги, я сама повезу их.
— Ого, вижу кровь Икеса Соломона! — довольно воскликнул Фукс.— Позволь мне обнять тебя, дорогая дочь. Там, за океаном, мы будем рыться в золоте и бриллиантах. О, как блестят его глаза! Да, еврей, ты тоже получишь свою долю, чтобы мог потом сказать: Черная Эсфирь и Фукс — гении!
— Ты должен поспешить, монахиня ждет тебя от одиннадцати до двенадцати! — напомнила Эсфирь.
— Будь осторожен, Фукс. Возьми вот этот плащ,— прибавил Гирш.— Когда ты вернешься, я угощу тебя хорошим вином.
— Посмотрите, как любезен стал вдруг Шаллес с негодяем!
— Говори тише и будь осторожен! Надень плащ — вот так. Я выпущу тебя. Не ходи через дворцовую площадь!
— Я пойду нарочно по самым многолюдным улицам. Ты состарился, Шаллес Гирш. Где твоя былая смелость? Ну, зато у тебя есть дочь, которая тебя заменяет! Прощайте, граф Эдуард, до свидания, моя прекрасная дочь! — с этими словами Фукс быстро поцеловал грудь Черной Эсфири. Сегодня он осмелился прикоснуться губами к ее нежному телу, чего удостаивались только старики на водах, тысячи платившие за это.
Шаллес Гирш тихо отворил дверь комнаты и выпроводил Фукса, между тем как сам крадучись последовал за ним; они спустились с лестницы в темные сени и достигли старой и грязной выходной двери; Гирш осторожно повернул ключ в замке.
Дверь тихо отворилась, и Шаллес Гирш тут же отпрянул назад.
— Стой,— успел он шепнуть следовавшему за ним преступнику.
Подле дома стояли полицейский и ночной сторож. Они разговаривали о чем-то вполголоса; услышав, как отворилась дверь, оба обернулись. На монастырской башне поблизости уже пробило одиннадцать.
— Что это он? — удивился сторож, заметив, как еврей, осторожно отворив дверь, в испуге попятился назад.
— Боже милосердный, как я испугался! — поспешил изобразить страх Гирш.
— Чего же? — поинтересовался сторож.
— Мне показалось, что воры ломают двери моей лавки!— Старик взглянул на крепко запертую низкую дверь, весьма естественно прикидываясь встревоженным.
— Вот тебе на! — обратился сторож к полицейскому.— Богатому Шаллесу Гиршу и ночью нет покоя, бродит, как привидение, по дому и трясется — все боится, что украдут его сокровища.
— Да, в самом деле. Вот каково жить человеку, который скопил себе несколько талеров. Проклятые мошенники умеют разнюхать, где живет старый слабый старик, который на пару талеров богаче их. Ну, успокойтесь. Видите, все в порядке.
— Господи, уж я так обрадовался, когда увидел вас!
— Я всегда настороже, можете спать спокойно, а теперь буду еще бдительней,— сказал полицейский.— Вот говорят, что деньги делают счастливым, а старик этот в постоянном страхе.
Обещание стеречь его дом пришлось не по вкусу Шаллесу Гиршу.
— Уж не трудитесь особенно, я все равно не буду спокойно спать, это уже стало у меня привычкой,— сказал Гирш.
— Ну, пусть этот скряга стережет свое добро до страшного суда! — полицейский повернулся, чтобы уйти.
— Покойной ночи, господин Гирш,— не без иронии попрощался сторож и медленно удалился вместе с полицейским.
Старик ответил на поклон и сделал вид, что снова хочет затворить дверь.'
— Я не выпущу тебя отсюда! — сказал он Фуксу.— Сторож теперь глаз не спустит с моего дома! Вы что, хотите сделать из него разбойничий притон?
— Шаллес Гирш, старый жид, ты думаешь, я не понимаю, чего ты хочешь,— отозвался Фукс шепотом и так сильно хлопнул Гирша по плечу, что тот испугался.— Ты хочешь, чтобы я давал тебе больше! Старый мошенник, разве я не отдал тебе тысячу талеров из почтовых денег?
— Да, купонами и акциями, с которыми я мог сломать себе шею.
— А ты рассчитался со мной за часы и кольца, которые составляют целый капитал? Уже прошло три года, а ты как дал мне двести талеров, так и все.
— Я еще ничего не получил за них, они лежат и ржавеют!
— Ты послал их в Лондон, и да не сойти мне с этого места, если ты не получил за них тысячу фунтов! Молчи, старый злодей! Отвори дверь!
Шагов сторожа и полицейского уже не было слышно.
— Это мне будет стоить жизни! — простонал Шаллес Гирш.
Фукс тихо отворил дверь и выглянул на улицу — она была пустынна. Он вышел из дому и стал, крадучись, пробираться по переулку, между тем как Гирш запер дверь и вернулся к Черной Эсфири, которая осталась в своей комнате с Рыжим Эде.
Все трое стали обсуждать только что составленный грандиозный план, и Шаллес Гирш склонился наконец в его пользу, вспомнив своего родственника Соломона, которому однажды посчастливилось в подобном же рискованном деле и который постоянно утверждал, что такие значительные предприятия наименее опасны.
Фукс вскоре достиг дворцовой площади, где еще царило оживление, и, запахнув плотнее плащ, который надел на него заботливый Гирш, без страха направился к королевским воротам. Следовало торопиться, так как было уже около полуночи. Скорым шагом он приблизился наконец к парку и свернул в боковую аллею, что вела к кладбищу.
Вдруг он остановился и стал прислушиваться — в отдалении послышался крик.
Фукс не мог терять ни минуты, иначе он кинулся бы на крик, но он успел заметить, как между кустами бежали одна за другой две человеческие фигуры.
Мы знаем, кто это были.
Когда Фукс приблизился к кладбищенской ограде, за которой в густом мраке шелестели старые, только что распустившиеся деревья, он невольно подумал, что его завлекают в западню.
«Эта личность непременно видит здесь какую-то выгоду для себя,— подумал он, вспомнив письмо и данные ему еще раньше обещания.— Кроме того, она, без сомнения, имеет связи, иначе не получила бы нужных бумаг. Но это не мое дело — вот она прогуливается в тени деревьев!»
Монахиня, тоже закутанная в длинный плащ, обернулась и прислушалась: уже близилась полночь, и приглашенный на свидание заставлял себя ждать.
Вдруг монахиня заметила у ограды человека.
— Кто вы? — спросила она тихо.
— Тот, кого вы ожидаете, благочестивая сестра.
— Письмо, которое вы писали.
— Просили написать, должны вы сказать: монахиня не смеет писать письма к мирским мужчинам. Поэтому я и выбрала этот ночной час для нашей встречи. Смотрите, чтобы никто не узнал о ней.
— Будьте покойны, благочестивая сестра. Если я услышу и получу от вас сегодня все, что нужно, то уже завтра буду в дороге…
— В Монте-Веро? — прервала монахиня нетерпеливо.
— Сперва в Лондон, а потом, как можно скорее, в то отдаленное государство, где находится названное вами владение.
— Монте-Веро находится в трех или четырех днях путешествия от Рио-де-Жанейро, там вы все узнаете. Вот бумаги, которые вам нужны. Это свидетельство, что граф Эбергард Монте-Веро умер, а это паспорта для вас и ваших провожатых! Чего стоило мне приобретение этих бумаг! — заключила монахиня.
— Благодарю вас, благочестивая сестра! Мне бы очень хотелось знать, кому я обязан ими?
— Вы этого никогда не узнаете и не старайтесь узнать: если вы откроете эту тайну, я должна буду отказать вам в помощи.
Фукс, любопытство которого еще больше возбудили эти слова, посмотрел сначала на бумаги, где имелись все нужные подписи и печати, а потом на монахиню. Лицо ее скрывала густая вуаль, капюшон был спущен на лоб, так что Фукс напрасно старался узнать стоявшую перед ним женщину.
— И эти бумаги все верны? — спросил он не без сомнения.
— Они подлинные, как и паспорта всех тех лиц, что последуют с вами,— отвечала монахиня.— И еще вы можете быть уверены, что ни одно письмо не уйдет отсюда во владения графа Монте-Веро!
— Вы весьма могущественны, благочестивая сестра, и необыкновенно догадливы!
— Корреспонденция в Южную Америку и оттуда проходит через руки чиновника одного из наших портовых городов, я не назову этого человека по имени, но он подкуплен! Поэтому вам нечего бояться писем. Если же граф Монте-Веро сам наконец решится отправиться в Бразилию…
— Тогда он потерян, благочестивая сестра!
— Клянетесь ли вы мне в этом?
— Именем Пресвятой Девы! Как только он ступит на землю, где мы скоро поселимся, его ждет верная смерть.
— Если вам это удастся, то добыча ваша будет громадна,— отвечала монахиня,— но если кинжал, который вы будете держать наготове для графа, не попадет в цель, вы умрете на виселице, вы и ваши провожатые! Не забудьте этого!
— Это довольно трудное предприятие, благочестивая сестра: виселица — самый отталкивающий инструмент, который я знаю! Вы хорошо сделали, что напомнили мне о ней.
— Еще одно! Имеете ли вы деньги?
— Я получил несколько дней назад, видно, по вашей милости, маленькую сумму…
— Которая, вероятно, уже истрачена? Я понимаю.
— О, вы слишком добры, благочестивая сестра.
— Возьмите эти билеты, они покроют ваши издержки по переезду. Как видите, я питаю полное доверие к вам.
Фукс низко поклонился.
— Ваше доверие оправдывается: можете считать, что граф Монте-Веро уже среди мертвых!
— Желаю господину Ренару счастливого пути, Мне хотелось бы, чтобы он вернулся в столицу не по аллее парка, а по этой дороге, которую я могу отсюда видеть.
Фукс едва заметно улыбнулся, он понял желание монахини.
— Да сохранят вас святые, благочестивая сестра! — сказал он, кланяясь и взяв поданную монахиней руку.
Фукс прижал нежную руку своей покровительницы к губам, надеясь найти на пальцах кольцо с вензелем или гербом, но он ошибся: руки монахини были затянуты в тонкие лайковые перчатки. Она подошла к ограде кладбища. Фукс плотнее закутался в плащ и пошел по освещенной луной дороге.
— Ты убьешь его,— пробормотала монахиня, и глаза ее сверкнули мрачным огнем,— а потом палач рассчитается с тобой, безумец! Мне принадлежат несметные богатства, мне! Они доставят мне новые наслаждения, с их помощью я сделаю людей рабами их грехов!
XXV. ЧЕРНЫЙ ПАЛАЧ ГОРОДА РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
С маленькой башни на ратуше Рио-де-Жанейро, столицы Бразилии, раздавался заунывный колокольный звон.
Ратуша находилась вблизи залива. Залив этот и гавань города принадлежат к прекраснейшим уголкам земного шара; путешественника, приближающегося на корабле к громадным скалам, отделяющим залив от моря, поражает панорама, что предстает перед глазами. Белая крепость Санта-Крус лежит подле этих скал, которые, кажется, созданы самой природой для того, чтобы составлять неприступные укрепления города. Затем путешественник должен миновать маленький укрепленный рвами остров, где корабли проходят освидетельствование врачей и таможенников, и наконец взорам его представится обширная столица громадного государства.
Ступив на больверк возле доков, путешественник увидит, что этот город, в обрамлении покрытых пальмами холмов, не может гордиться своей архитектурой. Одноэтажные дома здесь тянутся вдоль худо вымощенных узких улиц. В то время, к которому относится наше повествование, на морском берегу еще не было каменных строений; повсюду была непролазная грязь, мусор, и дохлые собаки валялись прямо на мостовой.
Немного подальше от набережной улицы были шире и дома получше, с богатыми витринами магазинов. В пригороде можно было увидеть роскошные виллы, окруженные садами, где росли виноград, финиковые пальмы, апельсины.
На улицах, которые в определенное время дня бывают весьма оживленными, можно встретить людей самых разных национальностей и цвета кожи. Почти все верхом, не исключая и дам, которые любят кататься после полудня; соломенные шляпы с широкими полями защищают их лица от палящих лучей солнца. Пешком ходят только негры-невольники и полуиндейцы, ищущие себе пропитание в городах.
Было около трех часов пополудни, когда в квартале, прилегающем к набережной, послышался колокольный звон. В прочих частях города в этот час из-за сильной жары царила мертвая тишина. На колокольный звон, бросив работу, стекались негры и матросы, а также мужчины и женщины, дети всех возрастов.
— Что означает этот звон? — остановил темнокожего белый в немецком платье.
— Что это означает? — переспросил тот по-португальски.— Усмирение Марцеллино.
— Марцеллино? — удивился немец.
— Раз вы ничего не слышали о нем, значит только что приехали,— заключил бразилец, повернув вместе с немцем на улицу Иеронима, в конце которой находилась ратуша.— Негр Марцеллино, как дикий зверь, перекусил своему господину горло.
— Пресвятая Дева! — воскликнул немец,— Возможно ли это?
— Господин велел побить своего невольника Марцеллино кнутом. Как только зажили его раны и он почувствовал в себе прежнюю силу, негр накинулся на своего господина и перегрыз ему горло. У Марцеллино исполинская сила! Убитого нашли с разорванной шеей, а Марцеллино скрылся, по ищейки вскоре напали на его след, и вот через час он будет уже в руках палача.
Бразилец в костюме корабельщика и немец достигли ратуши, перед которой толпился народ. Любопытных, желавших видеть смерть Марцеллино, все прибавлялось.
Ворота ратуши были еще заперты. Это был одноэтажный дом, где располагались стража, судьи, таможенные чиновники, администрация гавани. Позади ратуши находился двор, где происходили казни, а за ним — здание тюрьмы. Сзади к тюремной стене примыкало обширное кладбище Сан-Бенито.
Колокольный звон умолк, и толпа устремилась вперед; в давке слышались крики женщин, плач детей, возгласы мужчин. Наконец толпа миновала узкое место и заполнила широкий двор.
В эту минуту коренастый бразилец, в легких светлых брюках и коротком пестром сюртуке, с соломенной шляпой на голове, положил руку на плечо корабельщика, который вместе с немцем направился к лобному месту.
— А! Доброго здоровья тебе! Это погонщик мулов из Монте-Веро! — обратился корабельщик к немцу и подал руку бразильцу.— Пойдемте с нами, а потом мы заглянем в «Трактир Святого Иеронима» выпить вина.
— Монте-Веро? — обрадовался немец.— Превосходно, значит, я могу от вас…
Слова эти были прерваны громкими криками. В обширном дворе отряд солдат окружал выстроенную в глубине виселицу. Эта мера предосторожности была крайне необходима, так как порой горожане вмешивались в дело казни.
Виселица состояла не из трех балок, как обычно, а из двух, соединенных поперечной, в которой имелся крюк; с одной стороны к ней примыкала черная лестница.
Крики толпы: «Диас, Диас!» — относились к палачу города Рио, который в сопровождении двух подручных вышел из низкой двери тюрьмы.
Человек, которого громко приветствовала толпа, был негром исполинского телосложения; он снял свой головной убор, как бы кланяясь народу, и бросил его в сторону. Тело его было обнажено, только широкая красная фая была повязана вокруг пояса. Его черная грудь была широка и высока, руки, как обычно у негров, необыкновенно длинны, а ноги прекрасно сложены и обнаруживали недюжинную физическую силу, хотя были узки и изящно округлены в суставах.
Оба его подручных были тоже неграми, но меньшего роста. Один из них волочил за собой веревку и возле виселицы передал ее Диасу, который сделал из нее петлю; видно было, что эта часть веревки сильно потерта — сколько людей испустило на ней последнее дыхание! Сколько жертв предала этой петле рука черного палача!
Читатель, быть может, удивится, что должность городского палача, который является служителем закона, исполнял негр, недавний невольник, едва ли считавшийся в то время человеком. Так как с Диасом в нашем повествовании мы еще встретимся, то объясним, как это произошло, чтобы читатель живее заинтересовался личностью этого черного палача.
Вскоре после вступления на престол императора Бразилии Педру II на его жизнь было совершено покушение. Это произошло на улице. Кинжал, направленный рукой убийцы по имени Вернейро, уже блеснул в воздухе, когда молодой испанец дон Мариано Веи, обычно сопровождавший императора, заслонил его, так что кинжал злодея, вместо того чтобы попасть в грудь императора, попал в сердце молодого испанца. Император отпрянул, Вернейро тут же был схвачен полицейскими. Скрежеща зубами, пытался он защищаться, с презрением отказывался назвать имена соучастников, без сомнения, принадлежавших к высшему сословию; как пойманный лев, с мрачно блестевшими глазами лежал он на соломенных рогожах своей кельи в тюрьме, перед которой стоял часовой.
Вернейро был приговорен к смерти через повешение, и предшественнику этого черного палача, Ярако, было назначено привести приговор в исполнение.
Конечно, враги императора поспешили воспользоваться этой минутой, чтобы освободить своего соучастника. Не замеченные ни судьями, ни солдатами, расчистили они себе дорогу через толпу до самого берега. И в ту минуту, когда Ярако, ни о чем не подозревая, принялся за исполнение своих обязанностей, осужденный вонзил ему в грудь острый железный прут, который достал где-то в тюрьме и заточил о камни.
Ярако замертво упал на землю. Преступник кинулся бежать. Но тут на него бросился из толпы негр. Это был Диас. Он снова потащил дерзкого преступника под виселицу и железной рукой исполнил долг Ярако.
Дон Педру II даровал негру Диасу свободу и гражданские права и назначил городским палачом.
Вот почему Диас был весьма популярной личностью. Каждый ребенок знал его, но не боялся. Диас был добрым и даже благодетельным человеком и только при исполнении своих обязанностей обнаруживал железное сердце.
Когда Диас сделал петлю из веревки, снова раздался тихий колокольный звон. Наступила мертвая тишина.
Отворилась высокая дверь тюрьмы, и судья в черной мантии, держа в правой руке свиток, вышел на окруженное солдатами место. За ним следовали двое судейских чиновников и босоногие, сгорбленные монахи монастыря Сан-Бенито.
Через несколько минут в дверях показались два тюремщика, а за ними — негр. Его руки и ноги были закованы в цепи, которые звенели при малейшем движении преступника.
Вслед за этим коренастым негром, лицо которого не обнаруживало ни раскаяния, ни страха перед тем, чему он шел навстречу, следовали два подручных палача, а позади них — двадцать монахов.
Шествие замыкал духовник, который тщетно пытался склонить преступника к молитве и раскаянию и еще надеялся доставить негру утешение, прежде чем наступит его последний миг.
Скрестив на груди руки, Диас стоял у виселицы в ожидании своей жертвы. Судья встал напротив него, а монахи образовали полукруг.
Марцеллино вместе со всеми провожатыми подошел к месту, где петля должна была быть накинута ему на шею. Он был меньше Диаса, но его коренастая фигура говорила о силе и ловкости.
Судья прочел приговор, составленный на португальском языке. Император осуждал Марцеллино на смерть через повешение.
— Палач,— заключил судья,— приступайте к исполнению своих обязанностей, теперь преступник в ваших руках.
Диас взял свиток, прочел подпись императора и передал его затем одному из своих подручных, между тем как остальные начали снимать цепи с осужденного.
Грудь Марцеллино высоко вздымалась, глаза мрачно блестели, губы побледнели от волнения, но он не дрожал; с презрением оттолкнул он духовника и монахов, которые приблизились к нему, и указал на Диаса, будто хотел что-то сказать.
— Так сойди же в ад, грешник! Молитесь за его бедную душу! — проговорил служитель церкви, между тем как монахи упали на колени.
Подручные палача хотели схватить Марцеллино, чтобы держать его, пока Диас проденет его голову в петлю, но тот с такой силой и решительностью отталкивал их от себя, что им удалось только связать преступнику за спиной руки.
Впечатляющей была сцена, когда негр Диас подошел к негру Марцеллино; оба они низким обманом увезены со своей далекой родины и проданы торговцу невольниками, который привез их в Америку, чтобы они сделались там рабами своих же собратьев, белых. Диас и сегодня все еще был бы таким же презренным, безответным существом, если бы случай не возвысил его; оба негра, быть может, происходили из одного рода, от одного отца, и теперь один должен был сделаться палачом другого. Возможно, именно эта мысль блеснула в голове Марцеллино, когда к нему подошел Диас, Но палач должен был исполнить свой долг, и это был не первый его собрат, который, принял от его руки заслуженную смерть. Ни один мускул не дрогнул на. его лице, он ловко и быстро накинул петлю на шею своей жертвы. Марцеллино содрогнулся, ноги его подкосились, он хотел схватить петлю руками, но они были связаны.
Глаза Марцеллино, налитые кровью, искали спасения. Ноздри его раздувались, черная грудь высоко поднималась. Рядом стояли четверо подручных палача, готовых броситься на него, вокруг отряд солдат с поднятыми пиками и необозримая толпа народа, что делало всякое бегство невозможным.
Диас, держа в правой руке веревку, с ловкостью кошки взобрался по лестнице и, достигнув верха виселицы, прошел по поперечной балке до крюка, здесь он, встав на колени, продел веревку сквозь железное кольцо.
Марцеллино, на шее которого петля сделалась свободнее, равнодушно смотрел на все эти приготовления; толпа с немым напряжением следила за ним.
Затем Диас спустил конец веревки, подручные подхватили его.
— Не хочешь ли ты что-нибудь сказать, Марцеллино? — спросил судья.
Негр отрицательно покачал головой.
— Молись! — проникновенно произнес духовник.
Марцеллино только язвительно улыбнулся.
Диас, стоявший на поперечной балке, крикнул подручным:
— К делу!
Те потянули за веревку, и Марцеллино повис в петле под перекладиной.
Женщины руками закрыли глаза, не в силах видеть судорожные подергивания и попытки негра высвободить свои руки.
Так прошло несколько мгновений.
Затем палач, чтобы облегчить и ускорить смерть своей жертвы, обвязал веревку, которую выпустили слуги, вокруг поперечной балки и вскочил на плечи Марцеллино, чтобы петля крепче стянулась вокруг его шеи.
Много раз проделывал это Диас, и ему всегда удавалось сократить мучения своей жертвы, но на этот раз, едва Диас коснулся плеч Марцеллино, как послышался треск. Веревка разорвалась, и черный палач вместе со своей жертвой упал на землю.
Тысячи голосов сотрясли воздух. В толпе кричали:
— Он должен казнить его!
— Неслыханное дело! Отпустить его!
— Веревка порвалась — это знамение!
Смятение овладело не только толпой, но и чиновниками, что стояли вокруг виселицы. Монахи в испуге разбежались, подручные палача замерли в ожидании, судья растерянно смотрел на чиновников.
Как только Марцеллино почувствовал под собой землю, он моментально вскочил на ноги; петля вокруг его шеи разорвалась, и он жадно вдыхал воздух.
Убедившись, что Диас еще не встал, отброшенный в сторону, он воспользовался общим смятением, и одним прыжком очутился возле солдат, и прежде чем те успели еда схватить, протиснулся сквозь их шеренгу и толпу, которая в страхе расступилась перед ним.
Увидев это, Диас быстро вскочил и бросился за своей жертвой. Он успел схватить преступника и с помощью подручных потащил его назад к виселице.
Толпа роптала, но палач снова принялся за дело. Не дожидаясь приказания судьи, он схватил веревку и, убедившись в ее прочности, опять набросил ее на шею Марцеллино. Начались те же жестокие приготовления.
Взобравшись на поперечную балку, Диас сбросил подручным роковой конец веревки, и Марцеллино вторично повис в воздухе. Еще страшнее были судороги несчастного негра повисшего над землей.
Голова повешенного приблизилась к крюку, и Диас схватил веревку, чтобы привязать ее к балке; в эту самую минуту Марцеллино, которому страх смерти придал нечеловеческую силу, разорвал веревку, связывающую его руки.
Крик изумления пролетел над толпой.
Диас увидел, что негр судорожно ищет руками веревку, на которой висит, чтобы подняться выше и ослабить петлю. Быстро спрыгнул он к нему на плечи, чтобы пресечь его последнюю попытку к освобождению.
Но, очевидно, судьба решила, что Марцеллино не умрет от руки палача. В отчаянном усилии он наконец дотянулся руками до веревки и с дикой яростью, напрягая все свои силы, поднял себя и палача на несколько дюймов.
Громкие рукоплескания раздались в народе.
Диас хотел разжать руки негра, но раздались неистовые крики толпы, и бесчисленное множество рук простерлось к осужденному. Диас понял, что народ забросает его камнями, если он не отстанет от своей жертвы.
Марцеллино тем временем поднялся настолько, что ухватился одной рукой за крюк, и Диас перепрыгнул с его плеча на поперечную балку.
Спасенный негр висел, держась своей железной рукой за крюк.
— Марцеллино не принадлежит больше Бон-Диасу! — кричала толпа.— Это второй раз!
— Долой палача! Лестницу для Марцеллино!
Послышалось приказание судьи подставить лестницу. Подручные Диаса схватили ее и подставили Марцеллино.
Во дворец императора тут же были посланы вестовые, чтобы дон Педру помог разобраться в происшедшем и прислал приказания. Существовало поверье, что бедный грешник, который дважды ускользнул из рук палача, имеет право на прощение, но сегодняшний был особым.
В толпе шли споры. Одни утверждали, что Бон-Диас сделал это возможным из сострадания к своему единоплеменнику, другие же уверяли, что и веревка, на которой должен был быть повешен преступник, и веревка, что связывала его руки, были прочными и такими же, какие употреблялись постоянно.
Наконец в толпе распространилось известие, что император отправился во всем известное владение Монте-Веро, но министр юстиции приказал приостановить казнь.
Народ рассеялся только тогда, когда убедился, что Марцеллино снова отправился в тюрьму.
XXVI. ТРАКТИР СВЯТОГО ИЕРОНИМА
Вечером вышеописанного дня в низеньких домах вблизи набережной, на которых красовались вывески «Трактир» на португальском, испанском, английском и даже немецком языках, было особенно многолюдно. После столь волнующих событий дня каждому хотелось поговорить или послушать о них за стаканом вина или рома.
Недалеко от ратуши находился большой «Трактир Святого Иеронима», из окон которого виднелся залив и белевшие на воде корабли. Над его входом висела старая, полустертая непогодой картина, на которой был изображен монах; говорили, что в былое время на этом месте была хижина, монах Иероним устроил в ней приют для больных моряков и кроме того мелочной торг вином. После его смерти на этом месте построили трактир, который, переходя из рук в руки, сделался самым большим в квартале.
В настоящее время его владельцем был испанец крепкого телосложения, который при ссорах и спорах, что не составляло редкости в трактирах, всегда умел водворять спокойствие и порядок.
Перед домом, дверь которого была постоянно открыта, находилась веранда, где между растениями стояло несколько неуклюжих, массивных старых столов и стульев. У входа горела большая яркая лампа, в то время как в комнатах, полных гостей, висели по стенам маленькие, тускло горевшие лампочки.
На веранде было много матросов, негров, монахов, метисов. Кто сидел со стаканом вина или водки, кто пил кофе или просто жевал кусок дыни, любимое лакомство бразильцев.
За столом, над которым возвышалась лампа, оживленно беседовали немец, корабельщик и погонщик мулов из Монте-Веро, с которыми мы уже познакомились в предыдущей главе на дворе ратуши. Перед каждым стояла оловянная кружка с вином, которые в трактирах предпочитали хрупким стаканам.
— Вот и здесь мне нравится,— проговорил немец, молодой коренастый человек, плохо владевший португальским языком.— В «Святом Иерониме» можно не опасаться за свою жизнь, да и получить глоток хорошего вина.
— Да, за хорошую плату. Этот испанец Пепи любит считать крусадо[4].
— У меня нет лишних денег, господа, я человек бедный, но лучше я заплачу крусадо здесь, где со мной обращаются как с человеком, нежели винтем[5] в том проклятом трактире на берегу, где меня принимают за преступника и вора.
— А, вы имеете в виду трактир,— рассмеялся корабелыцик,— где ножи и вилки на цепях, а вместо тарелок дырки в столах? Конечно, порядочные люди туда не ходят, но как ни странно, каждый иностранец непременно попадает в эту трущобу.
— Винтем над дверью, написанный большими буквами, заманивает посетителей,— сказал погонщик мулов и осушил кружку.— Эй, Пепи, дайте нам еще такого же вина.
— А, наконец-то вы появились, Антонио! — ответил широкоплечий, высокий хозяин трактира и подал погонщику свою большую загорелую руку. Ну, как дела в Монте-Веро?
— Грустно там,— отвечал Антонио,— ужасно грустно с тех пор, как там получено известие о смерти нашего дорогого сеньора Конде.
— Пресвятая Дева, что вы говорите! — воскликнул, вскочив, немец.
— Неужели граф Эбергард никогда уже не вернется в Монте-Веро? — сказал Пепи, качая головой.
— Это грустное известие пришло в Монте-Веро уже несколько недель назад. Сколько слез было там — не поверите! Как будто у каждого умер близкий человек! Женщины плакали, мужчины поникли головой.
— Но возможно ли это? — проговорил немец, который с все возраставшим удивлением слушал погонщика.— Ведь граф был жив и совершенно здоров, когда я выехал из Германии. Он даже дал мне письмо к своему управляющему Шенфельду.
— Можете это письмо оставить себе: Шенфельд оставил Монте-Веро, как только туда прибыли всадники нашего покойного сеньора Конде. Говорят, он отправился в Европу, чтобы самому удостовериться: он не верит, что наш сеньор умер, хотя это подтверждается документами.
— Но ведь граф, этот покровитель всех бедных, честных людей, сам дал мне это письмо.
— А давно вы выехали из Германии? — спросил погонщик мулов.
— Я в Рио уже три недели, значит, месяцев семь-восемь назад я отправился в Лондон,— отвечал немец.
— Ну да, тогда он был еще жив и здоров, а месяц спустя смерть положила конец его деятельной жизни!
— Говорят, граф отправился в Европу, чтобы повидать своего ребенка,— проговорил любопытный трактирщик, держа в руке кружку.
— Да, этот ребенок, молодой граф Эдуард Монте-Веро, уже прибыл в замок, чтобы привести в порядок дела своего отца,— пояснил погонщик.
— Ну, теперь Монте-Веро примет другой вид,— заключил Пепи и удалился, чтобы наполнить кружки вином.
— О, это грустное для меня известие! Управляющий Шенфельд уехал, новые господа во владениях! — проговорил немец с тяжелым вздохом.
— Не падайте духом, в Монте-Веро все-таки с уважением отнесутся к письму покойного сеньора, поедем туда со мной! Говоря откровенно, в замке сейчас суматоха: там теперь император, который приехал по приглашению молодого сеньора, и один пир следует за другим. Что же, со дня смерти благородного отца прошло уже шесть месяцев, так что за это время скорбь могла уступить место мысли о владении несметными богатствами,— так уж водится на свете.
— А неизвестно, молодой граф сам будет управлять своим маленьким княжеством по примеру покойного отца? — продолжал свои расспросы немец, между тем как корабельщик смотрел через ветви на улицу, разговор не интересовал его.
— Мне кажется, что нет. Я-то сам не был в замке, но я слышал от секретаря, который говорил об этом с младшим инспектором, что молодой граф не хочет оставаться здесь, хотя приехал со своей невестой и ее отцом.
— Да,— подтвердил Пепи, ставя полные стаканы на стол,— я слышал об этом уже вчера; невеста его, говорят, бесподобная красавица!
— Ее отец, адвокат Ренар, ведет здесь все дела молодого графа, дочь его, Корнелия Ренар, станет супругой богатого, знатного сеньора. Они приведут все в порядок и, прихватив значительное количество своих сокровищ, снова вернутся в Европу, чтобы жить там в свое удовольствие. Управляющие и инспекторы останутся на своих местах и время от времени будут пересылать им стекающиеся со всех концов владений громадные суммы.
— Вот счастливец-то! Говорят, раньше этот сын его, по вине своей матери, жил в ужасной бедности! — прибавил трактирщик Пепи.
— Да, он сейчас еще бледноват и нездоров на вид, но скоро поправится.
— Так вы думаете, что в управлении его владениями не произойдет никакой перемены? — спросил озабоченный немец и, тщательно сложив свое письмо, спрятал его в карман сюртука.
— Ни в коем случае, все в прекрасном состоянии благодаря мудрости покойного благородного сеньора. Ему Монте-Веро обязано тем, что в настоящее время это прекраснейшая полоса земли. Он умел находить людей и посвящать их в свои тайные мечты и желания. Ну, вы увидите сами! Не думайте только, что вы попадете на обыкновенную фасенду[6] или на эстансиу[7], представьте себе сто таких имений и разместите их одно за другим. Представьте себе селения с тысячами работников, черных и белых, сахарные заводы, плантации и большую реку с сотней судов, которые составляют собственность графа Монте-Веро, и все равно вы будете иметь отдаленное понятие о той местности, которая должна сделаться вашей родиной! Да, не у всякого хватило бы разума все это устроить!
— Антонио прав, там настоящий рай. О, я часто видел графа, проезжавшего на вороном коне мимо моего дома. А каким он был простым. Боже, как жаль, когда такие люди умирают! — проговорил Пепи и поспешил к другому столу.
Был поздний вечер, над заливом и берегом расстилался тот приятный сумеречный свет, который в южных странах спускается на опаленную зноем дневного солнца землю, чтобы доставить несколько часов отдыха, прежде чем наступит глубокая ночь.
Только теперь улицы Рио стали оживленными. Зажиточные жители оставляют свои дома, чтобы насладиться вечерним воздухом за душным городом или на воде. Появляются наездники и наездницы на маленьких, но прекрасных лошадях. Молодые торговки, босоногие, в коротких пестрых платьях, несут на голове большие плетеные блюда с заманчивыми плодами, предлагая прохожим свой товар.
И тут по кварталу разнеслась весть, что Марцеллино освобожден.
— Мошенник! — воскликнул Пепи.
— Зачем вы так,— тихо проговорил погонщик,— вы же знаете, что все на стороне этого негодяя.
— Расскажите же, как это случилось! — попросил любопытный трактирщик матросов, которые, поднявшись на веранду, потребовали рому.
— Что тут рассказывать, лучше принесите нам поскорее арак[8],— ответил один из матросов.
— Да они снова отвели негра в тюрьму только для того, чтобы народ разошелся! — крикнул другой матрос.
— Это матросы с судна, которое возит невольников. Оно вчера остановилось здесь, чтобы запастись провиантом! — шепнул корабельщик немцу.— Завтра они снова отправятся ближайшим путем в Африку за черным товаром.
Пепи принес матросам арак и стал считать деньги, брошенные ими на стол.
— Когда наступил вечер и народ рассеялся, Марцеллино выпустили! Только проклятое украшение останется у него на шее, такое увидишь не у всякого.
— Вы говорите про след от веревки Бон-Диаса? — уточнил Пепи.
— Нет, я не о нем, от него через три дня и следа не останется. Он же теперь всю жизнь должен носить на шее веревку! И если он когда-нибудь забудет надеть ее, получит двадцать, а в следующий раз вдвое больше ударов бамбуком.
— Ну, тогда я бьюсь об заклад,— продолжал болтливый трактирщик,— в третий раз он не забудет надеть ее.
— Марцеллино? Вы плохо знаете этого черного, если думаете, что сорок ударов могут убить его!
— Может быть! — согласился Пепи, чтобы избежать ссоры.
— Посмотрите, вон сюда идет Марцеллино! — вскочив, закричал один из матросов, указывая на улицу.
И в самом деле, к трактиру приближалась исполинского роста мускулистая фигура. На негре была только красная фая, обвязанная вокруг пояса и доходившая до колен. Но шел он сгорбившись, словно что-то тяжелое давило на него.
— Сюда, Марцеллино! — кричали матросы.— Сюда, здесь есть арак для тебя.
При этих словах негр засмеялся, показав свои ослепительно белые зубы. Теперь можно было ясно разглядеть, что на шее Марцеллино болтается веревка.
Марцеллино подсел к столу, где выпивали матросы. Матросы стали чокаться с негром и пить за его здоровье. Хозяину пришлось еще раз наполнить их кружки.
— Почему ты пришел сюда, Марцеллино? — спросил один из матросов, сделав немалый глоток арака и передав кружку негру.
— Потому, что назначил здесь свидание,— отвечал Марцеллино, пытливо озираясь вокруг.— Кому-то я нужен!
— А! Теперь все переменилось! Теперь больше не спрашивают: «Сколько стоит Марцеллино?», а спрашивают: «Что ты требуешь, Марцеллино?» — прибавил другой матрос.
— Да,— согласился негр.— Теперь Марцеллино купит себе платье, Марцеллино не хочет больше ходить, как дикий зверь в пустыне!
Матросы громко засмеялись.
— Так, Марцеллино, тебе нужно купить тонкие белые брюки, конхо из пестрой шелковой материи и соломенную шляпу!
— И чтобы пистолет был в фае,— прибавил негр.— За пистолет я готов сделать все, это мой бог!
— Прежде ты не смел носить пистолет, а теперь можешь. Ведь ты освободил себя, да здравствует Марцеллино! — кричали матросы, на которых крепкий» напиток, что они лили в себя как воду, уже произвел свое действие.
— Клянусь,— прошептал хозяин,— сегодня здесь не обойдется без драки. И он с опаской приблизился к пирующим матросам, чтобы взять опорожненные кружки.
Когда Пепи, снова наполнив кружки, подал их матросам, на веранду быстро вошел новый гость. На нем были легкое светлое пальто и большая соломенная шляпа с широкими полями надвинутая на глаза.
Незнакомец боязливо оглядывался по сторонам, казалось, в этом полуосвещенном строении ему не по себе.
Незнакомец вместе с Пепи, нетерпеливо ждавшим своих денег, подошел к столу, за которым сидели матросы, и осторожно ударил Марцеллино по плечу. Затем он направился к той части веранды, где сидели гости, и Марцеллино вскоре присоединился к нему.
Когда незнакомец вошел в трактир, погонщик мулов Антонио вдруг с изумление обнаружил, что лицо незнакомца ему знакомо, стал наблюдать за ним.
— Глазам своим не верю,— прошептал Антонио,— если бы я не знал, что сеньор Ренар в Монте-Веро, то сказал бы, что это он сидит вон за тем столом.
— Что же знатному господину делать здесь, в трактире, и к тому же в обществе негра? — так же тихо сказал немец.— Ведь вы говорили, что адвокат Ренар выдает свою дочь замуж за молодого графа?
— Вы правы, но уж очень этот господин похож, впрочем, и этот гость не принадлежит к этому месту и обществу, вероятно, он затевает что-нибудь недоброе.
Тем временем незнакомец немного сдвинул со лба шляпу, и теперь в нем мы могли бы узнать Фукса. Правда, в наружности его произошли некоторые перемены. Его лицо было все еще бледным, но борода значительно поседела. Старый фланелевый сюртук, в котором мы его видели прежде, сменил нарядный, модный костюм, его руки стянули изящные перчатки, а его большая широкополая шляпа была самой изысканной работы.
— Ты ушел сегодня от виселицы,— начал Фукс на ломаном португальском языке,— потому я и позвал тебя сюда, но сначала скажи, не хочешь ли ты выпить?
— Нет, масса, Марцеллино не хочет водки.
— Так скажи мне, чего ты желаешь?
— Я желаю? — спросил негр.— А, Марцеллино понимает, у массы есть желание, и он хочет сперва узнать желание Марцеллино, чтобы сказать свое.
— Верно, я вижу, мы поймем друг друга! Не хочешь ли ты получить хорошую легкую службу?
— О да, масса, Марцеллино хочет легкую службу,— легкую службу и много денег!
— Смотри, как вы, негры, поумнели!
— Но легкая служба — не первое желание Марцеллино!
— Не первое, говоришь? А какое же первое?
— Первое желание — пистолет, хороший пистолет с серебряными украшениями; о масса, за пистолет я готов исполнить ваше желание.
— Завтра вечером твое желание будет исполнено — ты будешь иметь и кинжал и пистолет с серебряными украшениями. Но только ты должен исполнить одно мое желание.
— О, Марцеллино ждет приказания!
— Ты знаешь маленький укрепленный остров при входе в залив? С него таможенные чиновники причаливают в лодках к каждому приплывающему кораблю. Лодками правят черные.
— Марцеллино знает это.
— Хочешь наняться туда на несколько месяцев лодочником? — спросил Фукс.
— О масса, бедные невольники получают едва ли крусадо в день.
— Я кладу тебе два крусадо в день, Марцеллино, и плачу тебе за месяц вперед
— И пистолет и кинжал!
— Обязательно! Пистолет с серебряными украшениями, кинжал и шестьдесят крусадо я передам тебе завтра вечером у болверка перед тем, как ты сядешь в лодку, в которой отправишься на укрепленный остров, где ты по рекомендательному письму, которое я дам тебе, получишь место лодочника.
— О масса, Марцеллино непременно придет завтра вечером!
— Ты составишь свое счастье! Ну, а теперь главное: можешь ли ты молчать?
— Как могила, масса, за пистолет как могила!
— А умеешь ты обращаться с кинжалом?
— У Марцеллино жилы как у тигра,— негр с силой вытянул свои длинные руки и показал мускулы,— а ловок он, как дикая кошка!
— Если ты исполнишь мое поручение, то получишь хорошую награду!
— О масса, говорите скорее, не надо ли убить кого-нибудь кинжалом? О масса, говорите без боязни!
— Ну, так слушай и запомни каждое 'мое слово. Когда ты будешь служить гребцом на одной из таможенных лодок, которые подходят ко всем подходящим к острову кораблям, и услышишь, что приближается пароход под названием «Германия», будь настороже! Когда ты подгребешь к нему и убедишься, что это действительно «Германия», притворись больным, очень больным, тебя потащат на пароход, где находится врач. На «Германии», на палубе или в каюте, ты увидишь высокого белого господина, владельца парохода этот человек должен умереть. Он мой враг!
— О, враг, враг должен умереть! — повторил Марцеллино, сверкнув глазами.
Этот геркулесовой силы негр был так ослеплен обещаниями незнакомца, который производил впечатление знатного и богатого господина, что, не задумываясь, согласился на его предложение.
— Ты не ошибешься, только если хорошо запомнишь название парохода — «Германия».
— О масса, Марцеллино никогда ничего не забывает!
— Запомни, владелец «Германии» высокого роста и прекрасно сложен, и чтобы между вами не завязалась борьба, в которой он может выстрелить в тебя, употреби кинжал, и именно во время переезда с укрепленного острова на тот, что лежит посреди залива, где стоят брандвахтенные суда. Как называется этот остров?
— Виллегеньон, масса!
— Вот тут-то ты и должен его убить. Затем воспользуйся общим замешательством и постарайся как можно скорее скрыться с глаз своих преследователей.
— О, Марцеллино умеет плавать, как рыба, масса!
— Я не знаю точно, когда «Германия» достигнет здешних берегов, но мне кажется, что это будет в следующем месяце! В последний день месяца я приду вечером к тому месту, где ты завтра сядешь в нанятую мною лодку. Если ты точно исполнишь мое приказание и владельца парохода «Германия» не будет более в живых, я отсчитаю тебе обещанные деньги!
— Гм! Масса!
— Ну что ты еще хочешь сказать?
— Марцеллино думает, что половину денег он должен получить теперь, а половину тогда, когда на «Германии» будет вывешен траурный флаг!
— Ну, думаю, я могу тебе доверять и исполню твое желание! Завтра вечером, прежде чем сядешь в лодку, ты получишь от меня половину обещанной суммы. Но не промахнись, Марцеллино! Если «Германия» вывесит большой черный флаг, твое вознаграждение будет еще больше, чем я обещал!
— О, масса так же жестоко ненавидит своего врага, как и Марцеллино своего! Но эта веревка…
— Ты найдешь случай снять ее, когда тебя перенесут на пароход, да и веревка не удержит владельца «Германии» от приказа снести больного негра даже в собственную каюту.
— Считай, мы договорились, масса! — заключил Марцеллино.
Ренар как-то нерешительно протянул ему руку, потом застегнул пальто, надвинул шляпу на лоб и хотел было уйти, но вдруг остановился и скороговоркой проговорил:
— Если ты проронишь хоть слово из того, что только что услышал, тебя ждет неминуемая смерть, поэтому берегись водки, чтобы не проговориться в пьяном виде.
— О, Марцеллино не будет пить до тех пор, пока «Германия» не вывесит траурный флаг,— ответил негр.
— Значит, завтра вечером на берегу! — заключил Фукс, быстро оглядев всех, кто сидел на веранде, и скрылся в темноте.
— Черт возьми! — пробормотал хозяин трактира, между тем как его гости начали мало-помалу расходиться.— Эти двое затеяли кровавое дело.
XXVII. СОКРОВИЩА МОНТЕ-ВЕРО
Светлая ночь царила над лесом и замком Монте-Веро; легкий ветерок о чем-то шептался со старинными пальмами и кедрами. Благоухали цветы. Резкий свист попугаев дополняло стрекотание сверчков и крики больших водяных птиц. Слышался плеск фонтана, находившегося перед замком.
Замок Монте-Веро, романтично стоявший на горе у опушки леса, представлял собой большое продолговатое четырехугольное здание. Он был построен по образцу немецких замков, со множеством высоких окон и башнями по углам.
По одну сторону от него тянулись огромные конюшни, а позади стоял высокий бельведер, с которого можно было обозревать окрестные луга и поля. С тех пор, как гости и новый владелец Монте-Веро прибыли в замок, на бельведере развевался черный флаг. Замок делился на четыре больших флигеля, которые соединялись коридорами. В середине замка была высокая часовня, золотой купол которой возвышался над крышей. Правый флигель предназначался для императора, комнаты которого открывались только тогда, когда дон Педру II навещал графа Монте-Веро, за правым флигелем помещался флигель для гостей, налево был флигель графа, а за ним четвертый флигель занимала прислуга.
Покои императора соединялись с покоями графа балконом, украшенным тропическими растениями и возвышавшимся над порталом. Его поддерживали мраморные колонны. На балкон из обоих флигелей выходили высокие стеклянные двери.
По балкону, защищенному навесом от палящего солнца, часто прохаживались император и граф Монте-Веро. Оба они не только внешне, но и внутренне походили друг на друга. На этом балконе, в благоухании цветов, нередко развивались идеи и принимались решения, которые должны были послужить благоденствию не только обширных владений Монте-Веро, но и всего громадного государства.
Император и граф Эбергард были давними, искренними друзьями и нередко в тяжелые дни поддерживали друг друга. Кроме того император был исполнен благодарности к Эбергарду, которому был обязан спасением жизни.
С балкона открывался прекрасный вид на аллеи и высокие деревья парка, сливавшегося с лесом. По обеим сторонам подъездной аллеи среди клумб были устроены покрытые ракушками и увитые растениями гроты и беседки.
Фронтон замка украшал герб, загадочный для каждого вновь прибывшего, но полный глубокого смысла: золотое солнце, на нем черный крест, а под ним череп.
С тех пор как на бельведере развевался траурный флаг, в Монте-Веро царили грусть и уныние.
На громадных полях среди кофейных деревьев, на плантациях сахарного тростника и хлопчатника, где обыкновенно слышались веселые песни работников, была мертвая тишина.
Молодой сеньор, явившийся в Монте-Веро в качестве сына и наследника покойного графа Эбергарда, о чем свидетельствовали привезенные им документы, и добившийся с помощью Черной Эсфири и Фукса посещения императора, желавшего услышать подробности смерти своего дорогого друга,— Конде уже не раз побывал во всех концах своих обширных владений, сопровождаемый своей прекрасной гордой невестой и ее мнимым отцом. Он преследовал при этом двойную цель: показываясь чаще своим подчиненным, он приучал их к мысли видеть в нем своего господина и в то же время торопил своих управляющих скорее предоставить ему деньги.
Настоящие сокровища и драгоценности, на которые метили эти отчаянные мошенники, были опечатаны судебными чиновниками, пока, согласно бразильскому закону, не подтвердятся права молодого графа Монте-Веро на наследство. Преступники еще не знали последствий своего предприятия, успех которого все еще зависел от графини Понинской и барона Шлеве. Однако жулики уже были близки к цели, уже видели блеск богатства, на которые покушались. Их обнадеживало то, во что они сами не могли поверить,— им удалось обмануть императора Педру, этого умного, но слишком доверчивого человека. Они должны были решиться на этот обман, так как император, узнав о смерти Эбергарда, пригласил их к себе, и это грустное известие тронуло его сильнее, чем ожидали мошенники. Предосторожности Фукса, внезапно превратившегося в господина, который занялся во время путешествия изучением португальского языка, увенчались успехом, как и вообще все, что предпринимал этот человек. В случае надобности Фукс обретал изящные манеры, так же как и Рыжий Эде, который в настоящее время выглядел истым сеньором.
При аудиенции император подал молодому графу Эдуарду руку, выразил соболезнование и уверил в своей благосклонности, и молодой граф с поистине рыцарской ловкостью преклонил перед императором колено и поцеловал ему руку. На прием вместе с новоиспеченным Монте-Веро явились также господин Ренар и его прекрасная черноглазая дочь донна Корнелия, которую Эдуард представил императору как свою невесту и которая произвела на него глубокое впечатление.
Когда же император приехал в Монте-Веро и посетил этих наглецов, не подозревая, какую громадную услугу оказывает им своим посещением, преступники были почти уверены в удаче своего неслыханного предприятия, и только одно тревожило их: управляющий Шенфельд, который отправился в Европу и мог прибыть в Монте-Веро прежде, чем они успеют скрыться со своей добычей.
Прошло уже более четырех недель с тех пор, как они поселились в Монте-Веро, а судебная комиссия все еще медлила с формальной передачей владений. Шенфельд, как узнал Фукс, на лучшем пароходе выехал из Бразилии и, по его расчетам, давно прибыл в Гамбург, так что, возможно, Эбергард уже был на пути в. Рио. Если он прибудет прежде, чем им удастся завладеть его богатствами, то дело проиграно и они обречены на гибель! Поэтому надо было во что бы то ни стало не только ускорить отъезд, но и сделать так, чтобы Эбергарда уже никогда больше не видели в Монте-Веро, а для этого было только одно средство — убить его и тем самым исключить всякое серьезное преследование.
С этой целью Фукс и отправился в Рио. Опытный преступник, он сам превосходно владел всяким оружием, но тут должен был быть предельно осторожен, так как Эбергард знал его в лицо, а потому, услышав в городе о Марцеллино, он тотчас увидел в нем исполнителя своих планов. Читатель уже знает о разговоре Фукса с Марцеллино. Черный убийца пришелся Фуксу по вкусу, и белый убийца уже втайне радовался, что графу Эбергарду не избегнуть руки негра.
Прошло несколько дней с того вечера, когда Фукс вручил Марцеллино обещанный задаток.
Ночная тишина стояла над замком Монте-Веро; его высокие окна и река, что протекала неподалеку от парка, серебром блестели в лунном свете.
Почти неслышно раздвигая ветки кустов, через парк пробиралась женская фигура.
— Ты ли это, Маранга,— послышался низкий голос из кустов, что отделяли клумбы от высокой стены неподалеку от широких ворот.
Девушка в испуге остановилась. В эту минуту луна осветила ее лицо — это была одна из тех светлых удивительной красоты мулаток, за которых в Бразилии платили бешеные деньги. Особенно хороши были ее большие блестящие глаза. Роскошные густые волосы девушки прикрывала фантастически повязанная яркая косынка. Ее шея и плечи были открыты, корсаж стягивал тонкую талию, пестрая юбка спускалась до колен, оставляя обнаженными прекрасные ноги шестнадцатилетней мулатки.
Граф Эбергард купил Марангу на рынке невольников в Рио-де-Жанейро, и она исполняла с малолетства обязанности садовницы.
— Маранга, ты ли это? — повторил голос.
— Антонио? — спросила мулатка по-португальски.
— Ты узнала мой голос, прекрасная парда[9],— проговорил знакомый нам погонщик мулов, раздвигая ветви и подходя к Маранге.— Ты не испугалась?
— Немного испугалась, я не знала, что ты уже здесь.
— Да, на этот раз я поспешил вернуться назад, но все же меня кое-что задержало.
— Ты говоришь загадками.
— Господин Ренар в замке?
— Нет, его ожидают ночью.
— Значит, он в Рио?
— Не знаю, Антонио, но ты говоришь так взволнованно.
— Да, бьюсь об заклад, с негром Марцеллино говорил Ренар. Я предчувствую недоброе. Этот человек мне не нравится, следовало бы предостеречь молодого сеньора Конде.
— Не делай этого, Антонио, молодой сеньор Конде…
— Ну, говори, говори…
— Я слышала голоса и шелест платья вон в тех кустах, наверху,— отвечала Маранга шепотом.
— Нас здесь не видно. Что ты хотела сказать мне о графе Эдуарде?
— Он не тень нашего графа,— прошептала мулатка.— Он мне кажется таким странным и…
Маранга, которая обладала весьма чутким слухом, опять, не кончив фразы, схватила Антонио за руку и указала в сторону гротов. Антонио взглянул туда и увидел возле одного из живописных гротов две фигуры.
— Донна Корнелия и император! — прошептал он.
Мулатка приложила палец к губам и подала Антонио знак следовать за ней. Она раздвинула ветки кустов, росших у стены, и стала в их тени.
— Иди, Антонио,— прошептала она.— Завтра вечером встретимся на берегу. Так будет лучше!
— Мне бы хотелось остаться с тобой, Маранга,— тихо проговорил погонщик мулов, прижимая к груди юную мулатку.— Мне все кажется, что тебя могут похитить у меня.
— Будь спокоен, Маранга любит тебя и никого другого.
— Ты хотела рассказать мне о молодом сеньоре Конде.
— Завтра расскажу!
— Нет, я должен узнать о молодом графе! Он ухаживает за тобой?
— Я предостерегла его, Антонио! Маранга сказала ему, что если он еще прикоснется руками к ее телу, она убьет его. Но иди, дорогой Антонио, Маранга любит только тебя!
Молодой погонщик мулов сжал кулаки, но при последних словах девушки порывисто обнял ее и, скользнув в тень высокой стены, вышел через открытые ворота.
Мулатка взглянула в сторону грота. Император и Корнелия исчезли, но нет — в бледном свете луны еще белела ее мантилья у входа в грот.
Прекрасная Корнелия и дон Педру с наступлением вечера взошли на бельведер, чтобы полюбоваться на закат. Адъютант императора напрасно искал молодого графа Монте-Веро, который должен был сопровождать их, и императору пришлось одному прогуливаться с невестой хозяина.
В эту ночь в замок вернулся Ренар, и молодой граф вышел из своих комнат, чтобы встретить его.
Черная Эсфирь, видя, что передача богатства затягивается, стала сомневаться в удаче опасного предприятия и потому всегда была готова к бегству. Никем не замеченная, она прошмыгнула в свою комнату, как только карета подкатила к подъезду.
Эдуард, накинув элегантное неглиже, встретил вернувшегося Ренара в портале вместе со сбежавшейся прислугой.
Они любезно обменялись приветствиями и последовали за лакеем, который шел впереди с тяжелым канделябром. Дойдя до своих покоев в левом флигеле, Эдуард приказал лакею зажечь лампу и оставить их одних.
Зала, куда вошли эти двое, отличалась особой роскошью. Лампа распространяла приятный матовый свет, в открытые окна доносился аромат цветов.
Фукс снял с себя легкое длинное пальто и широкополую шляпу, Эдуард приказал принести вина. Не проронив ни слова, выждали они, пока лакей подал вино На серебряном подносе и удалился. Когда уже никто не мог помешать им, Эдуард приблизился к Фуксу, который наливал себе стакан превосходной мадеры.
— Мы должны спешить,— быстро проговорил он.— Тебя видели в Рио!
— Откуда ты знаешь?
— Сейчас узнаешь, расскажи сперва, что ты устроил! Ты говорил с негром…
— Черт возьми, откуда ты это знаешь? Ну, и что из того, что меня видели? Я нанимал негра для Эбергарда, он служит гребцом на одной из таможенных лодок и имеет такой сильный кулак, что можно быть спокойным! Что делают судебные чиновники?
— Они еще переписывают все. Теперь они в гавани Рио-Веро.
— А проклятый управляющий Виллейро?
— Час назад ему тайно сообщил какой-то погонщик мулов, что он видел тебя в Рио, в трактире, где ты разговаривал с каким-то мошенником-негром. Ты знаешь, что соседняя комната примыкает к башне, в которой Виллейро охраняет драгоценности графа и деньги, полученные за последнее время. Как-то поздно вечером я заметил, что туда вошел человек, и смог расслышать все, о чем говорили между собой эти люди. Погонщик предостерегал против нас управляющего Виллейро, который, по-видимому, тоже с недоверием относится к нам, тем более что от Шенфельда, отправившегося в Европу, до сих пор нет вестей.
— Значит, мы должны в одну из следующих ночей завладеть сокровищами, которые хранятся в башенной комнате, и деньгами, которыми заведует Виллейро! — Фукс снова осушил стакан.
— Согласен, но это не так-то легко исполнить.
— Мы должны отказаться от всего другого и довольствоваться только этим!
— Там громадное состояние, я убедился сегодня, заглянув в акты. В башне находится более миллиона золотых монет, а бриллиантов и других драгоценных камней на три миллиона мильреисов. Да и доходы за последние недели составляют двести тысяч мильреисов.
— Таким капиталом обладает не всякий владетельный князь в Европе,— заметил Фукс.— Расположение комнат тебе известно, а как со всем остальным?
— Имеется только одно препятствие, которое может расстроить наше бегство! — воскликнул Рыжий Эде.
— В чем же оно?
— Как мы вытащим эти сокровища? Не забывай, что золото и драгоценные камни хранятся в мешках и надобно более ста мулов, чтобы отвезти хоть половину их в Рио-де-Жанейро! — Рыжий Эде уселся в кресло.
Фукса взволновал разговор о богатствах. Цифры, которые назвал его сообщник, были так заманчивы, что жадное сердце сильно забилось. Если бы ему удалось похитить хотя бы десятую часть этих сокровищ и бежать с ними, и то можно бы жить с блеском и в свое удовольствие, и кто бы узнал, как он нажил эти богатства? Тогда он избавился бы от всех преследований и опасностей.
— Ничего, что-нибудь сообразим! — проговорил Фукс, пройдясь несколько раз взад и вперед по ковру.— Вытащить все, конечно, невозможно, но взять столько, чтобы нам обоим хватило, мы сумеем.
— Ну и прекрасно, а Черная Эсфирь пусть сама о себе позаботится, она, кажется, снискала расположение императора.
— Это не наше дело! В следующую ночь— мы должны бежать — пора! Ты знаешь, что надо делать здесь, в замке, а я приготовлю все, что нужно, для того, чтобы отвезти сокровища в Рио.
— Постой! — остановил Фукса Рыжий Эде, который знал талант своего друга.— Наша работа будет не из легких, ключи от башенной комнаты у судебного чиновника, который спит в красной зале.
— Мы отнимем их, легкий удар по голове лишит его сознания.
— Он исполинского роста, и череп у него как у тапира, лучше было бы опоить его. Из последней залы мы через столовую пройдем в комнату Виллейро, которого, разумеется, надо убить. Затем мы отопрем дверь башенной комнаты. В этой комнате есть окно с решеткой, мы выбросим через него мешки вниз, на песок.
— Хорошо! Мы оттащим мешки на берег Рио-Веро, положим в лодку и по течению спустимся с нашим кладом в Рио-де-Жанейро. О провианте и костюмах я позабочусь завтра, в Рио мы купим себе пароход и через четыре дня будем в открытом море.
— Значит, план составлен.— Встав, Рыжий Эде подал своему другу руку.— У нас впереди целый день для приготовлений. Но не говори, ради Бога, ничего Черной Эсфири! Ее отсутствие завтра будет нам на пользу, поверь, такие женщины, как она, всегда сумеют выпутаться!
— Спокойной ночи! — сказал наконец Фукс.— Надо хорошенько выспаться, в следующие ночи нам будет не до отдыха.
— Значит, последнюю ночь мы спим на этих шелковых подушках,— улыбнулся Рыжий Эде.— Мне жалко каждой вещи, которую мы оставляем здесь!
— Ну, ведь не можешь же ты взять с собой весь замок, ненасытный! — Фукс взялся за пальто и шляпу.— Я думаю, нам и того хватит до конца дней.
— Да, ты прав. Заживем же мы с тобой, Фукс!
Рыжий Эде еще раз наполнил стаканы и чокнулся с другом; когда они расстались, было уже далеко за полночь.
На следующее утро император, весьма холодно простившись с молодым графом Эдуардом и господином Ренаром, вернулся со свитой в столицу.
Днем Фукс осмотрел лодку, лежавшую возле высокой стены на берегу Рио-Веро, тайком перенес в каюту вина и съестные припасы. По этой реке проходило мало судов, а на случай, если их встретит какой-нибудь корабль из Монте-Веро, Фукс приготовил два матросских костюма.
Управляющий Виллейро, уже немолодой человек, редкой честности, всей душой преданный Эбергарду, пользовавшийся безграничным доверием последнего, целый день занимался с судебным чиновником, оставшимся в замке, между тем как другие чиновники находились в колониях Монте-Веро, просиживая за актами и приходными книгами.
Вечером сеньор Конде в знак признательности пригласил Виллейро и чиновника на стакан вина. Виллейро отказался по причине легкого нездоровья, а чиновник, весьма любивший этот напиток, с удовольствием принял предложение.
Когда начало смеркаться, Эдуард приказал лакеям поставить на балконе стол, и когда на нем уже стояли бутылки, Фукс, воспользовавшись отсутствием слуг, всыпал в одну из них порошок селинтового корня, известного туземцам как одурманивающее средство.
Судебный чиновник действительно был необыкновенно высоким и, по-видимому, сильным человеком. Эдуард был прав, когда предложил привести его в бессознательное состояние с помощью вина. Не всякий удар свалил бы такого богатыря, и в случае неудачи он мог дернуть за сонетку, висевшую у его постели, и малейшее ее движение заставило бы всю прислугу сбежаться в его комнату.
Эдуард попросил Фукса позаботиться о том, чтобы стаканы были всегда полны.
Не обращайте на меня внимания, господин Сантос, — сказал он, обращаясь к судебному чиновнику, хотя я и люблю вино, но оно, к несчастью, слишком сильно волнует мою кровь.
— Я на это не могу пожаловаться,— отвечал чиновник с самодовольной улыбкой, поправляя свой светлый шелковый галстук,— но сегодня мне бы хотелось удержать себя от слишком большого употребления этого напитка, чтобы я мог завтра вместе с господином Виллейро закончить расчеты.
— А остальным господам чиновникам, вероятно, остается еще много дел?
— Им дел еще на несколько недель, сеньор Конде! Владения, которые имеют счастье приветствовать вас как своего хозяина, так обширны и богаты, что требуют много времени!
— А вместе с расчетами завтра будут закончены здесь и все ваши дела? — спросил Фукс, наполняя стаканы.
— Не совсем, господин Ренар. Я обязан буду вместе с господином Виллейро охранять казну и прибывающие суммы.
— О, я вам очень признателен буду за это, дорогой господин Сантос,— сказал Эдуард,— и перед отъездом не забуду доказать вам свою благодарность.
— Вы -очень добры, сеньор Конде,— почтительно проговорил чиновник.— Ведь это только моя обязанность!
— Мне будет очень жаль, дорогой господин Сантос, если вы оставите замок, так как вы мне кажетесь превосходным Цербером.
Польщенный чиновник самодовольно улыбнулся. Фукс снова налил ему вина. Он хотел прежде споить Сантоса чистым вином, а уж под конец угостить из бутылки, в которую подсыпал порошок селинтового корня.
— Это не пустая фраза, дорогой господин Сантос,— я бы и сам хотел поучиться у вас,— продолжал Эдуард.— Вы знаете, я приехал сюда издалека и не имею здесь человека, на которого мог бы положиться. После вашего отъезда я должен буду сам охранять свои богатства, Неприятная задача!
— Мне бы это было, напротив, весьма приятно,— возразил чиновник, которому вино развязало язык.— Я бы охотно покорился этой обязанности, имей я счастье быть владельцем таких богатств.
— Есть старая поговорка, дорогой господин Сантос, что у богатого больше забот, чем у бедного. Вот если бы я мог оставить вас здесь навсегда…
— Я сам на вашем месте сделал бы таким образом;. Теперь дверь башенной комнаты опечатана и заперта на ключ; оставьте ее так. Тогда весь секрет только, в том, чтобы хорошенько спрятать ключ — ведь толстую железную дверь не так-то легко выломать.
— Вы меня успокаиваете, и я очень обязан вам за это, но куда же спрятать ключ?
— Вы никогда никому не должны его показывать, сеньор Конде, чтобы ни один человек не мог даже подозревать, где у вас хранится ключ. Ночью самое надежное место — под подушками. Вы, вероятно, не так уж крепко спите, чтобы не проснуться, когда подходят к вашей постели и засовывают руку под подушки.
— В самом деле, господин Сантос! — воскликнул Эдуард подымая стакан.— Превосходный совет!
Сантос готов был уже встать из-за стола следом за молодым сеньором Конде, который поднялся, чтобы отправиться в спальню. Но радушный граф так любезно просил чиновника остаться, а Фукс, схватив бутылку с селинтовым порошком, так щедро наполнял стакан чиновника, так любезно потчевал его, что тот не без удовольствия сдался. И Фукс и Сантос оставались на балконе до тех пор, пока не опустела бутылка, предназначенная для ничего не подозревавшего чиновника.
— Извините, господин Ренар, если я прощусь теперь с вами,— вдруг проговорил Сантос, борясь со сном и опьянением.— Не знаю почему, но мною внезапно овладевает такая усталость…
— Вы слишком много работаете, господин Сантос!
— Да, к тому же мой сидячий образ жизни… Спокойной ночи, господин Ренар!
— Спокойной ночи, дорогой господин Сантос! — Фукс пожал руку пошатывавшегося чиновника и проводил его до красной залы, которую тот занимал.
— Слава всем святым! — пробормотал опьяневший Сантос, кладя по обыкновению ключи под подушку. Порошок оказал свое действие — неспособный снять с себя платье и даже шевельнуть рукой, он повалился на постель.
Фукс накрыл его одеялом — одно препятствие было устранено.
Сантос в опьянении не запер за Фуксом дверь красной залы, что он обыкновенно делал, и это значительно облегчило мошенникам дело.
Когда Фукс, презрительно улыбаясь, убедился, что чиновник выведен из строя, в голове у негодяя блеснула мысль сейчас же приняться за него, а потом за управляющего, чтобы не делиться добычей с Рыжим Эде. Но в ту минуту, когда Фукс обдумывал свой план, дверь красной залы тихо отворилась и в ней показался молодой сеньор Конде — недоверие или нетерпение привели его сюда.
«Черт возьми! — подумал Фукс, скрежеща зубами.— Но что не удалось мне сегодня, может легче удастся завтра в дороге. Я бы не хотел делиться».
Может быть, в эту минуту та же мысль овладела Рыжим Эде. Подобного склада люди делятся добычей только тогда, когда этого требует инстинкт самосохранения.
— Ну, как дела? — спросил Рыжий Эде шепотом.
— Один уже удален! Теперь твой черед — иди в спальню Виллейро,— отвечал Фукс,— и принимайся за него!
— Давай я достану ключи, а ты пойди к Виллейро!
— Теперь, когда надо приниматься за дело, ты начинаешь трусить, негодяй! — крикнул в досаде Фукс.— Ведь Виллейро не первый, на ком ты пробуешь свое счастье?
— Верно, но Виллейро такой слабый, и это мне не по нутру.
— Ну, так войдем вместе к нему в комнату, так будет лучше!
Фукс, подсунув руку под подушку громко храпевшего Сантоса, схватил ключи, и они с Рыжим Эде направились к столовой, чтобы, миновав ее, попасть в комнату управляющего.
На часах замка пробило полночь.
В ту минуту, когда рука Рыжего Эде потянулась, чтобы отворить дверь, он вдруг с такой силой был отброшен назад, что едва не опрокинул Фукса.
В столовой, за отворенною дверью, стояла тощая фигура Виллейро, которого разбудили шум и голоса преступников.
Слабый, престарелый Виллейро вдруг увидел перед собой гостей замка, которые с первого взгляда произвели на него неприятное впечатление и к которым он, подобно управляющему Шенфельду, испытывал недоверие; теперь ему стало совершенно ясно, что он не ошибся. Однако от неожиданности и испуга он не в состоянии был подбежать к окну и позвать на помощь.
— Что тут происходит? — спросил он, побледнев как полотно.
В ту же минуту Фукс кинулся на Виллейро. Несчастный, испустив слабый крик о помощи, которого никто не мог услышать, бросился в свою спальню; Фукс последовал за ним. Бедный Виллейро попробовал защищаться, напрасно загораживаясь столами и стульями. Но Фукс был более ловок. Отшвырнув в сторону мебель, он обеими руками схватил управляющего за горло и повалил на пол. Виллейро защищался со всей силой отчаяния, которую придал ему страх перед смертью. Он попробовал отстранить руки врага от горла, но тот клещами вцепился в него, так что несчастный только расцарапал их. Глаза его налились кровью; какие-то неясные звуки вырвались из горла, лицо побагровело. Убийца не ослаблял хватки, зубы его были крепко стиснуты, глаза сверкали.
Рыжий Эде, не теряя ни минуты, подобрал ключи, выпавшие из рук Фукса, и подошел к глубоко вделанной в стену толстой железной двери, которая вела к сокровищам. На ней были два замка и две печати.
Когда Рыжий Эде метнулся, чтобы зажечь свечу, Фукс выпустил свою мертвую жертву. Он не хотел, чтобы товарищ вошел в башенную комнату без него.
Виллейро более не шевелился; только струйка крови текла из его открытого рта.
Рыжий Эде зажег две свечи, преступники взяли по одной и подошли к железной двери.
Ключ со скрипом повернулся в замке, и крепкая дверь подалась под напором бандитов.
Их обдало холодным спертым воздухом, они вошли. Глубокий проем единственного окна позволял судить о необыкновенной толщине стен. Посреди помещения стоял большой круглый стол, а вокруг на полу разместилось бесчисленное множество мешков. На каждом была написана хранившаяся в нем сумма. Развязав один из мешков, Фукс стал рыться в золотых монетах. Страшная улыбка исказила его бледное лицо, на котором проступили все пороки этого человека.
В шкафах, стоявших вдоль стен, в изящных ящиках хранились бриллианты и другие драгоценные камни.
Перед преступниками открытыми лежали сокровища Монте-Веро, но они не знали, с чего начать, глаза их перебегали с Золота и серебра, хранившихся в мешках, на бриллианты и другие камни, наполнявшие шкафы. Наконец Фукс дрожащими руками принялся за дело. Он отворил узенькое окно и убедился, что мешки могут пройти сквозь железные прутья решетки. Падение мешков на песок с такой незначительной высоты не вызовет шума.
Затем началась работа. Рыжий Эде наполнял камнями пустые мешки, а Фукс осторожно выбрасывал их и те, что были с золотом, из окна.
После нескольких часов работы львиная доля сокровищ перекочевала в парк. Время торопило. Теперь следовало доставить мешки в лодку, но Рыжий Эде никак не мог остановиться. Когда Фукс потребовал, чтобы он сошел вниз, грабитель схватил еще горсть крупных изумрудов и сунул их в карман. Улучив минуту, когда его не видел товарищ, Фукс сделал то же самое.
Они поспешили через комнату, где лежал мертвый Виллейро, забыв второпях загасить свечи. В обширных покоях замка все было тихо, Черная Эсфирь ни о чем не подозревала, прислуга крепко спала.
Фукс и Рыжий Эде благополучно вышли из замка и, не теряя ни секунды, начали перетаскивать мешки на берег Рио-Веро. Работа была нелегкой, так как каждому было по силам нести только один мешок.
Когда начало светать, добыча уже лежала в лодке. Но тут разбойники заметили, что лодка так глубоко погрузилась в воду, что вот-вот может потонуть. И потому десять мешков золота было решено бросить в реку. Затем они оттолкнули тяжело нагруженную лодку от берега, Фукс натянул парус, и судно с богатой добычей быстро помчалось вниз по реке, освещенной первыми лучами восходящего солнца. Замок исчез из виду, уступив место бескрайним джунглям.
XXVIII. ДЬЯВОЛ В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА
Прежде чем вернуться в Европу и посмотреть, удалось ли несчастной Маргарите вырвать из рук нищей графини своего ребенка, взглянем на знакомый нам пароход «Германия», который в ту ночь, когда Фуксу и Рыжему Эде удалось похитить сокровища Монте-Веро, мчался на всех парусах по волнам океана, чтобы к утру приблизиться к скалам, за которыми лежит залив Рио-де-Жанейро.
Тихая ночь расстилалась над необозримым океаном; луна и яркие звезды отражались в темной воде.
Матросы вполголоса пели какую-то песню, а Мартин неподвижно стоял у руля. Возле передней мачты быстроходного брига, который всего за десять дней проделал путь от последней стоянки у берега Англии до Кабо-Фрио, уже видневшегося вдали, стоял со скрещенными на груди руками граф Эбергард, который спешил в Рио, чтобы убедиться, справедлив ли невероятный рассказ управляющего Шенфельда, а если справедлив, то своим внезапным появлением уничтожить мошенников.
Граф Монте-Веро понимал, что за этим ловко придуманным обманом стояли кроме мошенника Фукса еще другое лица. Перебрав самые разные предположения, Эбергард пришел к заключению, что вся эта авантюра совершена не без участия Леоны. Но преступник будет схвачен, и она как союзница не избегнет наказания. Тяжело было на душе у графа. Грустные мысли овладели им, их не в состоянии было устранить даже приятное сознание, что он исполнил свой долг по отношению к человечеству.
Несмотря на то, что тысячи сердец были исполнены любви и благодарности к нему и постоянно молились за него, граф Монте-Веро чувствовал свое одиночество, не найдя своего утраченного сокровища. Не владело ли графом предчувствие той ужасной беды, которая постигла его дочь? Не рисовало ли его воображение картину тяжких испытаний, ниспосланных грешнице?
Неподалеку, опершись о перила палубы, стоял негр Сандок, все старавшийся разглядеть далекий берег навеки потерянной для него родины. Он смотрел то на игру блестящих волн, то на горизонт. Но нигде не видно было той земли, от которой он был оторван еще мальчиком. И если бы даже он мог вернуться теперь туда, если бы ему предоставили выбор между путешествием на родину и его господином, стоявшим сейчас возле мачты, Сандок, не задумываясь, бросился бы на колени перед графом с уверениями, что он никогда не уйдет от него.
Негр любил графа Монте-Веро больше, чем свою родину, которую он бы теперь едва ли узнал.
Было уже далеко за полночь. Туманная дымка, застилая собой луну, подернула горизонт на востоке. Вдруг Сандок в испуге отшатнулся от борта. Глаза его были широко раскрыты, губы безмолвно шевелились, подняв руку, он указывал на туман.
— Масса, масса! — выдавил он наконец дрожащим голосом.— Корабль мертвецов.— Масса, вон он приближается к нам!
Слова негра гнетуще подействовали на экипаж. Среди моряков существует поверье, что несущийся по волнам корабль мертвецов, полуприкрытый туманом, предвещает несчастье: бурю, смерть или кораблекрушение.
Конечно, и Эбергард знал это поверье, и хотя он был выше суеверий, посмотрел туда, куда показывал ему Сандок.
— Да сохранит нас Господь! — запричитали матросы, бросаясь на колени и осеняя себя крестом.
Тут и Эбергард увидел страшный призрак.
Корабль быстро мчался им навстречу. Из тумана вырастал его черный остов. У него были три огромные мачты, как на фрегате, на борту не было ни матросов, ни капитана, только впереди, на носу, виднелся скелет с черепом.
Тихо пронесся корабль мимо парохода.
Матросы «Германии» в ужасе закрывали лица руками, только Эбергард спокойно взирал на туманное видение.
— Мартин,— крикнул он.— Пошли-ка снаряд ему вдогонку, посмотрим, крепки ли доски у корабля мертвецов.
Старый моряк, который всегда беспрекословно исполнял приказания своего господина, на этот раз только сделал движение рукой, как бы умоляя графа не сердиться на него за непослушание.
Эбергард заметил это движение, твердым шагом прошел мимо матросов и спустился в трюм к пушкам.
Мартин быстро последовал за ним.
— Господин Эбергард,— сказал он умоляюще,— ради Бога, не делайте этого!
— Не будь безумцем, Мартин! Когда мне или тебе действительно грозит опасность, ты всегда готов пожертвовать жизнью, а теперь трусишь перед туманным видением, созданным испарениями, которое тотчас исчезнет, как только раздастся выстрел.
— Корабль мертвецов появляется только тогда, когда грозит какое-то несчастье, поверьте опытности старого моряка!
— Вернись на свое место, Мартин! — приказал владелец «Германии» и собственноручно зажег фитиль.
Мартин не осмелился возражать и снова поднялся на палубу — вдали все еще виднелся призрачный корабль.
Вдруг раздался выстрел — снаряд пролетел в сторону туманного видения, и корабль мертвецов исчез.
Эбергард поднялся на палубу. Матросы разошлись по своим местам, однако тревожное предчувствие не покидало команду.
Когда совсем рассвело, с «Германии» уже видна была белая крепость Санта-Крус, и через некоторое время пароход приблизился к маленькому укрепленному острову, где таможенные чиновники подвергали корабли осмотру.
Вскоре показалась лодка с четырьмя гребцами-неграми, которые мерно ударяли веслами по воде. Между ними один особенно обратил на себя внимание Эбергарда — уж очень он был рослым и сильным.
— О масса,— говорил Сандок, радуясь прибытию в Бразилию,— здесь гораздо лучше, чем за морем в той холодной стране.
— Мне кажется, ты желал бы навсегда остаться здесь?
— С графом — да!
— Только не радуйся, Сандок, через несколько дней мы будем на обратном пути в Европу.
— Опять в эту холодную землю?
Лицо негра приняло грустное выражение, и он снова подошел к борту, чтобы посмотреть, как таможенная лодка быстро приближается к «Германии».
Эбергард невольно улыбнулся, когда заметил, что офицер вступил в оживленный разговор с чиновниками, касавшийся его. Он стоял так, что они могли узнать его: граф Монте-Веро был слишком известной личностью в Рио-де-Жанейро, чтобы чиновники хоть на минуту усомнились бы, он ли это.
Один из черных гребцов, тот самый, что выделялся своим телосложением, наблюдал за графом, о чем-то спросив соседа.
Через несколько мгновений лодка была уже возле «Германии»; матросы перебросили лестницу, и офицер в сопровождении двух чиновников перешел на пароход.
— Приветствую вас, господа! — сказал граф Монте-Beро, направляясь им навстречу.— Вы думаете, что видите перед собой привидение, но нет, тот, кто говорит с вами, поверьте, человек из плоти и крови!
— Непостижимо, ваше сиятельство! Ваше появление несказанно обрадовало и удивило нас,— отвечал офицер, вежливо кланяясь.— Ведь объявили, что вы скончались и уже приехали ваши наследники. Император будет приятно удивлен.
— В самом деле, не всегда воскресают из мертвых! Но, господа, мне было бы очень желательно отправиться далее без задержки. На моем судне нет ничего, кроме экипажа и меня самого; груз «Германии» — ее пушки и боевые припасы. Я поспешил сюда из Европы для того, чтобы разобраться в маленькой шутке. Но что это такое? Посмотрите! Один из ваших гребцов упал со скамьи, и его бьет, как в желтой лихорадке! — вдруг воскликнул граф, глядя на лодку, где один из негров, свалившись на дно, подергивался в судорогах; остальные негры в страхе отстранились от него.
— Похоже, он болен,— сказал офицер.— Это новый гребец, он еще не привык к своей службе и, вероятно, простудился в прошлую ночь, когда пришлось четыре раза в бурю выходить в море.
— Эти черные обычно не слабого здоровья,— прибавил один из чиновников, недоверчиво посмотрев на негра.
— Он серьезно болен, видите, как искажено его лицо, как закатились глаза, как он стиснул зубы. Ведь эти бедняги не защищены от непогоды. Он же нагой, если не считать короткой фаи,— проговорил Эбергард.
— Чаще всего лень побуждает этих мошенников к таким маневрам,— сказал таможенный чиновник.— Чего только не пробуют эти негры, чтобы вызвать жалость или осуществить свои планы!
— Не могу поверить, чтобы этот мускулистый негр притворялся,— возразил Эбергард.— Он не похож на одного из тех ленивых потерянных людей, которые любят только водку и праздность, ведь он невольник, который…
— Этот негр не невольник, хотя ходит босоногий, как и его товарищи, он свободный и человек с дурным прошлым.
— Мне претит отвергать человека, будь он белым или черным, за какое-либо заблуждение в прошлом и смотреть с недоверием на него и на всю его последующую жизнь.
— Ваша доброта и человеколюбие всем известны, господин граф!
— То, что я делал и делаю, не более чем обязанность, которую должен исполнять каждый.
Негр, в котором читатель, вероятно, уже узнал Марцеллино, все еще лежал на дне таможенной лодки и извивался, как раненая змея, то свертываясь клубком, то растягивая свои черные мускулистые члены.
Боязливо следили за ним трое остальных негров.
— Что случилось с этим черным? — крикнул им таможенный чиновник.
— О масса, черная рвота! — ответили они.
Так называется в Бразилии желтая лихорадка.
— Перенесите больного сюда на пароход! — приказал Эбергард.
— Как, граф, вы хотите…
— Оказать больному помощь, прежде чем будет поздно это делать. Оставьте негра на мое попечение, я постараюсь, чтобы ему была оказана медицинская помощь, и привезу его с собой на остров Виллегеньон, где «Германия» простоит до завтрашнего утра; оттуда он, если выздоровеет, может легко вернуться к месту своей службы.
Офицер согласился на предложение графа, тем более что ему самому было весьма неприятно находиться рядом с больным негром. Гребцы таможенной лодки перенесли Марцеллино на пароход.
— Отнесите больного в маленькую каюту рядом с моей! — приказал Эбергард, подходя ближе к несчастному.— Сандок, попроси сюда доктора!
В то время как матросы переносили больного в каюту, Эбергард простился с таможенниками.
«Германия» тронулась в путь и через несколько часов достигла залива Рио-де-Жанейро.
Эбергард спустился в каюту, чтобы осведомиться о здоровье больного негра.
Доктор, еще молодой человек, успокоил его:
— Я дал ему лекарство и велел покрыть одеялами. У него нет желтой лихорадки. Я еще не могу сказать, не разовьется ли в нем какая-нибудь другая болезнь, но мне кажется, что негр будет завтра совершенно здоров. Потрудитесь сами убедиться в этом, господин граф!
Доктор тихо отворил дверь каюты.
Это была низенькая, но очень уютная комната. Под окном из толстого матового стекла находилась постель, прикрепленная к стене. Стул и стол довершали убранство каюты.
Марцеллино лежал на подушках, покрытый одеялами. Этот злодей, душа которого была чернее его кожи, притворился спящим.
Эбергард приблизился к нему.
Марцеллино открыл глаза и стал пристально всматриваться в озабоченное лицо графа Монте-Веро.
— О масса! — проговорил он, сверкнув глазами.— Марцеллино хотел бы знать имя благородного массы!
— Вероятно, тебе теперь лучше? — спросил Эбергард.— Ты крепкий человек, хочешь остаться гребцом на таможенной лодке?
— О масса, это тяжелая работа! Марцеллино хотел бы работать на плантациях сахарного тростника…
— Если будешь прилежным и честным, твое желание исполнится.
— Бедный негр думает, что никто другой не может говорить так, кроме благородного графа Монте-Веро! — проговорил Марцеллино, пытливо вглядываясь в лицо Эбергарда.
— Ты угадал, Марцеллино: я Эбергард Монте-Веро, и ты поедешь со мной!
— Эбергард Монте-Веро? — повторил негр.— Благодарю, масса, бедный негр готов ехать с массой в любую глушь. О, теперь Марцеллино вовсе не болен!
Негр приподнялся на постели, делая вид, что хочет поцеловать край платья своего благодетеля.
— Не делай этого, Марцеллино, ты не раб, а свободный человек, который честно зарабатывает свой хлеб, ты возьмешь себе жену и вместе со своими собратьями будешь работать в моих колониях. Доказать свою благодарность мне ты можешь прилежной работой.
— О, Марцеллино будет делать все, что говорит масса! — пробормотал негр, отбрасывая одеяло.
— Ты должен лежать в постели до завтрашнего утра, а потом вместе со мной отправишься в Рио-де-Жанейро. Я напишу таможенным чиновникам, чтобы они знали, что ты остался.
Марцеллино прошептал слова благодарности, и Эбергард вместе с доктором вышел из каюты.
Граф направился в свою рабочую комнату. Она была невелика, но убрана с комфортом. Вдоль стен ее стояли мягкие диваны.
Над письменным столом из черного дерева, прикрепленным к стене, висела лампа. По обеим сторонам стола в стены были вделаны хрустальные зеркала. Пол устилал дорогой ковер.
Эбергард сел за письменный стол. Начинало смеркаться, за окном все яснее обрисовывался остров Виллегеньон с его укреплениями, освещенными брандвахтенными судами и огнями на мачтах стоявших на якоре кораблей.
Сандок, знавший, что его господин не любит, чтобы ему мешали в эти часы, сидел на палубе, беседуя с Мартином.
Эбергард написал несколько писем, затем сложил бумаги и, закурив сигару, лег на оттоманку головой ко входу, прикрытому портьерой.
Через несколько минут портьера тихо раздвинулась и показалась голова Марцеллино.
Негр увидел графа, лежавшего на оттоманке. Он вынул из фаи, обтягивавшей его бедра, кинжал. Затем, сгорбившись, осторожно ступил сначала одной, а потом другой ногой в комнату, ковер заглушал шаги.
Бросив взгляд на лампу, Марцеллино убедился, что его тень, когда он станет приближаться к графу, не выдаст его. С минуту он простоял в глубине комнаты, ожидая, не подымется ли граф, не заметил ли он его.
Граф не шевельнулся; вероятно, он дремал или был погружен в глубокие раздумья.
Негр с ловкостью кошки бесшумно переставлял ноги.
Еще шаг — и задуманное злодеяние совершится! Негр замер, занеся кинжал над неподвижно лежавшим графом. Но тут Монте-Веро, следивший в зеркале за всеми движениями Марцеллино, быстро вскочил, схватив правой рукой руку злодея, а другой вырвал у него кинжал. Негр не заметил зеркал напротив оттоманки.
— Неблагодарный, почему ты, целуя мою одежду, просил взять тебя в мои колонии? — спросил Эбергард ошеломленного Марцеллино.
Негр понял, что проиграл, и теперь торопливо соображал, броситься ли на колени перед графом и молить о пощаде или вступить с ним в борьбу, полагаясь на собственную силу, но взглянув на кинжал, он резко выдернул руку, выскочил из каюты и, очутившись на палубе, бросился через борт в воду.
Матросы кинулись к борту, но темные волны и беззвездная ночь скрыли беглеца.
Марцеллино тем временем быстро плыл к берегу. План, задуманный Фуксом, потерпел крах.
На утро величественная «Германия» причалила к больверку города Рио-де-Жанейро.
XXIX. ПОХИЩЕНИЕ РЕБЕНКА
Вернемся к той весенней ночи, когда в парке происходили известные нам события и прекрасная Маргарита в отчаянье пустилась в погоню за нищей графиней, которая похитила ее ребенка. Она не могла понять, что побудило старуху на такой поступок, как не могла даже с уверенностью сказать, что это была та самая старая нищая, так как в темноте не могла рассмотреть ее лица.
Измученная погоней, молодая мать с ужасом сознавала, что она с каждой минутой отставала от похитительницы все больше и больше и что скоро ей недостанет сил продолжать погоню.
Но материнская любовь и отчаяние помогли ей, преодолев себя, кинуться через кустарник наперерез похитительнице. Нищая, наверно, полагала, что бедная Маргарита не станет преследовать ее из-за ребенка, а, напротив, будет рада избавиться от этого бремени. Нищая графиня так закоренела в пороках, что в ней заглохли всякие человеческие чувства; она не остановилась бы ни перед каким преступлением, если только оно могло помочь ей удовлетворить свою страсть к крепким напиткам. И сейчас эта пагубная страсть двигала ею.
Сердце несчастной Маргариты рвалось из груди, ее золотистые волосы в беспорядке разметались по плечам, взгляд ее блуждал, дыхание прерывалось.
Уже занималась заря; сырой туман окутывал парк, накрапывал мелкий дождь. Похитительница исчезла; вокруг было тихо; Маргарита не знала, где искать жестокую женщину. Крик отчаяния вырвался из груди несчастной матери; колени ее дрожали, губы лихорадочно подергивались; наконец горячие слезы брызнули из ее глаз, на минуту облегчив душу, исполненную отчаяния.
Оставив парк, Маргарита направилась к королевскому.дворцу, думая, что где-нибудь по дороге найдет нищую графиню. Но надежды ее не оправдались, и она решила с наступлением вечера идти к лесной сторожке, надеясь там застать старуху.
Но до вечера было еще далеко. Маргарита отыскала в самом уединенном месте парка скамейку и прилегла; усталость взяла свое, и она заснула.
Когда она проснулась, уже стемнело. Вскочив на ноги, она огляделась, и случившееся снова предстало перед ней.
Маргарита знала, где находится и как дойти до хижины лесного сторожа, и быстро пошла по тропинке.
Наконец она различила в темноте очертания хижины. Маргарита прислушалась. Было тихо. Но тут она заметила, что в хижине светится окно. Там горела свеча.
Несчастная женщина поняла, что лесной сторож переселился в свою хижину. Она остановилась в горьком раздумье перед окном, как вдруг дверь хижины отворилась и в проеме появилась рослая мужская фигура. Маргарита метнулась в сторону, намереваясь скрыться.
— Стой! Кто тут? — раздался голос, который показался испуганной женщине знакомым.
— Вальтер! — невольно воскликнула Маргарита так громко, что человек, находившийся неподалеку, мог слышать.
— Пресвятая Дева! Ты ли это, Маргарита? — удивился Вальтер; это был действительно он.
— Не пугайся: это на самом деле Маргарита. Я долгое время находила себе убежище в этой хижине!
— Неужели ты так несчастна?
— Нет, я вовсе не несчастна! — поспешно ответила Маргарита, не желая сознаваться Вальтеру в своих страданиях.
— Маргарита, будь откровенна, ведь ты знаешь, что во мне имеешь друга. Ты привязалась к недостойному тебя человеку.
— Не говори этого, Вальтер, мне больно тебя слушать!
— Неужели ты все еще любишь этого низкого человека, который заманил тебя, а потом оттолкнул? Маргарита, мое сердце и до сих пор бьется для тебя! И сегодня, как тогда, я протягиваю тебе руку. Войди в хижину и поселись в ней; тебе необходимо безопасное убежище, я буду постоянно поблизости и стану охранять тебя!
— О, какой ты добрый, Вальтер, ты уступаешь мне свое место, но ты еще не знаешь, что случилось!
— Я знаю все, Маргарита!… Где твой ребенок? — спросил он тихо.
— Ты знаешь все? — прошептала несчастная и разразилась рыданиями.
— Я могу только снова предложить тебе руку, указать тебе на эту хижину и сказать: бери все, что я имею. Это, разумеется, немного, так как и я не богаче тебя, но я даю тебе все от души!
— Я не заслужила этого, Вальтер, гони меня.
— Не плачь, Маргарита, я не могу видеть твоих слез! Что случилось, того не изменить! Если бы ты еще тогда послушалась меня… Но прошлого не воротишь! Нас постигло несчастье, однако, повторяю тебе, моя любовь к тебе будет вечной! Даже если ты и теперь оттолкнешь меня, если ты не чувствуешь ко мне ни любви, ни привязанности, даже если ты… — Вальтер с минуту колебался,— даже если ты любишь другого, я не оставлю тебя!
Маргарита не знала, что отвечать.
— Где твой ребенок? — еще раз тихо спросил он.
— О, ты поможешь мне найти его! — воскликнула Маргарита и в нескольких словах рассказала Вальтеру о случившемся.
— Я думала найти здесь нищую и потому пришла сюда. Помоги мне, ради всех святых спаси моего ребенка! Сыщи его, и я вечно буду молиться за тебя!
Вальтер с грустью смотрел на Маргариту, не веря, что это та самая девушка, пение которой он слышал, по вечерам.
— Хорошо! — сказал он наконец.— Я пойду вместе с тобой и не успокоюсь до тех пор, пока не найду твоего ребенка!
— О мой добрый Вальтер, я век буду тебе благодарна!
— Пойдем же, Маргарита, теперь уже ночь, мы найдем нищую графиню где-нибудь в парке, я часто видел ее здесь.
— Она не сознается в похищении!
— Да, всякому другому, но не мне! Не пугайся, если увидишь ее среди тех презренных людей, что постоянно скрываются от света.
— Веди меня, куда хочешь, Вальтер, только помоги найти моего ребенка!
— Пойдем!
Они молча, каждый занятый своими мыслями, пошли по узкой тропинке, которая вела в чащу леса.
— Маргарита,— прервал молчание Вальтер,— как я любил тебя! Ты оттолкнула меня, а я благословлял тебя; ты избегала меня, а я жил только мыслью о тебе; ты любила другого, а я и теперь еще готов отдать за тебя жизнь!
Но Маргарита оставила без ответа слова Вальтера, да и что было отвечать: путь к отступлению был отрезан — прошлого не воротить!
Вальтер прислушался, собралась ли на эту ночь в свое убежище шайка бродяг. Раздвинув ветви, он подошел к знакомому месту.
Но напрасно — там было пусто!
Вальтер знал еще одно место, где бродяги иногда собирались на ночь.
Воодушевленная надеждой, Маргарита спешила за ним.
Наконец они достигли поляны, скрытой кустами и деревьями.
Вальтер попросил свою спутницу, чтобы она подождала его, и нырнул в заросли.
Но в этом убежище Вальтер нашел только несколько пьяных бродяг, которые встретили его угрозами и ругательством.
На вопрос, тут ли нищая графиня, его только обругали. Он вернулся к сгоравшей от нетерпения Маргарите.
— Ее нет в парке! — проговорил он.— Верно, она предчувствовала, что ты будешь искать ее.
— Значит, теперь нет надежды найти моего ребенка? — спросила убитая горем Маргарита.
— Я думаю, она может быть у Альбино!
— У Альбино? — торопливо повторила Маргарита.— Кто это?
— Я пойду к нему один, подожди мена здесь, в нарке.
— Нет-нет, возьми меня с собой!
— А ты не боишься идти в такое скверное место?
— Кто может меня обидеть, Вальтер, когда ты со мной?
Маргарита произнесла эти слова так трогательно, что Вальтеру ничего не оставалось, кроме как согласиться.
Они поспешно вышли из мрачного Вильдпарка, чтобы присоединиться к уличной толпе.
XXX. ПРИТОН ПРЕСТУПНИКОВ
Густой весенний туман окутал многолюдный город; фонари распространяли тусклый свет; мостовая была сырой и грязной.
Экипажи развозили публику из театров. Пешеходы, обгоняя друг друга, спешили по тротуарам.
На прорезавшей город Фридрихштрассе еще сверкали витрины магазинов. В толпе на тротуаре были молодые и старые, бедные и богатые.
Однако мы последуем за юной парой, которая торопливо устремилась вдоль Фридрихштрассе, а потом свернула в поперечную улицу.
— Вот мы и у цели,— сказал Вальтер, показав на тускло освещенные окна погребка, помещавшегося в угловом доме, окна которого выходили и на Фридрихштрассе, и в переулок.
— И нищая графиня здесь бывает? — удивилась Маргарита.
Этот квартал находился неподалеку от королевских ворот, и вокруг были особняки богачей и вельмож. Преступники и бродяги обычно прячутся от света, выбирая для своих сборищ более отдаленные и скрытые места, а хозяева трактиров, торговля которых поддерживается посетителями, обращающими ночь в день, поселяются в неоживленных частях города. Однако хозяин упомянутого погребка устроил свои дела иначе. Альбино Фольрад, альбинос с белыми волосами, красными глазами и женоподобным лицом, начал с того, что за деньги показывал себя с подмостков, но это не приносило ему больших выгод, и он решил переменить ремесло. Тертый калач, он уже не раз сталкивался с полицией и хорошо знал, как лучше избежать ее внимания. С этой целью он нанял подвал в аристократической части города, где никто не мог подозревать чего-либо предосудительного, именно на углу Фридрихштрассе, и окрестил свой кабак игривым названием «Кафе-клапе». Вскоре дело его расширилось и посетителей стало так много, что он легко оплачивал дорогую аренду. Название «Кафе-клапе» проще всего переводится, как убежище преступников. Это самое подходящее название тому притону, где ежедневно собирались самые отъявленные мазурики. Здесь они обсуждали свои дела и намечали жертву, здесь же делили барыши, полученные от воровских предприятий. Заведение особенно не выделялось, так как в городе все кабаки для ремесленников, кучеров и работников находились в подвалах. Густые белые занавески скрывали окна от любопытных взоров прохожих, а витрины многочисленных магазинов отвлекали внимание от низеньких окон подвала.
К Атьбино приходили по большей части те, кто состоял под надзором полиции и был общественно опасным.
Полиция не подозревала, что те, кого она искала, находятся близко.
Вальтер с Маргаритой подошли к лестнице, ведущей в погребок, стеклянная дверь которого была приветливо освещена и увешана заманчивыми вывесками, и остановились в нерешимости.
— Тебе бы лучше сюда не входить,— сказал Вальтер тихо.
— Позволь мне идти с тобой, Вальтер, не бойся за меня,— твердо ответила Маргарита.
Вальтер открыл дверь, звякнул колокольчик, и они вошли в переднюю комнату погребка, где стоял стол, на котором для вида или для случайных посетителей красовались чашки, стаканы и бутерброды. Позади стола у стены находился открытый шкаф, в нем виднелись бутылки и кувшины. Ярко горела лампа.
Налево находилась полуоткрытая дверь, из которой валил чад и слышался гул голосов.
Посмотрим же, что за посетители собрались здесь.
Уже больше часа в самой отдаленной комнате сидел с гостем Альбино Фольрад. Прежде он показывался на провинциальных подмостках в обществе Геркулеса, гремучего змея и редкостного жука и носил другое, весьма странное имя. Широкоплечим и бородатым гостем его был знакомый уже нам Дольман.
— Вам это кажется невероятным, Альбино, а между тем каждое мое слово — истинная правда. Вы же должны знать Фукса,— говорил Дольман, облокотившись на. покрытый клеенкой стол.— Фукс — мастер в своем роде, а смуглая Эсфирь…
— О ней я слышал,— Альбино встал посреди комнаты. Его внешность производила отталкивающее впечатление: совершенно белые волосы, хотя ему было не больше тридцати лет, красные, как у кролика, глаза, безволосое лицо, ввалившиеся бледные щеки, бесцветный, сладострастно приоткрытый рот.— Эсфирь хороша собой и, должно быть, любит наслаждения?
— Не так, как вы думаете, она плохо приняла бы вас за ваши манеры.
— Она настоящая женщина, Дольман, и к тому же доступная!
— Если вы будете иметь у нее успех, то можете натолкнуться на соперника.
:— Ну, это мы посмотрим, я надеюсь, что дело примет другой оборот, необходимо только выбрать подходящий момент. Что же касается моей наружности, то ведь дело не в лице.
— Согласен, если она в. вас что-то полюбит, то никак не вашу внешность. Налейте мне еще.
В эту минуту послышался страшный шум в комнате рядом, считавшейся хозяйской. Закрытая до сих пор дверь отворилась, и в ней появился стройный, довольно нарядно одетый молодой человек с закрученными нафабренными усиками, его облик дополняли перстень с печаткой и толстая цепочка, которую можно было принять за золотую. Он велел Альбино подать пиво. Только теперь стало понятно, что шум в соседней комнате был вызван рукоплесканиями. Соседняя комната имела особый выход во двор, откуда через двое ворот можно было попасть на улицу и в переулок.
В задней комнате за круглым столом сидело четверо прилично одетых мужчин; среди них был бледный господин в очках; он с лихорадочным вниманием следил за тремя картами, которые один из игроков, показав ему, бросил закрытыми на стол. Если бы молодой человек отгадал, которая из трех карт была тузом пик, он выиграл бы, в противном случае он терял поставленный им фридрихсд'ор; но метавший игрок постоянно выигрывал; молодой человек в очках в третий раз терял деньги, данные ему отцом на учебу, хотя ему и казалось, что он заметил место пикового туза.
На насильственный, отчаянный смех потерянного студента и его восклицание: «Это мошенничество, в серьезной игре так не поступают!» — раздался крик, о котором мы говорили. Бледный юноша проиграл последний фридрихсд'ор, который отец дал ему со строжайшими наставлениями; ему оставалось только либо быть выгнанным отцом, либо застрелиться.
В это время Альбино внес заказанное пиво и получил за него плату. Шулеры рассчитали, что отчаявшийся юноша своим громким именем может быть и полезен, чтобы приискивать неопытных людей, приезжавших в столицу с большими или малыми средствами, и сводить их с игроками, и предложили ему присоединиться к их шайке.
В тот самый момент, когда происходила вышеописанная сцена, у входной двери звякнул колокольчик. Мошенники тут же заперлись на ключ.
В соседнюю комнату вошли двое новых посетителей.
Это были старуха Робер и Кастелян.
Дольман, взглянув на них, тихо засмеялся.
— Дай мне кюмеля и колбасы,— сказал Кастелян Альбино, который, как видно, был ему хорошо знаком,— и чашку чая для госпожи Робер.
— Не нужно, не нужно, мой милый,— поспешно произнесла госпожа Робер.— Я ничего не пью, разве съем кусочек колбасы из твоей тарелки.
— Эта добрая женщина копит деньги, а потому голодает,— подмигнул Дольман Кастеляну,— и все это для своего нового супруга! И когда же состоялась свадьба?
— Занимайтесь своими делами,— сказала старуха, кладя зонтик и мешок на стол, за который уселся тучный Кастелян.— Вам и без меня есть о чем подумать. Скажите лучше, как идут дела в «Белом Медведе» и что поделывает доктор? — Лицо старухи искривила злая улыбка.
— Смотри, чтобы я не ответил тебе тумаками, проклятая ведьма! — воскликнул Дольман.
— Тише, тише, дети мои.— Кастелян поднял свою толстую руку.— Стоит ли вам упрекать друг друга?
Кастелян был в весьма приличном сюртуке и шляпе, вероятно, оставшихся от закладов у госпожи Робер. Она пустила Кастеляна к себе в дом, кормила и поила его, за что он помогал ей обделывать темные делишки, словом, исполнял при ней незавидную роль мужа, без всякого благословения священника: госпожа Робер пожалела на это денег.
Альбино принес колбасу и водку, когда у двери снова послышался звон колокольчика.
Вошли двое мужчин. В одном с первого взгляда чувствовался жулик, а второй по виду был отставным хористом: небольшого роста, сутуловатый, с толстым, круглым, гладко выбритым лицом и бегающими желтыми глазками. Длинные вьющиеся волосы дополняли его портрет. Тщательно застегнутое платье сильно лоснилось, особенно на рукавах, из светло-коричневого оно стало совсем темным. Спутник отставного актера, потерявшего голос, очевидно, прихватил его с собою для своих темных целей. Войдя в трактир, он бесцеремонно бросил шляпу на стол и исподлобья осмотрел присутствующих. Его темные руки давали повод Дольману думать, что пришедший или кузнец, или гравер.
Новоприбывший коротко и отрывисто потребовал себе пунш и тотчас же бросил на стол деньги. Альбино внимательно осмотрел монеты и только потом дал сдачу.
— Вы что, никогда денег не видали? — запальчиво спросил незнакомец, подняв на Альбино мрачные глаза. Трактирщик тем временем бросил монету на стол, чтобы испытать на звук.
— Вы напрасно сердитесь! На этой неделе я два раза получал фальшивые талеры!
Незнакомец, вскочив, выхватил талер из руки Альбино: — Так верните мне талер, вот другие деньги! Но знайте, ноги моей больше не будет в вашем мерзком кабаке!
— Смешно! — заметил актер, желая вставить и свое словцо в шумный разговор.— Что же теперь — остерегаться давать талеры? — Он с удовольствием стал прихлебывать пунш из стоявшего перед ним стакана.
— Самое выгодное дело — чеканить талеры! — рассмеялся Кастелян.
— Верьте им! А пока те, кто живет за счет других, не хотят брать и настоящих! Что значит фальшивый талер? — рассуждал незнакомец.— Какое значение имеют какие-нибудь две тысячи монет, вычеканных не из настоящего серебра?
— Никакого! — согласился актер, не выпуская из рук стакана.
— Только бы каждый брал их! Настоящее это серебро или какое другое — все равно.
— Само собой, все равно! — заключил актер.— Возьмем хотя бы бумажные деньги: какую стоимость имеют эти разрисованные бумажки в руках тех, кто их имеет? Воображаемую, только воображаемую.— Актер явно хотел выказать свою образованность.
Госпожа Робер покачала головой и обратилась к тарелке Кастеляна, желая взять кусок колбасы, но возлюбленный семидесятилетней мошенницы ничего ей не оставил.
— Ты, похоже, проголодалась, милая Робер? — сказал Кастелян, заметив ее удивленный взгляд.— Альбино, принеси-ка нам…
— Ничего не надо приносить,— пугливо перебила старуха.— Мне вовсе не хочется есть!
— Ты опять сильно кашляешь; вспомни о своей одышке, милая Робер, не отказывай же себе! — проявил Кастелян заботливость, которая заставила Дольмана засмеяться.
— Ах, мошенник! — пробормотал он про себя.— Все вытянет из старухи, пока в один прекрасный день не бросит ее. Он просто хочет получить вторую порцию.
Заметив, что Дольман смеется над нею и Кастеляном, старуха злобно проговорила:
— Во всяком случае, будь у меня аппетит, я в состоянии заплатить и за шестьдесят порций колбасы! Некоторых от такого аппетита удерживает то, что им нечем заплатить за ночлег и за водку!
— Вот тебе, Альбино, мой долг,— сказал Дольман вместо ответа и положил на стол монету.— Я не из тех, кто не оплачивает своих счетов.
Тут старуха разразилась таким громким хриплым смехом, что актер, о чем-то шептавшийся с незнакомцем, испуганно обернулся.
— …От доктора! — выдавила сквозь смех старуха.
При этих словах Дольман порывисто вскочил, с шумом отодвинув стол, и стакан полетел на пол.
— Смотри, чтобы я не поломал тебе ребер, проклятая старуха! — закричал он, размахивая кулаком.— Еще только раз скажи это — и отправишься к чертям вместе с твоим Кастеляном! Он знает меня — я не люблю шутить.
— Что с тобой? Разве есть что обидное в слове доктор? — удивился толстяк.
Дольман готов был броситься на престарелую парочку, но Альбино остановил его:
— Вы что, не слышите, что колокольчик звонит? Не шумите!
Действительно, кто-то вошел.
Это оказалась нищая графиня. Полиция не тревожила ее больше, несмотря на фантастические лохмотья. Правда, сначала ее как бездомную посадили в работный дом и повели к судье для допроса. Но там она без всяких церемоний назвала себя графиней Понинской, и когда подтвердилась ее принадлежность к обедневшему польскому дворянству, старуху выпустили. Вскоре ее знали все полицейские, но не трогали, так как всякий арест ни к чему бы не привел.
Нищая графиня поклонилась гостям, с достоинством уселась у стола в задней части комнаты и подозвала к себе Альбино.
— Принеси мне стакан, только побольше,— сказала она хриплым голосом, и ее грязное загорелое лицо передернула довольная улыбка.
— Хорошо, графиня,— ответил Альбино,— но прежде… — Он протянул руку.
— Знаю, что ты думаешь, сын мой,— старуха ко всем обращалась на ты.— На, послушай-ка звон! — Она похлопала по одному из карманов, в котором зазвенели деньги.
— Значит большой…
— Если не хочешь лишний раз беспокоиться, принеси сразу два больших — мне пить хочется, сын мой! О, давно у меня во рту не было и капли драгоценного напитка, облегчающего нашу жизнь! — Графиня тяжело вздохнула.
— Что это вы сегодня спозаранку ходили с пакетом к наезднику Лопину? — поинтересовался Альбино, наливая водку в стаканы
Старуха на минуту растерялась.
— Я, утром? Ты, верно, тогда еще не совсем проснулся, сын мой?
— Когда поутру я выпускал последних гостей, чтобы закрыть на пару часов свой погребок, вы проходили по Фридрихштрассе.
— Ты это видел во сне: я ночевала в Вильдпарке и встала очень поздно; у меня старая привычка долго спать.— Графиня хрипло засмеялась.
Альбино подал ей два больших стакана, за которые она, не мешкая, вынув несколько монет, расплатилась.
Приход графини в кабак за порцией водки, от которой опьянел бы любой мужчина, прервал разговор Дольмана с госпожой Робер и Кастеляном. Дольман казался сильно разгневанным. Он встал и подошел к столу, за которым сидела эта нелепая пара.
— Чтобы вам известно было, что случилось с доктором,— начал он,— и чтобы вы впредь ко мне не приставали, я вам сейчас все расскажу.
— Ему кто-то свернул шею у тополиной аллеи, мы это и без тебя знаем,— перебил Кастелян.
— Помолчи, пока я кончу! Он напился до бесчувствия в «Белом Медведе» и не мог заплатить по счету. У меня было несколько грошей в кармане, доктор заметил это; мы шли ночью вместе, и когда дошли до того места, где началось громадное поле, этот мошенник предложил мне померяться силами, обещая заранее меня побороть. В этой борьбе он сломал себе оба ребра; так было дело, и горе тому, кто осмелится рассказать это иначе!
— Уже поздно,— сказала старуха Робер Кастеляну, как будто не слышала Дольмана.— Пойдем-ка!
— Как хочешь, милая Робер, ты знаешь, я сговорчив, но не очень крепко стою на ногах!
— Мне здесь очень не нравится, ты поел, выпил — и довольно. Господин хозяин, потрудитесь получить деньги, они настоящие.
Старуха встала, взяла свой мешок и, порывшись в нем, вынула деньги, потом бережно отсчитала и положила на стол несколько монет, но долго не могла отвести от них руку — видно, ей трудно было расстаться с ними.
Кастелян с трудом стал вставать из-за стола, а старуха, вооружившись зонтиком и мешком, уже подходила к полуотворенной двери, как колокольчик снова зазвонил. На этот раз в кабак вошли Маргарита и Вальтер. Тут-то и произошла любопытная встреча.
В дверях Маргарита столкнулась с госпожой Робер, и обе воскликнули от удивления, уставившись друг на друга.
— Что случилось? — спросил Кастелян, с удивлением глядя на эту немую сцену. Теперь, когда он уже встал, ему хотелось поскорее выйти из кабака.
— Эге! — произнесла старуха,— да это же Марго, мы должны воротиться! Это милая красавица Маргарита! И опять с новым дружком? Детка, так не годится: от принца — к работнику!
Маргарита хотела молча, с презрением пройти мимо старой сводницы — Вальтер успел шепнуть ей, что нищая графиня сидит в передней комнате, но старухе не хотелось выпускать из рук молодую женщину. Она знала ей цену и уже думала о вознаграждении, которое может получить за то, что найдет девушку. Робер опять вернулась в кабак, толкнув Кастеляна и дав ему понять, чтобы и он следовал за нею. Дольман с удивлением смотрел на всю эту сцену, а Альбино не мог отвести глаз от прекрасной посетительницы.
Графиня была так занята вином, что не заметила вошедших.
— Войдем, детка,— старуха схватила Маргариту за руку,— садись сюда, я желаю тебе добра!
— Оставьте меня, госпожа Робер,— отвечала испуганная Маргарита.
— Тебе не будет вреда, если ты пойдешь со мной,— убеждала старуха, глаза ее алчно блестели, а костлявые пальцы все крепче сжимали руку молодой женщины.
— Оставьте Маргариту,— вмешался Вальтер, становясь между ними.— В противном случае…
— Ого! Только не давать воли рукам! — С этими словами Кастелян оттолкнул Вальтера.
— По какому праву вы вмешиваетесь в дела…
— Которые вас не касаются? То же самое я хотел спросить у вас,— перебил Вальтера заступник сводницы.
— Я.ничего не понимаю! Маргарита, знаешь ли ты госпожу Робер и ее защитника?
— О Вальтер, помоги мне!
— Дитя мое, расскажи мне лучше, как ты сюда попала! Пойдем со мной, один очень богатый господин… — нашептывала старуха.
— Святая Дева, сжалься надо мною! — простонала девушка.
— Прочь с дороги! — воскликнул рассерженный Вальтер, оттолкнув Кастеляна.
— Убирайтесь отсюда, если желаете шуметь и ссориться! — закричал Альбино, подскочив к Вальтеру, на которого замахнулся Кастелян.
— Отвяжитесь добром,— Вальтер отступил к стене.
— Девушка может остаться, но мальчишка пусть убирается,— настаивал Альбино.
Толстый Кастелян, вооружившись ключом, набросился на Вальтера.
Дольман видел, что защитник девушки, которая плакала от страха, стараясь освободиться из рук старухи Робер, должен будет отступить перед двумя мужчинами.
— Прочь, Альбино! — громко закричал он.— А тебе, Кастелян, я разобью череп! Прочь, мошенники! Вдвоем — на одного! Оставьте его!
— Я справлюсь с ними сам,— остановил Дольмана Вальтер, схватив руку Кастеляна.
— Я не допущу здесь скандала! — закричал Альбино, обращаясь к Дольману, который оттащил его прочь.— Еще не хватает посадить себе и вам полицию на шею.
— Так вышвырни отсюда эту старую сводню, чего она пристает к девушке?
— Действительно, девушка слишком хороша, чтобы ее уступать старухе! — Альбино подошел к столу, возле которого сидели Робер и Маргарита.— Оставь девушку в покое.— Альбино, как бы желая защитить девушку, обнял ее за талию.
Маргарита вскочила, ее лицо пылало негодованием, а маленькая рука с силой ударила Альбино по щеке.
— Ого! — воскликнул он.— Маленькая змея умеет жалить.
— Когда на нее наступают,— сказала Маргарита.
— Это справедливо,— поддержал Дольман решительную девушку.— Недурно было б и сводне закатить пощечину.
Тем временем Вальтер вытолкнул толстого Кастеляна на лестницу, так что тот свалился на ступени.
— Убийца, разбойник! — Мадам Робер кинулась на защиту мужа, потрясая своим красным зонтом.
— Убирайтесь вон отсюда, да поскорее.— Вальтер едва удерживался, чтобы снова не напасть на лежавшего Кастеляна.
— Милый мой, давай уйдем, главное — я нашла пташку, и теперь мы уже не выпустим ее из рук. Ты знаешь, я умею доводить дело до конца.
— Проклятая скотина,— простонал толстяк, с трудом садясь на ступеньки,— он переломал мне все ребра.
— Пойдем же!
— И поторопитесь, а то я вам помогу! — не успокаивался Вальтер, но все же вернулся в комнату, где Альбино снова приставал со своими ухаживаниями к Маргарите.
— Оставьте девушку в покое, Альбино,— остановил его Дольман, схватив за шиворот и оттолкнув в сторону.
Шум разбудил нищую графиню. Ее голова, отяжелев, свесилась на грудь, челюсть отвалилась, когда она вздохнула, хрип разнесся на весь погребок.
Графиня обвела комнату тупым взглядом и узнала Маргариту. Ее красное от водки лицо побледнело от испуга; она встала, рассчитывая незаметно выскользнуть из комнаты. Но Вальтер заметил ее движение и, схватив за плечо, посадил на место.
— Куда вы девали ребенка, которого украли сегодня ночью?! — набросился он на старуху.
Дольман и Альбино тоже подошли к растерявшейся графине.
— Это она! Куда вы девали моего ребенка? — с отчаянием закричала Маргарита, бросаясь к нищей.— Сжальтесь! Скажите, где мой ребенок?
По лицу Альбино было видно, что он ничего не понимает.
— Оставьте меня! — обратилась нищая графиня к Вальтеру.— Ребенок у наездника Лопина, я думала, вы будете благодарить меня за то, что я отдала его в хорошие руки! У Лопина за ребенком будет хороший уход, а потом из него сделают артиста; у вас ему придется быть нищим или того хуже.
Маргарита, не слушая больше старуху, бросилась вон из погребка, Вальтер быстро последовал за ней.
XXXI. ОХОТА НА МОРЕ
Можно представить удивление двора в Рио-де-Жанейро, когда стало известно, что граф Монте-Веро жив и невредим.
Император принял Эбергарда и отдал приказ найти мошенников, учинивших столь наглый разбой.
Позволит ли мне ваше величество,— сказал Эбергард,— обеспокоить вас просьбой?
— Нам будет очень приятно хоть чем-нибудь услужить вам, дорогой граф фон Монте-Веро,— взволнованно проговорил Педру.— Горесть, испытанная нами, перешла в радость, так как мы вас любим как брата. Говорите!
— Вы весьма милостивы, ваше величество. Но я прошу позволения самому преследовать и наказать разбойников,— спокойно сказал граф.
— Нам известна ваша справедливость, и потому мы передаем нашу власть в ваши дружеские руки. Делайте все, что найдете необходимым, но не лишайте нас слишком скоро вашего дорогого для нас присутствия. Скоро ли мы увидим вас окончательно поселившимся в наших странах?
— Мои обязанности заставляют меня возвратиться в Германию, как только я покончу с разбойниками, ваше величество. У меня там еще не окончены многие дела.
— Слава о ваших делах дошла и до нас, господин граф, вы и там приносите пользу человечеству, и мы счастливы тем, что можем называть вас своим другом! Но мы бы желали как-то ознаменовать эту радостную встречу, чтобы расстаться с вами с сознанием, что оказали вам все почести, которые в руках правителя служат выражением любви и уважения, чего вы в высшей степени достойны, граф Монте-Веро! За то, что вы не только в своих владениях, но и повсюду, где появляетесь, сеете добро, мы возводим вас в княжеское достоинство. Ваше графство с сегодняшнего дня становится наследственным княжеством Монте-Веро. Канцлер немедленно исполнит необходимые формальности. Мы счастливы, что первыми поздравляем вас и желаем вам полного благоденствия, князь Монте-Веро.
Эбергард, растроганный, преклонил колена и пожал протянутую ему императором руку.
— Я благодарен вам за все, ваше величество,— проговорил Эбергард, когда император поднимал его с колен.— Вы оказываете мне слишком великую честь. Сердце мое чувствует вашу доброту и благодарит вас, государь, лучше слов! Но в моей жизни есть многое, что делает слишком тяжелой пожалованную вами корону.
— Горделивая скромность заставляет вас искать доводы, которые мы не можем принять. Князь Монте-Веро, мы были счастливы доверием, которое вы нам оказывали, мы знаем всю вашу прошлую жизнь. Не лишайте нас удовольствия выказать вам нашу любовь и уважение!
— Я не в силах далее возражать, ваше величество; мне остается только сделаться достойным такой милости.
Поцеловав Эбергарда, император удалился. Происшествия последней недели потрясли его более, чем полагал Монте-Веро: даруя ему одному во всей стране княжеское достоинство, император желал тем самым заплатить двойной долг. Его сильно беспокоила мысль о Корнелии Ренар.
В отдаленной зале дворца было прохладно; занавеси на окнах защищали от солнечного света.
Усевшись в кресло и подперев голову рукою, император погрузился в тяжелые раздумья. Только равномерное движение маятника нарушало тишину.
Вдруг портьера у двери откинулась и смуглая Эсфирь быстро вошла в комнату. Она казалась очень расстроенной, глаза ее блестели, лицо было бледно, волосы распущены. Она протянула руки, точно издали еще хотела просить о милости.
Педру обернулся и с удивлением узнал Корнелию Ренар.
Эсфирь уже стояла на коленях перед императором. Он встал с места, не находя, что сказать.
— Будьте милостивы, государь… Я невинна — ах, моего отца так жестоко обманули!
— Однако он убежал с ложным графом и принимал участие в убийстве и грабеже.
— Это невозможно! — воскликнула Эсфирь, закрывая лицо руками.
— Не сомневайтесь больше, донна Корнелия, ваш отец — соучастник преступления!
— Это ужасно! Лучше смерть, чем такой позор!
— Ваш отец знал об обмане, но, разумеется, не посвящал вас в свои тайны!
— Он был тоже обманут незнакомцем, который представился нам в нашем доме как граф Монте-Веро. Отец не мог быть замешан в этом деле! Сердце дочери не может допустить этой мысли! Верьте мне, ваше величество, он не виновен, он обманут!
— Я жалею вас от души, Корнелия: вы страдаете без вины!
— Я близка к сумасшествию, ваше величество!
— Успокойтесь, не будьте опрометчивы! Разве брат виновен в грехах брата, а дочь — в злодеяниях отца?
— Я пришла сюда, ваше величество, чтобы проститься с вами и поблагодарить за милости, которые вы мне оказали. Несчастная Корнелия возвратится опять в Европу, где у нее есть далекие родственники, к которым она пойдет просить приюта. У несчастной Корнелии есть только одно желание, только одна последняя просьба: не откажите в ней женщине, которая в отчаянии и которая может дойти до самоубийства, не будучи в силах перенести позор.
— Говорите, донна Корнелия!
— Прикажите, ваше величество, не преследовать моего отца, который и без того страдает от угрызений совести; избавьте меня от стыда и мучений, которые я не в состоянии буду переносить! — произнесла Эсфирь взволнованно.
— Очень сожалею, но я уже не в состоянии исполнить вашу просьбу, бедная девушка. Князь Монте-Веро уже получил позволение преследовать и наказать ложного графа и вашего отца.
— Значит, они пропали, и я вместе с ними! Вы меня больше никогда не увидите, ваше величество, никто не должен знать, где покончила с жизнью дочь несчастного, никто не должен больше ее видеть! — Эсфирь в отчаянии заметалась по комнате.
— Да утешит тебя Святая Дева, бедное, прекрасное создание! — проговорил Педру. Ему тяжело было расстаться с нею, но и невозможно было дольше удерживать ее в Рио-де-Жанейро.
— Донна Корнелия,— сказал император,— возвращайтесь в Европу к вашим родственникам, но мне бы хотелось быть уверенным, что вас дорогой никто не обидит. У вас здесь нет никого, кто бы мог защитить вас и помочь вам, поэтому извините мой нескромный вопрос: достаточно ли у вас денег? Вы не отвечаете, вы закрываете свое прекрасное лицо… подождите минуту…
Дон Педру подошел к столу, взял перо и написал на листе бумаги значительную сумму.
— Передайте эту записку казначею, а теперь желаю вам всего хорошего!
— Мой государь! — подавленно проговорила Эсфирь.— Воспоминание о ваших милостях будет вечно сопровождать меня и придавать мне сил! — Она взяла бумагу и быстро вышла из кабинета.
Дон Педру смотрел ей вслед с тяжелым чувством — хитрая интриганка ловко сумела обойти доверчивого императора.
Закутавшись в темную тальму, Эсфирь быстрым шагом направилась в казначейство. «Следует поскорее уехать отсюда,— думала Эсфирь.— Было бы безрассудством поджидать Фукса и Рыжего Эде. Розыск и наказание разбойников поручено Монте-Веро, от которого они могли бы спастись, только убив его».
Но сила и могущество графа отнимали у нее всякую надежду на их спасение. Эсфирь решила довольствоваться деньгами — Дон Педру подарил ей около пяти тысяч талеров — и в тот же вечер уехала с первым отходящим кораблем.
Возвратимся теперь к Эбергарду, который, оставив императорский замок, торопился в свой дворец у французских ворот. Это была прелестная вилла. Простая и уютная, она напоминала швейцарские шале и стояла посреди великолепного парка в окружении тенистых пальм. Изящные беседки виднелись среди зелени, яркие птицы покачивались на ветках, обезьяны прыгали и играли в проволочных домиках.
Эбергард с особым почтением был встречен своими преданными слугами. Известие о получении им княжеского титула быстро разлетелось по городу и дошло и сюда, так что ему пришлось принимать поздравления со всех сторон.
Князь Монте-Веро тотчас поручил управляющему Шенфельду, сопровождавшему его в плавании, преследовать разбойников. Сам же он хотел на следующий день поехать в свое поместье, чтобы до отъезда на родину успокоить поселенцев своим появлением. Хотя разбойники разыскивались государственными сыщиками, он со своей стороны хотел отрядить людей в помощь им.
Когда многочисленные визиты грандов и прочих вельмож страны окончились и совсем уже стемнело, к его комнате подошел штурман Мартин и попросил Сандока доложить о нем. Но Эбергард сам вышел ему навстречу, радушно протягивая руку.
— Входи, Мартин! Судя по выражению твоего лица, у тебя важная новость!
— Очень важная, князь,— кормчий притворил за собой дверь.
— Называй меня по-прежнему, Мартин. Ты же знаешь, я не люблю титулов. Для тебя я был и останусь господином Эбергардом! Давай присядем, а Сандок зажжет нам свечи.
— Как пожелаете, господин Эбергард.— Мартин присел на стоявший поблизости стул.— На самом деле это были Фукс с сообщником.
— Я так и думал, судя по рассказу Шенфельда. Откуда ты это узнал?
— Я его только что видел на берегу. Он меня не заметил, я же его отлично разглядел.
— Значит, он в Рио?
— Только что приехал, господин Эбергард. Он говорил с негром, который, без сомнения, и есть тот мошенник.
— Марцеллино! Значит, этот черный тоже принадлежит к шайке? Отчего ты не схватил их?
— Тогда бы господин Эбергард не увидел ни меня, ни Фукса.
— Ну, рассказывай!
— Час назад я оставил «Германию», украшенную тридцатью флагами в честь сегодняшнего торжества, чтобы явиться сюда. Я подходил уже к улице Иеро-нима, как вдруг заметил трех мужчин, которые свернули к трактиру на берегу. Негр показался мне знакомым. С ним были двое белых. Я осторожно пошел за ним, стараясь остаться незамеченным. На террасе у трактира было темно, так что я мог усесться там со своею кружкой пива. И тут я узнал негра, а в одном из белых — Фукса, второй был мне незнаком. Видно, именно он выдал себя за сына господина Эбергарда, и тут я понял, что это один из тех мазуриков, которых мы видели в трактире «Белый Медведь». Я не упустил бы их, если бы был не один. С тремя мошенниками я бы еще справился, напади на них врасплох, но к ним подошли еще двое. Как я после понял, один из них был капитаном невольничьей шхуны, а другой кем-то вроде штурмана. Фукс о чем-то с ними условился, и мне казалось, что речь шла о бегстве.
— Ты давно вышел из трактира? — нетерпеливо спросил Эбергард.
— Еще часу не прошло. Молодцы эти говорили очень тихо, к тому же Фукс говорил на ломаном португальском. Наконец они, по-видимому, сговорились и, заплатив хозяину за водку и вино, вышли из трактира.
— Ты не пошел за ними?
— Разумеется, пошел! Как я мог оставить без присмотра этих проклятых мошенников! Я следил за ними на расстоянии двадцати или тридцати шагов. Они подошли к берегу, и, насколько я смог разглядеть впотьмах, там к их обществу присоединилась еще и женщина.
— Это, должно быть, была невеста ложного графа, о которой рассказывал Шенфельд.
— Я не мог ее узнать, она была закутана в темную тальму, но она явно принадлежит к их шайке. Недалеко от берега стоял неказистый невольничий корабль, легкая шхуна, какими пользуются торговцы, чтобы уходить от преследования. Такая шхуна идет при попутном ветре быстрее парохода. Ее-то и нанял Фукс. Мне показалось, что они произнесли слово «Нью-Йорк».
— Значит, они уже отправились?
— В это время подъехали шесть крытых карет, и шхуна на свист капитана приблизилась к берегу.
— Но как же выйдут они из гавани, не заявив прежде об этом?
— Бьюсь об заклад, они ночью выйдут в море!
— Но Мартин, ведь это невозможно!
— Для этой шхуны все возможно, господин Эбергард. В ней так много темных закутков на палубе, что никакой таможенник не заподозрит там пассажиров.
Эбергард встал.
— Плохое дело,— сказал он.— Но мошенники не уйдут от меня!
— Им потребуется не менее четырех дней, чтобы достигнуть Нью-Йорка, и нам не больше.
— Их корабль, вероятно, будет держаться берега.— Эбергард в беспокойстве ходил по комнате.
— У «Германии» тоже ход неглубок, так что мы спокойно пойдем за ними.
— Этот Фукс, который уже однажды находился в моих руках и которого я тогда выпустил с строгим предостережением, теперь не уйдет от меня. Его следует обезвредить. Еще тогда я поклялся ему, что если только он еще раз станет мне поперек дороги, пусть прощается с жизнью. Я избавлю общество от него не из личной мести, а за то, что он неисправимый разбойник. Мы должны догнать шхуну во что бы то ни стало. Вели затопить машину, Мартин, через несколько часов я буду на «Германии»; мы должны выйти вслед за негодяями этой же ночью.
В это время раздался сигнальный выстрел.
— Черт возьми! — воскликнул Мартин.— Теперь мы не можем выйти раньше утра. Если шхуна успела выйти до выстрела, она будет на двенадцать часов впереди нас. Да еще при попутном юго-западном ветре.
— Тем не менее мы должны выйти как можно раньше; ветер, попутный для шхуны, надует и наши паруса! Пока ты сделаешь нужные приготовления, я напишу письмо Шенфельду, так как мне самому уже не придется отправиться в Монте-Веро. Торопись, Мартин, вскоре я буду на пароходе.
Попрощавшись, кормчий быстрым шагом вышел из комнаты.
Князь Монте-Веро принялся за письмо к управляющему. Когда он окончил его, настала полночь. Он переговорил с вестовым, который должен был отвезти депеши в Монте-Веро, и в сопровождении Сандока направился к гавани.
На «Германии» все уже было готово к отплытию.
Поднявшись по трапу, Эбергард поздоровался с матросами. Это были здоровые, широкоплечие молодые парни, в белых рубашках с синими воротниками, в синих куртках, таких же панталонах и широкополых шляпах, которые они, здороваясь, сняли. На лентах шляп золотыми буквами было написано название парохода и имя Монте-Веро.
Подняли трап, но машинист еще не получил приказ отчаливать.
— Ребята! — обратился Эбергард к матросам.— Нам предстоит погоня. Мы должны догнать корабль, отправившийся в Нью-Йорк на двенадцать часов раньше нас; тот, кто первым увидит шхуну с темными парусами, получит сто долларов. Если мы догоним корабль и захватим его добром или силою, то каждый получит по сто унций золота, а теперь — вперед!
Довольные возгласы были ответом князю, если бы он и не обещал матросам награды, то и тогда их преданность не уменьшилась бы.
— Вперед! — скомандовал князь Монте-Веро. Колеса начали медленно вращаться, вода запенилась, и пароход двинулся.
Еще до утра судно достигло острова Виллегеньонь, где через несколько часов послышался выстрел, извещавший об открытии гавани. «Германия» обошла бухту и прошла мимо острова Лаге. Восход солнца застал корабль уже в открытом море; свежий ветер поднял паруса, и красавец-корабль как птица полетел по багряным волнам.
Прошел день, а следов шхуны никто не заметил. Эбергард стал уже подумывать, не взяла ли она другой курс. Мартин же уверял, что они еще не могут видеть шхуну. К тому же вечером небо заволокло тучами, что мешало наблюдению. Князь приказал зарядить все шесть пушек и держать фитиль наготове, зная, что невольничьи корабли обычно первыми стреляют по судам, которые кажутся им подозрительными. Свободные от вахты матросы разместились на мачтах. Сандок взобрался на самую высокую. Но шхуны не было видно.
Под утро ветер сменил направление. Теперь «Гер-мания» получила преимущество — корабль неприятеля не мог идти против ветра.
В полдень зоркий глаз Сандока завидел на горизонте черную точку, которая казалась совсем неподвижной.
— Шхуна! Шхуна по курсу! — радостно закричал он.
На палубе поднялось движение. Эбергард направил подзорную трубу в направлении, которое указывал негр, и действительно увидел корабль, на котором убирали паруса.
— Судя по всему, это должна быть шхуна, нанятая Фуксом,— заключил он.
Сандок получил обещанную награду. Он продолжал зорко следить за неприятельским кораблем и вскоре сообщил, что на шхуне их, видимо, заметили, так как там поднялось сильное движение. Тут подул западный ветер, и матросы на шхуне распустили часть парусов. Мартин, взглянул на компас, заключил, что неприятель больше не держит путь в Нью-Йорк, в свернул на северо-восток.
— Они делают все, только бы убежать от нас,— сказал Эбергард, наблюдавший за действиями шхуны в подзорную трубу.
— Эти мошенники не удерут от нас, даже если мне придется догонять их вплавь,— зло проговорил Мартин, держась за руль и следя за тем, чтобы не сойти с курса, которого держался неприятель.
К вечеру «Германия» заметно нагнала шхуну. На пароходе царила радость. Эбергард велел подать всем по двойной чарке вина. Неожиданно прорезавшаяся сквозь тучи луна позволила увидеть, что неприятельское судно уже настолько близко, что до нее могут долететь слова, сказанные в рупор.
— Еще немного — и мы догоним эту ореховую скорлупу,— сказал Мартин.
— Возьми правее! — приказал Эбергард и поднес к лицу рупор.— Капитан! — закричал он.— Есть ли у вас на корабле двое немцев?
— Нет, наш корабль не принимает пассажиров, я плыву для закупки товара на рынок в Рио! — послышалось со шхуны.
— А почему вы изменили курс?
— Я не обязан отчитываться перед вами. И вообще, почему вы нас преследуете? Ведь вы тоже изменили курс!
— Потому что я хочу вас задержать! И если вы не исполните мое требование, я заговорю с вами другим языком!
— Вы мне грозите своими пушками? Но берегитесь, если оторвете от моей шхуны хоть щепочку! Кто вы такой?
— Князь Монте-Веро. Я преследую двух немецких разбойников! Отдайте мне их! В противном случае я открою огонь.
Со шхуны послышалась сильная брань.
— Я в последний раз требую выдать мне беглых разбойников. Жду ответа!
— Сейчас получите ответ! — послышалось со шхуны.
Через несколько минут блеснул фитиль, раздался выстрел, и ядро просвистело мимо «Германии» и с шумом упало в воду.
— Огонь! — спокойно скомандовал Эбергард.— Сбейте им мачту.
Едва раздался приказ, как выстрелили три пушки правой стороны. Сильный треск доказал, что ядро попало в цель.
— Ого! — обрадовался Мартин.— Одной мачты как не бывало.
Эбергард увидел в подзорную трубу, что матросы с криками хлопочут возле сломанной мачты — своей тяжестью она накренила корабль, так что всем находившимся пришлось перейти на поднявшийся борт. Среди команды выделялись двое, которые, судя по одежде, не были матросами, а также негр и женщина со сложенными на груди руками.
Сомневаться не приходилось, и прежде чем отдать приказ стрелять снова, Эбергард хотел попробовать, не удастся ли получить разбойников без дальнейшей борьбы. Он еще раз спросил, не желает ли капитан теперь выдать ему тех, кого он требовал.
Но негодяи, вероятно, увеличили плату капитану. Сломанную мачту выбросили за борт, и снова раздался выстрел. На этот раз ядро задело корму «Германии», которая в эту минуту меняла курс.
— Не желаете покончить добром — так получайте! Огонь!
Пушки выстрелили, и пороховой дым скрыл пароход, сделав невозможными дальнейшие наблюдения, тем более что луна снова скрылась за тучами.
— Похоже, ядра попали в цель,— заметил Мартин,— по-моему, господин Эбергард, нужно идти на абордаж.
Во тьме ничего не было видно, и даже Сандок закричал, что он больше не видит шхуну. Можно было предположить, что она пошла ко дну, но Эбергард сомневался в этом. Ему казалось более вероятным, что неприятель, поняв, что борьба ему не по силам, воспользовался темнотой и пустился в бегство. Князь приказал направить пароход туда, где находилась прежде шхуна, а матросам — вооружаться. Команда быстро разобрала остро отточенные тесаки и ружья, Эбергард и Мартин взяли по пистолету, а Сандок засунул за пояс кинжал.
Было так темно, что и за десять шагов ничего нельзя было разглядеть, поэтому на мачте повесили красный фонарь, как это предписывали морские законы. Но неприятельский корабль имел преимущество, которым пользуется каждый мошенник перед честным человеком: он не подчинялся законам, надеясь на счастливую случайность, которая очень часто сопутствует ему.
Эбергард особенно внимательно следил за маневром своего судна, так как каждую минуту могло произойти столкновение со шхуной, хотя более вероятным было, что она уже успела далеко удрать. Но один из матросов закричал, что видит шхуну недалеко от носа «Германии».
— Вот! Вот этот проклятый пароход! Черт вас побери! Вы еще предстанете перед морским судом за то, что испортили наш корабль, мошенники! Вам это дорого обойдется! — послышались голоса со шхуны.
— Встаньте так, чтобы мы могли перекинуть абордажный мост! — отозвался Эбергард, не обращая внимания на брань.
— Только рискните на абордаж! Всякий, кто ступит на мостики, поплатится жизнью! Заряжайте пистолеты, друзья! — скомандовал капитан своим трем матросам, которые были заняты тем, что затыкали дыры в бортах или выкидывали за борт балласт.
— Отложите оружие! — кричал Эбергард.— Соглашайтесь на мои условия, и разойдемся с миром! В противном случае мы силой заставим вас выдать скрывающихся разбойников, и вы тогда будете обвинены в укрывательстве убийц!
— Вы ошиблись, здесь нет разбойников, можете сами обыскать корабль. Но если вы их не найдете, заплатите мне за все повреждения! Помните, в Рио есть суд.
— Господин Эбергард, вы слишком добры и снисходительны,— в бешенстве прошептал Мартин,— этот плут спрятал обоих разбойников в трюм. Предоставьте его нам!
— Успокойтесь, штурман Мартин! — одернул Мартина Эбергард.— Всегда следует быть справедливым! Я не могу выпытывать признания, но постараюсь сам во всем убедиться. Накидывайте мостики. Со мной пойдут десять человек.
— А Сандок? — спросил негр.
— И Сандок, у него хорошие глаза и отличное чутье.
Эбергард направился к борту, где перекидывали абордажный мостик. Матросы встали по сторонам его, а Сандок гордо замыкал шествие.
Мартин остался у руля и провожал князя беспокойным взглядом. Однако его беспокойство скоро сменилось удивлением. Эбергард приказал зажечь два факела и нести их впереди, а сам шел так твердо и уверенно, с таким достоинством, как будто следовал на королевский прием.
Капитан невольничьего корабля, широкоплечий мускулистый мужчина в большой соломенной шляпе, сдвинутой набекрень, отчего хорошо было видно его грубое бородатое лицо, с недоверием наблюдал за приближением князя. Его матросы все еще были заняты чем-то в трюме. На шхуне царил хаос: валялись обрушенные мачты, щепа, канаты.
— Вы должны доказать свое право на обыск, сеньор! — закричал капитан.— Но клянусь всеми святыми, вы меня запомните, хоть и сил у вас побольше моего.
— Теперь нам с вами не о чем говорить. Я и так сделал больше, чем следовало, трижды предложив покончить дело без драки и выдать мне беглецов.
— У меня нет пассажиров, сеньор; я шел с четырьмя матросами за товаром на тот берег. Теперь мне надо идти обратно в Рио ремонтировать шхуну, и вы должны мне заплатить за все потери.
Князь приказал Сандоку позвать Мартина.
Темное море покачивало сцепленные корабли. Только два факела освещали стоявших друг против друга Эбергарда и капитана. Матросы невольничьего корабля в стороне изредка перекидывались словами.
На мостике появился кормчий.
— Мартин,— обратился к нему владелец «Германии»,— узнаешь ты этого капитана корабля?
— Клянусь Богородицей, я ни на миг не сомневаюсь в этом. Он встретился третьего дня вечером с обоими разбойниками на берегу и получил от них деньги за переезд! Может, вы и это станете отрицать, капитан? Как называется кабак, куда вы заходили? Над его дверью старая вывеска с изображением монаха!
— Я не знаю никакого кабака! Если вы говорите о кабаке, который содержит Иероним, то советую лучше присматриваться к людям. Я там не бываю, а если вы что-то имеете против меня, давайте разберемся в Рио.
— Ну, это уж слишком! — возмутился Мартин.— Ведь мы же видели при свете фитиля двух разбойников, черного плута и женскую фигуру!
— В таком случае, ищите их! Их нет на моем корабле! Вы забываете, что невольничьи корабли по большей части похожи один на другой! Не говорил я ни с какими немцами и не принимал их на борт!
— В таком случае откройте трюм,— потребовал Эбергард.
— Нечего и отпирать. Все люки открыты. Идите и обыскивайте. Но повторяю: если вы ничего не найдете, то обязаны заплатить мне за все потери.
— Вдвое, втрое. Но не хотите ли вы заранее решить и то, что делать с вами, если мы их найдем? — спросил Эбергард.
— Тут нечего и обсуждать! Обыскивайте все — от палубы до кают.
Мартина так поразили спокойствие и уверенность капитана, что он стал присматриваться к нему, подозревая, не ошибся ли. Как известно, что все шхуны построены одинаково, так известно и то, что капитаны невольничьих судов — самый скверный и грубый народ. Это происходит от рода их занятий и от огромного денежного оборота, который им приходится вести. За мизерную плату они принимали от торговцев невольниками на африканском берегу негров, погружали их на корабль и везли, обходясь с ними как с животными, едва давая пищу. А на американском берегу тащили их на рынок, чтобы получить за них большую плату. Одних несчастных покупали за силу, других за красоту. Человек обращался в товар; лишнее говорить, какую роль играл при этом кнут. Торговцы невольниками были самыми страшными людьми на земле.
Мартин еще раз внимательно посмотрел на капитана. Нет, он не ошибся, больше того, этот нахальный плут явно что-то замыслил. Это подозрение заставило его остаться на палубе с факелом и несколькими матросами, в то время как остальные вместе с Сандоком, хорошо знавшим устройство корабля, последовали за Эбергардом к внутренним помещениям.
— Не смейте давать никаких приказов, пока владелец «Германии» внизу, берегитесь, если люк якобы случайно закроется. Вы за это заплатите жизнью,— сказал Мартин капитану, который с пренебрежением осмотрел его с ног до головы.
— Скажите, какая забота! А мне, друг штурман, охота посчитать вам ребра!
— Верю вам, верю! А скажите-ка, что это там за шум? — спросил Мартин.
— Вас уже и рыба раздражает! Не удивительно, что вам вздумалось стрелять в корабль!
— Хотел бы я посмотреть на эту рыбу: учиться никогда не поздно! — спокойно заметил Мартин, сделав знак матросу, чтобы тот шел за ним.— Что-то заждался возвращения господина Эбергарда.
— Проклятый проныра! — буркнул капитан, заскрежетав зубами.
— Вы что-то сказали? Не стесняйтесь, говорите громче. Может быть, вы вспомните о каких-нибудь пассажирах, спрятанных в глубине мытни?
— Нет, я только выразил скромное желание, касающееся вашей особы.
— Ого! Тогда мне следует вас отблагодарить,— рассмеялся Мартин и, пройдя мимо капитана и матросов, направился к противоположному борту.
Тем временем Эбергард спустился в глубокий, могилоподобный трюм. Сандок шел впереди него, а матрос сзади. Красноватый свет факела озарил затхлое помещение.
По обе стороны его находились двери, одни из них вели в каюты, другие в кладовые. Эбергард подходил с факельщиком к каждой двери, отворял ее и осматривал эти грязные, отвратительные закутки. В носовой части располагались тесные конуры, запертые толстыми досчатыми дверьми. В них обычно запирали после наказания кнутом провинившихся негров. Но и там не было видно и следа пассажиров.
Сандок указал Эбергарду на дверцу, ведущую в трюм.
— Это место для бедных негров,— сказал он.— Их набивают сюда как сельдей в бочонок.
Эбергард отворил дверцу, и они спустились в трюм. Здесь не было ни одного окна — волны бились о верхние балки, полусгнивший тростник покрывал пол, не было ни одной скамейки, словом, ничто, кроме зловония, не свидетельствовало, что тут неделями находятся десятки, если не сотни людей.
Эбергард приказал уже подниматься наверх, как Сандок вдруг быстро прошел в кормовую трюма к дверце, не заметной для всякого другого. После сильного толчка дверца отворилась, за нею был уступ; во тьме казалось, что за ним ничего нет.
— Хозяин! Факел сюда! — закричал Сандок.
Подошел матрос с факелом. Сандок наклонился и издал крик, каким обычно черные выражают свое удивление. На полу стоял тяжелый мешок.
— Золото, хозяин! — торжественно проговорил Сандок!
— Это был мешок из сокровищницы Монте-Веро.
— Теперь нет сомнений,— сказал Эбергард,— что разбойники на этом корабле! Просто они отлично спрятались.
В эту минуту наверху послышались крики и шум. Эбергард прислушался. Матросы подбежали к выходу, чтобы сбросить лестницу и стрелять в каждого, кто приблизится к люку.
— Вот они, мошенники! — послышался голос Мартина.
Эбергард в сопровождении матросов поспешно поднялся наверх. Оглядевшись, он тотчас понял, в чем дело.
Мартин, стоя у борта, смотрел на воду, слабо освещенную факелом. Шагах в пятидесяти от корабля на волнах качалась большая лодка, которую Эбергард считал разбитой при падении мачты. В лодке стоял Фукс, Рыжий Эде и дочь Гирша, на корме у руля сидел Марцеллино. Мартин приказал спустить лодку со своего корабля, чтобы догнать разбойников. Он хотел спасти и их, и сокровища. Но князь Монте-Веро остановил его.
— Они идут на смерть, Мартин, предоставь их воле Божьей,— сказал он, глядя на качающуюся среди волн шлюпку.
— Когда мы уплывем, господин Эбергард, они возвратятся на шхуну и спокойно отправятся дальше вместе с награбленной добычей. Позвольте хотя бы пустить пулю в этого проклятого черного дьявола.— И Мартин, схватив из рук матроса ружье, спустил курок, прежде чем Эбергард мог помешать ему.
За выстрелом последовали дикий крик, проклятия и призывы на помощь. Шлюпка покачнулась так сильно, что непременно опрокинулась бы, не будь на дне мешков с золотом.
Пуля попала Мерцеллино прямо в грудь, он резко вскочил и в судорогах повалился за борт. Плеск воды говорил о том, что черный дьявол борется со смертью под покрытой мраком водой.
Через несколько минут мир освободился от него.
Капитан невольничьего корабля, казалось, не обращал внимания на происходившее на палубе. А Фукс и его приятели, схватив весла, погоняемые смертельным страхом, старались изо всех сил уйти подальше от «Германии».
Но их бот сделался игрушкой волн, и хотя усилиями двух преступников удалось увеличить на какое-то время расстояние между ним и кораблями, но было безумием надеяться спастись на такой скорлупе среди разъяренной стихии. А потому князь Монте-Веро смотрел на них, как на людей, обреченных на неминуемую гибель, с мыслью о прощении, сознавая, что они принимают наказание от руки самого Бога.
Когда шлюпка исчезла из виду, Эбергард возвратился со своей свитой на «Германию» и приказал капитану невольничьего корабля плыть к Африке. Капитан скрежетал зубами, но уже ничего не говорил о возмещении убытков.
Эбергард подождал до утра и, убедившись, что воссоединение шхуны и шлюпки невозможно, на рассвете приказал рулевому держать путь в Европу.
Князю еще многое оставалось совершить в его немецком отечестве. Он думал о своем бедном потерянном ребенке, и горячая слеза скатилась по щеке. Он отдал бы все миллионы Монте-Веро и свои бразильские копи, с радостью променял бы свое могущество на бедность, если бы мог таким путем исполнить самое заветное, вымаливаемое у Бога желание — найти свою дочь.
Князь Монте-Веро, конечно, знал, с какими несчастьями сопряжена бедность и какие последствия влечет за собой беспомощная нищета, но он не подозревал и сотой доли того, что вынесла Маргарита.
Какую же безграничную скорбь должен был он испытать, когда исполнилось бы самое горячее его желание, когда он наконец увидел бы свое дитя…
XXXII. ЦИРКОВЫЕ НАЕЗДНИЦЫ
Это было в тот вечер, когда Маргарита и Вальтер находились в погребке преступников. Альбино рассказал, что видел утром нищую графиню; она торопливо кралась вдоль стен, что-то пряча под платком.
Графине удалось продать украденное дитя наезднику Лопину. Лопин хотел усыновить ребенка, и торг состоялся. Маленькое существо, выдаваемое публике за родного ребенка, должно было, пока оно еще не могло само двигаться, придать особый интерес и оригинальность представлениям в клетке со львами, которых Лопин перекупил у Леоны. Мы увидим дальше, какое воздействие умел оказывать этот человек на чувства зрителей.
Цирк располагался в одной из боковых улиц, выходящих на Фридрихштрассе, неподалеку от которой находился погребок преступников. Читателю уже знаком этот цирк — именно там Эбергард посетил Леону.
В помещениях, отделенных от арены занавесом, через который проходили актеры, царило смятение.
Комнаты наездниц отделял от мужской гардеробной широкий коридор, в который можно было попасть с наружной лестницы между столбами.
В дамской гардеробной три примадонны цирка Лопина спорили между собой. Борьба за первенство велась посредством связей.
Кокетливая Лиди, миловидная немочка с небесно-голубыми глазами и неизменной пленительной улыбкой на лице, выглядела в своем прозрачном трико, слегка прикрытом воздушной юбочкой, и с крылышками за плечами, такой же светлой и сияющей, как ее имя на афише: Дитя солнца.
Рядом с нею, помахивая изящным хлыстом, стояла черноглазая француженка Белла из парижского цирка Наполеона. Ее величественная фигура в черном, с длинным шлейфом, платье составляла контраст с грациозной Лиди. Волевое лицо, красоту которого еще более оттеняли роскошные, гладко зачесанные волосы, говорило о южном происхождении француженки и ее неукротимом характере.
Третьей была англичанка мисс Янс. Она с гневом бросила на пол душистую корзинку, из которой во время представления бросала офицерам цветы, и с яростью топнула хорошенькой ножкой.
— Этот Фельтон! — воскликнула она сердито.— противный! Я не прощу ему этого!
— Что случилось, мисс Янс? — насмешливо спросила на ломаном немецком француженка. Она уже с утра знала о том, что старый лорд Фельтон приехал из Лондона, чтобы ограничить несколько необузданную расточительность секретаря английского посольства и положить конец его легкомысленным связям; она также знала, каким оригинальным образом старый лорд заплатил долги своего сына.
— Что случилось, мисс Янс, почему вы так сердитесь?
— Черт возьми,— не унималась наездница, в гиеве рванув свое украшенное цветами платье,— этот Фельтон ни на что не годен.
— О, это уже старая история, милая Янс,— сказала небрежно Лиди, глядя в зеркало на игру своих бриллиантовых серег.— С секретарями никогда не следует связываться.
— О, я знаю, что вы вербуете лорда Уда!
— Вербовала, хотите вы сказать, милая Янс! — засмеялась Лиди с сознанием собственного превосходства, что еще более рассердило англичанку.— На последнем ужине у старого влюбленного дурака принц Вольдемар лежал у моих ног.
— Ложь, ложь,— закричала мисс Янс, подступая к Лиди,— совершеннейшая ложь! Принц Вольдемар не лежит ни у ваших ног, ни у моих, ни у ног француженки, он продолжает лежать у ног Леоны, этой отцветшей укротительницы.
— Ну, значит, это был принц Август, я перепутала их,— поправилась Лиди.
Между тем Белла, не слушая ее, закричала:
— Принц Вольдемар не любит никого, и Леону он давно забыл. Принц Вольдемар — святоша! Ха-ха-ха!
— Иначе говоря, он любит всех! — рассмеялась хорошенькая Лиди.— Это был принц Август. Я не спросила его имени, я часто путаю моих поклонников. Впрочем, это мне не вредит — я никогда не перепутаю того, кто подносит драгоценные украшения, с тем, кто бросает только букеты.
— А я предпочитаю старого благочестивого камергера и принцу, и богатому лорду, отец которого приезжает, чтобы наказать сына! — проговорила Белла.
— Черт возьми, не говорите мне о лорде Фельтоне! — закричала с угрозой белокурая англичанка, вынимая цветы из волос.
— Я говорю только правду, моя милая,— отвечала Белла, играя хлыстом. Этот жест придавал особую весомость ее словам — горячая наездница однажды уже обошлась с лицом соперницы так же, как с крупом своей лошади.— Вы же сами назвали благородного юного лорда противным.
— Я могу назвать его как угодно, но другие не смеют.
— В таком случае я вынуждена сказать вам кое-что, что вас рассердит, но я не боюсь вашего гнева! Меня не удивляет ваше поведение, мисс Янс, потому что, являясь несколько дней владелицей изумрудного убора в пятьдесят тысяч франков, вы уже считаете, что возвратить его, по требованию благородного лорда-отца, несколько унизительно и убыточно.
— О злая тварь! — Мисс Янс затопала ногами.— Змея! Кто сказал вам об изумрудном уборе?
— Вы надели его три раза, а теперь он исчез без следа.
— Я его продала, мне нужны были деньги для бедного милого Вилли.
— Как трогательно, какая щедрость! Пятьдесят тысяч франков? Вилли, бедному, полоумному кассиру господина Лопина! Знаете ли вы, мисс Янс, какую недостойную шутку сыграл ювелир Розенталь со старым лордом Фельтоном, чтобы отомстить ему за то, что он снова должен был взять ваш убор?
— Расскажите, Белла, расскажите! — закричала Лиди, между тем как англичанка, побледнев сквозь румяна, стала внимательно прислушиваться.— Очень интересная история.
— Посудите сами: он выставил ваш изумрудный убор, которым вы так восхищались, когда вы его надевали, на таком видном месте, что все, кто проходит, замечают: «Это убор Янс Фельтон»:
— О! Я пойду и накажу хлыстом каждого, кто осмелится назвать меня или благородного лорда!
— Разве ваше имя недостойно упоминания, моя милая? Такая скромность кажется мне преувеличенной, она не к лицу вам. Впрочем, газеты ухватились уже за это смешное происшествие; почитайте их вечером за ужином, там мило все описано.
— Я тоже должна это прочесть,— Лиди сняла с помощью пришедшей девушки юбочку и расхаживала в прозрачном трико если не роскошной, то вполне миловидной Венерой.— Я люблю читать такие истории.
— Лорд Фельтон будет стреляться с автором, а Янс отомстит за себя. О, лорд Фельтон будет завтра богаче и могущественнее, чем вчера! Лорд Фельтон основывает с друзьями общество на паях, и тогда у него будет много денег, так много, что не могу даже сказать по-немецки.
— Ха-ха, общество на паях,— зло засмеялась Белла.— Не на устрицах ли или на шампанском? Папеньки разберут акции, отдадут деньги и, не получая процентов, будут увеличивать капитал; так пойдет дело некоторое время, но, знаете ли, милая, что может случиться, если одному из отцов шутка обойдется слишком дорого?
— Ну? — спросила Лиди, собираясь уйти в свою уборную, чтобы снять трико.
— То, что некоторых господ отправят в смирительный дом, потому что, между нами говоря, такие люди, как Фельтон, не умеют удержаться, а еще менее — занимать деньги. Так что их никто не может притянуть к суду. Для этого нужно более ума, чем вы думаете.
— Вы пугаете меня, мадемуазель Белла, теперь я непременно приму принца,— сказала Лиди,— с ним можно быть уверенным, что не попадешь в беду. Я более не обойдусь так грубо с принцем Августом — мой бриллиантовый убор уже не возвратится к ювелиру!
— Конечно! Старые господа лучше всего,— самодовольно засмеялась Белла.— Старого камергера принца я охотнее возьму в поклонники, чем его самого!
— Это дело вкуса. Без сомнения, всякий знает, что принц стоит выше своего слуги.
— Как случится! — сказала кокетливо француженка, расхаживая взад и вперед по комнате.— Иногда принц зависит от своего камергера, и влияние последнего сильнее. Оставьте при себе вашего старого лорда Уда или принца Августа, который немногим моложе, я возьму себе барона Шлеве, который управляет всем двором!
— Вы любите шутить и хвастать,— вмешалась в разговор мисс Янс,— но чтобы доставить вам удовольствие, мадемуазель Белла, я обещаю надеть изумрудный убор завтра вечером. Хотите пари? Завтра вечером торжественное представление, и Лопин тайно готовит что-то необычайное, мы, со своей стороны, тоже приготовим что-нибудь необыкновенное. Итак, мисс Янс будет завтра вечером осыпать офицеров цветами в уборе Янс-Фельтон!
— Это интересно! Вы бьетесь об заклад? — весело воскликнула Лиди, которой весьма шла накидка, наброшенная на плечи.— А на что?
— На ужин у Ворхарда, там кормят лучше всего,— сказала француженка, с улыбкой протягивая сопернице обтянутую узкой белоснежной перчаткой ручку.
— Согласна.— Мисс Янс притронулась к протянутой руке Беллы.
В это время за дверью послышались голоса; говорили очень тихо, и наездницы прислушались.
Это были не актеры — они уже оставили свои уборные. Лопин, живший напротив цирка, почти никогда не появлялся здесь после кормления львов, при котором всегда присутствовал.
Лиди, придерживая накидку, подкралась к двери, ведущей в коридор. Горничная зажигала свечи в ее комнате и комнате Беллы. У мисс Янс она уже все приготовила.
— Тише,— прошептала, делая знак рукой, Лиди.— Можно просто умереть со смеху! Двое встретились в коридоре и придумывают теперь самые странные предлоги, чтобы оправдать свое присутствие здесь.
— Кто там? — спросила, подходя на цыпочках, француженца.
— Барон фон Шлеве…
— Благочестивый господин,— захихикала Белла.
— …и лорд Уд,— прошептала Лиди, едва удерживаясь от смеха.— Сначала барон якобы искал принца но этот предлог показался ему неловким, и он объявил, что желает говорить с Лопином. Старый же лорд впал в такое замешательство, что запутался в немецком и английском языках.
— О, я прошу не впускать сюда мужчин.— Сегодня мисс Янс была настроена благочестиво.— Это против правил!
— Конечно, потому что это не лорд Фельтон? — съязвила француженка.
— Вы видите, мадемуазель, что я уже распустила волосы.
— Так идите в вашу комнату и запритесь в ней, а нам не мешайте, мисс Янс!
— Ну, это слишком! Господин Лопин должен об этом знать.— Подобрав разбросанные цветы и локоны, англичанка выбежала из комнаты.
— Будем откровенны, барон, и не станем мешать друг другу,— смеясь, проговорил лорд, протянув руку смущенному камергеру.— Такие немолодые люди, как мы, не выдают друг друга!
Шлеве, желтое морщинистое лицо которого приняло смиренное выражение, а стан несколько согнулся, смущенно опустил вниз серые глаза — эта встреча была для него чрезвычайно неприятна, но отступать было поздно. Благочестивым взором он пытливо посмотрел на смеющееся лицо добродушного старого англичанина.
— Во всяком случае, нам не в чем упрекать друг друга,— тихо проговорил он,— но откровенность за откровенность, мой дорогой лорд. В вашем обществе я не могу исполнить миссию спасения и возвышения сердец, в то время как именно здесь передо мною открыто широкое поприще. Безнравственность весьма распространена в этой сфере, и я был бы счастлив, если б мог спасти хоть одну из этих несчастных, погрязших в тщеславии и пороке!
— О, старый греховодник,— рассмеялась Лиди.— Он надеется возвратить вас, погибшую, на праведную стезю и спасти от дьявола.
— Негр, сколько его ни мой, все равно останется негром. Пусть его оправдывается! — тихо ответила Белла.
— Благочестивая и добрая цель! — воскликнул лорд Уд.— Я это предвидел, барон. Сказать по правде, я добиваюсь того же, охраняя и защищая маленькую Лиди от искушений молодости. Могут ли молодые девушки в наш век жить на одно жалованье? Посмотрите вокруг, дорогой барон, и вы увидите, что они не могут существовать без каких-либо побочных средств.
— К несчастью, это правда! — кивнул барон Шлеве.— Потому-то эти женщины и Отдаются телом и душой барышникам-предпринимателям, которые спекулируют их искусством и телом. Среди них находится молодая француженка…
— Вы говорите о мадемуазель Белле?
— Да, так зовут несчастную девушку, не имеющую ни родных, ни близких на всем свете. Она более других подвержена искушениям. Что остается этим девушкам в чужих краях, куда привел их корыстолюбивый предприниматель? Они погибают телом и душой и проводят с нищенской сумой преждевременно пришедшую старость, которая становится еще более тяжелой от угрызений совести за порочно проведенную жизнь. Они погибают, если не находят помощи, если небо не пошлет им человека, который осторожно и с любовью наведет их на путь истинный.
— Осторожно и с любовью!
— Именно осторожно и с любовью; иначе все труды пропадут даром. Силой, строгими увещеваниями ничего нельзя достигнуть с этими существами, уже вкусившими яду. Их может спасти только кроткая, мягкая рука. О, я имею большой опыт в этом деле, хотя часто встречаю самую черную неблагодарность.
— И не перестанете быть человеколюбивым и заботливым! А, вот идет служанка, позовем ее! Поди сюда, моя милая! — сдержанным голосом позвал лорд.— Может быть, ты кое-что нам скажешь. Вот тебе за труды. Фрейлейн Лиди еще в уборной?
— К вашим услугам, ваше сиятельство.— Старуха почтительно присела, ловко протянув руку, в которую известный ей уже своей щедростью лорд вложил монету.— Фрейлейн здесь, в комнате.
— А мадемуазель Белла? — быстро спросил Шлеве, не любивший давать деньги.
— Этого я не знаю! — ответила женщина, пожав плечами, и тут же с улыбкой обратилась к лорду, так как уже успела оценить его подарок.— Не прикажет ли ваша светлость доложить о себе? Фрейлейн Лиди обыкновенно подолгу остается в своей уборной, и вашей светлости будет скучно ожидать ее. К тому же здесь сквозняки.
— Как ты заботлива! Ну хорошо, моя милая, доложи обо мне молодой артистке.
Старуха, ожидавшая подачки и от Шлеве, сделала вид, что идет в общую уборную. Обе наездницы отскочили от двери и бросились по своим комнатам, где уже были зажжены свечи.
— Подождите,— крикнул ей вслед Шлеве, вынимая из кармана золотую монету.— Не посмотрите ли вы заодно, в своей ли комнате мадемуазель Белла?
— Очень охотно, ваша светлость,— отвечала старуха.— Я тотчас доложу о вас, только, должна признаться, я забыла фамилию вашей светлости.
— Это не беда, добрая женщина,— отвечал Шлеве с добродушием благочестивого человека.— Доложите ей обо мне как о старом господине.
Он говорил отеческим тоном, но старую камеристку не так-то просто было обмануть. Она сделала почтительную мину и вошла в общую уборную, быстро затворив за собою дверь. Как часто она служила посредницей при подобных деликатных обстоятельствах! Она так тонко умела различать высочество, светлость и сиятельство и так ловко обходилась с наездницами, что можно было подумать, будто ей самой некогда приходилось выслушивать подобные доклады.
Старая Адамс знала все тайны наездниц и искусно пользовалась ими.
В черном фуляровом платке, в вылинявшем лиловом платье, которое она носила уже полжизни, в мягких, неслышных туфлях и с кривым носом, который неизменно показывался из двери ранее ее самой, эта обер-гардеробщица цирка неслышно прошла уборную и тихо постучала в комнату прекрасной Лиди.
— Кто там? — громко спросила наездница.
— Чш! Фрейлейн Лиди, тише! — прошептала старуха подходя ближе, с важным видом.
— А, это вы! — Лиди протянула руку к стоявшему на столе колокольчику, чтобы позвонить камеристке.— Что вам нужно? Вы опять очень таинственны?
— Как и следует в подобных случаях, фрейлейн Лиди. Его светлость ожидает в коридоре и просит позволение войти.
— Вы же знаете, милая Адамс, что с некоторых пор я не желаю говорить с лордом.
— Я это знаю — для принца Августа! Но не отталкивайте от себя его светлость, позвольте мне дать вам этот совет! Нужно ли вам говорить, что один может не знать о другом! Берите всех, фрейлейн Лиди; быстро промелькнут дни, когда их светлости стоят у наших дверей!
— Вы знаете это по опыту?
— Да, к несчастью! Я вас уже спрашивала, слыхали ли вы о мадемуазель Барбе? У ее дверей тоже стояли их светлости, и она, думая, что это будет продолжаться вечно, наслаждалась с одним, не обращая внимания на других. Теперь никто не знает прекрасной Барбы, но все знают старую Адамс, служащую в цирке из нужды, а между тем обе они одно и то же лицо. Я скажу его светлости, что вы рады его видеть и что он может тотчас войти.
— Но я еще в трико, милая Адамс.
— Не беда, фрейлейн Лиди, его светлости не пристало ждать в коридоре. Он может простудиться и умереть. К тому же трико — тоже одежда, да на вас еще и накидка.
Старуха неслышно исчезла и подошла к двери Беллы, которая старалась пококетливее надеть на голову шляпу; она не сняла длинной черной амазонки, а только приподняла немного юбку, с удовольствием разглядывая свои элегантные сапожки. Ее ножки действительно были восхитительны, и маленький сапожок из бронзовой кожи с золотой вышивкой выглядел очень изящно.
Белла с удивлением подняла глаза на вошедшую, хотя отлично знала, зачем та пришла.
— Мадемуазель Белла,— сказала старуха, стоя в дверях,— вас спрашивает старый господин.
— Старый господин? Кто такой?
— Он не хотел назвать своего имени.— Особенно важным он не выглядит.
— О, если это господин камергер, то его величия с меня достаточно. Впустите сюда на минутку старого господина, милая Адамс.
Старуха поспешила назад в коридор. Она почтительно отворила дверь и пропустила обоих господ вперед, позволив каждому идти по уже знакомой ему дороге.
Старый лорд отлично знал нужную ему дверь и с легкостью юноши влетел в уборную прелестной Лиди, которая встретила его полусердитым-полуласковым взглядом.
— Моя маленькая солнечная девочка,— с восхищением повторял старый влюбленный лорд свое обращение на всех известных ему языках, пожирая блестящими глазами едва прикрытые прекрасные формы девушки.
— Это не дело, лорд Уд. У меня могут быть неприятности. В уборных дам запрещено принимать, к тому же я не закончила еще свой туалет.
— Прекраснейшая из артисток еще в трико! — Старый посланник кинулся с жаром целовать руки Лиди. Она великодушно позволила ему это, хотя отлично видела, что старый господин старается еще и приподнять накидку, чтобы хотя бы мельком бросить взгляд на то, что она скрывала, на то, что возбуждало в нем желания, которые едва ли можно было предполагать в столь старом теле.
— Вы очень любезны, лорд, но я все-таки должна вас попросить посидеть в этом кресле, пока я не приведу в порядок свой туалет.
— Не могу ли я немножко помочь вам? — спросил старый дипломат.
— Вы немножко посидите спокойно и подождите меня,— очаровательно улыбнулась прелестная Лиди и без лишних церемоний усадила старого лорда в кресло, стоявшее возле стола.
— Вы безжалостны, Лиди, я хотел бы увезти вас на маленький ужин вдвоем.
— Вдвоем! А мы там не умрем со скуки? Ха-ха-ха.— Прекрасная наездница смеялась так заразительно, что старый лорд не мог рассердиться на ее грубоватую шутку и смеялся вместе с ней.
— Вы настоящая злая нимфа, но на вас невозможно сердиться. Следует все принимать как есть.
— Конечно! — Лиди, танцуя, снова подлетела к креслу, на котором сидел лорд Уд.— Сегодня здесь держали пари. Янс и Белла поспорили: англичанка обещала явиться завтра вечером в изумрудном уборе, который отец Фельтона возвратил придворному ювелиру. Лорд Уд, мой милый Уд доставил бы мне несказанное удовольствие, если бы вместо Янс в этом уборе явилась я.
— Несказанное удовольствие? Убор, дитя, не стоит своей цены, камни в нем по большей части мелкие.
— Пятьдесят тысяч франков — сущая безделица. Разве я не стою их?
— В тысячу раз больше, моя возлюбленная Лиди! — отвечал лорд. Кокетка гладила его лицо, вопросительно заглядывая ему в глаза.— Вы увидите это!
— О драгоценный мой человек! — радовалась уверенная в победе Лиди.
В то время как в этой уборной десятки тысяч бросались за минутное возбуждение чувственности, по темным улицам бродили едва прикрытые лохмотьями дети и женщины в поисках растопок; больные с ввалившимися щеками мужчины рылись в мусоре, чтобы получить несколько грошей за найденные там тряпки и бумаги.
Камергер Шлеве застал черноглазую Беллу в тальме и шляпе и был принят весьма любезно. Легкий выговор за сказанное накануне ожидал его впереди. Когда эта пара хотела выбраться из уборной, чтобы сесть в ожидавший их на боковой улице экипаж, внезапно раздался душераздирающий крик.
— Верните мне мое дитя! Оно здесь, в цирке!… Нищая графиня продала его наезднику.
— Но ведь я уже сказала вам, что здесь нет никакого ребенка,— сердито отвечала Адамс.
— Вы лжете!… Я хочу взять моего ребенка!… — снова раздался отчаянный крик Маргариты.
Шлеве замер; ему показалось, что голос ему знаком.
— Пойдемте, пойдемте, барон,— торопила его Белла.
— Я должна запирать, успокойтесь же, здесь нет никакого ребенка.
— Это она,— прошептал узнавший наконец Маргариту Шлеве и остановился, не зная, на что решиться.
Несчастная мать не обращала на него внимания, и со страхом и тоской простерла руки к Белле.
— Помогите мне, сжальтесь, — закричала она, падая перед Беллой на колени.
Вальтер подошел, чтобы поднять Маргариту. Ему не нравилось, что несчастная вымаливала то, чего, по его мнению, должна была требовать. Он хотел обратиться к покровительству законов, не зная, что Маргарите следовало избегать всякого столкновения с ними.
— Кого ищет эта несчастная? — спросила Белла.
Гардеробщица сделала ей знак удалиться, как бы желая сказать тем самым, что здесь она и одна справится или что эта девушка безумна.
— У вас ведь есть защитник,— Белла указала на Вальтера.— Пойдемте, барон.
— О Боже! — Несчастная в отчаянии закрыла лицо руками.— Неужели никто мне не поможет!
Шлеве узнал дочь Эбергарда. Он охотно прибрал бы ее к рукам, но Белла тащила его вперед, да и здесь нельзя было силой завладеть Маргаритой. Однако Шлеве надеялся снова напасть на ее след, он был уверен, что она не раз еще придет в цирк.
Вальтер неприязненно посмотрел на старую Адамс.
— Ты ничего тут не узнаешь,— обратился он к Маргарите.— Нищая графиня или солгала, или дитя запрятано так, что отыскать его самой невозможно. В обоих случаях надо обратиться в полицию.
— Лучше идите домой, милое дитя. Дождитесь утра и тогда уже действуйте! — сказала гардеробщица, вспомнив почему-то прочтенную вечером в газетах историю.— Успокойтесь, все откроется, и вы получите ваше дитя!
— Мое дитя! — прошептала прекрасная Маргарита.— Бог и люди покинули меня.— Она пошатнулась, все поплыло у нее перед глазами.
— Жалко ее! — сказала старая Адамс.— Право, мне жалко ее! Ведь ей едва ли исполнилось восемнадцать лет. И она такая хорошенькая! Могла бы еще составить себе счастье.
Вальтер пытался успокоить и приободрить Маргариту. Он отер ее слезы, которые текли по бледным щекам, и крепче закутал в старый платок.
— Успокойся, Маргарита! — тихо уговаривал он.— Я никогда не оставлю тебя. Мы вместе добьемся своего. Ты ведь всегда была такой мужественной и так сильно надеялась на Бога. Во мне ты имеешь верного друга и обижаешь меня, когда говоришь, что все оставили тебя.
— Вальтер,— прошептала Маргарита, отирая слезы,— я очень благодарна тебе, но дай мне выплакаться.
Вальтер замолчал, и тут ему показалось, что он слышит над головой молодой женщины чей-то голос: «Согрешила — теперь страдай». Он схватил несчастную за руку и осторожно вывел из цирка.
XXXIII. ЛЕВ НА СВОБОДЕ
На следующий день на улицах города царило оживление. Народ толпился возле вывешенных на углах афиш, где крупными буквами было напечатано объявление о необыкновенном спектакле в цирке, во время которого господин Лопин даст невиданное до сих пор представление со львами. Смелый укротитель обещал публике войти в клетку со своим ребенком и подтвердить старое предание о том, что львица не только не причиняет вреда беспомощному младенцу, а даже покровительствует ему.
— Этот Лопин посмелее мисс Брэндон,— заметил какой-то господин в толпе.
— Пока в один прекрасный день не останется навсегда в клетке,— добавил другой.— О Брэндон ничего не слышно; бьюсь об заклад, она накормила собой львов.
— Это стало бы известным; верно, она удалилась на покой, ведь занятие ее было прибыльным. Кажется, уже больше нет билетов?
— Я и даром не стану смотреть на это,— воскликнула немолодая работница.— Полиция должна запретить такое! Проклятый француз хочет взять собственное дитя в клетку — это просто стыд. Да он просто выродок. Господь не должен давать детей таким людям.
— Совершенно справедливо,— поддержал работницу мужчина, шедший рядом с дамой.
— А у вас много детей?
— Десять, но я не дала бы ни одного этому мерзавцу, если бы он выложил передо мной и сто талеров! А сто талеров — хорошие деньги для бедного человека, и я никогда не держала их в своих руках!
Одни смеялись над расходившейся женщиной, другие соглашались с ней, но большинство, не обращая на нее внимания, спешили брать билеты.
Вечером народ со всех сторон валил к цирку. Лопин был доволен — сбор обещал быть полным, чего и добивался предприимчивый француз.
Однако полиция посетила владельца цирка, обеспокоенная, не будет ли представление слишком бесчеловечным. Но ловкий француз объяснил, рассыпаясь в любезностях, что представление опасно только с виду, а на самом деле ни он, ни его ребенок не подвергаются ни малейшему риску.
Цирк наполнялся. В нижних рядах обитые шелком кресла занимали офицеры и богатые кутилы. В дипломатической ложе молодой лорд Фельтон, отец которого, к счастью, уехал, с почтительным поклоном уступил место у барьера лорду Уду. Мысленно он проклинал старого дипломата, так как только что узнал от придворного ювелира Розенталя, что лорд опередил его, купив изумрудный убор. На часть денег, оставленных Фельтону отцом с определенными указаниями, он тотчас же купил убор почти такой же ценности, так что, благодаря пари двух наездниц, Розенталь имел немалую прибыль. Но очаровательная Янс все-таки проиграла, и это сердило молодого лорда.
Принц Этьен тоже появился в сопровождении других дипломатов, но королевская ложа по обыкновению оставалась пустой.
Чем выше, тем теснее сидели любопытные зрители: мужчины, женщины, дети. Везде болтали; внизу ели конфеты, повыше — леденцы и пирожки, а еще повыше, изнемогая от жары и давки, жевали хлеб, прося друг у друга программы, чтобы внимательно прочесть о том, что их ожидает.
В одной из лож можно было видеть художника Вильденбрука и Юстуса фон Армана. С ними не было на этот раз молодого господина Ольганова — он сопровождал русского посла, уехавшего на несколько недель.
Наконец звонок возвестил о начале представления.
Во время выступления акробатов и клоунов Юстус и Вильденбрук тихо переговаривались.
— Посмотрите на девушку наверху, на последней скамейке,— проговорил художник:
— Бледная блондинка? Прекрасное лицо!
— Странно, я не могу оторвать от нее глаз. В ней есть что-то необычное.
— Вы правы. Она с таким нетерпением ожидает обещанных чудес, что приятель, похоже, удерживает ее.
— Вот особенность нашего времени,— продолжал Вильденбрук,— такая юная особа и такая жажда зрелища, которое, возможно, даже нас, мужчин, заставит дрожать.
— Смотрите, показалась наездница Белла, она сидит на лошади, будто родилась на ней.
— Да, при всей своей грациозности она прекрасная наездница.
Белла улыбалась: она выиграла пари. Ее лошадь слушалась каждого движения. Девушка справлялась с нею так же смело и уверенно, как и Лопин, когда выезжал на своем любимом Эмире.
После Беллы появилась прекрасная Лиди. Натянули тонкую прозрачную сеть, и Дитя солнца, вся в золотых блестках, порхала по ней с одной стороны арены на другую. Ее блестящая юбочка, украшенный золотом корсаж, прекрасная фигура в розовом прозрачном трико, распущенные волосы — все было прелестно и вызывало восхищение. Старый лорд Уд с наслаждением следил за каждым ее движением, а публика ее шумно приветствовала. Драгоценный убор, который достался ей, она надела всем на показ. Янс, которая появилась после нее, управляя шестеркой белых коней, должна была довольствоваться не столь дорогим убором, который лорд Фельтон преподнес ей час назад.
Она вскакивала то на одну, то на другую лошадь и бешено гнала их, щелкая кнутом. Во время этой дикой скачки она еще сумела превратиться то в испанку, то в нежную мать, то в танцовщицу.
Лорд Фельтон был вне себя от восторга; мисс Янс наградила его приветливым взглядом, а публика проводила ее громкими рукоплесканиями.
Девушка на последней скамейке, в которой читатель, без сомнения, уже узнал Маргариту, безучастно следила за представлением. Ее сердце сильно билось, дыхание замирало при мысли, что ребенок, которого негодяй возьмет в клетку, ее дитя. Она так ничего и не добилась от Лопина. Он высмеял ее, говоря, что таким образом каждая могла бы явиться к нему с каким-либо требованием и что если она имеет к нему какие-то претензии, пусть обратится в суд. Казалось, этот выродок знал, что Маргарита не может этим путем возвратить свое дитя, не рискуя сама попасть в тюрьму.
С ужасом прочла она в афишах объявление о грандиозном представлении Лопина. Инстинкт говорил ей, что алчный владелец цирка принесет в жертву своей наживе ее ребенка. Мучительная тоска овладела сердцем молодой матери! Смертельный холод сковал ее члены. Она хотела кричать, просить, взывать к людям, бежать к королю. Планы, один другого отчаяннее, теснились у нее в голове; она металась из угла в угол, несвязно бормоча что-то. Она поддалась страшному горю и была совершенно им подавлена. Наконец она каким-то чудом оказалась в парке и побежала за помощью к Вальтеру. Занятый служебными обязанностями, он вынужден был на некоторое время оставить ее одну. Вальтер старался убедить несчастную, что страхи ее не обоснованы, что нищая графиня не отдавала ребенка Лопину, но Маргарита на все его уверения повторяла одно и то же:
— Это мой ребенок! Спаси его!
Вальтер должен был сознаться себе в том, что он не верит собственным словам: конечно, укротитель возьмет в клетку со львами ребенка этой несчастной женщины.
— Поджечь… Подбросить огонь… — шептала Маргарита.— Он не войдет тогда, ты мне должен помочь, когда стемнеет…
Вальтер понимал, что материнская любовь и отчаяние могут довести несчастную до преступления. Если она в исступлении притащит горящую головню к цирку и ее страшное намерение удастся, она сделается убийцей тысячи невинных людей.
— Маргарита,— сказал он сурово,— ты должна обещать мне ничего не предпринимать без меня.
— Ты должен помочь мне, ты недавно сказал, что никогда не покинешь меня! Ты должен помочь мне!
— Я помогу тебе, но сначала ты должна успокоиться.
— Я спокойна! Совсем спокойна! Говори только, что мы сделаем сначала?
— Сначала ты отдохнешь до вечера в хижине. Вечером мы вместе пойдем в цирк; я расспрошу еще раз, и мы попытаемся помешать представлению.
— Помешать! Да, помешать! Сегодня… А завтра я украду у него ребенка, как украла его у меня нищая графиня…
Вечером они отправились в цирк. Чем ближе они подходили к нему, тем сильнее становилось волнение Маргариты. Ее била дрожь. Вальтер вошел в квартиру Лопина и осведомился о ребенке. Ему ответили, что укротитель вышел с одним из своих детей.
— Я не могу поверить,— сказал Вальтер Маргарите,— что нищая графиня была у Лопина. У него есть собственные дети, зачем ему чужой ребенок.
— Я не уйду из цирка, я хочу видеть собственными глазами все, что произойдет,— твердила молодая мать.
— В таком случае я возьму нам билеты, чтобы ты сама убедилась, что это не твой ребенок. Иначе ты не успокоишься. После представления мы отыщем нищую графиню, и горе ей, если она не скажет нам всей правды.
Ценой большей части своего скудного жалованья Вальтер с трудом достал два места, и теперь Маргарита с лихорадочным нетерпением ожидала появления Лопина. Публика вокруг, не понимая, что делается с девушкой, с любопытством наблюдала за ней. Вальтер нежно успокаивал ее всякий раз, когда она глубоко вздыхала или издавала бессвязные звуки.
— Вам, может быть, дурно от сильной жары? — обратился к ней один из сидевших перед ней мужчин.— В таком случае давайте поменяемся местами.
Маргарита пересела. Она почти не сознавала, что делается вокруг, и что-то пробормотала. Мужчина принял это за изъявление благодарности. Музыка прекратилась. Все взоры были направлены на манеж.
Занавес распахнулся. Двое помощников вкатили на арену позолоченную клетку. Львы беспокойно метались по ней, издавая подавленный глухой рев. Потом лев остановился возле решетки, и львица улеглась посреди клетки, ее желтые большие глаза мрачно смотрели на публику.
В огромном цирке стало так тихо, что можно было расслышать, как песок похрустывает под львиными лапами. Публика затаила дыхание.
Вдруг появился Лопин. Он был один, без ребенка. Его блестящее трико не позволяло скрыть какое-либо оружие. У него был только прут.
— Где дитя, дитя?! — раздалось в нетерпеливой толпе.
Лопин почтительно поклонился. Его улыбка как бы говорила: «Это еще впереди».
Собравшийся народ не мог дождаться минуты, когда Лопин с ребенком войдет к разъяренным животным. Такие нечеловеческие инстинкты известны издавна. Достаточно вспомнить Древний Рим.
Маргарита в эту минуту изнемогала от страданий. Надежда, пробудившаяся в ней при появлении Лопина без ребенка в руках, теперь исчезла: неистовство толпы не оставляло сомнений, что трюк не может не состояться.
Лопин с улыбкой обратился ко львам. Удар бича о решетку заставил приподняться львицу. Казалось, она не хочет показать себя публике; ее движения были медленны и ленивы; возможно, укротитель дал ей сегодня двойную порцию пищи, чтобы утолить в ней жажду крови.
— Алле! — воскликнул Лопин и щелкнул бичом. Этот звук, похоже, не особенно понравился царям пустыни.— Алле! Веселей, бодрей!
Казалось, Лопин играет с комнатными собачками. Он был небольшого роста, но крепко сложен. У него были сильные руки, высоко поднятая грудь, спускающиеся на плечи волосы были цвета вороного крыла, что выгодно оттеняло светлое трико и здоровое гладко выбритое, слегка нарумяненное лицо. Взмахнув бичом, который Лопин держал в правой руке, он протянул левую в клетку.
Лев покосился на нее и вдруг быстро вскочил. Лопин отдернул руку, и лев бросился на золотую решетку, яростно сотрясая ее.
Укротитель засмеялся и сделал знак публике, как бы желая сказать: «Он немного сердит, но я сейчас начну играть с ним!»
Лопин начал ходить вокруг клетки, щелкая бичом, и так сильно раздразнил зверей, что они с ревом кинулись на прутья. И тут откинулся занавес, на манеже показался подручный с прелестным ребенком на руках. Лопин взял дитя, поцеловал его и, выйдя на арену, снова поклонился публике.
Раздались громкие аплодисменты. Но вдруг среди них послышался страшный, раздирающий душу крик. Все взоры перенеслись на место, откуда раздался голос.
Что означал этот крик? Не захворал ли кто? Не упала ли в обморок какая-нибудь мать, увидев невинную жертву?
— Нечего ходить сюда слабонервным,— послышались голоса. Мужчины проклинали помеху.
Лопин ни разу не взглянул в сторону, откуда послышался голос. Держа в руках ребенка, он подошел с ним к саМой клетке. Львы немного успокоились и почти мирно ходили взад и вперед по клетке, не обращая внимания на укротителя.
— Мой ребенок! Это мой ребенок!… — послышалось сначала тихо, а потом все громче и громче.— Он купил его у нищей графини, чтоб отдать львам!… Сжальтесь… Это мое дитя!
Публика зашумела. Люди не могли понять, что случилось.
— Безумная! — говорили одни.
— Святая Дева! Посмотрите наверх, на девушку! — кричали другие.
Страшно было смотреть на несчастную Маргариту, которая в отчаянии, дрожа всем телом, перескакивала с одной скамьи на другую среди расступавшихся зрителей.
— Пустите меня!… Пустите!… — кричала она.— У него мой ребенок!… Спасите., спасите…
— Уведите эту помешанную,— кричали мужчины.
Но никто не решался приблизиться и остановить несчастную женщину. Каждый сторонился, чтобы дать ей место, полагая, что девушка помешалась при виде этой потрясающей сцены.
Лопин же, чувствуя, что часть публики на его стороне и не желает прекращения оплаченного удовольствия, не обращал внимания на происходящее, думая устранить все с помощью самой публики. Он дал знак, и оркестр заглушил музыкой крики женщины, после чего приблизился к клетке. Сегодня он уже несколько раз входил в клетку с ребенком на руках, играл со львами, а потом клал дитя на землю. Животные все свое внимание обращали на него одного и не трогали младенца. Правда, львица пыталась обнюхивать его, но Лопин взглядом принудил ее оставить ребенка и опустить уже поднятую над ним лапу. Потому укротитель был уверен, что все обойдется благополучно и кровь не прольется. Частое общение со львами придало ему такую уверенность и смелость, что он без малейшей боязни отодвинул одну из задвижек, закрывавших дверцу.
Но в ту минуту, когда он протянул руку, чтобы отодвинуть вторую задвижку, волнение публики достигло предела. Все кричали. Музыка умолкла; Маргарита была уже возле барьера. Сопровождаемая угрозами и пожеланиями толпы, она выскочила на арену и подбежала к клетке. Волосы ее рассыпались по плечам, руки были простерты вперед, глаза сверкали.
Лев заметил постороннюю фигуру, набросившуюся на Лопина. Он испустил короткий страшный рык и всем телом ударился о дверцу, она задрожала и подалась. Еще одно усилие разъяренного животного, задвижка отскочила. Дверца упала. Лев одним прыжком выскочил на арену именно в тот миг, когда Маргарита, вырвав ребенка у побледневшего Лопина, хотела бежать с ним.
Смятение и ужас охватили толпу. С криками дети и женщины бросились к узким проходам, а мужчины требовали застрелить взбунтовавшегося льва. Ложи быстро опустели, а офицеры, сидевшие возле арены, поспешили покинуть свои кресла — разъяренный лев был слишком страшным противником для человека, вооруженного маленькой шпагой.
Читатель может спросить, почему не принесли ружья из артистической. На это можно ответить, что описываемая нами сцена в сущности продолжалась считанные мгновенья, так что никто не нашелся так быстро, чтобы принести оружие, единственное средство к спасению. Лев, оказавшись на свободе, осмотрелся и торжествующе заревел, львица, видя дверцу открытой, намеревалась последовать за ним. Но Лопин ударом бича загнал ее назад. Постаравшись как-то прикрепить задвижку, он отбросил хлыст и вытащил из-под трико кинжал.
Публика, ринувшаяся к выходу, вдруг заметила, что лев обратил внимание на несчастную незнакомку, вырвавшую у Лопина ребенка.
Инстинкт самосохранения толпы был так силен, что люди обрадовались — теперь лев займется бедной жертвой. Но Лопин знал, что не одна смелая до безумия девушка падет жертвой разъяренного зверя, он тоже погибнет, если ему не удастся убить льва, спасая свою жизнь потерей укрощенного зверя.
В этот момент раздался громкий крик:
— Я иду! Не бойся, я сейчас!
Это был Вальтер; схватив наверху тяжелый железный шест, которым пользовались ламповщики, не переводя дыхание, перескакивал он со скамьи на скамью. Но не успел он преодолеть еще и половины пути, как лев, сидевший до тех пор на песке, вскочил и бросился на убегавшую мать, которая с ребенком на руках хотела перескочить барьер.
Крик ужаса потряс стены цирка.
Когти зверя разодрали платье несчастной, она упала, прижимая к груди ребенка. Еще минута — и молодая женщина превратилась бы в кровавый кусок мяса.
Лопин отскочил назад. Художник и шталмейстер устремились к арене. Но как помочь бедной матери, не знали: даже выстрелить в льва без риска попасть в женщину никто не решался, тем более что вокруг зверя и его жертвы поднялось облако пыли.
Тут Вальтер достиг барьера.
— Назад! — закричал ему Лопин.
Но Вальтер ничего не слышал.
— Назад! Она погибла, не приближайтесь — он бросится на вас.
Не медля ни секунды, Вальтер поднял прут и изо всех сил ударил им льва по гривастой голове.
Последовала минута томительного ожидания.
Потом лев, оставив свою жертву, оглянулся, чтобы броситься на врага.
Никто не осмеливался помочь отважному юноше, даже Лопин замер в нерешительности. Но Вальтер уже вторично поднял свой тяжелый прут и снова опустил его на голову готового броситься на него хищника.
Лев испустил глухой яростный рев, потом его передние лапы подогнулись, и он свалился на арену.
Цирк замер: убил или оглушил зверя удар? Слышался только глухой плач придавленного телом матери ребенка.
Вальтер с замиранием сердца приблизился к лежавшей без чувств Маргарите.
Он бережно взял на руки ее и ребенка. Теперь было видно, что львиные когти задели не только шею, но и руку безжизненно лежавшей молодой женщины. Ребенок же остался совершенно невредим.
— Доктора, доктора! — кричали в публике.
Когда Вальтер внес Маргариту в уборную наездниц и положил на диван, в комнату вошел цирковой врач.
Старая Адамс сняла с Маргариты окровавленное платье. Лиди прислала несчастной темное платье и теплый платок. Наездница была добра, как почти все легкомысленные люди.
Доктор, сделав перевязку, сказал Вальтеру, что раны Маргариты неопасны, когти льва каким-то чудом не задели жизненно важных органов, но спокойствие и внимательный уход за больной необходимы.
Вальтер горячо поблагодарил доктора, смущенный тем, что не может заплатить ему за помощь.
— Ни пфеннига, мой милый,— сказал врач, пожимая руку рабочего.— Вам еще предстоит немало издержек.
Он дал ему лекарства и все необходимое для заживления ран, чтобы уменьшить лихорадку, которая, по его мнению, должна была начаться, и предупредить нервную горячку, возможную после столь сильного потрясения.
Маргарита наконец пришла в чувство и в первую очередь спросила о ребенке.
Ей подали его. С нежностью она прижимала его к сердцу и с благодарной улыбкой посмотрела на Вальтера. Не в силах говорить, она взяла его за руку, но он и без слов понял ее чувства.
Только когда разошлась толпа любопытных у входа в цирк и Маргарита немного приободрилась, Вальтер повел молодую мать в свою хижину. Большую часть пути ему пришлось нести на руках не только ребенка, но и мать.
В хижине он как можно лучше перестелил свою бедную постель и уложил несчастную женщину. Когда она уснула, он долго еще стерег беспокойный сон той, которая теперь делила с ним его кров, хотя и не так, как он некогда мечтал.
XXXIV. ПРЕКРАСНАЯ МОНАХИНЯ
Минуло несколько месяцев после происшествия в цирке. При дворе произошли решительные перемены. Пока о них знали только близкие придворные, но последствия их уже ощущались во всех слоях общества, в том числе и в народе. Если прежде духовные и светские интересы уравновешивались, теперь все больше проявлялся решительный перевес в пользу церкви.
Возникли новые монастыри. Религиозное чувство и истинное благочестие составляют благо не только для всего общества, но и для каждого отдельного человека. Каждый по воле Божьей имеет право развивать их в себе согласно собственной совести и собственным убеждениям. Если же истинное благочестие, возвышающее душу, заменяется ханжеством, а глубокая, чистосердечная вера — лицемерием, то внешние признаки религиозности наносят вред, последствия которого неизмеримы.
Король, как мы знаем, был свободным от предрассудков человеком. Он любил мир, потому что он способствовал благоденствию страны, и этот человеколюбивый настрой короля, как мог, поддерживал граф Монте-Веро. Королева же, напротив, впала в меланхолию, близкую к отчаянию. Она была глубоко огорчена (хотя никогда не сознавалась в этом даже самым доверенным лицам) тем, что Бог не давал ей детей. Этим обстоятельством воспользовалось стремившееся к светской власти духовенство.
Умение и ловкость использовать подобные обстоятельства всегда отличали духовенство; с древних времен оно прибегало к одним и тем же средствам для увеличения своего могущества. У всех народов земли, какую бы религию они ни использовали, на какой бы ступени цивилизации ни стояли, было время, когда духовенство всеми возможными средствами стремилось к светскому господству. История неопровержимо доказывает это.
Никто не станет возражать против того, что среди духовенства во все времена появлялись великие и добродетельные личности; но нельзя отрицать и того, что рядом с ними попадались, как попадаются во всяком сословии, бесчестные, исполненные дурных страстей люди, которые становились гораздо вреднее и могущественнее, прикрываясь маской благочестия. Над ними с полной справедливостью можно произнести более строгий приговор, чем над бедными мирянами, чье доверие было обмануто.
Самое верное средство таких духовников — исповедь. На духу открываются все тайны, и очень редко духовное лицо сохраняет их, если только они имеют некоторую важность.
Наш читатель, конечно, заметил уже, что мы никогда не произносим голословных приговоров и тем более никогда не осуждаем всех поголовно, как это часто делают некоторые, хотя именно они должны быть терпимее всех прочих.
Мы придерживаемся только истины и фактов, и те из наших благосклонных читателей, кто уже слыхал о подобных проделках, поверят, что все описываемое нами происходило в действительности.
Исповедник королевы знал о тайне, которая как свинец давила на сердце несчастной женщины. Он знал также и о другой, еще более огорчавшей королеву тайне. Она имела связь с историей о пропавшей без вести принцессе Кристине.
Исповедник королевы был верным приверженцем камергера Шлеве, больше того — он был его союзником. Именно влиянию этого духовного лица Леона Понинская была обязана местом аббатисы в Гейлигштейнском монастыре.
Эти три лица в последнее время приобрели громадное влияние при дворе, оно было особенно опасно тем, что их вредные замыслы скрывались под личиною благочестия.
Мы знаем о гнусных намерениях Леоны, которая рассчитывала одним ударом уничтожить графа Монте-Веро и завладеть его несметными богатствами или, в случае неудачи, удалить его с помощью барона от двора.
Аббатиса Гейлигштейнского монастыря располагала для этого достаточными средствами. Королева была так очарована ею, что прекрасная монахиня большую часть времени проводила в столице, а не в своем отдаленном монастыре.
Отъезд Эбергарда не остался для нее тайной, так же как и то обстоятельство, что его увез один из его управляющих. Леона, ожидавшая этого отъезда с большим нетерпением, сделала необходимые приготовления, посоветовав адвокату Ренару запастись кинжалом.
Теперь, находясь между надеждою и сомнением и с часу на час ожидая известия о смерти Эбергарда, красавица монахиня решила заняться своей дочерью, которая становилась красивой девушкой. Она не испытывала к ней ни искры любви, а хотела лишь завладеть ею для того, чтобы иметь в своих руках орудие против Эбергарда и исключить возможность того, чтобы по смерти мужа его несметные богатства перешли в руки законной дочери. Шлеве взялся помочь в этом аббатисе и известил ее о том, что видел Маргариту возле цирка.
С этих пор они оба делали все, чтобы снова напасть на ее след. Им удалось это только спустя несколько месяцев, когда Леона уже стала отчаиваться, не получая известие о Монте-Веро.
Аббатиса Гейлигштейнского монастыря уже несколько недель жила безвыездно в замке и постоянно виделась со Шлеве. Королева очень полюбила благочестивую и знатную даму, влияние которой таким путем распространилось не только на короля, но и на все придворные учреждения.
Однажды, когда прекрасная монахиня находилась в комнате королевы, камергер доложил ей о каком-то незнакомом монахе, благочестивом отце Краемусе, который желает переговорить с аббатисой Гейлигштейнского монастыря о делах, не терпящих отлагательств.
Леона не знала никакого монаха Краемуса, но, подумав, что под этим именем может скрываться ожидаемый ею посланец, попросила у королевы позволения удалиться и поспешила в приемную. Ожидавший ее появления камергер при ее входе оставил приемную.
Прекрасная монахиня, отбросив капюшон, увидела перед собой огромного роста худощавого монаха, плотно закутанного в рясу. На талии его была веревка, а голову и лицо почти скрывал капюшон.
Монах молитвенно сложил руки и поклонился монахине.
— Да пребудет с тобою Святая Дева теперь и во веки веков, благочестивая сестра,— проговорил монах тихо.
Леона напрасно старалась припомнить лицо незнакомца.
— Да благословит она и тебя, благочестивый брат,— ответила она.— Что привело тебя ко мне, как мне сказали, ты пришел издалека?
— Я брат Краемус из монастыря Парижской Богоматери,— тихо проговорил монах, приблизившись к Леоне; он был выше ее на голову.— У меня к тебе тайное поручение. Я искал тебя в Гейлигштейнском монастыре, но мне сказали, что ты находишься здесь.
— Какое поручение ты имеешь, ко мне, благочестивый брат?
Монах окинул комнату взглядом больших черных глаз.
— Мне сказали, что известие это очень важное и сообщить его я должен в строжайшей тайне. Поэтому я сделаю это, прекрасная монахиня, только в таком месте, где нас никто не может услышать. Здесь, похоже, и стены имеют уши.
Леона имела все основания никому не доверять.
— Прошу тебя, благочестивая сестра,— продолжал монах,— назначить место, где мы могли бы встретиться с тобою сегодня вечером.
— Это невозможно, пока ты не назовешь мне имя того, кто тебя прислал.
— Твое требование столь же справедливо, сколь и рассудительно, благочестивая сестра.— Монах наклонился к Леоне, не применув воспользоваться случаем разглядеть поближе белую шею аббатисы и представить остальные ее прелести.— Адвокат Ренар,— проговорил он медленно.
Глаза Леоны засверкали. Сердце радостно забилось.
— Хорошо, благочестивый брат,— проговорила она.— Ты вполне прав; здесь не место для подобных объяснений.
Леона подумала минуту.
— Сегодня вечером, между десятью и одиннадцатью, в Вильдпарке, у Львиного мостика.
— Я, конечно, полагаюсь на твои выбор, но вполне ли безопасно это место?
— Никто не заходит туда в столь поздний час. Хижина сторожа довольно далеко, так что мы можем не опасаться, что нас подслушают.
— Я буду аккуратен, прекрасная сестра.
Леона поцеловала монаха в плечо и поспешила в комнаты королевы.
День выдался жарким, и только к ночи стало прохладнее.
В многолюдных городах свежий ветерок в жаркий летний день приносит истинное наслаждение, поэтому каждое зеленое деревце там окружено вниманием и заботой.
Вильдпарк был истинной усладой для горожан. Толпами они устремлялись туда в летние вечера. Но в десятом часу дорожки парка начинали пустеть и только на аллеях, прилегавших к королевским воротам, еще встречались люди. Это были влюбленные пары, гимназисты, сочиняющие стихи, мужчины без занятий, влюбчивые старички. Одни любовались лунным светом, другие мечтали о будущей славе, третьи строили самые разные планы, а последние сладострастным взором провожали запоздалую девушку.
На церковной башне пробило десять. Последние кареты с шумом подъезжали к королевским воротам, украшенным огромными статуями, которые при слабом свете луны казались особенно величественными. Парк опустел; только часовые мерно вышагивали у королевских ворот.
Тишина воцарилась вокруг. В глубине парка стало темно как в могиле; не было слышно ни единого звука. Даже шепот листвы не нарушал тишины.
Какая-то фигура проскользнула через широкую среднюю арку ворот. Хотя человек шел пригнувшись, видно было, что он огромного роста. Читатель, без сомнения, уже догадался, что это был монах Краемус. Он прошел в средние ворота, через которые обычно проезжали только дворцовые экипажи, чтобы не встречаться с устремившейся в город толпой; у благочестивых братьев с некоторых пор не отмечалось особой любви к свету и шуму.
Краемус, казалось, отлично знал Вильдпарк и Львиный мостик, так как, выйдя из ворот, уверенно направился к месту свидания. Казалось, темнота — его стихия. Даже платье таких людей говорит об этом.
Дойдя до перекрестка, монах остановился — ему послышались голоса. Один из них показался знакомым. В столь поздний час, в чужом городе услышать знакомый голос — уж не почудилось ли? Монах остановился в тени старого дуба, чтобы удостовериться, не обманулся ли он.
— Ну и радость! Ну и радость! — произнес хриплый голос.— Неужто это ты, мое прекрасное дитя? Я уже давно слышу, что молодая графиня Понинская живет здесь в столице в роскоши и богатстве. До старой нищей графини ей нет дела, хотя та и приходится ей любящей матерью. Нет ли у тебя талера с собою, милое дитя?
— Что за нелепость? — произнес знакомый монаху голос.— Чего вы хотите от меня? Я вас не знаю.
— Не играй комедию с глазу на глаз, дитя! Темный наряд не изменил тебя — ты осталась такою же, какой я видела тебя в последний раз, шесть лет назад. Дай талер своей бедной матери, чтобы она могла купить себе что-нибудь из теплой одежды. У бедных людей столько мучений, что лучше б их просто убивали. Нередко по вечерам я пью одну воду, чтобы утолить жажду и голод.
В эту минуту луна осветила странную пару, и монах Краемус разглядел аббатису и склонившуюся перед ней старую нищую.
— Вы принимаете меня за другую, бедная женщина! Я монахиня, и мои родители живут в бедном местечке в Вестфалии. Вот вам деньги… Вы очень бедны, кажется…
— Нищая графиня, милое дитя, благодарит тебя… Ты хочешь меня обмануть? Это не беда… А где же сын старого Иоганна, тот прекрасный офицер, который женился на тебе? Ты ничего о нем не знаешь? Да, мужчины… С ними просто мученье! А впрочем, и женщины не лучше. Как подумаешь о прошлом, так и не найдешь ничего хорошего.
— Оставьте мою руку, я тороплюсь,— прошептала Леона, боязливо оглядываясь.
— Если бы я не послушалась в свое время, когда еще был жив твой дед, проклятых нашептываний императора, уверявшего меня в своей вечной любви, то тебя не было бы теперь на свете, а я не сделалась бы нищей графиней. Как тут не верить в Провидение! Ты хочешь быть благочестивой! Ничего этого нет!… Но где же ты живешь, милое дитя? Я бы с удовольствием иногда заглянула к тебе, когда мне нечего будет есть.
Леона освободила руку от цепкой хватки своей преступной матери; она понимала, что это родство, о котором Эбергарду уже было известно, навеки погубит ее, если о нем узнают при дворе. Она оставила старухе свой кошелек, и пока та с жадностью прятала его, Леона быстро проскользнула между деревьями.
Нищая графиня довольно рассмеялась. У нее снова было достаточно средств, чтобы забыть в вине мучившие ее воспоминания о прошлой жизни. Она смеялась диким, хриплым смехом. Можно ли было поверить, что эта бездомная в лохмотьях старуха была той прелестной женщиной, которая, весело и заразительно смеясь, позволила императору увлечь себя в благоуханную беседку у фонтана, где пробил час ее гибели.
История этой женщины так странна и печальна, что многие считают ее вымыслом; а между тем эта графиня — не игра фантазии; она жива еще и сейчас, когда я пишу эти строки, и влачит свою старость, погрязнув в пьянстве!
Монах торопился обогнать красавицу монахиню, чтобы прежде нее прийти к месту встречи и скрыть свое присутствие при таинственном разговоре.
Уже было около одиннадцати, когда он достиг Львиного мостика. Едва он успел оглядеться, спустив капюшон, чтобы остыть от скорой ходьбы, как между деревьями показалась темная фигура монахини. Быстрым шагом она подошла к мосту и осмотрела освещенное луной пространство.
Монах Краемус пошел ей навстречу.
— Ах, это ты, благочестивый брат,— сказала она мягким голосом.— Ты долго меня ждал?
— Да, довольно долго; но не беспокойся, у меня нет других дел, кроме поручения к тебе.
— Ради него,однако, ты и приехал из Парижа? Это доказывает важность поручения. Я горю нетерпением узнать о нем. Говори!
Высокий монах приблизился к монахине, с нескрываемым восторгом устремив взор на ее мраморное лицо.
— Адвокат Ренар и господин Эдуард находятся теперь в Париже и молятся в церкви нашего монастыря за свое спасение от погибели и смерти. О благочестивая сестра, небо чудесным образом покровительствует им!
— Ну, а Монте-Веро?
— Замысел рухнул. Адвокат Ренар велел передать, что известный вам Эбергард нанес им решительное поражение и что они едва-едва спасли собственную жизнь. Сила, мужество и хитрость этого человека прямо удивительны!
— Значит, ненавистный мне человек жив! — промолвила, побледнев, монахиня.
— Эбергард? Да. Он преследовал их на море, стрелял по кораблю и оставил в плохонькой лодчонке среди океана.
— Дальше! Говори дальше! — торопила монахиня.— Почему же они не стреляли по кораблю Эбергарда?
— Потому что их силы были неравными. Адвокат Ренар с дочерью и Эдуардом провели четыре дня и четыре ночи среди волн, пока их не подобрал португальский корабль, который следовал в Лиссабон. Оттуда они, после долгих лишений, явились с рекомендательным письмом в наш монастырь и были приняты нами с любовью.
— Боже милостивый, какое горькое известие! — проговорила монахиня с горечью.— А Эбергард в Монте-Веро?
— Нет, благочестивая сестра, он плывет в Германию.
— Значит, все напрасно?! — едва сдерживая гнев, воскликнула монахиня.
— Не сердись на посланного, который исполнил свою обязанность,— проговорил монах,— я с большим удовольствием принес бы тебе более приятное известие. Но и дурную весть следует вовремя сообщить!
— Ты прав, благочестивый брат,— ответила Леона со скрытой насмешкой.— Я постараюсь воспользоваться этим известием.
— Что же передать в ответ адвокату Ренару?
— Скажи, что он услышит обо мне! Достаточно ли у тебя денег, чтобы возвратиться в твой монастырь?
— Благочестивому монаху очень мало надо, почтенная сестра!
— На всякий случай возьми это, чтобы не терпеть нужды,— сказала монахиня, кладя деньги в руки монаха.
— Да благословит Святая Дева аббатису Гейлигштейнского монастыря, прекрасную монахиню, которая скрывает свою красоту под темной рясой, наложив на себя обет целомудрия и отрекшись от света. Твой образ еще долго будет стоять перед глазами бедного Краемуса, смущая его сны дивными видениями. Не суди меня строго, благочестивая сестра, ведь я такой же человек из плоти и крови.
Леона с презрительной улыбкой слушала страстную речь монаха, хотя она и говорила ей, что ее красота еще не утратила своей силы.
— Давно ли ты постригся? — полюбопытствовала она.
— Двенадцать лет назад, благочестивая сестра, но твоя красота не могла не пробудить во мне прежних чувств. Двенадцать лет я не испытывал подобных ощущений.
— Ты дрожишь, благочестивый брат, твои глаза горят, что с тобою?
— Позволь мне уйти… Счастье для меня невозможно! — с отчаянием воскликнул монах, поднося к губам нежную руку монахини и падая перед ней на колени.
— Почем знать, может быть, ты не в последний раз видишь меня! — промолвила Леона с интонацией, которая еще больше возбудила монаха.
— В Париже? Эта мысль будет поддерживать меня! Надежда воскрешает меня! Видеть тебя только раз без этого покрывала, налюбоваться тобою — потом можно и погибнуть!
— Потом хоть всемирный потоп! — подхватила Леона с дьявольской улыбкой.— А теперь уходи!
Краемус все еще сжимал нежные руки монахини, осыпая их горячими поцелуями. Наконец Леона сделала движение, чтобы уйти, и он поднялся с колен.
Он пошел рядом с нею по темной аллее.
— Да сопутствуют тебе святые! — промолвила Леона, когда они дошли до места, где их пути расходились.
— Ты приказываешь — я повинуюсь, благочестивая сестра.
Он направился в сторону королевских ворот, но через несколько шагов остановился, а потом ускорил шаг и расстегнул рясу, чтобы холодный ночной ветер освежил его горячую грудь.
Леона слышала, как монах остановился, но она торопливо продолжала путь, однако слова страстного монаха не шли у нее из головы.
«Все вы рабы ваших страстей! — думала она.— Кто станет уважать вас? Все вы должны лежать у моих ног и безмолвно покоряться моей воле. Только он один составляет исключение. Он, которого я люто ненавижу, который и теперь сумел разрушить мои планы. Но моя душа не успокоится, пока моя ненависть не уничтожит его. Это что за хижина? — Леона внезапно остановилась, увидев домик с открытой дверью.— Это не хижина лесничего; вон он раскладывает дрова, а внутри сидит женщина».
Вдруг лицо Леоны исказилось, словно злой дух шепнул ей что-то. Тихо приблизилась она ко входу, чтобы посмотреть, чем так ревностно занята женщина, черты лица которой трудно было разглядеть при слабом мерцании огня. Вальтер стоял к ней спиной и ничего не видел, а женщина нагнулась к ребенку и, целуя его, старалась закутать в платок.
Леона кралась неслышно. Проницательным взглядом смотрела она на молодую мать. Должно быть, это жена сторожа, решила она.
Однако отчего ее так привлекла эта картина? Зачем она так долго смотрела на этих милых существ? Неужели графиня Леона Понинская, которая без всякого сожаления отдала собственного ребенка, которой были недоступны материнские чувства, растрогалась от увиденного?
О нет! Ее холодный взгляд перечеркнул подобное предположение.
Маргарита, еще слабая и бледная после долгой болезни, с улыбкой смотрела на спящего ребенка. Счастье светилось в ее бесконечно добром взгляде.
Леона, хотевшая было удалиться так же незаметно, как и подошла, вдруг увидела нежное лицо женщины и вошла в хижину. Прошмыгнув в темный угол, где ее не было видно, она позвала глухим голосом:
— Маргарита!
Девушка быстро обернулась.
На лице Леоны мелькнула довольная улыбка.
— Ты меня звал, Вальтер? — спросила Маргарита тихо, боясь разбудить спящего ребенка.
Монахиня вышла из тени на свет.
Несчастная женщина вскрикнула: перед нею стояла невысокая знакомая фигура в коричневой монашеской рясе, слабый свет делал ее появление не только неожиданным, но и страшным.
Вальтер, услышав возглас Маргариты, вбежал в хижину и увидел монахиню.
— Отчего ты испугалась? — серьезно, хотя и. благосклонно, спросила Леона.— Разве ты не знаешь, что означает одеяние, которое я ношу, разве оно так страшно, что ты дрожишь?
— Монахиня! — прошептала Маргарита.
— Может быть, вы сбились с пути? — спросил Вальтер.— В таком случае я провожу вас.
— Нет, не это заставило меня остановиться здесь,— ответила Леона.— Я увидела тебя, молодую девушку, в жилище сторожа, и почувствовала беспокойство, заботишься ли ты о спасении своей души. Вы здесь живете уединенно, я вижу ребенка, это твой ребенок, я это знаю — видела, с какой любовью ты его целовала и убаюкивала!
Маргарита не могла вымолвить ни слова, она чувствовала, как ее лицо покрывается краской, а слезы подступают к горлу.
Вальтер счел своим долгом ответить монахине:
— Если бы вы пришли через полчаса, то увидели бы, что я сплю не в хижине, а там, под деревом, тогда как Маргарита и ребенок остаются здесь!
— О, он так добр, благочестивая женщина, он стережет, защищает и печется о нас! Я была очень больна, и этот дорогой друг день и ночь проводил у моей постели! — быстро лепетала Маргарита.
— Ты еще очень слаба на вид, бедная девочка, а в этой сырой, старой хижине тебе никогда не выздороветь. Я желала бы взять тебя с собой; я благочестивая сестра и с радостью уступлю тебе свою келью,— говорила Леона мягким, нежным голосом, протягивая руку Маргарите.
Ласковые слова монахини вселили в Вальтера беспокойство, а Маргарита почувствовала невыразимый страх, когда благочестивая сестра пожимала ей руку.
— Оставьте ее здесь, ей теперь лучше,— сказал лесничий.
— Да-да, оставьте меня здесь, я себя совсем хорошо чувствую. Лесной воздух мне на пользу!
— Я не имею права оставить тебя в хижине лесничего! При всей его доброте и заботе о тебе здесь твоя душа не получит спасения. Поверь моим словам и пойдем со мной!
— Маргарита, оставайся здесь! — сказал Вальтер решительно.— Если она после выздоровления захочет переменить убежище, я не стану ей препятствовать. Спроси ее сама, благочестивая сестра, и пусть Маргарита решит!
— Вы уже слышали мой ответ; благодарю вас за ваше предложение и за вашу заботу обо мне, но я не могу поступить иначе!
— Так ты уже подверглась порче, безумная! -воскликнула монахиня; в ее словах слышалась явная угроза, обнаружившая злые намерения Леоны. Маргарита с испугом отступила к спящему ребенку.
— Ты та безродная девушка, что воспитывалась в семействе Фукс…
— Вы знаете это? Да кто же вы? — дрожа, спросила Маргарита.
— Вы можете знать и говорить, что угодно,— вмешался Вальтер,— но Маргарита останется здесь. Если вы, благочестивая женщина, только и способны угрожать бедствиями, то нам гораздо приятнее будет видеть вас уходящей, чем приходящей. Нехорошо заставлять дрожать и бояться больную женщину, кем бы вы ни были!
С этими словами Вальтер двинулся на женщину так, что она отступила за порог. Он захлопнул за собой дверь и встал в темноте перед монахиней, которая не ожидала такой твердости.
Леона поняла, что силой здесь ничего не возьмешь, а того, что она узнала, было достаточно, чтобы раньше, чем молодые люди начнут подозревать, употребить свое могущество и захватить отыскавшуюся девушку, которую она ненавидела и боялась и которую хотела использовать в своих планах.
Сердце графини Понинской было темным лабиринтом, она знала только одну цель — господствовать над миром посредством несметных богатств Эбергарда и могущества страстей.
Она бросила злобный взгляд на Вальтера, который спокойно и твердо смотрел ей в лицо, и скрылась в густой чаще.
XXXV. ПЕРЕД ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ДОМОМ
Князь Монте-Веро возвратился в Германию. Ловко задуманный обман, в котором принимали участие Фукс, Черная Эсфирь и Рыжий Эде, занимал не только придворных, но и все слои общества. Старались доискаться, каким образом преступникам удалось завладеть официальными бумагами, но Фукса и компанию не разыскивали, так как Эбергард уверял, что мошенники погибли в море. Вообще дознаться правды было очень трудно — чиновников было много, и узнать, кто из них подделал подпись и злоупотребил официальной печатью, оказалось почти невозможно.
Только одно обстоятельство было достоверно известно: в преступном замысле участвовал один почтамтский чиновник, который исчез сразу же после отъезда Монте-Веро. Полагали, что он бежал в Англию.
На князя Монте-Веро, новый титул которого был подтвержден королем, гнетущее действие оказывала атмосфера дворца.
Уже перед самым отъездом он заметил, что двор переменил свое отношение к нему, королева просто избегала его общества. При дворе явно происходили решительные перемены.
Многочисленное дворянство многолюдной столицы безнаказанно удовлетворяло свои прихоти, восстанавливая против себя народ. Росла нищета. Недовольство людей стало принимать угрожающие размеры, когда правительство, поддавшись реакции, стало разгонять собрания и обнаружились клерикальные тенденции.
К тому же появились демагоги, которые старались увеличить брожение умов, разжигали страсти и в конечном счете стремились встать во главе народных масс, завладев их доверием.
Один из таких мнимых пророков, толстый белокурый мужчина в неряшливом платье, с остекляневшими пьяными глазами, всеми силами старался сделаться предводителем. Он собирал тайные народные сходки, произносил речи, слушая которые, всякий беспристрастный наблюдатель сказал бы, что этот человек подкуплен теми, кто хотел вызвать в народе возмущение, чтобы иметь основание усмирить его пушками.
Эбергарда все это очень заботило. Правда, ему удалось несколько успокоить бурю, но все-таки оставались беспокойные умы, которые будоражили народ. К их числу принадлежал литератор Фельд и его товарищи, которые по собственной вине, в результате распутной жизни, дошли до такой нищеты, что подчас не имели своего очага и жили за счет добродушных и доверчивых рабочих.
Князь Монте-Веро понял, что корень зла кроется в высших сферах, что корень этот пустил ростки очень глубоко и быстро разрастается. Атмосфера дворца была для него невыносима, аудиенция у короля еще больше убедила его в том, что его враги при дворе становятся ему поперек дороги, навлекают на него подозрения и стараются вытеснить его. Но совесть Монте-Веро была так чиста, и душа так переполнена стремлением осуществить завещание своего приемного отца, что он спокойно взирал на козни и происки врагов.
Монте-Веро сознавал, что он всегда стоял за добро и преследовал зло, и этого сознания ему было достаточно, чтобы успокоить свою совесть.
Благороднейший человек своего времени, правдивый, кроткий, беспристрастный, любящий, высокий в своих устремлениях и чувствах, он решился ждать, когда враги сами выдадут себя. Он замечал перемену и в короле, чувствовал его холодность и потому решил возвратиться в свой дворец на улице Мареталь. Там вместе с Ульрихом, Вильденбруком, Юстусом и доктором Вильгельми он неутомимо занимался благоденствием народа, расширением его образования. Он часто засиживался до поздней ночи над планами создания новых предприятий, где десятки тысяч людей могли бы получить работу. Вместе с друзьями он разыскивал жилища бедняков, помогал больным, семьям, где были дети. Потеряв единственное дитя, он хотел видеть счастливыми других.
Но вся его щедрость не могла в корне исправить бедственное положение народа. Тем более что всякий тратил больше, чем мог, и требовал больше наслаждений, чем ему позволяли средства. Всякий старался казаться значимей, чем был на самом деле, и роскошничал не по средствам. Женщины не желали носить ситец и нанку, солидные торговцы гонялись за счастьем, играя в азартные игры. Лотереи сделались главной забавой общества. Бедняги несли последний грош ради обманчивой надежды вдруг сорвать большой куш.
Полиция ежедневно сталкивалась с детоубийствами. Грабежи, разбои, обманы все учащались, и вместе с тем открывались новые кабаки, блестящие концертные залы, проводились танцевальные вечера, где процветал прикрытый блеском порок.
Мы уже видели переполненный народом цирк, людей прельщало жестокое представление, печальный конец которого нам уже известен
Маргарита осталась жива, но после тяжелой борьбы со смертью окончательно выздоровела только благодаря заботе Вальтера.
Раны, нанесенные львом, оказались неопасными, и Маргарита поправилась бы быстро, если бы не жестокая лихорадка, которая сильно усложнила болезнь. Вальтер все жалованье тратил на лекарства. Уходя в аптеку, он запирал Маргариту с ребенком на ключ и бежал всю дорогу, чтобы как можно скорее возвратиться к больной, которая бредила и металась на постели. Когда деньги кончились, пришлось продать кое-какие вещи.
Дни и ночи проводил юноша у постели любимой женщины, он готов был отдать собственную жизнь, если бы это могло помочь ей.
И вот однажды, когда он шептал у ее изголовья, Маргарита умолкла. Вальтер оцепенел: девушка, о которой он мечтал в дни юности и которой был предан всей душой, лежала бездыханной.
В отчаянье он прильнул к ее ногам.
— Бесценная моя, ты меня никогда не любила,— говорил он сквозь рыдания.— Ты никогда не относилась ко мне так, как я относился к тебе. Ты не могла любить меня, я не стоил того, но я только раз рассердился на тебя за это, уж очень мне было горько! Прости меня, дорогая. Я тебя очень люблю! Я был счастлив и тем, что мог быть полезен тебе. Когда лишен всего, доволен и немногим. Я был счастлив видеть тебя рядом, даже не имея надежды назвать тебя своей! Я еще больше полюбил тебя и простил от чистого сердца, когда ты явилась ко мне с ребенком на руках. Это было тяжело и больно, но с Божьей помощью я не пришел в отчаяние. Когда я увидел тебя такой несчастной, оставленной всеми, когда услышал твой нежный голос, моя душа наполнилась неизъяснимой любовью к тебе. Ты умерла, но оставила мне ребенка, твое сокровище и твою радость; не бойся, я клянусь перед тобой всеми святыми, что твой ребенок не испытает нужды и не будет брошен на произвол судьбы, как это сделали с тобой. Ты меня слышишь, Маргарита?…
Вальтер в отчаянье схватил руку девушки и поднес к губам. Вдруг ему показалось, что он слышит слабое дыхание. Сердце юноши забилось; он склонился над лицом Маргариты… Она дышала тихо и ровно. Вальтер осторожно отошел от постели, он понял, что она спала. Он принял сон за смерть и кризис за предсмертную борьбу. Маргарита спала крепко и спокойно. Вальтер упал на колени. Он молился страстно, искренне, благодарил Бога за то, что он оставил в живых любимую им женщину.
Маргарита постепенно поправлялась. Вальтер уступил ей с ребенком хижину, а сам ночевал рядом, под двумя деревьями. Зимой он рассчитывал перевести Маргариту в город, к знакомым, бедным, но добрым людям.
В одну из таких спокойных и мирных ночей и явилась Леона. Когда ее фигура растворилась во тьме леса, испуганная Маргарита почувствовала, что с ней непременно случится какое-то несчастье. Сердце ее замирало при одном воспоминании о мстительных глазах монахини, и хотя Вальтер старался ее успокоить, но и он сам предчувствовал беду, хотя и не знал, откуда она угрожает.
Они долго обсуждали, что же предпринять, потому что оба были уверены, что монахиня, не медля, исполнит свою угрозу.
— Сердце подсказывает мне,— говорила Маргарита,— что она замышляет что-то против меня и ребенка. Какая бы участь меня ни постигла, я все перенесу, но дитя я должна спасти от нее. Время дорого. Я не имею права медлить, я должна поскорей бежать отсюда, искать убежище где-то в другом месте.
— Останься здесь, Маргарита, я буду защищать тебя и ребенка, пока жив,— просил Вальтер.— Я никому не дам коснуться тебя и малютки!
— Вальтер, я не могу иначе. Мне кажется, завтра же над нами разразится гроза!
— Ну что же, тогда делай, как тебе подсказывает сердце.
— Ты так добр, Вальтер. Ты столько сделал для меня, хотя я этого не стою. Было бы ужасно, если бы мне пришлось с тобой расстаться. Как ты можешь думать, что я покину тебя, тебя, который для меня жертвовал всем.
— У меня есть руки, и я ничего не боюсь.
— Не думай, голубчик, что я неблагодарна,— умоляла Маргарита со слезами на глазах.— Я только укрою ребенка, а потом возвращусь к тебе.
— Но куда, кому ты его отдашь? Я вижу, ты права, но не могу придумать, куда его отдать.
— Предоставь это мне, завтра рано утром я пойду искать убежище. Материнское сердце подскажет мне.
Вальтер больше не возражал.
Как только свет показался между густыми деревьями, Маргарита покинула хижину. Она не знала, куда идти с ребенком, у нее не было ни души, кому она могла бы его доверить, но она должна была во что бы то ни стало удалить его от опасности, которую она предчувствовала.
Уже рассвело, когда Маргарита подошла к столице.
Несчастная мать остановилась в отчаянии. Люди проходили мимо, не обращая на нее внимания. Все куда-то спешили, а она в оцепенении смотрела им вслед. Если бы у нее были средства, она могла бы вознаградить за услугу, но ведь у нее не было ничего, кроме жизни и любви. И где бы она нашла человека, который за любовь пожертвовал бы чем-нибудь? Где бы она нашла человека, который взял бы ребенка из сострадания? О вы, матери, которых Бог наградил счастьем самим воспитывать своих детей, вы, которые любуетесь своими здоровыми и веселыми малышами, войдите в положение несчастной Маргариты и не осуждайте молодую мать, которая так жестоко наказана за свое увлечение.
Вдруг отчаянная мысль озарила ее лицо. Нужда делает людей изобретательными, и зачастую девушка с твердой волей находит выход из положения, о котором никогда не догадается человек в благоденствии.
В первую минуту Маргарита содрогнулась при мысли о спасении такой ценой, потом сказала себе, что хотя она теряет материнские права, но в воспитательном доме ребенку будет лучше. Когда же она представила себе, что ребенок ее будет отдан в чужие руки, в которых она не была уверена, сердце ее облилось кровью. Но ведь в воспитательном доме, думала она, благочестивые сестры, они с одинаковой заботой принимают всякого ребенка, какого им принесут. К тому же несчастная вспомнила, что у ее малыша есть пять родимых пятнышек, по которым она всегда сможет его отыскать.
Маргарита поспешила к воспитательному дому. Но чем ближе она подходила, тем походка ее становилась медленнее. Стыд, страх и ужас охватили несчастную. Ей казалось, что каждый прохожий угадывал ее намерение, смотрел на нее с презрением, как бы говоря: «Смотрите, она несет своего ребенка в воспитательный дом!» И все же, превозмогая себя, она шла дальше. Уже приблизившись к воспитательному дому, она обратила внимание на высокую стену напротив. Это была ограда столичной тюрьмы.
Нижние окна воспитательного дома были настолько высоки, что под ними можно было смело пройти незамеченной (тем более, что на противоположной стороне глухая стена) и положить ребенка в корзинку.
— Пресвятая Богородица! — шептала несчастная женщина, вынимая ребенка из платка и прижимая к губам.— Будь покровительницей моему маленькому! Будь ему матерью, защити его от всякого зла, ты ведь знаешь, что я погибла навсегда! А ты, милый ангел, ты, невинное создание, дай Бог тебе лучшей участи, чем та, что выпала на долю твоей матери! Не проклинай ее, когда ты будешь среди чужих, когда будешь чувствовать, что ты сирота. Да пошлет тебе Божья Матерь силы, чтобы оставаться всегда доброй, как Она дает ее мне пережить этот час!
Маргарита подошла к двери. Маленькая корзина была пуста. Еще минута — и ее ребенок будет лежать там, быть может, навсегда погибший для нее, брошенный, преданный! Она со страхом смотрела на роковую корзину, покачивающуюся, когда в нее клали маленькую ношу и дергали за колокольчик у двери. Корзина казалась ей могилой, в которую она опускала навеки своего ребенка. Лицо ее исказилось. Но ведь в воспитательном доме были сестры милосердия, благочестивые сестры, отрекшиеся от света, чтобы посвятить себя заботам о ближних,— успокаивала себя Маргарита. Ведь столько детей находят себе там приют!
Вдруг, остановившись в нерешительности, она вспомнила о монахине и решительно положила ребенка в корзину. Никого не было вокруг… Никто ее не видел… Все кончено!… Она отвернулась: слезы заволокли ее голубые глаза. Маргарита закрыла лицо руками, потом с отчаянием посмотрела на небо, еще раз поцеловала свою милую девочку и дернула за звонок. Колокольчик весело зазвенел, но для бедной матери это был погребальный звон.
XXXVI. СЫН МОГИЛЬЩИКА
Прошло два года после описанных событий.
Обе зимы простояли очень холодные; народные бедствия возрастали; появилось множество благотворительных обществ, чтобы хоть как-то облегчить судьбу бедных. Снег еще лежал на улицах, хотя февральское солнце уже чуть пригревало, ночи были такими морозными, что все растаявшие днем прогалины снова покрывались льдом.
В парке на озерах было много катающихся на коньках, более степенная публика каталась в экипажах по дорожкам, наслаждаясь приятным воздухом.
Был послеобеденный воскресный час. Морозный воздух поманил обывателей многолюдного города на прогулку в парк. На дорожках пестрели толпы нарядных горожан. Молодежь торопилась в танцевальный зал. Люди постарше прогуливались семьями.
Рабочие, как обычно, гуляли по большой дороге, ведущей к известному нам заведению Вильдпарка; она тянулась вдоль кладбища до дворца принца Вольдемара.
Через решетку кладбища виднелись семейные склепы и кресты. Могилы были покрыты снегом.
У кладбищенских ворот стоял мальчик лет трех-четырех, с любопытством глядя на проходившую толпу. Он сжимал ручонками железные прутья решетки, мороз для него не существовал. Жалкая одежонка, сшитая навырост, плохо прикрывала маленькое тельце, а старая меховая шляпа, очевидно, принадлежавшая его отцу, сползала на глаза.
Мальчик обращал на себя внимание почти всех, кто проходил мимо, не только красотой, но и грустным выражением лица. Когда какая-нибудь сострадательная мать подходила к нему и с участием спрашивала, не озяб ли он и как его зовут, бедный малыш вместо ответа кивал головой, пожимал плечами и бессвязно что-то мычал.
Потом немому мальчику надоело стоять у решетки и он вышел на дорогу. В эту минуту из-за поворота почти без шума выскочил какой-то экипаж. Раздался страшный крик, а следом за ним возгласы женщин.
Толпа с шумом рванулась к экипажу и с ужасом увидела, что под колесами лежит ребенок.
— Тпру, держи их! — кричали мужчины, удерживая лошадей.— Это немой мальчик. Проклятая резина! Сорвите ее с колес!
— Сначала высвободим ребенка, держите лошадей, не выпускайте их!
Быстро собралась большая толпа. Пока в суматохе все кричали друг на друга, пожилой человек в экипаже безмолвно взирал на происходящее. Несколько мужчин осторожно вытащили мальчика из-под кареты.
Ребенок беззвучно плакал, указывая на кладбище.
— Да это немой мальчик могильщика,— проговорил кто-то в толпе.
— Верно, ему надоело стоять у ворот и он хотел перебежать дорогу.
— Оставьте лошадей! — кричал кучер экипажа, на дверцах которого красовался герб с короной.
— Держите крепче! Не отпускайте! Он со своей проклятой резиной наделает еще больших бед!
Несмотря на протесты кучера, люди содрали резину с колес.
Наконец из кареты вышел пожилой человек с неприятными серыми глазами. Это был барон Шлеве. Он постарался выразить на лице бесконечное сожаление. Однако это не скрыло его растерянности и страха перед возмущенной толпой. Он едва мог говорить.
— Не так сильно… милые, добрые люди! — лепетал он умоляюще.
— Да это господин камергер Шлеве! Это тот самый господин, что соблазняет наших дочерей. Теперь он давит маленьких детей!
Толпа наступала. В эту критическую минуту вдруг появилась величественная фигура Эбергарда. Увидев издали скопление народа и услышав угрожающие крики, он поспешил к месту происшествия, боясь, чтобы раздражение народа не перешло границ. Он еще не знал, что случилось, но ему достаточно было видеть полицейских, бежавших к Королевским воротам.
Глядя, как теребят и тормошат камергера, как успокаивают окровавленного ребенка, Эбергард понял, что произошло. Он подошел к ребенку. Мужчины расступились — в народе знали графа Монте-Веро, его продолжали по-прежнему звать графом.
— Бедное дитя,— проговорил он.— Я отнесу тебя к родителям! Тебе нужна немедленная помощь! Как тебя зовут, милый мальчик?
Мальчик, перестав плакать, посмотрел своими большими голубыми глазами на Эбергарда и, протянув ручонки, обнял его за шею.
Вероятно, он чувствовал своим детским сердцем доброту этого человека.
Эта трогательная сцена произвела впечатление на толпу.
— Посмотрите,— раздались голоса,— посмотрите, как он доверчиво прижался к графу.
— Ребенок всего лучше чувствует, кто ему истинный Друг!
Камергер понял, что в эту минуту его судьба в руках ненавистного князя Монте-Веро и только он может спасти его от толпы.
Эбергард холодно поклонился камергеру, он знал, что Шлеве — его первый враг при дворе.
— Он задавил ребенка и хотел удрать! Если бы не мы, то и задние колеса переехали бы через мальчика! — спешили объяснить мужчины.
— Я имею честь быть знакомым с господином бароном,— проговорил Эбергард, обращаясь отчасти к Шлеве, а отчасти к толпе.— Вы можете спокойно разойтись по домам: господин барон не откажется исправить несчастье, насколько это возможно. Не правда ли, господин барон?
— Без всякого сомнения,— отозвался Шлеве, уже обретая прежнее высокомерие.
— Ребенок беден, господин барон, вы, вероятно, это слышали, и ваш долг — заплатить за его лечение.
Шлеве со сдержанной ненавистью посмотрел на князя.
— При таких обстоятельствах хозяин экипажа не виноват,— возразил он.
— Потрудитесь сесть в экипаж,— холодно сказал Эбергард.— Объяснения при подобных обстоятельствах, где говорят факты и кровь, не только излишни, но и вредны! Как тебя зовут, милый мальчик? — обратился он к ребенку, чтобы отвлечь от Шлеве внимание толпы.— Так как тебя зовут, мой бедный мальчик?
— Он немой! — воскликнуло несколько голосов.
— Он сын могильщика из церкви Святого Павла,— объяснила одна из женщин.
— Это тут, напротив? Ну, тогда я сам отнесу его к родителям! — Говоря это, Эбергард с удивлением наблюдал, как Шлеве сел в экипаж, а кучер поднялся на козлы. Предоставьте мне позаботиться о мальчике,— обратился он к толпе.— Кажется, он, благодарение Богу, получил неопасные повреждения. Успокойтесь и разойдитесь, я позабочусь обо всем! Приближаются жандармы, не нарушайте порядка, друзья! Если кто в чем нуждается или не имеет работы, пусть обратится ко мне. Я готов помочь каждому, насколько позволяют мне средства.
Работники ответили благодарными возгласами, и прежде чем появились жандармы, толпа рассеялась, и только следы крови говорили о случившемся.
Камергер Шлеве приказал гнать лошадей и, кипящий злобой, подъехал ко дворцу принца.
Эбергард с маленьким немым на руках дошел до решетчатой дверцы и открыл ее. Доктор, за которым уже успели сходить, спешил по двору к домику могильщика. Там, по-видимому, еще не знали о случившемся несчастье.
— Здесь живут твои родители? — спросил Эбергард, указывая на домик, возле которого стояли лейка и лопата.
Немой утвердительно кивнул.
— Повреждения нетяжелые,— заключил доктор.— Резина несколько ослабила силу удара.
— Так вы полагаете, что раны не опасны?
— Только небольшой вывих,— доктор осмотрел руки немого мальчика.— Нужно раздеть ребенка и серьезно осмотреть. Часто в первые минуты повреждения бывают незаметны.
Когда князь Монте-Веро с мальчиком на руках приблизился к неприветливому низенькому домику, из двери показалась старая женщина с безобразным лицом. Подбоченясь, она озиралась по сторонам. Внешне она напоминала Ксантипу: ее злые глаза сверкали из-под наморщенного лба, а вся фигура была олицетворением гнева.
При виде этой женщины немой еще сильнее прижался к Эбергарду.
— Это твоя мать? — спросил Эбергард тихо. Малыш отрицательно покачал головой.
— Боже сохрани! — воскликнула женщина, увидев ребенка на руках незнакомого человека и всплеснув руками.— Это что такое? Где ты был, Иоганн?
Эбергард, не зная, что отвечать этой женщине, так как мальчик дал понять, что это не его мать, покачал отрицательно головой, а потом спросил:
— Где родители этого мальчика, милая женщина?
— Какие еще родители? — воскликнула женщина.— Поросенок, опять убежал из дому! Не успели оглянуться! Уж на этот раз ты свое получишь! Отец в своей комнате.
— Отец! Прекрасно, позови его.
— Позвать, его позвать? У него ведь тоже своя работа, как могу я ему помешать? Дайте мне его. О! Да он весь в крови!
Мальчик побледнел, он явно боялся этой женщины.
Эбергард прошел с ним в сени и постучал в первую же дверь.
— Гм! Входите! — послышалось из комнаты.
— Где это он опять шлялся, этот подкидыш? — ворчала старуха, грозя вслед кулаком.— Кровь на руках и на платье. Ну, подожди, тебе достанется!
Эбергард отворил дверь и, нагнувшись, вошел в бедную, но чистую комнату.
Самуил Барцель, могильщик церкви Святого Павла, оказался пожилым человеком, с темными волосами и густой бородой. Он вопросительно посмотрел на вошедшего из-за стола, за которым что-то писал.
— Я принес вашего ребенка,— сказал Эбергард.— Он попал под экипаж камергера Шлеве. Необходимо, чтобы доктор, которого я привел с собой, серьезно его осмотрел. Иначе мальчик может быть калекой.
— Боже милостивый! — воскликнул могильщик.— Иоганн, что ты наделал?
Мальчик протянул ручонки к Барцелю. Старуха тем временем пробралась в комнату, осторожно притворив за собою дверь.
— Переехали его! Не верьте этому, господин Барцель! — ворчала она.
— Замолчи, Урсула! — прикрикнул на нее могильщик, взяв мальчика из рук Эбергарда.— Не следовало тебе ходить за ворота, дитя! За ребятами трудно усмотреть.
— Вот слушали бы меня и заставили его каждый день работать, ничего и не было бы! Большой мальчишка, просто совестно за него! А что люди обо мне подумают!
— А где мать мальчика? — спросил Эбергард, не обращая внимания на воркотню старухи.
— Мать? — повторил могильщик.
— В этом-то и все дело! — перебила негодная женщина.
— Замолчи, Урсула! — рассердился Барцель.— Иди, займись своей работой. Где рассуждают мужчины, женщины не должны вмешиваться.
— Ладно, хотите себя показать перед этим господином! Вам рассказывают басни, а вы верите, что его переехали! Ведь нужно будет и за лекарства платить, и доктору! — продолжала Урсула, выходя из комнаты.— А в доме иной раз и на хлеб не хватает.
— Слава Богу, ушла! — Могильщик закрыл за Урсулой дверь.— Она уже двадцать лет служит у меня в доме и потому считает вправе совать всюду нос. У меня нет жены, господин, я сам раздену и положу мальчика в постель.
Взяв ребенка, Самуил Барцель отворил дверь в узенькую, холодную комнатку. В ней не было никакой мебели, кроме постели. Окно покрывал узорчатый лед.
Мальчик не отрывал взгляда от князя. Что это означало? Было ли это вызвано только добротой Эбергарда? И как объяснить странное чувство, овладевшее князем, когда он с таким участием смотрел на ребенка?
Доктор вскоре убедился, что серьезных повреждений у мальчика нет, хотя малыш горько плакал всякий раз, когда доктор ощупывал его, это были всего лишь ссадины от удара. Но он тотчас замолчал, когда Эбергард, улыбаясь, подошел к нему.
— Это прелестный ребенок,— говорил Самуил Барцель,— и при больших средствах из него вышла бы умная голова. Подумайте, ведь ему только четыре года, а он все понимает. Старая Урсула не особенно расположена к нему, у нее есть на то свои причины. Он ищет у меня защиты, но так как времени у меня немного, то он и норовит всегда убежать из дому. Сначала он стоит у ворот, но как только увидит, что никто за ним не присматривает, перебегает дорогу и усаживается где-нибудь под деревом в Вильдпарке. Там он играет с цветочками, с камешками и забывает подчас о пище и питье. Когда мы находим его там, строго наказываем!
— Бедный мальчик! — сказал Эбергард с чувством.— Если бы только он не был немым!
— Да, это печально! Он сделался немым, но, благодарение Богу, слух у него очень развит! Не думайте, что от рождения он был таким здоровым! О нет! Я еще не видывал такого маленького и болезненного существа и никогда не предполагал, что он останется жить. Теперь же он просто крепыш. Если бы я только мог больше заниматься им!
— А не согласились ли бы вы отдать его? — тихо спросил Эбергард.
Могильщик с удивлением посмотрел на высокого господина.
— Нет, я не могу отдать его вам. Прежде, когда старая Урсула предоставляла мне все хлопоты о нем и когда я должен был бросать работу ради этого слабого ребенка, тогда порой мне приходила мысль отдать его богатым людям. Но теперь! Нет. Теперь я не в силах этого сделать.
— Если вы когда-нибудь передумаете или если обстоятельства заставят вас поручить этого мальчика другим, то вспомните обо мне — вот моя визитная карточка.
— «Князь Эбергард фон Монте-Веро!» Ожидал ли я такую честь? Не стесняйтесь, говорите, благородный человек. — разволновался могильщик.
— Если у вас не хватит средств для воспитания мальчика и это будет для вас в тягость, обратитесь ко мне за помощью. У меня нет детей. Был ребенок, но я его потерял! И я хотел бы по крайней мере быть полезным другим! Прошу вас, помните об этом.
— Вы редкий, благородный человек! — воскликнул могильщик.— Я вам обещаю, в случае надобности, воспользоваться вашим благодеянием. Принять его от вас не стыдно. Я сам не знаю, что побуждает меня говорить таким образом. Вероятно, вы сами тому причиной. Говорить так — не в моих правилах. Я говорю коротко и грубо. Благодарю вас и доктора за оказанную вами помощь и любовь к Иоганну!
Эбергард протянул руку могильщику, потом приблизился к мальчику и поцеловал его открытый высокий лоб. Но прежде чем выйти, он остановился на мгновение, чтобы еще посмотреть на милое лицо Иоганна. Монте-Веро снова вернулся к ребенку, чтобы поцеловать его еще раз.
Малютка заплакал. Он тихо рыдал до тех пор, пока Эбергард не посадил его опять к себе на колени. Мальчик, улыбаясь, крепко обвил ручонками шею князя. Эбергард обещал малышу скоро навестить его.
Князю тяжело было расстаться с ребенком. Странные чувства овладели его душой, когда он покидал двор церкви Святого Павла.
XXXVII. КРИК СУМАСШЕДШЕЙ
В Вильдпарке, в той его части, которая прилегает к дворцу принца Вольдемара, по ночам можно было слышать жалобные стоны, которые доносились откуда-то сверху. Те, кому надо было поздно вечером или рано утром проходить здесь, предпочитали выбирать другую, хотя и более дальнюю дорогу, лишь бы не слышать этих умоляющих и непонятных стонов. Все это давало пищу для суеверий. Вскоре разнеслись самые неправдоподобные слухи, и старые сказания вновь воскресли.
Дворец принца, как нам известно, находился в отгороженной части парка, которая принадлежала ему. Там, где эта часть соединялась с Вильдпарком, имелся глубокий пруд, его черная вода никогда не замерзала. Возле этого пруда, отделенного от дворцового парка решеткой, стояла полуразвалившаяся башня с маленькими решетчатыми окнами. В былые времена садовники складывали здесь свой инвентарь, теперь же ею никто не пользовался. Эта старая, сырая, мрачная башня снова заставила говорить о себе. Существовала легенда о том, что в прошлом столетии тут похоронили заживо юную девушку. Эта легенда и сам вид башни действовали на воображение. Старые люди, слышавшие умоляющие стоны близ пруда, утверждали, что те же крики раздавались по ночам и в годы их молодости. Они считали, что это душа девушки не находит покоя и время от времени обходит пруд и башню, испуская ужасные стоны. Эта девушка была дочерью принца, она была так хороша собой, что отец в диком исступлении надругался над нею.
Недоверчивые люди посмеивались над этими рассказами, но когда, желая убедиться в их нелепости, шли темной ночью к пруду, убеждались в обратном и должны были согласиться, что в природе есть нечто такое, что не укладывается в понимание человека.
Откуда исходили эти умоляющие, жалобные, а порой угрожающие стоны, пока останется для нас тайной.
В ночь после случая в Вильдпарке, когда князь Монте-Веро спас барона Шлеве от ярости толпы, камергер, отправившись вечером вместе с принцем Вольдемаром во дворец, представил королю происшествие в ложном свете, отметив опасное влияние князя Монте-Веро на народ.
Взволнованный этим рассказом, король решил при первом же удобном случае намекнуть князю, что таким свободным умам лучше приводить в исполнение свои планы в девственных лесах Америки, чем в его королевстве. В последнее; время любовь короля к князю все уменьшалась, а партия, враждебная Монте-Веро, обретала все большую силу.
Камергер был доволен результатом своих происков и радовался, что может сообщить аббатисе о скором падении Эбергарда. А пока вместе с принцем Вольдемаром он возвращался к себе во дворец.
Принц в последнее время замкнулся в себе. Шлеве давно уже заметил, что он находится в грустном расположении духа, и считал, что даже догадывается о его причине. Прежние услуги барона не имели теперь успеха. Что-то мучило, тяготило его, и ничто не могло его развлечь.
Леона была последней женщиной, которая своей ловкостью и умением привлекать приковала его к себе на короткое время. После нее Вольдемар не сближался ни с одной женщиной.
Леона поступила в монастырь Гейлигштейн. Самое простое объяснение настроению принца, которое можно было дать, это воспоминание о ней. Леона была убеждена в истинности такого объяснения и желала воспользоваться своим влиянием.
Шлеве же был другого мнения. Во время езды через Вильдпарк принц хранил упорное молчание. Полночь уже миновала, когда экипаж подъезжал ко дворцу, в котором почти все окна были ярко освещены. Вдруг до экипажа донеслись тихие, молящие стоны. Шлеве забеспокоился — он намеренно скрывал их от принца.
— Это что такое? Кажется, зовут на помощь? — спросил принц, бросаясь к окну кареты и прислушиваясь.
— Я ничего не слышал, ваше королевское высочество!
— Как, разве вы не слышите? Боязливый призыв о помощи. Вот он повторяется. Отворите окно!
— Но холодный ночной воздух, принц… Вероятно, что-то происходит в Вильдпарке. Народ любит делать из общественного сада арену для реализации своих диких инстинктов.
— Отворите! — приказал принц твердо.
Барон исполнил желание принца. В этот момент экипаж повернул ко дворцу, и опять раздался жалобный и полный страдания крик.
— А сейчас вы слышите? Я должен знать, что означает этот ужасный призыв!
— Ваше королевское высочество, вам не следует разыскивать его источник! — шепнул Шлеве, помогая принцу выйти из экипажа.
— Это почему? Вы говорите загадками.
— Эти призывы загадочны. Они раздаются время от времени уже несколько лет,— тихо говорил Шлеве.— Они исходят из пруда, что за решеткой.
— Так это что-то вроде привидения? Эге, барон! Вы образованный человек и слушаете такую глупую болтовню.
— Старая башня у пруда…
— По-вашему, ее нужно избегать? Ну, а я считаю своим долгом убедить вас в неосновательности молвы, что там водятся черти! Призывы о помощи, которые слышатся оттуда, имеют, вероятно, естественный источник. Постараемся обнаружить его. Мне это даже приятно, тем более что, вероятно, это стонет какой-нибудь несчастный, который действительно нуждается в помощи.
Шлеве, казалось, потерял от слов Вольдемара присутствие духа. Однако, быстро оправившись, он приподнял голову, и на его лице снова появилась всегдашняя лукавая улыбка.
— Раз ваше королевское высочество желает, я должен исполнить ваш приказ и позову нескольких человек, чтобы они несли факелы.
— Не нужно, барон. Флориан, возьмите лампу кастеляна и проводите нас,— приказал принц одному из лакеев, стоявших у двери.
Посланный явился через несколько минут с огромной лампой в руке.
— Идите вперед к старой башне у пруда, — сказал принц.
Флориан испугался, лампа зашаталась в его дрожавших руках. Никто не бывает так труслив, как прислуга в отдаленных замках.
— Да что же это такое, наконец! Я, кажется, окружен трусливыми зайцами да духовидцами,— воскликнул принц, вырвав с нетерпением лампу из рук лакея.— Идите за нами, я сам посвечу себе.
— Ваше королевское высочество, быть может, вы поручите это мне?
— Нет-нет, барон, в ваших руках свет может превратиться в магическую темноту. Я вас только прошу идти рядом. Башню я осмотрю один, так как не хочу доставлять вам неприятных минут. Вы же в сопровождении Флориана потрудитесь осмотреть пруд и его окрестности. Как, и вы дрожите?
— Я уже успокоился, ваше королевское высочество. Во всяком случае, я не рискну оставить вас одного.
— А ключ у вас?
— Да, он у меня, ваше высочество. Я уже имел намерение в один из вечеров установить, откуда исходят эти крики.
— Это удивительно. Надо торопиться, идемте!
Принц с лампой в руках направился к большим воротам в парк. Шпага его билась о камень при каждом шаге. Камергер следовал сзади, а боязливый Флориан заключал шествие.
Была уже полночь, когда Шлеве отворил ворота, и принц, придерживая шпагу, пошел по снежной дорожке.
Тьма вокруг делала обстановку еще таинственнее. Тишина господствовала среди деревьев, ветви которых еще были покрыты снегом.
Вновь послышался тихий, но очень жалобный и отчаянный крик. Принц невольно содрогнулся.
— Вы говорили, что этот крик слышится довольно давно? — спросил он своего камергера.
— Больше того — давным-давно!
— Почему же мне об этом никогда не сообщали?
— Прежде всего, вас не хотели беспокоить, а потом это отнесли к необъяснимым явлениям.
— Ни у себя во дворце, ни в окрестностях его я никогда не слыхал этих криков. Они должны иметь естественные причины, и я очень рад, что сегодня ночью сброшу с них завесу таинственности.
С лампой в левой руке и шпагой в правой принц торопился к дороге, ведущей к заколдованной башне. Чем дальше они углублялись в лес, тем более мрачным он становился. Дорога сужалась, видно было, что нога человека здесь давно не ступала.
Задевая за ветви кустарника, они приблизились, наконец, к решетке, возле которой в окружении деревьев стояла башня.
Когда они подошли к узким невысоким воротам, принц поставил лампу.на землю, чтобы внимательно оглядеть башню снаружи. Едва он убедился, что с этой стороны башни давно никого не было, как лампа вдруг потухла.
Ветер ли ее задул? А может быть, это сделал камергер, стоявший позади принца? Тогда с какой целью?
Принц топнул от досады ногой и передал лакею ненужную теперь лампу.
— Мы и так пойдем,— сказал он.— Луна достаточно ярко светит. Этот свет потушить будет труднее.
— Если только облако ее не закроет,— заметил Шлеве.
Стоны, которые еще недавно были слышны, теперь смолкли. Не было сомнений, что они исходили именно из башни.
Барон, по-видимому, с усилием открыл заржавевший замок, казалось, уже много лет дверь никто не трогал.
— Все это становится для меня все загадочнее,— сказал принц, видя, что в башню давно никто не проникал. Что вы предполагаете, барон?
— Я могу только повторить, ваше королевское высочество, что для меня это обстоятельство давно необъяснимо.
Принц приказал лакею оставаться внизу у двери и никого не пропускать ни туда, ни сюда. А сам со Шлеве не очень решительно переступил порог.
Из башни повеяло могильным холодом. В маленькой комнате с серыми стенами в беспорядке валялся старый садовый инвентарь, сломанные скамейки и горшки для цветов.
Из комнаты широкая каменная лестница вела в верхнюю часть башни. Она была обледеневшей и блестела в лунном свете.
Принц направился наверх. Шлеве следовал за ним, если бы позволяло освещение, принц мог бы заметить на его лице полную презрения ироническую улыбку.
Принц осмотрелся, потом приблизился к стене и простучал всю ее шпагой. Возле лестницы он остановился. Ему послышался какой-то шум и тихое дыхание.
— Что находится за этой стеной? — спросил отрывисто Вольдемар.
— Там находится пруд, ваше королевское высочество,— ответил Шлеве.
— Странно! Мне послышались какие-то звуки.
— Я первый раз вхожу сюда, ваше высочество!
Принц постучал в каменную стену эфесом шпаги.
— Кто там? Нет ли здесь живой души? — крикнул он.
Ответа не было.
— Существуют обстоятельства, принц, которых не постичь умом! Мы можем только просить милости от Всевышнего и молиться с чистым сердцем,— елейным голосом проговорил Шлеве.
— А больше в башне нет комнат? — спросил принц нетерпеливо.
— Другой лестницы нет, ваше королевское высочество!
— Криков, к несчастью, более не слышно, но нет больше сомнений, что они исходят из какого-то другого места! Нет ли в этой части парка еще какого-нибудь строения, которое никем не посещается?
— Нет, принц!
— Ну что же, мы безуспешно провели наши поиски, пора возвращаться во дворец! — сказал Вольдемар, бросив еще раз взгляд на мрачные стены башни.
— Я очень рад, что ваше королевское высочество убедились в тайне, непонятной нашему разуму! — проговорил Шлеве не без удовольствия.
Принц молчал. С суровым лицом он вышел из башни.
— Слышал ли ты или видел что-нибудь, Флориан? — спросил он.
— Ничего не видел и не слышал, ваше королевское высочество!
Барон запер дверь и пошел следом за принцем, который всю дорогу не проронил ни слова.
Когда они вошли во дворец, принц холодно пожелал своему камергеру спокойной ночи.
К барону подошел лакей, его поверенный.
— Что случилось? — спросил Шлеве, поднимаясь по мраморной лестнице в свои покои. Его старый лакей шел следом, держа в руках горящую лампу.
— Вас ждет благородная аббатиса,— ответил шепотом лакей.
— Аббатиса? В такой час?
— Благочестивая дама пришла во дворец раньше вашего сиятельства, она желает с вами поговорить.
— О, я заставил ждать благочестивую женщину,— заспешил камергер и быстро поднялся на лестницу. Лакей отворил дверь в красиво убранную залу. В кресле у камина, где едва теплились угли, сидела аббатиса Гейлигштейнского монастыря. Откинув капюшон, она читала книгу.
Прежде чем лакей прикрыл дверь, она привстала.
Барон с поклоном приблизился к ней и поднес к губам ее маленькую руку.
— Извините меня, сударыня, я заставил вас ждать.
— Нестрашно, барон. Это время для меня не прошло даром. Я читала превосходную книгу — «Фому Кемпийского», так что время прошло очень быстро.
— Я не заметил вашего экипажа, графиня?
— Я оставила его в отдаленной аллее. Мы можем говорить свободно?
— Да-да, за безопасность я ручаюсь.
— Здесь вблизи очень часто видят Эбергарда фон Монте-Веро. Не напал ли он на след?
Это невозможно, сударыня!
Ваш поверенный мне сказал, что принц обратил внимание на крики сумасшедшей. Не лучше ли перевести девушку в другое место?
— Я бы не стал этого делать, графиня. Легенда затмевает истину. Хотите удостовериться?
Леона взглянула на горящие угли в камине.
— Да, барон! Была бы прелестная сцена, если бы принц Вольдемар нашел эту девушку! Хотя навряд ли он узнал бы предмет своей мимолетной прихоти!
— Не скажите, сударыня. Именно теперь принц может с особым вниманием отнестись к девушке, если я и скажу, что она сумасшедшая. За это дело я отвечу…
Не дослушав, Леона перебила камергера:
— Именно теперь принц может с особым вниманием отнестись к девушке. Что вы имеете в виду, барон?
— Сердце принца — загадка. Он на редкость непостоянен. Похоже, он забыл прекрасную Леону! — Шлеве иронически улыбнулся. Леона хотела осадить зарвавшегося камергера, но, вспомнив, что она нуждается в нем, быстро овладела собой и принудила себя к высокомерной презрительной улыбке.
— Принц на редкость непостоянен,— повторила она.— Тонкое заключение, мой милый! — Она сказала это свысока, давая Шлеве почувствовать, что он лишь орудие ее воли.
— Правда — прежде всего, графиня. Принц стал очень меланхоличен, а знаете ли почему? Не думаю, чтобы вы отгадали.
— Вы возбудили мое любопытство. Откройте мне ваше новейшее наблюдение! — сказала она.
— Принц тоскует по прекрасной Маргарите. Он терзает себя упреками и сегодня любит ее несравненно больше, чем в то время, когда с моей помощью оставил ее ради вас.
— Я принимаю это за шутку, барон! Принц был бы…
— Его королевское высочество принадлежит к тем людям, которые любят и желают именно того, от чего прежде добровольно отрешились. Вы не доверяете моим словам, сударыня?
— Должна признаться — не доверяю!
— Я хотел бы это доказать! Вы желаете видеть девушку? Полагаю, по пути мы сможем подслушать, что думает он сам. Принц имеет обыкновение, прежде чем заснуть, разговаривать с самим собой. Похоже, угрызения совести не дают ему уснуть.
— Это достойно удивления!
Мы пройдем картинной галереей, она примыкает к любимой комнате принца. Вы сами все поймете. Потом через боковые ворота мы выйдем в парк.
— Мне нужно торопиться, завтра я должна быть в столице! — зло проговорила аббатиса. Она не верила Шлеве и была уверена, что мысли принца только о ней и она по-прежнему имеет власть над ним.
Леона запахнула плащ, накинула капюшон на свое разгоревшееся от волнения лицо и в сопровождении барона вышла в коридор.
Люстры и канделябры были потушены. Вокруг царила непроницаемая темнота. Но камергер, хорошо зная дворец, уверенно вел аббатису за руку.
Наконец они достигли покоев принца. Камердинеры разошлись, даже в комнате адъютанта было темно и тихо. В картинной галерее они остановились у одного из полотен. Шлеве сжал руку Леоны. Послышалась тихая речь. Леона узнала голос принца. Нельзя было разобрать каждое слово, но все-таки графиня Понинская могла понять смысл доходящих до нее восклицаний.
— Бедное прекрасное создание,— донеслось до нее.— Ты была забыта и теперь исчезла. Да простит мне Господь Бог мой поступок с тобою! Когда до меня донеслись сегодня ночью эти ужасные крики и эти болезненные стоны, которые я никак не могу себе объяснить, страх обуял меня. Мне представился твой образ. Ты предстала передо мной такой, какой описали тебя служанки на вилле: с распущенными волосами бегущей через поле. Ты одна любила меня, моя Маргарита! У всех остальных был только низкий расчет и притворная любовь. Ты одна, моя бедная, покинутая, любила меня со всей страстью твоей непорочной души.
Леона прислонилась ближе к картине. Шлеве был доволен: теперь она не станет пренебрегать его влиянием.
Леона схватила Шлеве за руку.
— Пойдемте! — почти не сдерживаясь, воскликнула Леона, в которой ревность заглушила все остальные чувства.— Пойдемте, барон, я должна видеть женщину, на которую молился принц.
Это не была ревность неразделенной любви. Нет, это была низкая, дикая ревность женщины, лишившейся орудия исполнения своих черных целей.
Барон увел Леону из картинной галереи. Через маленькие ворота, которыми никто никогда не пользовался, они прошли в парк, но не в ту его часть, где недавно проходил принц, а в более отдаленную.
Ледяной ветер обдавал Леону. Но она ничего не чувствовала. Она вся была поглощена одной мыслью — убедиться собственными глазами, что дочь Эбергарда надежно спрятана навсегда.
Это жалобные стоны Маргариты доносились из старой башни. Это ее крики слышали ночью у пруда. Уже два года жила она там в заточении.
Оставив своего ребенка в воспитательном доме, Маргарита возвратилась в хижину Вальтера. Хижина была пуста. Думая, что Вальтер отлучился и скоро возвратится, она прождала его до вечера, но он не приходил. Вальтеру утром приказали явиться в управление парка, где его обвинили в нерадении к службе и отказали от места лесничего. Поздно вечером молодой рабочий вернулся в хижину, чтобы забрать свое бедное имущество. Он надеялся встретиться там с Маргаритой, но Маргариту уже нельзя было найти. Шлеве насильно посадил ее в экипаж и отвез в парк. С помощью преданных слуг, которым он представил несчастную как сумасшедшую, барон Шлеве заточил ее в старую, всеми покинутую башню.
Никакие просьбы и жалобы не помогали молодой женщине. Никто не обращал внимания на ее призывы. Даже старый слуга, приносивший по вечерам скудную пищу, и тот не отзывался на ее просьбы, считая сумасшедшей. Да и действительно, не была ли Маргарита в таких условиях близка к сумасшествию? Неудивительно, если бы эта несчастная от отчаяния сошла с ума в заточении. Испытания, которым подвергалась Маргарита, превосходили человеческие силы!
Однако войдем в тюрьму и посмотрим, куда злоба и бесчеловечность забросили несчастную женщину.
Барон с аббатисой спешили к башне по скрытой разросшимся кустарником аллее. Пойди принц по более отдаленной дороге, и следы ног на снегу выдали бы жестокую тайну.
Дойдя до башни, Шлеве и Леона направились не в ту дверь, возле которой неожиданно потухла лампа принца, а к решетке, которая образовала узкий проход вдоль стены. По другую ее сторону был пруд. Ветви деревьев скрывали небольшие ворота. У барона был от них ключ, и он без труда открыл замок. Старая крутая лестница вела наверх, откуда снова послышались тихие жалобные стоны.
Шлеве оглянулся, прислушиваясь. Ему показалось, что возле пруда в кустах что-то шевелится, и хотя он был уверен, что в этот час никого не может быть, насторожился.
— Пойдемте скорей, ведь время не ждет! — торопила его аббатиса, и камергер пошел вперед по узеньким ступенькам.
На лестнице было темно, и как бы опасаясь за свою прелестную спутницу, камергер вдруг остановился и схватил ее за руку.
Темнота и уединение возбуждающе действовали на него — этот человек пользовался каждым случаем, чтобы удовлетворить свою жажду наслаждений.
— Не беспокойтесь, я иду за вами! — Леона резко высвободила руку.
Шлеве вошел первый в комнату, слабо освещенную лунным светом, струившимся через решетчатое окно. Посреди комнаты, воздев кверху окоченевшие руки, стояла Маргарита.
Комната, где несчастная находилась уже почти два года, была узкой и небольшой. Она была пуста, только у стены, по другую сторону которой что-то удерживало принца, стояла постель.
Почти два года Маргарита в отчаянии билась о стены этой тюрьмы. Руки ее были изранены. Порой силы покидали ее, и она часами лежала без сознания, но чаще рыдания и стоны исторгала ее измученная душа. Они-то и слышались в лесу.
Но никто не являлся на ее призывы. Ворота открывались только для сурового насупленного человека, который раз в день приносил ей еду.
Долгие часы простаивала она у оконной решетки в надежде увидеть живую душу! Но увы! Казалось, все избегали окрестностей пруда.
Так и на этот раз она стояла у окна, ломая в отчаянии руки, как вдруг заметила под деревьями какую-то тень. Она стала следить за ней и вскоре догадалась, что это человек. Только она решила подать ему знак, надеясь на помощь, как отворились ворота, и она узнала камергера, которого смертельно боялась, и монахиню.
Маргарита отшатнулась от окна, ужас сковал ее.
— Вот посмотрите, благочестивая сестра,— проговорил Шлеве, указывая на несчастную,— на последствия греха! Я вырвал эту несчастную из рук мирских судей и грубых тюремных служителей и дал ей убежище в этой отдаленной башне. Но былая греховная жизнь и упреки совести помрачили ее рассудок.
— Вы сделали все возможное для спасения этой заблудшей. Она здесь ограждена от искушений.
Маргарита действительно смотрела так странно, как будто ничего не понимала. Она откинула дрожащими руками свои длинные распущенные волосы, как бы прислушиваясь к тому, что говорили посетители, а потом вдруг разразилась разрывающим душу смехом, который перешел в отчаянные рыдания.
— Пойдемте,— сказала монахиня,— она погибла. Теперь мы дадим насладиться этим зрелищем князю Монте-Веро,— тихо прибавила она.
— После того, как он сам падет,— добавил Шлеве.
— Да. Он должен увидеть крушение всех своих планов и умереть на их развалинах. В скором времени я доставлю вам документы, очень важные для нас. Собственно, именно из-за них я и пришла к вам.
— Я догадался об этом, сударыня,— Шлеве запер дверь башни.— Я был уверен, что ваше посещение не случайно, и горю нетерпением узнать, что это за документы.
Продолжая разговор, аббатиса и камергер скрылись в темноте аллеи.
В одной из последующих глав мы узнаем содержание этого важного документа.
XXXVIII. КРОВАВАЯ ЖЕРТВА РЕВНОСТИ
На следующий вечер принц стоял, глубоко задумавшись, возле высокого окна в своей комнате. Его что-то мучило с тех пор, как он услышал жалобные стоны в парке. С некоторых пор Вольдемар не доверял своему камергеру.
После того как он, поддавшись наущению Шлеве, пренебрег прекрасной Маргаритой ради графини Понинской, его душа не находила покоя. Он чувствовал, что даже здоровье его пошатнулось. Перед ним все чаще вставал милый образ Маргариты, так искренне его любившей! Когда барон заключил благочестивый союз с графиней, сделавшейся аббатисой, принц не поверил искренности этой выставленной напоказ перемены.
В свете нередко можно было наблюдать переход от грешной жизни к усердному покаянию. Но это делалось обычно в преклонных летах, с приближением смерти. Такое благочестие отнюдь не было тяжким искуплением за прошлую жизнь.
Принцу претило деланное благочестие, которое все больше и больше укоренялось при дворе. Он уединился и старался избегать своего камергера.
Проницательный барон был прав, утверждая, что теперь принц был несравненно более расположен к простой девушке из народа, которую он принес в жертву своей прихоти и потом оттолкнул.
Вольдемар винил во всем себя одного, но он прекрасно понимал, какую роль сыграл во всей этой истории Шлеве, и потерял к нему всякое доверие.
С мыслями о Маргарите смотрел принц на обнаженный парк, как вдруг жалобный крик снова достиг его ушей! Казалось, он поджидал его — рядом на стуле были приготовлены шинель, шпага и фуражка. Он живо оделся и незаметно проскользнул в боковую дверь. Он решил один, без провожатых, дознаться причины этого крика. Входя в парк, Вольдемар вспомнил, что у него нет ключей. Достать их не составляло труда, но прежде он решил напасть на след этих таинственных звуков, которые мучили его и днем и ночью.
Удалившись от дворца и убедившись, что его уход никто не заметил, Вольдемар остановился. Пока он стоял в раздумье, крик о помощи повторился. Теперь он был убежден, что крики эти принадлежат измученному человеческому сердцу и исходят со стороны пруда. И принц направился к башне. Ночь придавала ей таинственность.
Вдруг Вольдемару послышались тихие шаги, и хотя он был свободен от предрассудков и суеверий, невольный трепет охватил его. Темная ночь, мрачный старый замок и таинственные крики — все это не могло не настраивать на определенный лад. Он вынул шпагу, приблизился к решетке. И тут увидел позади башни еще одну дорожку и человеческую фигуру у берега пруда. Вольдемар встал в тень под стеной.
Тем временем Маргарита увидела, что кто-то тихо приближается к замку. У нее мелькнула надежда на освобождение; и чтобы дать знать о себе, она слабо крикнула.
Принц больше не сомневался, что в башне кто-то заключен, и продолжал наблюдать. Человек приблизился к башне и, держась за ветви, взобрался на решетку.
— Скажи, наконец, кто ты,— крикнул он негромко,— привидение или душа человеческая? Я ищу одну несчастную и всякий раз, когда прохожу мимо и до меня доносятся твои крики о помощи, теряю всякий покой. Кто же ты?
Человек старался заглянуть в решетчатое окно.
— Выпусти меня,— послышалось сверху,— спаси! Только не ходи во дворец, там мои враги. Сломай дверь, что внизу, под решеткой!
— Маргарита! — воскликнул человек.— Неужто это ты? Отвечай! Я же Вальтер!
— Вальтер? — Голос из башни повеселел.— О, ты меня спасешь! Ты всегда был мне преданным другом. Если ты меня не выпустишь, то я здесь сойду с ума.
Принц с замиранием сердца слушал этот разговор. Уж не сон ли это? Неужели та самая Маргарита, которую он так пламенно любил, находится в заточении? Он слышал, что враг ее во дворце. О, он должен дознаться правды!
А тот человек, что стоит у решетки, не тот ли это молодой садовник, которого Маргарита называла своим единственным преданным другом?
Самые разнородные ощущения обуревали принца: радость, ожидание, злость. А тем временем Вальтер подошел к большим воротам, пытался сломать их. Просьбы Маргариты придавали ему сил. Но ворота не поддавались. Принц, мучимый нетерпением, приблизился и предложил свои услуги. Вальтер отскочил, услышав шаги и увидев перед собой фигуру в военной шинели. Маргарита увидела принца прежде и вскрикнула:
— Беги, беги, это он, тот самый злодей!
Но Вальтер, хотя и увидал шпагу, не спрятанную принцем в ножны, остался стоять на месте.
— Отоприте эту дверь,— крикнул он принцу,— иначе вы отсюда не уйдете! Откройте дверь и выпустите на свободу молодую женщину, что заключена там наверху. Иначе я сейчас же побегу во дворец и буду просить помощи против такого произвола.
— Мы сообща отворим эту дверь, друг мой; я тоже пришел на зов этой несчастной.
Вальтер смотрел на принца с нескрываемым недоверием.
— Кто вы такой? — спросил он тихо.
— Я скажу вам после; а сейчас мы должны освободить несчастную!
— Замок здесь такой, что не хватает сил его отпереть или сломать.
— Бегите скорее во дворец и прикажите барону Шлеве не мешкая идти сюда с ключом!
— Приказать барону? — повторил Вальтер.— Да кто я такой, чтобы барон послушался моего приказа!
— Так возьмите мою шпагу, предъявите ее камергеру и скажите, что принц Вольдемар приказывает ему немедленно явиться сюда!
Маргарита в лихорадочном волнении прислушивалась к разговору. Она не верила себе, узнав голос человека, которого приняла за Шлеве. Услышав, что принц торопится спасти ее, она разрыдалась от радости. Ведь она всей душой еще любила принца.
Принц в беспокойстве ходил взад и вперед у башни. Он не осмеливался заговорить с Маргаритой из-за сознания своей вины. Только себя он обвинял в том, что произошло, что так безгранично доверял Шлеве.
Вольдемар с нетерпением смотрел на дорогу, где должен был появиться камергер. С каждой минутой раздражение его росло. Он уже готов был идти за прислугой, чтобы велеть ей сломать двери, как вдруг услышал быстро приближающиеся шаги. Это был Вальтер.
— Где же камергер? — сердито спросил принц.
— Он идет за мной, ему все это кажется невероятным.
— Я сейчас все объясню этому лицемеру! — воскликнул принц, схватив у Вальтера свою шпагу, и направился по дороге ко дворцу.
Барон сразу понял, что ложь ни к чему не приведет, и, закутавшись в шинель, направился к башне. Сейчас он шел навстречу разгневанному принцу медленным неторопливым шагом, как будто о чем-то размышляя. Он вполне владел собой и внешне спокойно приблизился к принцу.
— Что за интригу вы затеяли? — воскликнул принц. Камергер, закусив губу и побледнев, отступил на шаг — он все же не ожидал от принца такого приема.
— Ваше королевское высочество! — пробормотал он.
— Ключ! И долой с моих глаз! Вы осмелились надуть меня, вы провели меня не туда, куда следовало; только благодаря случаю я узнал о бесчеловечных поступках, устраиваемых вокруг меня.
— Ваше королевское высочество!…
— Не выводите меня из себя, господин Шлеве! Иначе я могу забыться! Что можете вы еще сказать?
— Все делалось для блага моего повелителя,— смиренно поклонился камергер,— и если я совершил какую-нибудь ошибку, то лишь из преданности вам.
— Из преданности мне вы бросили бедную, невиновную женщину в такую отвратительную тюрьму?
— Чтобы защитить ваше высочество от навязчивости сумасшедшей и предохранить ее саму от дальнейшего падения.
— С каких пор вы стали столь строгим блюстителем нравственности, господин Шлеве? Но довольно об этом. Отворите-ка дверь в башню, так искусно от меня скрытую в прошлую ночь.
Шлеве едва сдерживал бешенство. Он понял, что с настоящей минуты имеет в лице принца врага, который скоро даст ему почувствовать свою силу. Ему нужно было опередить принца, найти какую-то уловку, чтобы самому сохранить прежнее влияние при дворе.
Союзник Леоны не сомневался, что Маргарита будет иметь большое влияние на принца и все ему расскажет. Поэтому ему необходимо было предугадать гибельные последствия этой ночи.
Барон понимал, что ему предстоит открытая борьба с принцем, но не терял надежды на победу.
— Ваше королевское высочество приказывает, и я повинуюсь,— печально проговорил он, вкладывая ключ в замок двери.— Это приказание повлечет за собою ужасные последствия. Я открываю клетку тигрицы.
Принц молча указал на дверь. Замок щелкнул, и она отворилась. Маргарита стояла на лесенке у двери, похожая скорее на тень, чем на человека.
Вальтер закрыл лицо руками. Принц бросился поддержать дрожавшую от волнения девушку.
— Смотрите — вот плоды ваших стараний, мерзкий человек! — воскликнул Вольдемар, и глаза его при виде бледной согбенной Маргариты наполнились слезами.
— Пресвятая Богородица! — испуганно воскликнула девушка, увидев камергера, серые глаза которого сверкали бешенством и злобой.— Защити меня от этого скверного человека! Вот уже сколько лет он преследует и терзает меня! Спаси меня от него!
— Не бойся, милая,— нежно успокаивал ее принц,— этот человек теперь не опасен! Мы пойдем сейчас во дворец, ты успокоишься там и подкрепишься — это тебе необходимо.
Тут Маргарита заметила Вальтера. Ее болезненное, измученное лицо осветила улыбка. Она протянула ему руку и со слезами в голосе прошептала:
— Ты честная душа, ты настоящий друг бедной Маргариты, ты не мог успокоиться, пока не нашел меня. О Вальтер, ты благороднейший человек на земле…
— Проводите нас,— обратился принц к работнику.— Подайте этой несчастной руку, чтобы мы могли довести ее до замка. Господи! На какие бесчеловечные поступки способны люди!
Принц даже не взглянул на своею камергера, замыкавшего шествие.
Маргарита шла между двумя людьми, которые были для нее дороже всех на свете — принцем, которого не переставала страстно любить, которому принадлежала всей душой, где бы ни находилась, и Вальтером, верным другом, ее неизменной опорой в несчастье.
Она с наслаждением вдыхала свежий ночной воздух. Волосы ее -распустились, руки тряслись от слабости.
— Он пойдет за нами,— испуганно шептала она.— Он и монахиня! Скорее, иначе они догонят…
— Со мною они для тебя не опасны! — старался успокоить ее принц.
Проявляя все большее беспокойство, Маргарита Лепетала бессвязные слова и испуганно озиралась. Она говорила то об избушке в Вильдпарке, то о цирке, то о корзине, в которую положила своего ребенка.
Вальтер с ужасом смотрел то на Маргариту, то на принца, тоже, по-видимому, пораженного всем тем, что слышал. Уж не прав ли был камергер, говоря, что она сумасшедшая?
Наконец они пришли в замок. Принц надеялся, что спокойствие и хороший уход окажут благоприятное действие на ее здоровье. Он приказал очистить один из флигелей дворца, пригласил докторов и прислужниц и позволил Вальтеру ночевать в соседней комнате, чтобы слышать каждое ее движение.
После этого Вольдемар собственноручно написал два письма: одно министру королевского двора, другое гофмаршалу. В этих письмах он извещал обоих, что впредь не желает иметь камергером фон Шлеве и просит удалить его от себя как можно скорее, пока он не предал его суду. Эти письма он передал через адъютанта самому камергеру с приказанием поутру доставить по адресу.
Шлеве исполнил приказание, однако письма произвели не то впечатление, на какое рассчитывал принц.
На следующий день Маргарита чувствовала себя гораздо лучше; внимательный уход принес свои плоды, и она уже благодарила Бога за благополучный исход болезни.
Принц в этот же день получил внезапное приказание явиться в королевский дворец. Но прежде чем сесть в экипаж, он зашел во флигель и увидел прежнюю красивую беззаботную Маргариту, образ которой всегда носил в своем сердце. Он молча остановился в дверях. Почему он сказал ей прощай? Почему снова не может оторвать от нее взгляда?
Он не может уехать из замка, не сказав ей, как горячо и как страстно ее любит, не подтвердив все то, в чем клялся в ту памятную ночь на вилле.
Ей не нужно было новых клятв, она была счастлива… Вольдемар получил прощение за все. Маргарита обещала рассказать ему обо всем, что произошло с нею с тех пор, как они расстались.
Бывает такая любовь, которую не гасят никакие препятствия и разлуки, она только разгорается все больше и больше. Такая любовь не рассуждает о будущем и в счастливые минуты забывает о всех неудачах и горестях. Именно такая любовь соединяла принца с Маргаритой. Она воодушевляла их обоих, они забыли, как тяжело было прошедшее, не думали, что будущее может быть не лучше.
Они были одни.
То был не принц, а любящий перед любимой. Он притянул Маргариту к себе. В эту минуту за портьерой у двери послышался шорох, но молодые люди не обратили на него внимания. Они растворились друг в друге, забыв об окружающем. Словно невидимая сила оторвала их от земли, где они не могли соединиться, несмотря на любовь, скреплявшую их сердца. Все было забыто: и прошедшие муки, и неясное будущее. Час блаженства искупил годы страданий Маргариты и мучительные упреки совести Вольдемара.
Экипаж ждал его внизу; наконец он вырвался из объятий, обещая скоро возвратиться. Маргарита проводила возлюбленного до лестницы; он еще раз нежно поцеловал ее и скрылся в длинном коридоре.
В ту минуту, когда Маргарита возвратилась в свою комнату, ступила на ковер, из-за портьеры появилась женская фигура. Маргарита узнала аббатису монастыря Гейлигштейн. Лицо ее выдавало внутреннее волнение, рука судорожно искала что-то под широким плащом.
Эта женщина пришла собственными глазами увидеть, кто встал на ее пути. В достижении своих целей Леона не терпела никаких препятствий, а потому Маргарита должна была умереть.
Убедившись, что в комнате никого нет, кроме следившего за нею камергера Шлеве, она, не мешкая, подскочила к своей несчастной жертве. В руке ее что-то блеснуло. Послышался тихий стон, и Маргарита как сноп упала на ковер, на груди ее медленно расползалось кровавое пятно.
Монахиня, сопровождаемая хромоногим Мефистофелем, поспешно оставила комнату.
Несчастная жертва бесчеловечной ревности осталась лежать окровавленной посреди комнаты.
XXXIX. СТАРЫЙ УЛЬРИХ
Когда Эбергард возвратился к себе во дворец, он застал в знакомой нам зале своего старого друга Ульриха, который так поразительно походил на него.
Они тепло поздоровались: этих людей соединяла общая цель, к которой они стремились всеми силами своих благородных душ, желая принести как можно больше пользы человечеству. Они оба служили одному и тому же символу. Эбергард получил его от старого Иоганна, а Ульрих — от своего отца. Символ этот имел не только явное, но и тайное значение.
Эбергард протянул руку товарищу.
— Я рад тебя видеть, друг мой, садись сюда,— он указал на диван, стоявший напротив портрета отшельника.
— Я не могу у тебя долго задерживаться, Эбергард.
— У тебя что, спешная работа?
— Нет, сегодня воскресенье, а этот день я посвящаю отдыху и размышлениям…
— Как и твой отец.
— По его воле я и пришел сюда, он желает тебя видеть.
— Это похоже на упрек, Ульрих. Я с охотой сознаюсь в своей вине; давно я не был в твоем доме, давно не беседовал с твоим отцом, которого очень люблю и уважаю!
— Он любит тебя так же сильно, как и меня. Ему сегодня хуже, чем когда-либо!
— Что сказал Вильгельми о его здоровье?
— Он старается облегчить страдания, но это почти не удается. Старик переносит несчастье с замечательным терпением и без всяких жалоб. Он просто героически борется со страшным недугом, отнявшим у него способность владеть своими членами.
— Страшная участь! — тихо произнес Эбергард.— За что должен страдать этот человек, державшийся в жизни столь строгих правил, так много работавший, неизменно удивлявший всех силою и серьезностью своего ума. Страшно подумать, что он осужден переносить в старости такую тяжелую болезнь.
— Мне кажется, что силы его слабеют с каждым днем и мы должны быть готовы к тому часу, когда душа его отойдет к Богу,— сказал Ульрих дрожащим голосом,— ты можешь понять, дружище, как я страдаю при этой мысли…
Эбергард положил руку на плечо друга и вместо ответа показал ему на блестевшее в глубине зала солнце, в лучах которого ярко горели крест и череп.
Ульрих понял его.
— Я потерял все, что любил,— сказал князь Монте-Веро, братски обнимая Ульриха,— я потерял все, что мог назвать своим.
Благоговейная тишина царила в комнате; солнце озаряло стоящих друзей, и старый Иоганн, казалось, смотрел на них с портрета любящим взглядом.
— Пойдем,— сказал Ульрих,— прерывая молчание,— ведь он ждет тебя!
Эбергард набросил плащ, и они вышли из дворца. Быстрым шагом они прошли замковую площадь и скоро достигли старого дома, уже более столетия принадлежавшего семейству Ульриха.
Это был большой удобный дом, каких сейчас почти не встретишь из-за всеобщего стремления заменить прочность и удобство роскошью и внешним блеском.
По обе стороны высокой двери, словно немые стражи, стояли две каменные фигуры в передниках и с молотками в руках. Предки Ульриха были медниками и выставили эти статуи как образцы своего искусства.
Дед его оставил ремесло своих предков, чтобы сделаться золотых дел мастером, и старый Ульрих, к которому спешил Эбергард, достиг высокого совершенства в этом искусстве. Он получил образование в Италии и Париже, и старый король, справедливо ценивший его работу, часто призывал мастера во дворец не только для заказов, но и для беседы; он охотно вел разговоры с развитым и красивым мастером.
Теперь этот Ульрих был уже стариком, а его единственный сын открывал дверь дома, чтобы впустить Эбергарда, которого старик так настоятельно приглашал к себе.
Лампа освещала просторную прихожую, в глубине которой находилось несколько дверей. Ульрих отворил одну из них и жестом пригласил друга следовать за собой. Они вошли в полуосвещенную комнату — теплый воздух здесь был особенно приятен после уличного холода.
Обстановка комнаты не отличалась роскошью, однако свидетельствовала о благосостоянии ее обитателей. Резная мебель, тяжелые массивные стулья в цветных чехлах указывали на то, что они служили предкам настоящих владельцев.
Отсюда друзья прошли через открытую дверь в большую комнату с завешенными окнами.
Лампа на столе посреди комнаты распространяла приятный полусвет. Глубокую тишину нарушало лишь равномерное движение маятника.
— Это ты, Ульрих? — раздался слабый голос из глубины комнаты.— Привел ли ты Эбергарда?
— Да, отец, друг, которого ты так желал видеть, здесь. Мы можем войти?
— Заходите, заходите.
Взяв Эбергарда за руку, Ульрих ввел его в комнату.
В темном углу в широком кресле сидел старик с внешностью древнего патриарха. Тело его было парализовано, только глаза и губы еще повиновались ему.
Когда друзья вошли, женщина, долгое время ухаживавшая за ним и теперь сидевшая возле старика, вышла, чтобы не мешать их разговору.
Сегодня он, чувствовавший себя гораздо хуже обычного, мог только глазами приветствовать входящих; руки его безжизненно лежали на подлокотниках, ноги были завернуты в плед; он полулежал, откинув голову на подушку.
А между тем старик этот когда-то энергией своей не уступал друзьям, что стояли перед ним. Хотя и сейчас дух его был достаточно силен, чтобы бороться с приближавшейся смертью.
Не было ли какой-то тайны на душе этого человека? Не тяготило ли над ним какое-то преступление, которое он осужден был искупать теперь своими страданиями?
Кто мог бы это подумать об Ульрихе, лучшем из граждан, лучшем из отцов, так охотно подававшем руку помощи бедным и нуждающимся?
Старый Ульрих принадлежал к числу людей, пред которыми всякий считает за честь снять шляпу, на жизни его не было ни пятна.
А между тем вот уже несколько лет мучительная болезнь приковала его к постели.
Еще и теперь видно было, что Ульрих был когда-то очень красив. Его бледное истомленное лицо со спускавшейся до груди белой бородой сохранило благородные черты; в слабых глазах читался светлый ум и чистая душа.
— Слава Богу, что вы наконец пришли,— проговорил он с беспокойством в голосе.— Вы заставили меня долго ждать.
Эбергард приблизился к старику.
— Не сердитесь на меня, отец,— проговорил он,— за то, что я пришел к вам только сегодня.
— Мне нужно было позвать вас, Эбергард. Ведь мне недолго осталось жить, а многое следует сообщить вам! В прошлую ночь я передал моему сыну все, что касалось его. Теперь я должна говорить с вами. Мне нужно торопиться, Эбергард.
— Отец Ульрих, я люблю вас и вашего сына. Поэтому ваше доверие особенно меня радует.
— Я люблю вас, как сына, Эбергард, и мне тяжело было так долго не видеть вас. Садитесь… Придвиньте стул поближе… Мне тяжело говорить… Да и глаза устают… Всё это дурные признаки, следует торопиться. Так… еще ближе, Эбергард, мне нужно поговорить с вами наедине.
Услышав слова отца, сын тихо и почтительно вышел из комнаты.
— Убавьте свет в лампе, сын мой,— попросил старый Ульрих.— Он слепит мне глаза. Да и темнота лучше соответствует моему рассказу — он не слишком-то радостен и весел. Лишь вам одному я доверяю эту священную для меня тайну; после долгих колебаний я решился на это по двум причинам, которые вы узнаете в конце рассказа.
Князь Монте-Веро ближе придвинул стул к креслу старика.
— Для меня ваша исповедь священна, — серьезно сказал он, положив свою руку на неподвижно лежащую кисть старика.
— Я должен исповедоваться перед вами, Эбергард, открыть вам мою жизнь. Если мой рассказ покажется бессвязным, простите меня — о таких вещах тяжело рассказывать. Я не хочу унести тайну своей жизни в могилу, куда я уже ступил одной ногой. Я знаю, что могу спокойно рассказать вам все, не опасаясь услышать упреки; ведь вы снисходительный человек, у вас доброе сердце и вы сами перенесли много горя. Скажите мне, как зовут вашего отца, Эбергард?
— Моим отцом, моим дорогим воспитателем был старый отшельник Иоганн фон дер Бург.
— Да-да, помню… Иоганн фон дер Бург… Вы мне это уже говорили, а между тем я все переспрашиваю вас, желая удостовериться в этом… Прошло уже больше сорока лет с тех пор, как я был веселым, живым юношей,— начал свой рассказ старик.— Я не думал тогда, что может настать время, когда я буду без сил и движения лежать в кресле. Мой отец был богатым и уважаемым человеком и заботился о моем воспитании больше, чем это делали другие в то время. Снабдив деньгами и наставлениями, он отправил меня путешествовать, чтобы я мог окончательно довершить свое образование. Я возвратился из далеких стран жизнерадостным и предприимчивым юношей…
Странное чувство овладевает мною, когда я думаю об этом! Старый Ульрих был тогда молод и красив, перед ним была открыта жизнь, хорошенькие девушки украдкой заглядывались на него и не у одной из них срывал он поцелуй и получал взамен два.
Все это избаловало юношу: гордость родителей, сознание своего превосходства, предпочтение, которое ему отдавали повсеместно, делало его все самоуверенней, так что, когда покойный король обратил на него внимание, стал давать ему поручения и даже призывал его в замок для беседы, он принимал это как должное.
Молодость кипела в его крови, та огненная, самоуверенная молодость, которая никогда не возвращается, ею никто достаточно не дорожит, ее не умеют ценить!
Но все это не мешало Ульриху работать. В Париже и других больших городах он совершенствовался в своем искусстве и вернулся домой опытным и талантливым мастером.
Однажды по пути в замок Ульрих встретил экипаж принцессы Кристины. Он остановился, чтобы уступить ей дорогу, и в тот момент, когда кланялся прелестной девушке, глаза их встретились.
— Принцесса Кристина? — удивился Эбергард.— Это ее портрет висит в зале замка, названной ее именем?
— Ее. Ей было тогда лет двадцать. Она была дочерью принца Генриха. Ее замечательная красота и доброе сердце возбудили в наследном принце сильную любовь.
— В теперешнем короле?
— Он страстно полюбил принцессу, но она не обращала внимания на чувства будущего короля: эта веселая, умная и открытая девушка, олицетворявшая невинность и простодушие, была чужда всякой гордости и тщеславия.
Ульрих уже видел ее однажды в замке, а теперь она, сидя в коляске с придворной дамой, так радушно, так любезно ответила ему на поклон, что он долго стоял как вкопанный, глядя вслед прекрасному видению.
Вскоре после этого король, поручивший Ульриху какое-то трудное дело, был так доволен его исполнением, что пригласил молодого человека к себе в замок на большое пиршество.
Подобное приглашение считалось особым отличием, но радости молодого мастера не было границ, когда вслед за королем, удостоившим его разговора, к нему, оставив наследного принца, любезно подошла принцесса Кристина и радушно поклонилась, словно уже давно знала его. Благосклонное внимание принцессы, простота ее обращения и ее чарующая красота произвели на молодого мастера неизгладимое впечатление.
Принцесса была в тот день удивительно хороша. Ее темно-русые волосы украшала жемчужная диадема, оттеняя прелестные задумчивые голубые глаза. Сердце Ульриха трепетало, и, когда поздно ночью он покинул замок, образ прелестной Кристины неотступно оставался перед его внутренним взором.
Сын простого, хотя и уважаемого всеми мещанина полюбил дочь принца! Когда умер ее отец, а вскоре вслед за ним и ее мать, он оплакивал их вместе с ней. Она стала сиротой. И ни окружавшая ее роскошь, ни придворные дамы, старавшиеся ее развлечь, ни внимание и сочувствие кронпринца не могли заменить ей родителей!
Сильное горе влияет на человеческое сердце, а если это сердце и прежде было мягким и благородным, то страдание еще более усиливает в нем эти свойства, возвышая душу и приближая ее к Богу. Человек начинает иначе смотреть на жизнь и проникается кротостью и милосердием. То же произошло и с принцессой Кристиной.
— Каким счастьем было бы, если бы она взошла на престол, выйдя замуж за наследного принца! — воскликнул с глубоким убеждением Эбергард.
— Слушайте, что произошло дальше. В одно прекрасное весеннее утро экипаж принцессы остановился у нашего дома. Отец мой куда-то уехал, а я стоял в мастерской, заканчивая великолепные церковные канделябры, что король заказал в дар церкви Святой Гедвиги. Штифт для гравировки выпал у меня из рук, когда придворный лакей, отворив дверь мастерской, громко доложил:
— Ее королевское высочество принцесса Кристина! Она вышла из кареты. Я не видел ее со дня смерти ее отца. В этот день она была особенно прекрасна. Ее щеки были бледны от печали, лицо стало еще нежнее, еще мечтательнее! Черное платье изящно охватывало ее тонкий стан, черная вуаль ниспадала на плечи, покрытые темной тальмой.
Она знаком дала понять придворной даме, чтобы та оставалась в экипаже, и вошла ко мне одна.
Я поклонился ей и сказал несколько слов сочувствия, вырвавшихся прямо из сердца. Она подала мне руку, и я с благоговением прильнул к ней дрожащими губами. Она была взволнована не менее меня.
— Я приехала к вам, господин Ульрих,— произнесла она наконец тихим, мелодичным голосом,— со странным заказом. Помните вы наш разговор на масленице? Тогда я еще не предчувствовала последней потери, но слова, которыми мы обменялись, явились как бы приготовлением к ней.
— Мы говорили,— отвечал я,— о тех трех возвышенных целях, к которым должен стремиться каждый: о вере, нас подкрепляющей, о вечном свете просвещения и о мужестве перед смертью, что дает нам силы легче переносить страдания.
— Признаюсь вам, эти слова не выходили у меня из памяти со дня нашего последнего разговора; они стали для меня священными с тех пор, как сердце мое переполнилось заботами. Я пришла сюда, чтобы заказать вам амулет, который символически выражал бы эти слова. Вы исполните это так, как найдете лучшим, я полагаюсь на ваше участие ко мне. Я знаю, что я для вас не постороннее лицо.
Сильное волнение овладело мною в эту минуту, мне хотелось пасть на колени перед этой чудной женщиной и взглядом сказать ей, что мое чувство гораздо сильнее холодного участия, что я люблю ее всем своим существом, со всей силой страсти молодого пылкого сердца. Но она видела мое волнение.
— Можете ли вы сделать мне такой амулет? — быстро спросила она, словно боясь, чтобы не произошло того, чего в душе сама желала.
— Я с удовольствием попытаюсь исполнить вашу просьбу,— отвечал я тихо и прибавил: — Милостивая принцесса не рассердится, если и я буду носить на груди такой же амулет?
— Нет-нет,— сказала она, и лицо ее просветлело.— Мы оба будем носить этот символ, а тому, кто найдет это предосудительным, объясним его значение. Когда вы закончите работу, принесите ее мне во дворец и постарайтесь сделать это поскорее.
Она раскланялась со мной приветливее обычного и исчезла в быстро умчавшейся карете.
Я немедленно сел за работу. Через несколько дней амулет был готов: на золотом поле, усеянном в центре более крупными, а вокруг более мелкими бриллиантами, были изображены три знака — крест, солнце и череп, выложенные жемчугом. Вам это знакомо, Эбергард, у вас есть такой амулет. Скажите, кто вам его дал?
Князь Монте-Веро почувствовал, что теперь должна объясниться тайна, окружавшая его рождение. Он вынул амулет, что висел на его шее на тонкой золотой цепочке.
Старик взглянул на него и снова спросил:
— Скажите, кто дал вам его?
— Отец Иоганн сам надел мне его на шею.
— Он вам никогда не говорил, откуда получил эту вещицу?
— Он умер, не успев, быть может, открыть мне эту тайну.
— Эбергард, вы один узнаете то, что до сих пор никому не было известно. Жених и невеста обмениваются кольцами в знак своего союза, принцесса Кристина и Ульрих обменялись этими амулетами с тем, чтобы носить их до самой смерти; я исполнил это условие, Эбергард, и сегодня этот амулет у меня на шее, она сама мне его надела.
Стоя на коленях перед ней, я со страстью произнес слова любви. Она тихо плакала. Потом встала и с пылом прошептала: «С этого дня Кристина ваша и в этой, и в загробной жизни».
То был момент безграничного счастья, выпадающий на долю смертного лишь однажды в жизни! Блаженство такого часа перечеркивает ужас смерти; и кто испытал это, достиг величайшего наслаждения в жизни.— Старик замолчал. Сердце его и теперь испытывало наслаждение той минуты, мысленно им вновь пережитой.
Эбергард посмотрел на его честное морщинистое лицо и понял, как горячо любил Ульрих принцессу Кристину, портрет которой так поразил его, когда он увидел его в первый раз.
— Все, что случилось дальше, было следствие этого момента: если на нем лежит грех, то он уже искуплен, и Бог простит его.
Кристина нашла возможность тайно видеться со мной. Она отправлялась для этого в отдаленные места дворцового парка, и там мы встречались! Страсть искала и находила возможности для встреч. Любовь наполняла наши существа и рушила все преграды. Но зима положила конец этим прогулкам!
Мной овладело страшное беспокойство. И вот в один холодный, ненастный вечер ко мне вдруг явилась дама в трауре; карета, запряженная четверкой лошадей, ждала ее на углу. Сердце подсказывало мне, что под густой вуалью скрывается принцесса Кристина.
Трепеща от страха, я чувствовал, что сейчас что-то случится. Кристина была без свиты; только один доверенный слуга, на преданность которого она могла положиться, сидел на козлах.
— Прощай! — прошептала она, протягивая мне руки.— Прощай навсегда!
— Ради всего святого! — в отчаянии вскричал я.— Скажи, что хочешь ты делать? Куда ты едешь?
— Не спрашивай меня. Я поступаю так, как требует от меня долг. Мы снова увидимся; я буду твоей в загробном мире! Молись за меня, мой милый, молись горячо. Женись на другой и носи амулет в память о нашей любви.
— Позволь мне ехать с тобой… сжалься! — я в отчаянии упал на колени, покрывал ее руки поцелуями.
— Нет-нет,— настаивала она.— Мы должны расстаться. Выбора нет! Мы снова увидимся… там!
Она указала на небеса, и тут мне показалось, что передо мною святая. Ее восторженные глаза смотрели вверх, и сквозь черную вуаль я заметил, что в них блестят слезы.
— Прощай, не следуй за мной, исполни свято мое последнее желание! Мое сердце остается с тобой, тебе одному оно принадлежит навеки.
Она поспешила к карете, а я продолжал стоять на коленях, молитвенно сжав руки.
«Прощай… не следуй за мной»,— эти слова звучали еще в моих ушах; какой-то необъяснимый страх овладел мною, и я закрыл лицо руками.
В ту же минуту послышался шум удаляющегося экипажа. Я вскочил, бросился на улицу, сильный ветер кружил снежные вихри, и словно в тумане я увидел экипаж, уносивший ее от меня!
Крик отчаяния вырвался у меня из груди; сердце сжалось от страшной боли.
Старый Ульрих замолчал в изнеможении; его больное измученное тело отказывалось ему служить, но дух был еще силен. Более сорока лет прошло с той памятной ночи, но еще и сейчас видно было, как тяжела скорбь, постигшая его.
— Я искал ее,— продолжал Ульрих тихо.— Сердце мое разрывалось от боли, но я постарался как можно равнодушнее осведомиться о принцессе Кристине в замке, тогда еще полном жизни. Мне коротко отвечали: она уехала! С мучительным нетерпением ждал я от нее известия, признака жизни, но напрасно. Я не сумел отыскать ни малейшего следа…
— Неужели никто так и не постарался узнать, жива ли еще принцесса Кристина и где она? — спросил Эбергард.
— Никто! Я заранее знал это по ее словам, сказанным на прощанье. Ее нет более на этом свете… Я увижу ее там!
Я не знаю, где ее могила, и пригласил вас сюда, чтобы попросить, не узнаете ли вы об этом при дворе. Ведь вы часто там бываете. Мне хотелось открыть вам тайну своей жизни, она так тягостна для меня! Знаете, что мне часто приходит на ум в последнее время, Эбергард? — голос старого Ульриха прерывался.— Не искупаю ли я своими страданиями вину Кристины?
Посмотрев на мои разбитые члены, вы поверите, что я желаю смерти! Я рад, что открыл вам свою душу; мне казалось, я обязан был это сделать, и теперь мне легче на сердце. Позовите сюда моего сына и принесите свечу, вокруг меня темно!
— Вы слишком понадеялись на свои силы! Этот рассказ утомил вас. Я постараюсь узнать, что сталось с одетой в черное дамой и где она нашла убежище. Вы сказали, что карета была запряжена четверкой вороных лошадей?
— Совершенно черных… — простонал старый Ульрих.— Совершенно черных… Я вижу это еще яснее ясного, потому-то так темно у меня перед глазами! Где мой сын? Побудьте оба со мной… Принесите сюда свет!
Эбергард позвал молодого Ульриха, они послали за доктором Вильгельми, так как силы больного быстро убывали. Зажгли лампы и свечи.
— Так лучше,— прошептал старик.— Подойдите ко мне, дайте мне ваши руки. Снова стало темно вокруг, я не вижу вас. Молитесь за меня… Господь смилуется надо мной…
— Отец! — воскликнул сын, заметив, что глаза больного закрываются.
— Дайте мне успокоиться, позвольте мне уснуть,— прошептал больной, видно, чувствуя приближение смерти.
Эбергард пожал руку друга.
Взволнованные, стояли они перед креслом, где, тяжело переводя дыхание, недвижимо лежал старик.
— Света, больше света… — едва слышно простонал старик.
Друзья с молитвой опустились на колени. Старый Ульрих посмотрел на них еще раз взглядом, выражавшим любовь и благословение…
Грудь его стала прерывисто подниматься.
— Ах,— прошептал он,— света… И лицо его просветлело, как бы от небесного сияния. Он не хрипел, не чувствовал боли.— Кристина… — произнес он.
Последнее слово прозвучало так спокойно, что Эбергард с уверенностью сказал:
— Он снова увидел ее.
Старый Ульрих перестал дышать, глаза его закатились; он отошел в мир вечного покоя и справедливости.
Пришел доктор Вильгельми.
Посмотрев на неподвижно лежащего старика, он молча подал руку двум друзьям. В комнате воцарилось глубокое, благоговейное молчание.
— Он миновал уже то, что нам еще предстоит пройти; он увидел то, что навсегда закрыто для нас, живущих в этом мире,— сказал, наконец, Вильгельми: — Будем и мы стараться заснуть так же спокойно, как он. Посмотрите, Божье благословение осенило его.
XL. ДОКУМЕНТ
Монастырь Гейлигштейн, где Леона стала аббатисой, располагался в десяти милях от резиденции короля. Однако сообщение с городом было очень удобным, так как железная дорога проходила рядом. Так что Леона часто меняла уединение монастырских стен на шум столичной жизни.
Прежде чем продолжить наш правдивый рассказ, следует сказать, каким образом графине Понинской удалось завладеть документом, о котором она говорила камергеру по пути из башни у пруда в замок.
После смерти отшельника Иоганна фон дер Бурга Эбергарду, носившему фамилию старика, досталось в наследство его небольшое имущество. Все оно состояло из нескольких старинных стульев, шкафов и дорогого письменного стола редкой работы, свидетельствовавшего о том, что старый Иоганн жил прежде в роскоши и.богатстве. Вероятно, несчастия или угрызения совести довели его до того, что он стал искать спокойствия в лишениях и нужде.
Часто обстоятельства заставляют человека стремиться к такого рода жизни, и мы узнаем впоследствии, что прошлое Иоганна действительно дало ему повод бежать от житейской суеты и поселиться в уединении, где он мог найти душевное успокоение.
Много ли нужно было отшельнику, добровольно подвергшему себя самым суровым лишениям.
Очевидно, старый Иоганн оказал сильное влияние на развитие Эбергарда. Живые, исполненные правды слова старика заронили благодатное семя в душу юноши, открытую всему прекрасному и благородному. Но это семя могло вполне созреть только при столкновении с жизнью после долгой и тяжелой борьбы — лишь она одна может возвысить и облагородить душу человека до той высоты и совершенства, какого достиг Эбергард.
С трогательным благоговением смотрел Эбергард на каждую вещь в хижине своего воспитателя, в котором он привык видеть отца. Всякий предмет, до которого дотрагивался старик, был для него священным.
Тяжело было Эбергарду уносить эти вещи из старой хижины, близкой к разрушению, но он не мог ничего оставить: все, что находилось там, было ему одинаково дорого, одинаково близко. Похоронив своего верного воспитателя, единственного человека, которого он мог назвать своим, Эбергард взял с собою всю его старую утварь: стулья, шкафы, письменный стол — единственный ценный предмет во всем наследстве.
Мы знаем, что в то время Леона причиняла много горя Эбергарду, обманывая его самым беззастенчивым образом. Но у нее, был его ребенок, которого он не мог отнять, и ради него он перед отъездом из Европы прислал ей как святыню наследство старого Иоганна.
Тщеславная графиня Понинская, в то время носившая еще фамилию фон дер Бург, но хлопотавшая уже о том, чтобы поменять ее на свое громкое родовое имя, конечно, осмеяла грошовую посылку Эбергарда и не сочла нужным беречь ее.
Да и не могла иначе поступить женщина, без угрызений совести отдавшая свое родное дитя чужим людям, чтобы без помех предаться страсти властвовать над людьми. Было бы неестественным, если бы Леона, обманывая мужа, с любовью приняла это воспоминание о днях его юности. Люди, подобные ей, неспособны на глубокие чувства; ради своих эгоистических расчетов они готовы пожертвовать всем и всеми.
Если даже допустить, что Леона действительно любила молодого итальянца, с которым обманула мужа, то и тогда можно утверждать, что эта любовь была только первым проявлением страсти, разгоревшейся позже, после знакомства с камергером Шлеве. Она не столько любила этого итальянца, сколько радовалась, видя его коленопреклоненным перед ее красотой!
Не заботясь о сохранности наследства Иоганна, Леона раздарила стулья и шкафы прислуге, оставив себе только письменный стол, конечно, не на память об отшельнике, которого она знала в юности, а потому, что этот стол своей искусной старинной резьбой обращал на себя внимание всех посетителей салона тщеславной графини. Старая графиня, мать Леоны, к тому времени истратила свое громадное состояние, теперь она была так бедна и так низко пала, что молодая графиня стыдилась называть ее своей матерью.
И когда пропавший без вести Эбергард завоевал себе славу и богатство в отдаленных частях света, приобретая своей энергией и отвагой громкое и благородное имя, Леона, казалось, по стопам матери готова была взяться за суму, расточив последние остатки своего когда-то большого состояния.
Но графиня Леона Понинская, дочь властолюбивого корсиканца, дух которого она отчасти унаследовала, искала и нашла случай удовлетворить свою страсть к господству, а вместе с тем и к богатству.
Когда у нее не стало средств, чтобы блистать в обществе под именем графини Понинской, она решилась пристать перед этим самым обществом в обличье мисс Брэндон, давая не виданные до тех пор представления.
Леона играла со львами, купленными ею на остатки средств, как с котятами. В глазах этой женщины была какая-то магическая сила. Она одним взглядом могла укротить царей пустыни и заставить их смиренно лежать у своих ног.
Распродав все свое имущество, Леона сохранила по какой-то странной случайности письменный стол Иоганна. Она так привыкла к нему, что оставила его у себя даже и после того, как снова разбогатела. Она купила роскошный дворец в столице, где мы уже однажды побывали вместе с принцем и его тенью. Леона и теперь, будучи аббатисой Гейлигштейнского монастыря, владела этим великолепным дворцом.
А письменный стол старого Иоганна, это чудесное наследие прошлых веков, стоял во дворцовой зале рядом со спальней графини Ионинской, убранной с восточным великолепием и роскошью. Это был тот самый салон, где мы уже однажды видели прекрасную Леону, когда она, утомленная танцами и музыкой, полулежала на диване с бокалом шампанского в руках.
Незадолго перед той ночью, когда она упомянула Шлеве об открытии документа, Леона ожидала у себя во дворце приора монастыря. Он должен был доставить ей кое-какие сведения; она желала завлечь его в свои сети, так как он был человеком благородного происхождения, пользовался известным влиянием в определенных аристократических кругах и был в родстве со многими влиятельными духовными лицами в Риме.
Она была почти уверена, что этот приор, господин фон Шрекенштейн, надев рясу, не совсем отказался от своего прошлого и по-прежнему принадлежал к числу тех, кто преклоняется перед красотой.
Ожидая поздно вечером посещения приора, Леона готовилась принять благочестивого брата как можно лучше. И хотя она надела темную монашескую рясу, под нею скрывался обольстительный, хотя и недорогой туалет. Белое шелковое платье облегало ее роскошный стан, соблазнительно обрисовывало высокую грудь, дивные мраморные плечи были обнажены, придавая Леоне неотразимую прелесть. По ее приказанию был сервирован роскошный, изысканный стол. Здесь же, в ярко освещенной зале, украшенной цветами, стоял и письменный стол старого Иоганна.
Леона осмотрела все приготовления и только тогда вышла навстречу монаху, уже догадавшемуся о расположении к нему прекрасной аббатисы. Барон фон Шрекенштейн взялся за поручение к Леоне, как за средство достичь своей цели; он очень скоро сообщил ей все нужные сведения и встал, чтобы откланяться.
Аббатиса пригласила его разделить с нею ее скромную трапезу, и благочестивый брат, конечно, не мог не согласиться на ее предложение, заранее предвкушая удовольствие от ужина наедине с прекрасной аббатисой.
— Я не могла тебе доставить никакой радости в монастырских стенах,— заговорила она, сопровождая свои слова столь же покорным, сколь и кокетливым взглядом,— но здесь я могу доказать, как велико мое желание идти с тобой рука об руку.
— Ты ко мне слишком благосклонна, благочестивая сестра! Признаюсь, мне очень нравится этот светский дом, который ты добровольно сменила на монастырскую келью.
— Пойдем со мной, оставь тут свою рясу, она будет мешать тебе.
— Позволь мне остаться в ней, благочестивая сестра, я сниму только капюшон, но ты не обращай на меня внимания! Если тебе жарко и тяжело в темной рясе, сними ее, я помогу тебе.
Приор галантно помог Леоне снять рясу и с нескрываемым удовольствием осмотрел ее прекрасный стан, освобожденный от некрасивой одежды. Красота Леоны пробудила грешные желания в еще молодом и страстном монахе. Леона провела его в изысканно отделанную залу и пригласила к столу, убранному цветами и плодами в дорогих китайских вазах. Кокетливо одетые девушки подавали изысканные яства и дорогие вина.
Приор с видом знатока хвалил и кушанья, и напитки. Когда же он остался с глазу на глаз с прекрасной Леоной и вино помогло ему отбросить последнюю сдержанность, он приподнял свой стакан, чтобы чокнуться с обольстительной хозяйкой и пожелать ей счастья.
Опытная аббатиса скрыла торжественную улыбку. Она чувствовала, что с каждой минутой приобретала над приором все большую власть: лицо его раскраснелось, глаза сверкали, показывая, как он возбужден. Она была уверена, что теперь может добиться от него всего, чего захочет, и что этот проводивший время в молитвах и, по-видимому, холодный человек будет лежать у ее ног, если того потребуют ее расчеты. Но она хотела неожиданным сюрпризом достойно заключить свое торжество и доставить благочестивому брату еще не изведанное им наслаждение.
Леона привыкла служить страстям и умела изобретать наслаждения, которые своей красотой и чувственностью способствовали достижению ее целей. Она хотела господствовать над людьми, а греху поставить на службу власть над человеком. Леона мастерски умела облечь порок в столь прекрасную и обольстительную форму, что он неотразимо овладевал сердцами.
Ее главным желанием было овладеть несметными богатствами Эбергарда, отправиться в Париж и там, улыбаясь и смеясь, завлекать людей в свои сети, чаруя их наслаждениями, приводившими к неминуемой гибели.
В то время, как Эбергард стремился возвысить и осчастливить человека, Леона, напротив, старалась привести его к гибели. Ее демонические замыслы и основанные на грубой чувственности расчеты не имели ничего общего с благородными устремлениями ее бывшего мужа. Она решила показать приору живые картины, которые устраивала с утонченным искусством. Впоследствии они показывались по всему свету, хотя и не совсем в том виде, что мы опишем здесь. Это было одним из ее изобретений, не прошло и года, как из Парижа оно распространилось повсеместно, найдя восторженных почитателей Леоне хотелось видеть, какое впечатление произведет это зрелище на благочестивого брата.
Монах был разгорячен вином и возбужден красотой Леоны и признался ей в своем желании продать свою будущую жизнь за один миг блаженства с нею.
Леона с удовлетворением выслушала это признание.
— Позволь мне, благочестивый брат,— проговорила она с игривой улыбкой,— показать тебе несколько живых картин. Их любят смотреть потому, что они позволяют восхищаться красотами творения. Я бы желала, чтобы ты оставил мой дом с приятным воспоминанием. Однако не поддавайся обману. Прошу тебя, не приближайся к этим картинам, иначе они исчезнут как фата-моргана. Оставаясь на своих местах за бокалом вина, мы мысленно перенесемся на несколько мгновений на восток — родину картин и сновидений! Позволь мне также, брат, воспроизвести перед тобой некоторые предания и мифы, может быть, ты найдешь в них столько же поэзии, как и я.
— Ты возбуждаешь мое любопытство, благочестивая сестра, и я согласен с тобой — в древних преданиях много поэзии.
Леона привстала, чтобы дернуть шелковый шнур, висевший над одним из диванов, и снова села на свое место напротив приора.
Яркое пламя, освещавшее залу, начало ослабевать; сверху, словно над головой, заиграла тихая музыка, и приятный полусвет разлился по комнате. Вдруг, будто по мановению волшебного жезла, стена, возле которой стоял письменный стол, раздвинулась, и за нею появилась ярко освещенная живая картина, красота и великолепие которой превосходили всякие ожидания. Посреди группы, облокотившись на дерево, стояли две прелестные дриады; их роскошные обнаженные формы казались выточенными из мрамора. У их ног протекал источник, возле которого в живописных позах полулежали четыре наяды.
Прекрасное зрелище произвело неотразимое впечатление на уже и без того возбужденного приора, он не мог отвести глаз от волшебной картины.
Но что же вдруг произошло? Уж не ожили ли нимфы?
Нет, они все так же неподвижно лежали в восхитительных позах; казалось, их прелестные улыбающиеся лица созданы резцом великого художника; но вся картина пришла в движение; она то приближалась, то удалялась от пришедшего в восторг монаха, с наслаждением рассматривавшего эти дивные формы.
Вдруг стена снова сдвинулась, и видение исчезло.
Когда зажегся свет, Леона с вопросительной улыбкой посмотрела на приора.
— О, как это прекрасно, благочестивая сестра! — воскликнул он в восторге.— Ты великая волшебница! Позволь мне взглянуть еще раз!
Аббатиса приподнялась, чтобы дотронуться до шелкового шнура. Свет снова померк, и стена раздвинулась.
Залитые ярким светом, стояли обнявшись три грации. Они были так прекрасны, что глаз, переходя от одной к другой, наконец, останавливался в убеждении, что все они одинаково хороши и что нет другого выбора, как восхищаться всеми тремя.
Грации начали тихо двигаться, показывая со всех сторон божественную красоту своих форм.
Стена снова сдвинулась.
Благочестивому приору показалось, что прелестное видение исчезло слишком рано: он не мог оторвать глаз от прекрасных фигур, и невольный вздох сожаления вырвался из его груди.
— Окажи мне милость, благочестивая сестра,— сказал он,— позволь еще в последний раз насладиться прекрасным видением, вызвать которое в твоей власти. О, как я завидую тебе, как я удивлен твоим изяществом и вкусом. Все здесь прекрасно, все совершенно, начиная с этой мелодичной музыки и кончая прелестными картинами; я у тебя в большом долгу, прелестная аббатиса.
Леона исполнила просьбу монаха. Стена раздвинулась еще раз, и перед глазами удивленного приора явилась и ожила картина, которую он видел на стене, войдя во дворец. Созданная из пены морской Венера выходила из волн. Картина была поразительно естественна; дивная фигура прекрасной женщины отражалась в воде; она стояла в изящной позе, ступив одной ногой на землю, как бы желая подойти к Амуру, что стоял в стороне, натягивая свой лук.
При виде этих дивных форм приор потерял самообладание. Прекрасная фигура Венеры, ее черные, спускающиеся на роскошную грудь волосы, белоснежные руки, стыдливо прикрывающие обнаженные части тела, заставили забыть предостережение Леоны — не приближаться к картинам. Возбужденный монах не смог устоять против искушения. Ничего не видя, кроме прекрасной картины, он бросился вперед, протянув руки к божественному видению.
Леона быстро поднялась; но напрасно звала она благочестивого брата: ослепленный монах, бросившись к картине, сильным ударом оттолкнул разлетевшийся вдребезги письменный стол Иоганна и подскочил к стене. Но Венера исчезла, как по волшебству, и рука приора ударилась о стену.
Внезапное исчезновение картины и стук опрокинутого стола заставили приора очнуться. Из вылетевших ящиков рассыпались бумаги.
— Прости меня, благочестивая сестра,— приор в отчаянии сложил руки, глядя на обломки драгоценного стола.— Позволь мне исправить испорченное.
— Оставь эти обломки, благочестивый брат, тебе не в чем упрекнуть себя, я сама виновата в том, что не поставила стол в другое место. Прислуга уберет все.
— Мне совестно от своей неосторожности!
— Ты должен был послушаться моих слов.
— Я забыл о них при виде божественной красоты этих картин.
— Ты можешь снова увидеть их.
— Так ты не сердишься на меня и позволяешь снова навестить тебя, моя прекрасная сестра?
— Твое посещение мне всегда приятно! — ответила Леона, уверенная отныне, что изобретенные ею картины произвели должное действие.— Да благословит тебя небо.
Приор ушел, горячо поблагодарив аббатису за доставленное ему наслаждение.
Беседуя с монахом, Леона мельком взглянула на сломанный письменный стол и обнаружила в нем новое отделение, которого прежде не замечала. Оставшись одна, она быстро нагнулась, чтобы удостовериться в своем открытии. Действительно, за задней доской, сломавшейся во многих местах, находился потайной ящик, о существовании которого она до сих пор и не подозревала. Он открывался пером, что лежало на полу. Леона сломала остатки доски, скрывавшей потайное отделение, отворила его и вынула связку старых, пожелтевших бумаг. Кроме них, там ничего не было. Столь бережно сохраняемые бумаги должны были иметь весьма важное значение.
Она быстро просмотрела находку. Бумаги были написаны рукой Иоганна; крупный, несколько нетвердый почерк не оставлял в этом сомнения. Это были его тайны, которые, наконец, по прошествии стольких лет попали в руки Леоны. Она спрятала драгоценные листы и приказала вошедшей прислуге подобрать остальные бумаги и унести стол.
Придя в спальню, аббатиса принялась читать записи. Сначала она мельком проглядывала рассказ о прошедшей жизни старика, о причинах, побудивших его сделаться отшельником и посвятить молитве половину своей жизни. Ее мало интересовали тайны пустынника, воспитателя Эбергарда. Однако скоро бумаги приковали ее внимание. Она стала читать с усердием, не пропуская ни единого слова.
«Я был,— писал старый Иоганн,— веселым офицером. Беззаботно проводил я время в кругу богатых и веселых товарищей, предаваясь самым необузданным удовольствиям, отказаться от которых редко кто бывает в силах. Состояние моих родителей позволяло мне вести некоторое время такой образ жизни; но деньги вскоре стали быстро исчезать. Я не обращал на это внимания и не чувствовал в себе достаточно твердости, чтобы оторваться от этой жизни, не растратив последних остатков значительного прежде состояния.
Пиршество следовало за пиршеством; бал сменялся балом. С особенным наслаждением посещали мы те сомнительные вечера, на которые страсть к удовольствиям привлекала толпу молодых девушек-мещанок. Они стремились туда, словно бабочки на огонь, не предчувствуя своей гибели.
В открытых для нас дворцах царила холодная вежливость, и родители смотрели на каждого молодого человека, как на жениха своей дочери; на тех же вечерах, отправляясь на которые мы должны были снимать мундиры, господствовала самая непринужденная веселость и простота.
В аристократических домах барышни, завидуя друг другу, притворно веселились, пуская в ход все средства, чтобы отбить поклонника у своей подруги; бюргерские дочери, посещавшие наши вечеринки, привлекали нас неподдельной веселостью, радушной улыбкой и непритворной радостью. Мы были еще очень молоды, должен сказать я к нашему оправданию, и не думали о последствиях этой веселости: мы наслаждались, не задумываясь над последствиями.
Одно из лучших танцевальных заведений помещалось летом за городом, недалеко от рощи, на краю которой стоял чей-то маленький уютный домик. Проходя однажды мимо него, я нечаянно заметил в окошке прелестное женское личико, выглядывавшее из-за куста душистых роскошных роз. Я остановился в изумлении — так прекрасно было это лицо: темно-каштановые волосы спускались локонами, и голубые нежные глаза светились кротким блеском.
Милое личико девушки произвело на меня глубокое впечатление. Она, должно быть, тоже заметила меня, так как наши глаза встретились. Но в ту минуту я даже и не подозревал, какая страшная судьба постигнет нас обоих! Каково же было мое удивление, когда, придя в одну из суббот на танцевальный вечер, я увидел там прелестную девушку, что заметил в окошке уединенного домика. Она сидела прямо против входа и, увидев меня, покраснела и опустила ресницы.
Жозефина, так звали эту стройную, прелестную девушку, уже не в первый раз приходила на бал; я тотчас же заметил это с проницательностью, присущей человеку, когда любовь еще только начинает овладевать его сердцем. Она была окружена толпою поклонников; я наблюдал за нею и за всем, что делалось вокруг нее; она также по временам украдкой взглядывала в мою сторону. Наконец я нашел случай поговорить с нею наедине; я пошел проводить ее до дома, и она подарила мне на прощание розу, приколотую к ее груди.
С этих пор я стал видеться с Жозефиной почти каждый день; я стал отдаляться от общества товарищей, чтобы чаще проводить время с нею. Наконец я признался ей в любви, и она ответила мне искренней и глубокой привязанностью. Моя любовь скоро достигла таких размеров, что я убедился в невозможности жить без Жозефины; мысль, что она может принадлежать кому-нибудь другому, приводила меня в отчаянье, и я старался уверить себя, что Жозефина любит меня так же сильно. То были блаженные дни и ночи. Только раз в жизни можно любить так горячо и так нежно, как любил я простую девушку, которую хотел сделать своей женой, жертвуя всем за обладание ею.
Жозефина казалась счастливой в ту незабвенную ночь, когда я менялся с ней кольцами; она с любовью и жаром целовала меня, я сгорал от любви; сердце мое трепетало. Действительно, какое наслаждение может быть выше любви прекрасной женщины? Она лежала в моих объятиях, я достиг высшего желания моей жизни, она принадлежала мне одному.
Но через некоторое время мне показалось, что Жозефина чем-то огорчена: она была молчалива, а ее мать, прежде встречавшая меня весьма любезно, сделалась холодна. Что могло случиться? Я напрасно старался проникнуть в эту тайну и узнал ее только впоследствии, когда уже было поздно; тайна эта должна была совершенно разбить мою жизнь. Мать продала свою дочь. Она пожертвовала ею ради золота, которое ей предложил один из моих товарищей, граф фон Ингельштейн. Жозефина была обречена на гибель, обесчещена и навсегда потеряна для меня, а я тем временем ничего не подозревал и ни о чем не догадывался.
Да и мог ли я подозревать, мог ли я допустить, чтобы девушка, ради которой я хотел пожертвовать своим положением в свете, которую я хотел сделать своей возлюбленной, обожаемой женой, изменила мне из послушанья матери, предпочитавшей бесчестие дочери супружеству со мной. Мог ли я подумать, что Жозефина так скоро забудет слова любви и преданности и изменит своей клятве принадлежать мне в этой и той жизни.
Я оставил военную службу, чтобы перейти в штатскую, надеясь хорошим жалованьем обеспечить Жозефине счастливую жизнь. Я рисовал себе картину нашей будущей блаженной жизни; насмешки товарищей не сердили меня: я думал только о счастье обладать любимым существом, на котором сосредоточивались все мои желания, надежды и мечты; я был уверен, что время осуществления их близко.
Я был слеп, я не замечал, что Жозефина была бледна и расстроена, что она болезненно улыбалась, когда я говорил ей о нашей свадьбе, и что мать не позволяла мне долго сидеть с ее дочерью, ссылаясь на ее слабость. Я молился за нее и с любовью делал все нужные приготовления к нашей свадьбе. Найдя удобную квартиру, я убрал ее как можно красивее, чтобы достойно принять обожаемую мной женщину.
Вдруг Жозефина сильно захворала; мать, которую я в душе ненавидел за ее подлость и низость, не позволяла мне входить к больной. Но я все еще был далек от подозрений. Я и не предполагал об ударе, который вскоре должен был сразить меня.
Тем временем граф Ингельштейн праздновал получение майората, сделавшего его одним из богатейших дворян страны. Он так убедительно просил меня явиться на этот праздник, что я, наконец, уступил его просьбам, хотя мне было тяжко отправляться в общество, когда Жозефина лежала больной. Я опасался, чтобы смерть не похитила у меня моей возлюбленной, не предполагая, что она уже давно похищена у меня тем, кто пригласил меня на праздник, может быть, даже для того, чтобы похвастать своим торжеством и своей жалкой сделкой. Ничего не подозревая, явился я в общество моих беззаботных товарищей, за это время сделавших такие громадные успехи на поприще так называемой легкой любви, что я чувствовал себя среди них стесненным. Когда неумеренное употребление шампанского разгорячило головы присутствующих и я, пользуясь этим обстоятельством, хотел незаметно уйти, графу фон Ингельштейну вдруг вздумалось похвастать победой.
— Фон дер Бург! — воскликнул он.— Что думаете вы о маленькой Жозефине? Ведь это интересная история, не правда ли?
Сидящие офицеры украдкой улыбались и перемигивались между собой.
— О маленькой Жозефине? — спросил я еще спокойно.— Кого вы имеете в виду, граф Ингельштейн?
— Вашу невесту, фон дер Бург. Разве вы не собираетесь на ней жениться? Нам бы следовало праздновать свадьбу и крестины на половинных издержках.
Уже более полувека прошло с тех пор, но руки мои и теперь дрожат при воспоминании об этих словах.
Я побледнел, сердце мое замерло. Я быстро вскочил, не зная, на что решиться, что делать.
— Что это значит? — спросил я, глядя на весело смеявшегося развратника.
— Разве вы не знаете, что прелестная Жозефина больна? — спросил он с издевкой.
— Знаю, что же дальше?
— Разве вы не хотите жениться на ней, господин фон дер Бург?
— Хочу, но довольно вопросов, я вас попрошу ответить на мой.
— Вы говорите в странном тоне.
— Он будет еще более странным, если вы не объясните мне ваших последних слов.
— Это нетрудно сделать. Вы собственными глазами можете увидеть мальчика хорошенькой Жозефины, незаконнорожденного Ингельштейна.
— Вы с ума сошли! — вскричал я вне себя.
— Ого? — Вас это поразило?! Неужели вы так и не заметили этой штуки?
— Ни слова более, граф фон Ингельштейн, иначе я пущу вам пулю в лоб.
Офицеры вскочили со своих мест, чтобы броситься между мной и моим смертельным врагом, отнявшим у меня сокровище, которое было мне дороже жизни.
— Пойдемте со мной,— сказал граф рассерженно.— Прощаю вам ваш гнев. Вы собственными глазами убедитесь в истинности моих слов.
Граф повел меня ночью через город к маленькому домику. Он погружен был в совершенную темноту; только на задней стене ставень одного из окошек был чуть приотворен. Граф подвел меня туда и отодвинул ставень. В глубине комнаты возле колыбели со спящим ребенком сидела Жозефина.
Кровь застыла у меня в жилах; мне показалось, что вся земля погружается в вечный мрак, я едва не упал в обморок. Я любил погибшую женщину!
На следующий день на лесной опушке за милю от города происходила дуэль между мною и графом фон Ингельштейном. Он промахнулся, а моя пуля раздробила ему череп. Я сам отдался в руки правосудия, и меня приговорили к нескольким годам заключения в крепости. Когда я вышел оттуда, мне сказали, что Жозефина умерла.
Итак, я не видел ее более. Должно быть, терзаемая угрызениями совести, она впала в чахотку. Обо мне была ее последняя мысль, ее последнее воспоминание; она умерла с моим именем на губах, сожалея, что не может получить прощения за свою измену.
Ее кончина была так печальна, так мучительна, что я не мог не простить ее и с тяжелым сердцем поспешил на ее могилу. Тут, молясь за нее и за себя, я поклялся удалиться в уединение, чтобы строгими лишениями искупить прошлую жизнь и найти покой, к которому так стремилась моя измученная душа.
Мне сообщили также, что мать Жозефины ловко воспользовалась письмами графа Ингельштейна и с их помощью ввела ребенка умершей во владение майоратом. Итак, веселый, исполненный прекрасных надежд, горячо любящий и счастливый юноша превратился в угрюмого, ненавидящего свет человека, который искал клочка земли, чтобы в уединении снова обрести спокойствие и забвение прошлого.
Не скоро обрел я мир и внутреннее спокойствие, позволяющие человеку твердо и без боли смотреть на прошлое и будущее. Нужна была крепкая надежда на Бога и немало силы воли, чтобы спасти мою душу от отчаяния и выйти победителем из тяжелой борьбы, на которую я был обречен по вине других.
Теперь я уже настолько спокоен, что молюсь Богу за этих людей. Я простил им и со спокойным сердцем вышел из бурь и треволнений прошлой жизни.
Ныне я уже старик, меня называют отшельником Иоганном; я пользуюсь редким счастьем помогать словом и делом моим ближним. По прошествии стольких лет я снова стал любить людей, сделался их другом и помогаю им по мере своего достатка.
Я уже чувствую приближение смерти и потому закончу эти записки открытием тайны. По всей вероятности, я не успею сообщить ее устно тому, кого она касается, так как этот человек теперь далеко от меня.
Она касается тебя, мой возлюбленный Эбергард, и в твои руки должны попасть эти бумаги. Все, что я здесь опишу — истинная правда; клянусь в том моим вечным спасением.
Ты называл меня своим отцом, но ты не сын мне, той дорогой Эбергард! Кто были твои родители — я не мог знать. Непроницаемой тайной покрыто твое рождение; ты явился как бы сверхъестественным образом, сопровождаемый небесными видениями.
Войска Наполеона наводнили всю страну, неся за собой разорение и несчастье. И тут на огненно-красном небе внезапно появилась светлая, блестящая комета с огненным хвостом, которая затемнила своим блеском звезду алчного корсиканца. Мужчины и женщины молились, распростершись на коленях, и с благоговением смотрели на чудную звезду, которая казалась ниспосланной самим Богом. В ту же ночь внезапно пронеслась по городу карета, запряженная четверкой черных коней. Животные взбесились и понесли во весь опор, давя стариков и детей; из кареты выпала одетая во все черное дама, а следом за ней и кучер, который при падении разбил голову. А кони все несли и несли и скоро исчезли во мраке ночи.
Пораженный народ с испугом и молитвой толпился вокруг прекрасной, облаченной в черное дамы. Никто не знал ее, никто не мог узнать, откуда и куда она ехала. На ее груди лежал маленький мальчик. Она поцеловала его в последний раз, обратив свой взор к небу; ее прекрасные глаза закрылись; благородное лицо подернулось смертельной бледностью. Ее погубил сильный удар, полученный при падении.
Тем мальчиком, которого бедные люди положили на только что распустившиеся цветы и на которого чудесная звезда проливала свой яркий свет, тем мальчиком, как бы явившимся с неба, был ты, мой Эбергард. Я взял тебя к себе и дал тебе имя в честь дня, когда я обрел тебя. Мы похоронили неизвестную даму, твою мать, под сенью цветущих деревьев.
Драгоценный амулет, который я тебе дал,— камень с изображением креста, солнца и черепа,— был единственным наследством, оставленным тебе.матерью. Может быть, он поможет тебе отыскать твоих родителей. Никто не мог узнать имени твоей матери; я заметил только, что на платке, который она держала в руках, была вышита королевская корона. Никто не слыхал, что сделалось с дикими конями и со сломанной каретой…
Мне тяжело открывать тебе эту тайну, но я считаю себя обязанным сообщить тебе перед смертью, что Эбергард фон дер Бург — это не твое настоящее имя, дабы ты мог отыскать своих подлинных родителей и принять имя, которое принадлежит тебе по праву.
Все, что здесь написано,— истинная правда, клянусь в том вечным моим спасением.
Иоганн фон дер Бург
Теперь Леона знала о тайне, скрывавшей рождение Эбергарда; в умелых руках это послание могло послужить грозным оружием против ее бывшего мужа.
Леона отдала записку камергеру Шлеве, который не только не был наказан за преступление, совершенное им против Маргариты, но приобретал все больший и больший вес при дворе; через несколько месяцев по воле королевы он стал членом тайного королевского совета, так что влияние его распространилось не на одних только министров, но и на всю страну. Народ скоро на себе ощутил последствия этого могущества и копил гнев, так как жизнь под управлением камергера становилась все тяжелее и тяжелее.
Этот хромоногий сотоварищ Леоны, этот барон, который сбил когда-то каретой ребенка могильщика при церкви Святого Павла, обладал достаточным могуществом, чтобы привести в исполнение самые гнусные свои намерения. Он умел ловко скрывать их от короля, который, не без помощи своей супруги, благочестивой королевы, совсем отошел от дел и отдалился от своего народа.
XLI. ВОРЫ ВО ДВОРЦЕ
Была бурная и холодная весенняя ночь. Сильный порывистый ветер то утихал, то снова принимался завывать на улицах столицы. Проливной дождь с шумом падал на мостовую и с силой бился в окна и ставни домов. Непроходимая грязь образовалась на всех улицах. Тускло светившие фонари казались в эту ночь еще привлекательнее для пешехода, что изредка показывался на опустевших улицах столицы.
Только в более, оживленных кварталах слышались беззаботные голоса возвращавшихся из трактиров студентов; их веселые Песни прерывались сердитой бранью сторожей, чей сон они тревожили.
После полуночи какие-то два человека вышли на улицу из трактира Альбино.
— Ух,— сказал один из них, надвигая шляпу на свои черные как смоль волосы,— по такой погоде выходят только хищные птицы да ночные сторожа.
— И мы! — прибавил другой.
— В таком случае, и лейтенант, что обещал поджидать нас на Соборной улице.
— Впрочем, такая погода для нас, пожалуй, удобнее.
— Твоя правда, Кастелян; шум дождя, свист ветра имеют свои хорошие стороны. Маленькая Минна отворит нам ворота?
— Сегодня к вечеру я был у нее,— отвечал уже известный нам преступник, которого товарищи называли Кастеляном.— Она обещала отворить ворота боковой башни после того, как все лакеи и слуги замка разойдутся по своим комнатам. Я не забыл исследовать все узкие и широкие коридоры, по которым нам придется пробираться, чтобы попасть в комнату, где хранятся сокровища. Имей в виду: там тяжелая железная дверь. Ты взял с собой инструмент, чтобы выломать ее?
— Против этих двух винтов ничто не устоит: они выломают дверь и покрепче,— сказал с уверенностью Кастелян, с трудом шагая через огромные лужи.
— Покажи их мне.
— Глупая ты голова, я покажу тебе их после. Что можно разглядеть при свете фонаря! Я и без того сделал непростительную глупость, что зашел к тебе вечером в семейный дом. Голову заложу, что девушка, сидевшая у ворот, была прекрасная Маргарита; она мне не особенно доверяет, и я плачу ей той же монетой.
— Прекрасная Маргарита? Ты не ошибся? Рядом с нами живет старый Эренберг; какая-то девушка в, самом деле сняла у него на днях половину комнаты.
— Значит, это она и есть! Следовательно, она живет за той стеной, возле которой мы совещались. Я очень не доверяю этой девушке.
— Не беспокойся, Кастелян, у нее не было ни времени, ни охоты наблюдать за нами. Старая Эренберг умерла прошлой ночью от тифа и лежит теперь под лестницей! Сегодня за ней, по предсказанию доктора, должна последовать и ее старшая дочь Августа.
— Твоя правда, от этого пропадет всякая охота следить за соседями. Но я и Вальтеру доверяю не больше!
— Он приходит только к вечеру и остается очень недолго; сегодня во время нашего разговора его также не было.
— А где ты нашел этого бездельника лейтенанта?
— Где же еще, как не за водкой? Он сидел у «кронпринца» вместе с несколькими студентами.
— Ты уверен, что он нас поджидает?
— Кто, лейтенант? О, он дорожит своим честным словом. Он не перестал быть господином фон Рейцем, хотя суд и лишил его дворянского достоинства. Мещанские судьи могли посадить его в тюрьму, но не в их власти отнять у него его благородное происхождение. После полуночи он будет поджидать нас на Соборной улице; история с замком возбудила в нем сильное любопытство.
— Я его мало знаю,— сказал Кастелян.— Как у него с силенкой?
— Ты еще спрашиваешь — он стоит троих.
— В замке расставлены часовые,— медленно произнес Кастелян.— Вероятно, нам придется покончить с тем, что стоит у комнаты с драгоценностями.
— Лейтенант всегда носит при себе кинжал, что остался у него еще от лучших времен. Это хорошее оружие, наверно, он позаботился наточить его поострее.
— Хорошо! Но кто это там? — внезапно остановился Кастелян, увидев, как по поперечной улице промелькнула согбенная фигура.
— Прядильщица! — отвечал Карл.— Посмотри сам.
— Идиот! Она больше не перейдет нам дорогу, но эта женщина очень походит на нее.
— Это дурной знак!
— Да ты просто трус! Я не знал этого, значит, ты не годишься для нас на эту ночь.
— Что, трус? Какое мне дело до прядильщицы. Ты ведь только что сказал, что уже три недели, как она похоронена.
— Старуха не давала мне покоя ни днем, ни ночью! Что оставалось делать? Она была без ума от меня. Эти старые женщины часто бывают безумнее молодых девушек! Потому-то я ее и вылечил от безумия.
— И получил за это хорошенький куш?
— Что об этом говорить: в четырнадцать дней исчезло все до последнего талера.
— Пошло на устрицы и шампанское?
— Вчера Шалес Гирш получил последние вещи; уже давно пора приняться за дело. Потаенный фонарь у тебя?
— Он в боковом кармане; а три больших пустых мешка у меня под шинелью.
— Хоть бы они наполнились! — сказал Кастелян.— Сегодняшнее предприятие так же опасно, как и выгодно! В комнате с драгоценностями кроме больших дорогих шандалов, что надо будет распилить на части, и других ценных вещей есть еще черные алмазы, что подарил королю князь Монте-Веро.
— Мы их оставим там; они могут вас выдать.
— Дурак! Золотых дел мастер Вундер с Королевской улицы предложил мне за шандалы по тысяче талеров, а за черные алмазы по две тысячи. Правда, в замке их только два, третий же в музее.
— Ну, так мы и прихватим их. Ты спрашивал Гирша, будет он вести с нами дела?
— Нет, с тех пор как Эсфирь уехала с Фуксом и Эдом, с ним не стоит связываться.
— Думаю, они неплохо ведут свои дела в Париже.
— Гирш сник: уж слишком следят за ним синие мундиры. Старый Вундер больше падок на золото и серебро. К завтрашнему утру все будет расплавлено и запрятано. Я бы хотел иметь столько, сколько собрано у него в погребе, куда не проберется ни одна собака.
— Значит, он ожидает нас после того, как мы нагрузимся.
— Одного за другим! Дело не так просто, как кажется: мы не можем идти с мешками через улицу, сторожа сразу схватят нас! Если наша добыча будет в лодке, то мы можем спокойно доехать до лестницы под мостом.
Собеседники, тихо переговариваясь, дошли до моста, который вел от площади перед замком к еврейскому кварталу.
Кастелян показал на реку, что бурно клокотала во мраке.
— Здесь вы останетесь оба с вещами; от меня вам не скрыться: я прихвачу вместо залога два алмаза и побегу к Вундеру. Как условлено, постучусь к нему; он откроет дверь, я будут стоять на страже, а вы перетаскаете вещи, только не в мешках, а по частям, припрятав понезаметнее. Поняли?
— Как не понять. А лодок здесь под мостом сколько угодно: выбирай — не хочу.
Когда оба преступника свернули с моста налево, чтобы пройти на Соборную улицу, тянувшуюся вдоль реки, часы пробили двенадцать.
В домах на Соборной улице было темно. Негодяи держались ближе к железной решетке, отделявшей улицу от шумевшей внизу реки. Во мраке на реке были видны очертания больших и малых лодок и плотов.
Вдали уже проступил силуэт замка. Они приближались к нему с задней стороны. В этой его части, что отделялась от реки узким проходом, жила многочисленная прислуга; старшая — ближе к площади, младшая — ближе к реке.
Здание было древней постройки. Широкие окна верхних этажей не приходились над нижними. Повсюду выступали маленькие балкончики и галереи, задний флигель венчала башня со шпилем, на котором вертелся старый флюгер, невыносимо скрипевший и дребезжавший от ветра. В этой необитаемой теперь башне имелись комнаты, обставленные мебелью, к ним вела лестница. В прежние времена ею пользовались любители удовольствий, чтобы незаметно выбраться из замка. Многими коридорами, в которых непременно запутался бы всякий, кто недостаточно хорошо их знал, она сообщалась с главной частью замка и имела внизу маленькую, едва заметную дверь, выходившую в узкий проход между замком и рекой. Дверь была постоянно заперта, так как обитатели этой части замка предпочитали попадать на улицу, пройдя через малый двор замка на большой, а оттуда на площадь или в увеселительный сад, в глубине которого располагался музей. Вот почему замок этой маленькой двери совсем заржавел и опытному в этих делах Кастеляну стоило больших усилий отворить ее и смазать, чтобы она не издавала предательских звуков. Отмычки Кастелян в таких случаях, использовал уверенно, а потому настоящий ключ не взял с собою.
— Посмотри,— прошептал, остановясь у железной решетки, товарищ Кастеляна, которого тот назвал Карлом,— ты видишь свет в окне наверху?
— Я уже давно его заметил — маленькая Минна дает знать, что все в порядке.
— Не заметил ли его сторож или полицейский?
— Не трусь. Кто может знать, зачем здесь свет. А вот если какой-нибудь камердинер вздумает сегодня до полночи справлять крестины, как вчера, вся наша работа может пойти к черту. Свет означает, что мы можем идти, вот уж за это я поцелую Минну и прижму ее к груди — она это любит.
— Останется она в замке?
— Сохрани Бог, она бежит с нами! Ты ее увидишь, но не прикоснешься к ней! Это благочестивая девушка.— Кастелян прищелкнул языком.— Ночь с нею, черт подери, стоит целой жизни. Какое у нее тело! Даже Эсфирь в сравнении с ней ничего не стоит!
— Ты раззадорил меня, черт возьми! За такую девку много отдашь.
— Минну не купишь! Когда я третьего дня ночью снова был у нее в комнате, слишком близко подошел к ней барон и протянул кошелек с золотом. Ну и что, ты думаешь, он получил взамен?
— Поцелуй?
— Нет, пощечину, от которой у него порядком зазвенело в ушах. А это камергер короля!
— Хуже не придумаешь!
— Ну, зато он больше не придет! Однако она говорит, что наше дело не терпит отлагательства, потому что этот Шлеве, кажется, славный гусь. Готов побожиться, это он давал мне работу через Роберту, и уверен, что старая чертовка…
— Помяни Господи ее душу,— грубо засмеялся Карл.
— …что старая чертовка не отдавала мне и десятой части добычи! У нее были тайные дела с этим Шлеве!
— Но в конце концов ты отнял у нее и остальное!
— Да, я не люблю, чтобы меня обманывали!
— То есть, чтобы брались не за свое дело.
— Глупый! Я никогда не занимаюсь обманами; это слишком просто для меня,— серьезно заключил Кастелян.
— Да, у тебя дела посерьезней. На, пей.
Оба товарища, часто прикладываясь к бутылке, так как холодный ветер дул им в лицо, а дождь и снег промочили все платье, достигли наконец прохода, соединявшего Соборную улицу с ближайшим переулком. Этот маленький, мрачный переулок, похожий в начале своем на ворота со сводами, назывался Соборным переулком.
За стеной в тени стоял мужчина лет тридцати, плотно закутавшись от непогоды. Он высоко поднял воротник своего дырявого пальто и надвинул на глаза старую серую шапку. Коротковатые брюки и грязные стоптанные сапоги обличали не только его бедность, но и свидетельствовали — о крайне распутной жизни, между тем как белые нежные руки и подстриженная по-военному борода составляли странный контраст с одеждой.
Этот человек, не имевший жилища и теплой одежды, который мерз теперь за стеной, озираясь со страхом по сторонам, был лейтенант фон Рейц, прежде один из знатнейших офицеров страны, а теперь сотоварищ отъявленных мошенников. Страсть к игре и пьянство разорили его и побудили сначала растратить доверенные ему деньги, а потом сделаться игроком и, наконец, вступить в товарищество с подонками общества. Прежде он пил лишь редкие вина, потом, по истечении срока наказания, довольствовался пивом и, наконец, теперь не брезговал уже и водкой, чтобы только забыться и заглушить сознание своей горькой участи.
Подобного рода жизнь вовсе не единичное явление в столичном омуте. Над его колыбелью благородные родители строили самые радужные планы; они пожертвовали всем, чтобы дать сыну блестящее воспитание, и за все это имели несчастие видеть, как их сын падал все ниже и ниже. В близком будущем его ожидала смерть в реке или работный дом, а может быть, и сук в лесу сослужит ему последнюю службу.
Лейтенант, как для краткости называли его приятели, заметил две приближающиеся фигуры.
— Это вы? Ночь должна удасться, иначе все прогорит. Клянусь честью, за мной дело не станет.
— Это вы, лейтенант? — спросил Кастелян.
— К вашим услугам. Пора начинать?
— Самое время. Пойдемте!
— Как заманчиво мелькает огонек; он напоминает мне «Геру и Леандра»,— засмеялся фон Рейц, выходя из узкого переулка на Соборную улицу,— только мы будем умнее и не пойдем туда. Нет ли у вас водки, Кастелян?
— У тебя осталась еще пара глотков, Карл? Дай их прикончить лейтенанту, он всегда готов выпить!
— Только не воду, черт возьми! — Лейтенант с жадностью схватил бутылку, осушил ее одним глотком и возвратил.— Allons, enfans![10] — тихо сказал он, идя к больверку.— Сегодня снова прольется кровь — у меня чешется правая рука.
— Сюда,— позвал Карл, опередивший своих товарищей,— здесь самое удобное место.
Он показал на плот, возле которого стояло несколько лодок, и первым вскочил на него; лейтенант и Кастелян, осмотревшись по сторонам, последовали за ним.
Скоро все трое уселись в одной из лодок, отвязали ее от столба и поплыли по направлению к башне. Сильное течение не позволяло им пристать у основания, и они причалили к берегу на несколько локтей от нее. Это не помешало им выйти и довести лодку до удобного места, где можно было ее оставить. Карл передал лейтенанту мешки и вынул из кармана потайной фонарь. Кастелян тем временем уже подошел к маленькой двери и вложил в нее обильно смазанный ключ.
Все было тихо и в башне, и на реке. Только вода плескалась, ударяясь о камни замка, и дождь стучал по стеклам окон. Иногда раздавался скрип флюгера или стук плохо притворенной ставни.
Кастелян почти неслышно отворил дверь и впустил своих товарищей; потом снова запер ее, чтобы она не скрипела и не хлопала на ветру.
— Дай мне фонарь, я пойду вперед! — обратился он к Карлу, стоявшему возле лейтенанта.
— Как переменчива судьба,— тихо сказал фон Рейц.— Прежде я желанным гостем въезжал в этот замок через главные ворота, а теперь прихожу сюда непрошеным через задние.
— Всему свое время,— рассмеялся Кастелян и вывернул фитиль в фонаре, отчего вся комната внезапно осветилась мерцающим светом.
Они оказались в прихожей замка. Лейтенант поочередно садился в каждое кресло, забавляясь треском рассохшегося дерева.
— Перестаньте, лейтенант,— обратился к нему Кастелян.— Мне кажется, маленькой Минны здесь нет.
— Уж эти женщины! — возразил лейтенант.— Мебель здесь несколько поистерлась… Обломки…
В эту минуту Кастелян, обладавший весьма тонким слухом, различил шум шагов. Они приближались из коридора, соединявшего башню с главной частью замка. Не зная, кто идет, он быстро подал знак к молчанию и повернул винт у фонаря, так что свет внезапно потух.
— Зажгите фонарь, все в порядке! — раздался сдержанный женский голос.
— Минна…— прошептал Кастелян и направил свет на вошедшую девушку. В своем белом передничке, кокетливо приподнятом платье и нарядной прическе она походила на субретку.
— Да, это я. Торопитесь. Часовые только сменились. На лестнице, что ведет в комнату с драгоценностями, стоит часовой. Точно ночной колпак,— шутя добавила она.
— Ну, эти опаснее всех,— заметил лейтенант.— Я знаю это по опыту.
— Думаете, он поднимет шум? Мы сумеем заткнуть ему глотку! — Кастелян пожал Минне ручку.
— Я останусь здесь, чтобы прикрыть отступление,— сказала она смеясь.— Ведь ты сам хорошо знаешь дорогу.
— Да, конечно. Мы пойдем втроем. Ведь второго часового на этой стороне нет?
— Только один, там, где всю ночь горит лампа,— отозвалась миловидная девушка.
Кастелян вертел ею, как хотел. Верно, любовь слепа — этот безбородый толстый человек чем-то привлекал женщин. Ведь и старая Роберта любила его. Она не только нежно заботилась о нем, но и доверяла ему свои дела, что, впрочем, послужило ей вовсе не на благо: негодяй за ее любовь убил и ограбил ее. Правда, старая Роберта едва ли заслуживала лучшей участи — сколько невинных существ пали жертвой ее корыстолюбия и жадности.
Маленькая Минна осталась в башне, а мужчины осторожно направились по коридору, от которого в обе стороны вели проходы в комнаты прислуги.
Покои короля и королевы были расположены совсем в другой, отдельной части замка, выходившей на площадь и к увеселительному саду.
Воры подошли к широкой лестнице, что вела в ту часть замка, где помещались кладовые. Сначала это были комнаты с бельем и постелями, потом с посудой и разного рода запасами и, наконец, на полпролета выше, за железными дверями и решетками — с драгоценными вещами. Кастелян шел впереди, неся фонарь, слабо освещавший лестницу и живопись на стенах. Карл и лейтенант следовали за ним, озираясь по сторонам.
Обогнув выступ стены, они миновали широкие, богато украшенные коридоры и подошли к последней лестнице. Наверху горел огонь, и часовой мерно шагал взад и вперед по площадке.
— Спрячьте фонарь,— шепнул лейтенант,— а то этот мошенник заметит нас.
— И окликнет,— закончил Карл.
— Тогда мы его свяжем.— Кастелян спрятал фонарь.
— Пустите меня вперед: клянусь честью, мы попадем в комнату, хотя бы её охранял цербер о ста головах,— тихо проговорил лейтенант. Им овладела какая-то слепая ярость, еще более усилившаяся при мысли, что добыча этой ночи может спасти его, будто для этого потерянного человека могло быть другое спасение, кроме смерти.
Кастелян был достаточно хитер, чтобы не противиться желанию фон Рейца.
Часовой, которого двое оставшихся позади мошенников не могли видеть, казалось, услышал шум приближающихся шагов. По его тени можно было догадаться, что он остановился и смотрит вниз.
И тут лейтенант ступил на освещенную лестницу.
— Кто там? — послышался испуганный голос.
— Друг! — словно в шутку ответил фон Рейц, и в ту же минуту на верху лестницы послышался шум от падения тяжелого тела и громкий стон,
— Он убил его,— озабоченно сказал Карл.
— А нам какое дело! Дальше! — скомандовал Кастелян.
Преступники последовали за лейтенантом и увидели, как он старается прислонить солдата к стене в углу коридора. Наконец ему это удалось: Он облокотил часового на ручку двери и так ловко, что издали можно было подумать, будто солдат уснул на часах.
— Что с ним? — спросил Кастелян.
— Я прикончил его,— мерзко усмехнулся лейтенант.— Теперь нам никто не помешает.
— Ну, скорей за работу. Дверь повыше… Карл заменит нам мертвого часового.— Кастелян вынул из кармана два мощных винта, и один из них, снабженный кольцом, завернул в дверь рядом с замком. К этому кольцу Кастелян прикрепил второй винт, ввернув его в косяк напротив замка. Он действовал как рычаг, и через некоторое время обитая железом дверь поддалась и без шума отскочила.
— Клянусь честью, за это великое изобретение вы заслуживаете ордена, Кастелян.— Глаза лейтенанта жадно блестели.
— Не рано ли радуетесь? Внутри, кажется, есть еще железный прут. Сторож, видно, вышел через другую дверь, чтобы покрепче запереть эту.
— Нет ли кого там, в комнате? — шепотом спросил лейтенант.
— Он не стоял бы так тихо. Через щель я вижу толстый железный прут. Постойте, у меня есть пила…
В то время, как третий мошенник, стоявший на часах, едва пересиливал волнение, усугублявшееся при взгляде на мертвого часового, раздался скрежет пилы. Вскоре задвижка поддалась их усилиям.
В ту же минуту нетерпеливый лейтенант с силой надавил на дверь, и обе части прута с шумом упали на пол. Воры сдержанно засмеялись. Тот, что оставался на страже, внимательно прислушался: ему почудились вдали голоса. Может быть, кто-то услышал шум, а может, наступило время для смены часовых. Последнее было маловероятно — до новой смены оставалось еще около часа.
Лейтенант и Кастелян, наполнив мешки серебряной посудой, намеревались уже пилить крышку стола, под которой были спрятаны бесценные алмазы, как вдруг в комнату вбежал Карл.
— Сюда идут! — крикнул он.— Послушайте…
Снизу действительно слышались голоса, но очень отдаленные…
— Бери,— приказал Кастелян Карлу, подавая наполовину наполненный мешок.
Лейтенант подал другой, а Кастелян все продолжал хватать одну вещь за другой, в то время как люди были уже так близко, что можно было различить женский голос.
Карл бросился вон, за ним последовал лейтенант.
— Уж не изменила ли нам маленькая Минна? — проговорил он, прислушиваясь к голосам.
— Нет, бьюсь об заклад, нам подгадила Маргарита, змея из общественного дома.
Прежде чем продолжить рассказ о трех мошенниках, следует объяснить последние слова Кастеляна.
Мы оставили Маргариту после того, как принц, преклонив перед ней колени и получив прощение, отправился к королю, а она, пораженная кинжалом Леоны после его ухода, лежала на полу.
Девушка истекала кровью. Ее слабый голос напрасно звал на помощь. Однако гнусному плану бесчеловечной матери не суждено было исполниться. Карающая десница Господня, так тяжело обрушившаяся на Маргариту, простерлась теперь для ее защиты. Но не принц явился спасти ее.
Принц получил от короля приказ в тот же день оставить столицу, выбрав своим местопребыванием на этот год какой-нибудь отдаленный город. Этим изгнанием он был обязан своему камергеру. Изгнание! Барон фон Шлеве пересилил принца: этот негодяй имел теперь бОльшую силу при дворе, чем принц.
И нельзя было ни противоречить, ни даже спросить о причине наказания — оно должно было быть исполнено без замедления и возражений.
Между тем столичные газеты сообщили, что принц Вольдемар ввиду расстроенного здоровья уезжает на юг.
Вальтер и на этот раз был ниспослан небом, чтобы спасти Маргариту. Подобно ангелу-хранителю защищавший всегда несчастную, чуждый всяких эгоистических побуждений, он любил ее с детства, как любят цветок или звезду, не имея ни малейшей надежды обладать ею когда-либо, зная одно лишь наслаждение — защищать любимое существо и радоваться, глядя на ее счастье. Признавая его достоинства, принц позволил ему жить в той части замка, где располагалась комната Маргариты, и вот случилось так, что он нашел ее лежащей без чувств на ковре.
Вальтер остановился в ужасе. Не зная, что произошло между Маргаритой и принцем, он подумал, что несчастная в отчаянии наложила на себя руки. Однако он быстро опомнился, перенес ее на диван и, позвав служанку, кинулся за доктором.
Когда вечером стало известно, что принц изгнан из города, и Маргарита уже настолько оправилась, что могла с помощью Вальтера оставить замок, он увел ее от угрожавшей опасности.
— Лучше страдать ох бедности, чем остаться беспомощной во власти страшных людей, посягнувших на твою жизнь,— сказал он.— Не унывай, я с радостью буду работать, чтобы ты жила спокойно. Но я вижу, рана твоя болит, хотя ты и стараешься это скрыть!
— Не беспокойся, Вальтер, я чувствую только слабость.
— Куда бы только нам пойти,— сказал Вальтер.— Я не знаю здесь ни души! Впрочем, постой, здесь, кажется, живет моя дальняя родственница, я сведу тебя к ней, она приютит тебя. Хотя я долго не бывал в ее доме — уж очень странным казался мне ее муж,— но она не откажет мне. Кроме них, я не знаю никого, кому бы мог доверить тебя.
— Куда ты ни отведешь меня, мне везде будет хорошо, милый Вальтер,— отвечала бледная, обессиленная потерей крови молодая женщина.
— Эренберги — славные люди, особенно жена, и ей-то я и поручу тебя. У нее две дочери, старшая твоих лет; они будут заботиться о тебе и беречь тебя.
И Вальтер повел Маргариту в дом столяра Эренберга. Если Эренберг действительно часто пил, как тогда казалось Вальтеру, то все же он очень надеялся, что жена его примет Маргариту, если он потихоньку от мужа заплатит ей за это.
Наконец они дошли до дома, где прежде красовалась вывеска столяра Эренберга; теперь ее не оказалось. Вальтер вошел в дом и спросил Эренберга.
— Наверное, вы говорите о столяре, который охотнее пьет, чем работает? — спросила старая женщина.— Он уже более года не живет здесь. Идите дальше в общественный дом, он снимает там комнату с женой и детьми.
— В общественный дом! — воскликнул Вальтер.— Боже, как я поведу тебя туда, Маргарита!
— Я не в силах идти дальше, сведи меня туда. Может, его жена сжалится над нами,— отвечала Маргарита слабым голосом.
— В этих домах живут бедные, но не злые люди. Во всех случаях, они лучше тех знатных и богатых, что преследуют тебя.— И Вальтер направился с Маргаритой через населенные рабочими и бедняками улицы к ряду домиков, походивших на старые казармы. Длинные трехэтажные здания были окрашены в грязно-серый цвет.
В многочисленные окна виднелись обитатели дома, преимущественно старые мужчины и женщины. Внизу убогость этих окон несколько скрашивали растущие возле домов деревья, а иногда белые гардины. Выше окна были меньше, тусклее и ясно свидетельствовали о том, что они защищают от непогоды и пропускают свет в весьма непрезентабельные жилища.
В этих скученных домах, занимавших половину улицы, жили по большей части обедневшие семейства, которые снимали здесь по одной комнате, а нередко даже делили эту комнату пополам с другими, отмечая мелом границу каждого владения. Самые просторные комнаты занимали иногда и по четыре жильца, и каждый строго очерчивал свою часть мелом по стене и полу. При распрях появлялся так называемый отец семейства, не особенно церемонно обращавшийся с жильцами, и потому скоро восстанавливались порядок и тишина. Эти общественные дома, приносившие, впрочем, весьма значительный доход, так как плата с жильцов взималась с неумолимой строгостью, принадлежали старой слабоумной вдове, наследники которой зорко следили за тем, как управляются дома.
Поднимемся вместе с Вальтером и Маргаритой на несколько ступеней лестницы. Узкие, темные сени имели весьма непривлекательный вид. Когда-то белые стены от мокрого платья приняли грязный серый цвет. Пол был шероховатым и неровным. По обе стороны сеней располагались двери, в которые можно было видеть самые странные фигуры. Здесь — коренастая женщина с черным от грязи лицом, там — несколько почти нагих детей, напротив — худощавый мужчина с чугунным горшком, дальше — группа женщин с такой ужасной внешностью, что название прекрасного пола, обращенное к ним, превращалось в злую иронию. Они стояли возле крутой грязной лестницы со щербатыми стертыми ступенями. Вальтер спросил женщину с черным лицом о семействе Эренберга.
— Эренберг? — переспросила старуха густым басом, приблизившись к Вальтеру.— Поднимитесь сперва на лестницу, потом направо, потом налево, затем еще на лестницу и, наконец, прямо. А вообще-то я не знаю наверно, в каком номере живут Эренберга. Но вот идет Густа, она проводит вас.
Вальтер обернулся к двери, где показалась высокая тонкая девушка. Ее лицо с ввалившимися щеками поражало своей желтизной.
— Густа,— закричала старуха.— Густа Эренберг!
— Ах, фрау Мюллер, я не могу найти доктора! — жалобно проговорила девушка.
— Еще бы! Когда их зовут в бедное семейство, у них один ответ: нет дома! Ну, что матушка?
— Ей очень плохо.
— Как? Вы Августа Эренберг? — удивился Вальтер.
— Да, а вы меня знаете?
— Ваша матушка больна?
— У нее тиф.
— И у вас тоже болезненный вид.
— Да вот уже неделя, как я не смыкаю глаз,— отвечала девушка.
— И есть-то много не приходится; старик пропивает последние гроши, особенно теперь, когда жена не может держать его в руках. С ним сущее горе — вчера он свалился с лестницы.
— Ах, фрау Мюллер, ведь ступени там поломаны,— поспешно проговорила девушка, желая заступиться за отца.
— Вот тут спрашивают о вас, Густа,— вспомнила старуха.
— А вы разве не узнаете меня? Я Вальтер, племянник вашей матушки.
— Теперь я припоминаю…— ответила девушка нехотя — ей было неловко вводить двоюродного брата к себе.
— Так тетушка больна?
— Очень! Да поможет ей милосердный Бог! Я вас не зову с собой — мы живем так бедно…
— Не беспокойтесь,— отвечал Вальтер,— я хотел только спросить, не можете ли вы уступить часть своей комнаты этой девушке.
Августа Эренберг взглянула на Маргариту. Видя, как той плохо, она с радостью приняла бы Маргариту (бедные люди большей частью сочувствуют себе подобным), но она сама не могла оказать радушный прием девушке, приведенной Вальтером.
— Я спрошу позволения у отца, пойдемте со мной наверх,— проговорила она смелее.— Вы давно у нас не были, Вальтер! С тех пор все переменилось.
— Я искал вас на старой квартире,— поддержал разговор Вальтер. Между тем Маргарита до того ослабла, что не могла более держаться на ногах, и Вальтер подхватил ее на руки.
— Теперь за угол и вторая лестница наверх,— говорила Густа, следуя за ним.
Дом казался переполненным жильцами: еще не настал час, когда возвращается рабочий люд, а между тем сквозь открытые Двери видно было, что комнаты прямо-таки набиты старыми и малыми.
Вальтеру пришлось задержаться у второй лестницы: несколько человек с трудом несли бедный гроб, а сверху доносилось громкое пение, прерываемое однообразным скрипом люльки, криками, бранью и детским плачем.
Вальтер раскаивался уже, что вошел в этот дом, но Маргарита, видя его нерешительность, прошептала:
— Не беспокойся, мне нужен только уголок для отдыха.
Когда люди с гробом сошли с лестницы, Вальтер с девушкой на руках снова последовал за Августой. В длинном коридоре им попадались ужасные лица — изнуренные голодом, оплывшие от пьянства, искаженные низкими страстями. Верхний этаж делился на такие же ночлежные конуры. Августа отворила дверь одной из них, и оттуда пахнуло удушливым зловонием. Хотя в комнате были два окна, там царил полумрак — так эти окна были малы и грязны. Налево дверь вела в соседнюю конуру с низкой и почти голой кроватью. Всю правую стену до грязной и нетопленой печки занимала постель больной. Старый шаткий стол, две скамейки, прялка да паутина по углам дополняли убранство. На столе стояли бутылка с воткнутой в нее оплывшей сальной свечой и несколько горшков и чашек.
На одном из табуретов, сгорбившись и бессмысленно уставив глаза в одну точку, сидел старик Эренберг. Хорошенькая четырнадцатилетняя сестра Августы стояла на коленях возле постели матери, которая, тяжело дыша, металась на своем одре. Августа подошла к старику и, коснувшись его плеча, сказала:
— Отец, Вальтер пришел.
— Чего ему? — спросил старик, не поднимая головы.
— Он хочет узнать, нельзя ли уступить одной девушке уголок в нашей комнате.
— Здравствуйте, господин Эренберг,— сказал Вальтер, тихо подойдя к старику,— конечно, я заплачу.
— Хорошо! А вы принесли деньги с собой? У меня нет ни гроша!
— Вот вам пока талер,— Вальтер подал деньги. Старик оживился и протянул руку родственнику своей жены.
— Решено! А что за девочка? Не та ли, что еле держится на ногах? Ложись-ка, дитя, на постель.— Затем, указав на больную жену, он прибавил: — Ей недолго осталось…
— Мне очень жаль, господин Эренберг.
— Что делать? Надо покориться судьбе,— пожал плечами старик.
— Разве вы не обращались к доктору?
— Ни один не идет. Да это и к лучшему. Ведь то, что они прописывают, стоит денег. А кому судьба, тому смерти не миновать.
«Как он очерствел от нищеты»,— подумал Вальтер. Между тем Августа подошла к совсем ослабевшей Маргарите и заботливо уложила ее в постель.
Вальтер еще и не собирался уходить, как Эренберг сказал ему:
— Я пойду с вами — надо на ночь хлебнуть. Без этого не вынести бессонных ночей.
Вальтер внимательно взглянул на багровое лицо спившегося столяра и только тогда заметил у него на лбу, скулах и руках синяки — следы того падения, о котором упоминала фрау Мюллер.
— Оставайтесь-ка лучше дома, господин Эренберг.
— Хватит рассуждать, пойдемте со мной. Я рад-радешенек, когда могу подышать свежим воздухом.
Вальтер простился с Маргаритой и Августой, обещая вскоре прийти, и вышел вслед за стариком. Однако при первой же возможности он отделался от него.
Не станем долго останавливаться на происшествиях следующих недель, чтобы скорее рассказать о последствиях, которые имела кража в замке.
Тетка Вальтера вскоре умерла, после этого заболела Августа, а Эренберг в вине топил свои заботы, горе и упреки совести, между тем как младшая сестра Августы не переставала плакать. Маргарита нашла в себе силы ухаживать за бедной Августой, а Вальтер приходил каждый вечер и приносил ей свой заработок.
Только похоронили старуху Эренберг, как скончалась и несчастная Августа, в ту самую минуту, когда отец привел, наконец, доктора. Желая чем-нибудь отблагодарить последнего, старик предложил ему свою бутылку водки, но не был в претензии, когда тот сухо отказался от нее, и сам ее выпил. Именно в эту ночь Кастелян и черноголовый Карл совершали кражу в замке. Между тем как Эренберг разговаривал с доктором, Маргарита рассказывала Вальтеру о том, что нечаянно узнала ночью.
— Я ясно слышала, как совещались двое. Из всего, что они говорили, я поняла только то, что речь шла о замке и что в это дело замешано третье лицо.
— Они совещались здесь, в соседней комнате?
— Да, здесь, у самой двери. Один из них толстый. Я видела его сегодня, и, если не ошибаюсь, это тот самый, которого называют Кастеляном; другой же сын вдовы, что живет со своим семейством возле нас.
— Я пойду в полицию, чтобы их схватили.
— Но ведь прошел уже целый час с тех пор, как они ушли.
— Черт возьми! Значит, они уже принялись за свое дело! Здесь мне больше нечего делать, так что я побегу в замок, чтобы помешать преступлению.
— Я пойду с тобой, я не пущу тебя одного, ты чересчур смел, а для этих негодяев убийство ничего не значит.
— Нет, Маргарита, оставайся тут, я не могу взять тебя с собой в такой поздний час,— настаивал Вальтер вполголоса, между тем как доктор писал свидетельство о смерти.
— Нет-нет, возьми меня с собой. При одной мысли, что ты пойдешь один, меня охватывает ужас.
— Успокойся, душа моя! Я вернусь, как только удастся остановить преступление.
— Я чувствую, что ты не вернешься, и ни за что не останусь здесь.
Маргарита накинула платок и вместе с Вальтером, никем не замеченная, вышла из дома. Сильный ветер и мокрый снег хлестали в лицо. Они миновали старинные ворота города и вышли на грязную и темную дорогу.
— Ты не сердишься на меня? — виновато спросила Маргарита.
— Как я могу сердиться, если ты из любви ко мне не страшишься такой холодной ночи! Я только ради твоего здоровья не хотел тебя брать, но раз уж ты пошла со мной, то сознаюсь: какое-то предчувствие говорит мне, что это к лучшему.
— Спасибо тебе за эти слова. Пойдем скорее, разбудим сторожей в замке.
— Двенадцать часов! — заметил Вальтер, прислушиваясь к бою часов на колокольне.— Надеюсь, мы придем вовремя.
От дома в предместье, где жила Маргарита, до замка было около полумили, и расстояние увеличивали бесчисленные повороты дороги, да и булыжник от дождя стал скользким. Однако путники шли быстро. Вальтер принадлежал к числу тех, кто готов всем пожертвовать для того, чтобы не совершилось неправое дело. Недаром так самоотверженно он отдал жизнь Маргарите, даже зная, что она любит другого. Не всякий может любить так верно и бескорыстно, особенно когда уязвлены его чувства. У этого простого человека действительно было благородное сердце. Он совершал добрые дела втихомолку и был тем самым гораздо выше тех благодетелей, что из одного только тщеславия помогают бедным.
Запыхавшись, дошли они, наконец, до парка и направились к главным воротам. Часовой не позволил им войти и послал за офицером; когда последний пришел и узнал, в чем дело, их впустили в замок.
— Это какой-то обман,— уверял офицер одного из своих адъютантов, недоверчиво поглядывая на Вальтера и Маргариту.
— Надо бы их схватить: похоже, они сами и замышляют что-то.
— Вы полагаете, что трое воров, о которых вы говорите, уже находятся на месте преступления? Как же они вошли?
— Возьмем с собою этих обвинителей и вместе с ними обыщем замок,— посоветовал адъютант.
— Не понимаю, как могут часовые, расставленные по лестницам, не увидеть воров, если они действительно вошли в замок,— продолжал сомневаться офицер.
— Следуйте за нами,— приказал адъютант, обращаясь к Вальтеру и Маргарите.— А вам известно, что именно они хотят украсть?
— Кажется, они говорили о комнате, где хранится серебро,— проговорила девушка дрожащим от волнения голосом.
Офицеры переглянулись и, прибавив шагу, направились вместе с Вальтером и Маргаритой к большому двору замка; оттуда вошли в маленький двор и поднялись по лестнице, ведущей к крепко запертым и хорошо охраняемым комнатам, где находились драгоценности короны.
— Мне страшно,— проговорила Маргарита, между тем как офицеры обсуждали, по какой лестнице им идти.
— Наверху перед комнатой, где хранится серебро, стоит часовой, и если бы воры подошли туда, то, наверное, был бы шум, тем более что там на стене висит фонарь,— заметил офицер.
— Сейчас все увидим,— отвечал адъютант.
Вчетвером они поднялись по лестнице, что вела в заднюю часть замка. Вальтер и Маргарита поспешно шли впереди, а офицеры замыкали шествие.
Дойдя до галереи, откуда лестница вела в комнату с серебром, Вальтер вдруг остановился: он ясно услыхал говор и движение и в тот же почти момент увидел в свете, падающем с верхнего этажа, тень человека.
— Вот они! — невольно воскликнул он и побежал к освещенной лестнице.
Маргарита, предчувствуя недоброе, пыталась его остановить, но было уже поздно — она не могла догнать его. Офицеры обнажили шпаги.
Черноголовый Карл первым услышал шаги и со своей частью добычи бросился вниз по лестнице. За ним следовал лейтенант Рейц со своей долей. Кастелян же никак не мог оторваться от сокровищ и только выходил из комнаты, когда Вальтер уже ступил на лестницу.
Как только лейтенант увидел приближавшихся людей, он перебросил добычу через левое плечо, а правой рукой схватился за кинжал. Вальтер бежал первым, офицеры с обнаженными шпагами следовали в нескольких шагах за ним. Лейтенант, который спускался навстречу сверху, имел явное преимущество и с проворством профессионала вонзил кинжал Вальтеру в грудь. Юноша, вскрикнув, скатился к ногам Маргариты. Убийца же, пользуясь общим замешательством, бросился в темную галерею вслед за Карлом.
Все произошло так быстро и неожиданно, что офицеры в первый момент не знали, что делать. Потом, оставив Вальтера на попечение молодой женщины, бросились вслед за скрывшимся лейтенантом. Кастелян решил воспользоваться этим моментом. Конечно, он захватил самые дорогие предметы и не мог оставить ни один из них, как бы велика ни была опасность. Когда офицеры бросились за бежавшими, Кастелян проскочил мимо Вальтера с Маргаритой в ту часть галереи, которая вела в маленький двор, где он рассчитывал спрятаться. Но громкие возгласы разбудили караульных, и Кастелян как раз попал им в руки. Он в отчаянии защищался, надеясь улизнуть, бросив добычу, но слуги крепко держали его и потащили назад. Тогда только они увидели девушку, склонившуюся над окровавленным молодым человеком, и услыхали голоса возвращавшихся офицеров; они вели с собой бывшего своего товарища, которого не знали или не хотели знать. Он отчаянно защищался, и его ранили в руку, а теперь он скрежетал зубами от бессильного гнева.
— Они так же виноваты, как и мы! — закричал он, побледнев от гнева, и указал на Маргариту и умиравшего Вальтера.— Я просто наказал негодяя.
В нижних коридорах лакеи поймали и третьего преступника. Подошли еще солдаты. Волнение возросло, когда на площадке лестницы нашли убитого часового и увидали, какое опустошение произвели разбойники в кладовой драгоценностей.
Офицеры тотчас велели доложить коменданту замка и камергеру о случившемся и, положив мешки с краденым в комнату, поставили у дверей караул.
Кастеляна связали, лейтенанта держал сильный гвардеец, а бледного от отчаяния Карла — двое солдат.
Галерея наполнялась любопытными; все хотели посмотреть, что случилось, и даже самые важные чиновники, служившие в замке, наскоро надев мундиры, прибежали к месту преступления.
Воровство удалось предотвратить, ничто не было унесено из замка; пострадало только драгоценное произведение искусства — мошенники распилили великолепную столешницу необыкновенной работы.
Кинжал лейтенанта попал Вальтеру прямо в сердце, кровь лила из раны, и умирающий едва мог собрать силы, чтобы проститься с возлюбленной, которая с душераздирающим плачем бросилась перед ним на колени.
— Все кончено…— проговорил он.— Прощай… Беги отсюда… Теперь некому защитить тебя… Я расстаюсь с тобой навеки…
С этими словами кровь хлынула изо рта умирающего.
— Боже! Помоги мне! — воскликнула Маргарита в отчаянии.— Он умирает!
Но никому не пришло в голову о них позаботиться: надо было спасать золото и серебро, а что значит перед этими драгоценностями ничтожная человеческая жизнь… Впрочем, Вальтер уже не нуждался в помощи… Он еще раз пришел в себя; видно было, с каким трудом он борется со смертью, чтобы произнести еще несколько слов. В минуту смерти любовь придала ему сил.
— Возьми эти деньги,— произнес он едва слышно, протянув девушке сбереженные им деньги,— они тебе пригодятся… Беги, умоляю тебя, беги в Париж… к принцу… он защитит тебя… негодяи захотят отомстить тебе за эту ночь и… вместе с собой погубят тебя.
— Что они могут мне сделать, мой дорогой Вальтер?
— Исполни мою последнюю волю… беги с этими деньгами в Париж… иначе я не умру спокойно…
— Клянусь, я исполню твою волю…
— Спасибо… Ступай… Прощай… Я тебя… невыразимо любил…
Последние слова он произнес едва слышно, Маргарита, рыдая, припала к нему, но увидела уже потухшие глаза. Так скончался этот благородный человек, единственный верный друг бедной Маргариты.
Кто-то грубыми руками оторвал ее от трупа, и она поспешила уйти в непроницаемую тьму ночи…