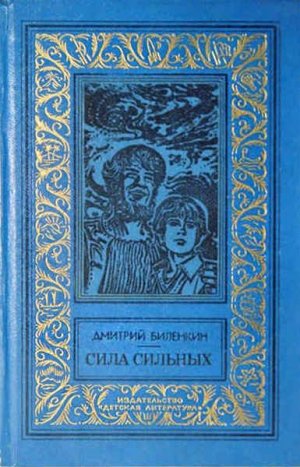
Сила сильных
…И пусть люди легкодумные полагают, будто несуществующее в некотором роде легче и безответственней облечь в слова, нежели существующее, однако для благоговейного и совестливого историка все обстоит как раз наоборот: ничто так не ускользает от изображения в слове и в то же время ничто так настоятельно не требует передачи на суд людей, как некоторые вещи, существование которых недоказуемо, да и маловероятно, но которые именно благодаря тому, что люди благоговейные и совестливые видят их как бы существующими, хотя бы на шаг приближаются к бытию своему, к самой возможности рождения своего.
Г. Гессе
1. БЕЗ ЗАПРЕТОВ
Он звёзды сводит с небосклона, он свистнет — задрожит луна; но против времени закона его наука не сильна.
А. С Пушкин
В передней едва слышно скрипнул замок. Спящий вскинулся. Тесная комната, сумеречный отсвет уличных фонарей, смутные очертания мебели — все было знакомо и неузнаваемо, как собственное, бледно туманящееся в зеркале напротив кровати лицо.
Скрип повторился. Кто-то упорно пытался взломать добротный швейцарский замок. Вскочив с постели, человек порывисто натянул одежду, выхватил из-под подушки пистолет, на цыпочках прокрался к двери. Может быть, все-таки вор? Обостренное чутье уловило слабый запах табачного дыма: за дверью кто-то курил. Не полиция — та вломилась бы с грохотом, и не вор, который, орудуя, не стал бы себя выдавать сигаретой. Обморочно бухнуло сердце, тело обомлело в липком удушливом поту. Вот так они и берут, так и берут, а затем… Любому мальчишке в городе было известно, что происходит с похищенными, как долго, мучительно кончают с ними ночные «друзья порядка».
Нет, только не его! Только не его! Обхватив книжный шкаф, он рывком вынес его в переднюю, стоймя привалил к двери.
Но это отсрочка, всего лишь отсрочка. Озираясь, он выскочил на балкон, перегнулся через перила. Лица коснулся ночной холодок. Десятый этаж, балконы друг под другом. Если повиснуть на руках и спружинить, то можно перемахнуть на нижний; ничего особенного, простейший прыжок с прогибом на высоте сорока или пятидесяти метров…
Он заставил себя перенести ногу через ограждение. Темный провал качнулся навстречу, дальние фонари расплылись дрожащими мутными пятнами. Судорогой свело пальцы. Он не может, не может, это не для сорокалетнего преподавателя университета!
Может. Только что он поднял тяжеленный, набитый книгами шкаф. Его тело точно подменили, у него, Антона Геза, никогда не было такого крепкого, уверенного тела, оно справилось с замешательством и, казалось, могло невозможное. Оно звало и приказывало: вниз, вниз!
Из передней донесся глухой шум. Это подстегнуло сознание. Он перевалил через ограждение, завис на руках, качнулся маятником и, когда ноги повело к стене, прыгнул. Мгновение — он уже стоял на чужом балконе, все оказалось очень просто. Для кого просто?
Размышлять было некогда. Вниз! Восьмой, седьмой, шестой, пятый этаж… Легкость, с какой он все это проделывал, напоминала сон. Но это не было сновидением: он ощущал металлический холод балконных перил и прутьев, ладони сдирали с них ржавчину, руки чувствовали надрывную тяжесть тела, ноги сгибались в толчке приземления, который болью отдавался в подошвах, на необъятном фасаде щерился льдистый отблеск оконных стекол, мимо которых он пролетал, и во всем этом была связность, какой не бывает во сне. Но как же он, не гимнаст, отнюдь не спортсмен, мог такое проделывать? Значит, мог, человек сам не знает своих возможностей.
При очередном прыжке нога задела цветочный горшок, с глухим стуком тот упал на цементный пол балкона и развалился. И, точно отвечая этому гулкому в тишине удару, из сонной и теплой глубины квартиры донесся звук спускаемого унитаза. Гез замер на полусогнутых ногах. Сквозь раскрытое окно он отчетливо слышал поспешно-неуверенные шаги вспугнутого хозяина и, как ни опасно было промедление, чуть не расхохотался: человек, прежде чем опрометью выскочить из туалета, добросовестно спустил воду!
Господи, только истерики не хватало… Он обезьяной скользнул на нижний балкон. Слава богу, уже второй этаж. Над ним, затеняя свет фонарей, нависала густая крона дерева. Земля скорее угадывалась внизу, до нее было… Да ведь это все равно что в пропасть!
Он прыгнул. Жесткий удар пронизал все тело, швырнул на вытянутые вперед руки, но все это было пустяком, Гез тут же вскочил, немного дрожали колени, только и всего.
Свободен!
Нет. Хлопнула дверь подъезда, трое в надвинутых шляпах, с гипсово-напряженными лицами, кинулись к месту, где он стоял. Гез рванулся вдоль стены здания. Улица в их власти, там они легко догонят его на машине. Только бы успеть — за аркой путаница двориков и тупиков и нет фонарей. Только бы успеть! Сейчас они будут стрелять. Не будут, он им нужен живым, чтобы выведать, выпытать… Будут, если им не удастся настичь. Господи! Стена тянется, тянется, как в кошмарном сне, когда бежишь и не двигаешься и нет этому конца.
Поворот, арка, мрак. Конец! Он нырнул в спасительную темноту. И вскрикнул. Двое устремились навстречу, бесшумно возникли из мрака, такие же черные, как этот мрак, такие же неодолимые, с жутким просверком щелочек белка на неясных лицах. Они умели захлопывать свои ловушки! К беглецу протянулись длинные, будто резиновые, руки, сзади уже грохотали башмаки преследователей.
И тут словно что-то вспыхнуло в Гезе. И взорвалось. Он ударил переднего, тот не успел шевельнуться. И с этим ударом пришло освобождение от страха, от наваждения, от всего. Он стал кем-то другим, не интеллигентом, не человеком даже, и для этого нового Геза пятеро врагов были ничем. Удар наотмашь, тело врага переломилось, первый уже оседал на асфальт; теперь обернуться, выхватить пистолет; три вспышки подряд, три пули, грохот в ушах, и все — он знал, что все уже кончено и можно бежать, даже идти, если захочется, потому что теперь уже ничто не может его остановить.
Он это знал и пошел спокойно, как через груду мусора, переступил через тела тех, перед кем трепетал город, перед кем он сам только что трепетал, и еще шагов сто шел спокойно, без мыслей, без чувств. А потом…
Его отбросило к какому-то заборчику, пальцы царапали шершавые доски, к горлу подкатывала тошнота, ночное небо вращалось черно звенящим колоколом.
Нельзя убивать.
Нельзя злоупотреблять силой.
Нельзя властвовать и подавлять.
О господи!
Небо кружилось все медленней. Гез поднял отяжелевшие руки, поднес ладони к лицу. На них была грязь и кровь, кровь и грязь.
Что с ним? Почему нельзя убивать? Этих выродков?!
Теперь он знал, что так можно и нужно, но от этого ему не стало легче.
Но разве перспектива такой борьбы когда-нибудь возмущала его совесть, разве в душе он не готовил себя и к этому? Готовил. Почему же сейчас он чувствует себя так, словно потерял родину, достоинство, честь?
Освобождение — вот оно, это слово! Первый же удар открыл в нем незнакомую темную силу, запреты рухнули, самое неожиданное — какая-то укромная частица его души упилась этой внезапной свободой вседозволенности.
Да, но что тут ужасного? Добро должно быть с кулаками — таковы условия, обстоятельства, это так же верно, как то, что сегодня шестнадцатое мая…
Шестнадцатое мая конца второго мегахрона.
С улицы донесся вой полицейской сирены. Гез вздрогнул. Что это за понятие — «мегахрон»? Сегодня шестнадцатое мая тысяча девятьсот… Господи, какой же сейчас год?!
Полиция!
Как он и ожидал, тело повиновалось ему безусловно, в нем была огромная, не до конца растраченная сила, словно не он, Гез, только что спустился с десятого этажа и голыми руками уложил двух бандитов, а потом застрелил остальных. Он бежал не глядя под ноги, знал, что бежит верно, хотя и не знал куда. Он был Гез, да, он был Гез, но тело было не его, и муки совести тоже были не его, точнее — не совсем его. Неужели все-таки наведенная снореальность?
Мегахрон, теперь снореальность. Антон Гез. В имени он был уверен, а вот Гез…
Он легко перемахивал через заборчики, мелькали темные хибары фавел, гудящие трансформаторные будки, в каком-то сарайчике взметнула коза, небоскребы центра неистово полыхали рекламой, ее радужный перелив высвечивал лужи у водоразборных колонок, все было знакомым с детства.
Кроме него самого. И он уже догадывался почему. Он сбавил шаг, свернул в какой-то грязный проулок. Это могло быть и здесь, где угодно, если догадка верна. Из темноты проступили очертания распахнутой, на одной петле держащейся двери. Он шагнул к этой перекошенной, чуть поскрипывающей двери. Грязь под ногами мерцающе заискрилась. И город исчез.
2. УГРОЗА С ПЛЕЯД
И город второго мегахрона, зачумленный ненавистью город, исчез, будто его никогда и не было.
Гез оказался в просторном помещении, одна сторона которого была распахнута сплошным проемом, оттуда лился золотисто-оранжевый колышащийся свет. Там, снаружи, в скальных берегах текла огнедышащая река, а над ней был хрустальный, похожий на льдистую лунную радугу, мостик.
Он вернулся домой, да, он вернулся домой. Это Земля, пятый век третьего мегахрона. Там тоже была Земля, но там был конец второго мегахрона. Прошлое того человека медленно удалялось, тускнело, таяло в памяти, но…
Он взглянул на свои руки. И не увидел ни крови, ни грязи. Но их след остался в душе. Самозапрет снят, он способен делать то, чего не должен, не может делать человек его эпохи. Все правильно, психоинверсия прошла успешно.
Он шагнул к обрыву, туда, где был жар и свет. Огненную реку подергивали муаровые разводы, они шевелились, воздух наполнял шорох, иногда жидкое золото вскипало, яркие узоры сплетались новой вязью, от лавы исходил грозный и величавый покой, мостик же парил невесомой радугой, холодной и чистой, слишком хрупкой для человека, и тем не менее — Гез это знал — по ней можно было пройти. Бездна завораживала, притягивала к себе; иной зов был в радуге, она возносилась над бездной, как мечта, как фантазия; а вместе, противореча друг другу, все гармонировало, и не было этому названия, просто хотелось стоять и смотреть.
И Гез смотрел. То есть не Гез, конечно, — Антон Полынов, кем он был в своем мире.
Что-то оттягивало карман. Пистолет! Вздрогнув, Антон вытянул из кармана этот аккуратный инструмент убийства и уставился на него, как на ядовитую фалангу. Он ладно лежал в руке, и первым намерением было зашвырнуть его в огненный провал, чтобы и следа не осталось. Но то наверняка была музейная вещь, и, поколебавшись, Антон засунул оружие обратно в карман.
Над жаром и светом пропасти все так же невесомо парил радужный мостик.
Третий мегахрон, повторял Антон как заклинание, третий мегахрон. Первый длился миллионы лет, человек и его предки жили охотой и собирательством, не знали расслоения на богатых и бедных. Второй мегахрон: двенадцать тысячелетий земледелия и скотоводства, ручные, на излете мегахрона машинные орудия труда, государство и классы. И пять веков третьего мегахрона, столетия осуществленного коммунизма.
«Я человек пятого века третьего мегахрона, — повторил он с облегчением и поспешностью. — Между мной и Гезом бездна столетий, его прошлое далеко от меня, как крестовые походы. Я знаю, как управлять всеми пятью состояниями психики, и не знаю, каково это — в страхе просыпаться ночью. Нет, знаю, теперь знаю, но этот страх надо изгнать. Страх, но не память о нем».
С усилием оторвав взгляд от золотистой, жаром и светом дышащей бездны, Антон прошел в дальний конец помещения, где, как он и ожидал, находился терминал кибертрона, мысленно отыскал незанятую ячейку производства, выбрал самую простую и грубую работу, какая только была, прошелся пальцами по клавишам контактов и закрыл глаза. Мгновение — и он стал тем, что и присниться не могло Гезу конца второго мегахрона, когда люди уже научились быстро менять вещный мир, но еще не умели преобразовывать свой внутренний. Он был на Марсе, видел освещенные маленьким и холодным солнцем разломы бурых пластов, видел и то, что в них скрыто; напрягая мускулы, он десятками мощных фрез вгрызался в неподатливый камень; мозг управлял ансамблем этих машин и в то же время был им самим, единоборствуя с горой, ощущал все, что ощущали их персептроны, — и подступающую из недр темную воду, которую надо было убрать, и направление рудных жил, и сопротивление дробимого на атомы вещества, и напряжение сепарационных полей, и неподатливость смещаемых скал, и многое-многое другое, чему в конце второго мегахрона не было даже названия. Работая так, человек восстанавливал некогда утраченное единство с предметом труда, преодолевал былое, столь вредное для мускулов и психики отчуждение от него, мог все делать сам с начала и до конца, на любом изделии оставляя чекан своей личности, и это не было самообманом. Конечно, киберы могли работать и сами, но не так — хуже, человек вкладывал в их труд свою выдумку и изобретательность, свой артистизм, отчего всякая работа преображалась, а для человека она, в свою очередь, была тем, чем для мифического Антея была земля, — в соприкосновении с ней он черпал силу.
Со вздохом удовлетворения Антон наконец отключился от кибертрона, холодные разломы Марса постепенно ушли из его сознания. Мускулы слегка ломило, но это была приятная рабочая усталость, сознание очистилось и посвежело, теперь он был готов к дальнейшему.
И эта его готовность сразу нашла отклик. Стена раскрылась, как полог шатра, вошел человек в строгом фиолетовом симоно. Гез далекого прошлого не дал бы ему более пятидесяти лет, но Антон видел признаки по крайней мере трех обновлений, и стройная осанка, мускулистая крепость обнаженных рук, изменчивая, как ток воды, ясность. глаз на едва тронутом морщинами лице не могли ввести его в заблуждение — возраст вошедшего приближался к полутора векам. Небрежным движением старик закрыл Огненную реку и, пока проем затягивался, образовал в углу камин с аккуратно уложенными поленьями, и они жарко занялись, как только он повел над ними ладонью. Затем, все еще не глядя не Антона, старик опустился на скамейку, которая будто выскользнула ему навстречу из пола. Антон поймал себя на том, что смотрит на это отчасти глазами человека прошлого, кем он недавно был, и обыденное творение наружной стены, камина, мебели вызывает в нем детское ощущение чудесного. Хотя что может быть обычней и проще власти над улавливающим желания материалом эмбриодома!
— Садись.
— Знаешь, Аронг, мне почему-то хочется стать перед тобой навытяжку.
— Понимаю. — Морщинки звездочками стянулись к уголкам сек, Аронг улыбнулся. — Хорошая психоинверсия. Все-таки садись.
Антон сел на тут же выросший под ним табурет и, пока садился, не без удивления отметил, что его и Аронга лексика изменилась, даже голоса звучали иначе. Впрочем, так и должно было быть, теперь он обязан говорить иначе, и Аронг помогает ему освоиться с этим новым и непривычным состоянием. Все было правильно, но от сознания этой правильности Антону стало так неуютно, что он придвинулся ближе к Аронгу, единственному, кто его сейчас мог понять.
— Вопросы есть? — Старик будто и не заметил его движения.
— Только один. Понимаю, ситуация инверсии должна была быть однозначной, но почему именно конец второго мегахрона?
— Каждый повторяет кого-нибудь из своих предков не только чертами лица. Оказалось, что тебе ближе всего по духу Андрей Полынов, который жил в конце второго мегахрона и, как свидетельствует история, не дал разгореться Соларнийскому безумию.
— Ясно, больше вопросов нет.
Аронг вопреки ожиданию, казалось, не торопился. Он сидел выпрямившись, но шевеление теней углубило его морщины — сейчас он действительно выглядел старым. Древние сполохи огня, уютное потрескивание поленьев создавали иллюзию, что время повернуло назад, что оно, как прежде, сулит радость долгой беседы человека с человеком, неважно — знакомым или незнакомым. Увы! Теперь он, Антон Полынов, наследник и продолжатель дела своего знаменитого предка, надолго (может быть, навсегда) будет лишен этой радости.
О том же, вероятно, подумал Аронг, его спокойные, лучащиеся светом глаза потемнели, как озеро перед ненастьем.
— Теперь о деле. — Он зябко потер протянутые к огню руки. — Антон Гез, да, Антон Гез, будущий джент Империи. Вы готовы к второй инверсии, ты не передумал, Антон?
— После того как снял самозапрет? Отказа не будет. К чему лишние слова?
— На Плеядах говорят многословно. Привыкай. Для тренировки пространно, в духе второго мегахрона, изложи возникшую ситуацию.
Антон задумался.
— Она сложна и проста одновременно. Проблема возникла на рубеже третьего мегахрона, когда был открыт Д-принцип и дальние звезды стали легкодоступными. Началось быстрое освоение иных планетных систем, человечество действительно вышло из своей земной колыбели. Но где свет, там и тень. Распахнутостью Галактики воспользовались и те, кого не устраивал торжествующий порядок социального обновления. Терпя поражение на Земле, они подались в космос и, объявив себя фундаменталистами, единственными хранителями «извечных ценностей человеческого духа», создали в Плеядах свое государство. Эволюция раздвоилась. Федерация, затем Империя Плеяд, отгородилась от Союза Звездных Республик, там история пошла иной дорогой. Нам это не мешало, в Галактика достаточно места для всех. Пожалуй, человечество даже выиграло, избавившись в переломный момент от стольких консервативных и еще опасных элементов. Так, наше соседство с фундаменталистами могло бы длиться и дальше. Однако сейчас все резко и угрожающе изменилось. При раскопках на одной из своих планет фундаменталисты обнаружили давнюю базу Предтеч, в ней оружие. Или нечто, способное быть оружием. Оно действует! Вот все, что мы о нем знаем: первое случайное включение, один-единственный импульс смахнул с планетарной орбиты луну покрупнее нашей. Все, далее из их передач исчезло всякое упоминание о находке, зато — факт тревожный и красноречивый — началось разжигание страстей, имперцам настойчиво внушают, что их предки бились за счастье всех миров, что наше коварство беспредельно, что «дьявол и бог» сосуществовать не могут, что «кровь и почва» взывают и что мы, вынашивая зловещие планы, готовим одну звездную эскадру за другой. Вывод: сделана ставка на оружие Предтеч. Его возможности? Способ действия? Перспектива массового воспроизведения? Степень угрозы? Полная неизвестность. Но раз нет ни одного враждебного поступка, то послать разведчиков — значит, выступить против самих себя, против морально-этических норм, которые для общества то же самое, что совесть для отдельного человека. А не послать — значит, остаться в неведении. Как же пройти по этому «лезвию бритвы»? Я вызвался снять самозапрет, вызвались и другие; потребуют обстоятельства — мы пойдем до конца. Но когда? Отчасти я уже понял человека далекого прошлого, отчасти я уже стал им, и знаешь что? Собственная сила, наша сила, представляется мне теперь бессилием. Надо делать то, что без колебаний делали наши предки. И немедленно, иначе будет поздно!
— А ты уверен, что наши предки не испытывали колебаний в выборе средств?
Сказано было без упрека, но Антон вздрогнул, как от укола.
— Извини, — прошептал он. — Будь наши предки неразборчивы в средствах, нас, таких, конечно, не было бы! Я сказал глупость.
— Не стоит извиняться, инверсия даром не проходит. Второе замечание: ситуацию ты обрисовал верно, однако патриции, одним из которых тебе придется стать, обычно говорят извилисто. Теперь о предстоящем. Ответ на твои сомнения — вот.
Откуда-то из складок симоно Аронг вытянул шарик, своим цветом и размытыми очертаниями похожий на сгусток черной мглы или дыма. Покачиваясь, шарик замер на раскрытой ладони.
— Что это?!
— Спутник-шпион. Невидимка, которого очень трудно найти. Но мы предполагали, что он должен появиться, искали тщательно и, как видишь, нашли. Это не единственный, надо думать. Поэтому то, что мы сидим возле камина, — Аронг грустно улыбнулся, — не случайно. И кибертрон сейчас отключен, и все прочее. Еще два-три шага в том же направлении, и мы, боюсь, очутимся в пещерах. Что делать, наш разговор не для плеядцев.
— Но зачем, зачем им спутники-шпионы?! Они же знают, что у нас нет общественных секретов, только личные!
— Знают, но не верят, потому что общество, как и человек, судит о других по себе. Они и помыслить не могут, что ваша подготовка — частная, если так можно выразиться, инициатива всего нескольких граждан Союза и потому не подлежит оповещению. Совет это учел… тоже в частной беседе. Да, сила или моральна, или губительна, третьего не дано, и в некоторых ситуациях это приводит к тяжелым противоречиям.
— Но коль скоро они прибегли…
— Да! Сила действия равна силе противодействия, этот закон пора подтвердить. Время познакомить тебя с остальными. Входите!
3. ЛЮДИ КОЛЬЦА
Они вошли и молча уселись, все трое. Никто особо не выделил Антона, однако он уловил напряженный ток их внимания к себе и, в свою очередь, попытался вникнуть в их сущность. Ничего не получилось, каждый закрылся наглухо, словно уже был на Плеядах, и Антон увидел лишь то, что видели его глаза.
Старший мужчина вызвал бы повышенный интерес в любой компании людей третьего мегахрона. Он был приземист, крепко сложен, но сутуловат. Невозмутимый взгляд матово-карих глаз часто обращался внутрь себя, похоже, нить углубленных размышлений не прерывалась, даже когда незнакомец глядел прямо на собеседника. И что куда поразительней сутулости — его смуглое с твердыми скулами лицо окуривал дымок коротенькой и изогнутой трубки.
— Там курят, — небрежно пояснил он и уселся, как само воплощение спокойствия.
Второй человек показался Антону мальчиком. Но то был пигмей, самый настоящий пигмей, из тех, кто до конца второго мегахрона жил охотой в глухих джунглях Африки. Однако чуть голубоватый оттенок кожи выдавал в нем ригелианина по крайней мере третьего поколения звездопереселенцев.
Но больше всего Антона поразила девушка, ее тонкой красоты лицо, грациозное в каждом движении тело ребенка, которое невольно хотелось защитить от порыва ветра, таким хрупким оно казалось. Так могла бы выглядеть фея, но фея жгучего юга, лесной дух Индостана с черными, как ночь, трепетными глазами грустной волшебницы. Через плечо девушки был переброшен иллир, самый магический инструмент из всех придуманных человечеством.
«Странно, — в замешательстве подумал Антон. — Вот уж кому здесь не место! Ей бы стоять на радужном мостике и перебирать струны иллира…»
Ответом ему был гневный взмах пушистых ресниц.
— Меня зовут Ума, и ты неправ. Кто из нас менее подходит — ты, не сумевший закрыться, или я, тобой не понятая? — Узкая ладонь девушки корабликом подалась от груди. — Прими объяснение. Я из касты париев, самой нищей, самой отверженной, какая только была на Земле. Тень наша оскверняла пищу брахмана и его самого он к себе в дом не мог войти после этого без должного омовения. Нас, новорожденных, мать заталкивала в нору своего пристанища, засыпала сухой травой, приваливала камнем, чтобы младенца не заели комары, мухи, крысы. Молоко у несчастной кончалось через месяц-другсй, нашей едой становилась кашица из кореньев. С шести лет и раньше мы, девочки, кроме работ, начинали ублажать мужчин и нетерпеливых мальчиков. Так длилось свыше трех тысячелетий. Что перед этим века нашего мегахрона! Выносливей нас нет никого. Может быть, твое прошлое было лучше, а мы своего не забыли, и у нас свой счет к фундаменталистам!
— Прости, — смущенно и растерянно ответил Антон. — Сейчас мои чувства Открыты, видишь, в них не было желания обидеть.
— А только незнание, — Ума кивнула. — Вижу и принимаю. Скажу больше: сестрой тебе я могу стать и без кольца.
— Это невозможно!
— Для Умы возможно, — возразил Аронг. — Называю ее подлинное имя, потому что оно будет тем же самым и на Плеядах. Остальные представятся сами.
— Джент Лю Банг, чимандр философского ранга, к вашим услугам, — сутулый мужчина вынул изо рта трубку и с достоинством поклонился.
— Юл Найт, сын первопатриция, — озорно подмигнув, пигмей скучающе и расслабленно потянулся в кресле. — Балованный мальчишка, и ничего больше. Там, на Плеядах, буду выглядеть лилейно-белым представителем высшей расы, Уму при встрече заставлю плясать, а всякого там чимандра… Кстати, какова этимология слова «чимандр»?
— Слово «чимандр», — невозмутимо ответил Лю Банг, — произошло от скрещения понятий «чиновник» и «мандарин», причем под последним отнюдь не следует понимать фрукт, поскольку в данном случае имеется в виду древнекитайский сановник, названный так португальцами из-за смыслового сходства с санскритским «мантрин», советник. Надеюсь, мой ответ удовлетворил достопочтенного сына первопатриция.
— Объяснение без поклона, что напиток без стакана, — высокомерно произнес Юл. — Вообще в нашем роду не любят всяких там ученых, философов, поэтов и прочих умствующих служак, а уж желтомазых тем более. Но я, подросток, еще не очень осведомлен в тонкостях крови и иерархии, поэтому прощаю. Вот баядерочка, дело иное. Эй, ты, сладенькая, повесели!
Рука Антона дернулась, он понял, что способен, уже способен непроизвольно ударить наглеца, но гнев тут же сменило восхищение тем, как ловко Юл приноровился к своей отвратительной маске. Выходит, опередив его, они уже прошли вторую инверсию, которая позволяет человеку быть не тем, кто он есть. Глаза Умы тоже вспыхнули возмущением, но тотчас стали покорно умиленными, как у собачки, которую поманил хозяин. С податливой улыбкой обещания девушка сняла с плеча иллир, вынула из футляра мерцающий перламутром и хрусталем инструмент, лицо ее сделалось строгим, сосредоточенно замершим, точно рельеф темной бронзы. Превращение было столь же мгновенным, как и движение пальцев по клавишам и струнам иллира. Возник долгий певучий звук такой красоты и силы, что с лица Юла сама собой спала ухмылочка шалопая, Антон невольно подался вперед, а Лю Банг выронил трубку. Никогда ничего подобного Антон не слышал. Завораживающий звук креп, ширился, рос, охватывая собой все видимое и скрытое, казалось, сам воздух стал опаловым, осязаемым, текучим. Ума тряхнула головой, ее волосы черным пламенем заскользили по голым плечам, губы выдохнули:
— В круг, в круг!
И то же самое приказала мелодия. Антон, Юл Найт, Лю Банг повиновались. Аронг отступил в тень и будто растворился за мерцающей завесой, теперь их осталось четверо. Образовав круг, они сидели, почти касаясь друг друга коленями, и ничего уже не стало, кроме видений музыки, кроме них самих, кроме отблеска огня на их лицах. Переливы стали громче, трепетней, осязаемей, тонкое лицо Умы напряглось, темно-сияющие глаза стали еще огромней, еще черней, они не видели ничего и видели все, а пальцы скользили по иллиру все быстрее, быстрее, пока вибрирующие струны и сам иллир не подернулись смутно искрящейся дымкой.
И тогда возникло Кольцо.
Оно повисло между сидящими, светло-огненное, размыто пульсирующее. От каждого на Кольцо словно падала тень, и там, где она была, свет тускнел, в каждом месте по-своему; иногда казалось, что эти затемнения хотят исчезнуть, раствориться в золотистом ритме Кольца, но что-то упорно мешало этому. Голос иллира стал тише, нежнее. Левой рукой Ума коснулась Кольца, превая, как прежде, порхала над струнами. Брови девушки сошлись к переносице, взгляд застыл. Пульсация света стала ровней, мерное движение ладони словно разглаживало биения, невольный вздох разом прошел по сидящим, все взялись за руки, только Ума осталась вне круга. Ее губы беззвучно шептали, но слова отдавались в каждом.
Зла раскрылись очи, очи,
Веет холод ночи, ночи,
Души слабеет твердь, твердь,
Подступает смерть, смерть,
Стань светлее, круг, круг,
Ближе, ближе, друг, друг,
Вглядись в его лицо, лицо,
Крепче стань, Кольцо, Кольцо!
Больше нет помех, помех,
Ты узнаешь всех, всех,
Скинь сомнений груз, груз,
Крепче нету уз, уз!
В тебе душа моя, моя,
Во мне душа твоя, твоя,
До скончания годин, годин,
Ты отныне не один, не один,
С тобою всюду Круг, Круг,
С тобой навеки Друг, Друг!
С последними, такими детскими, наивными, как заклинание, словами Ума замкнула цепь протянутых рук. Кольцо засияло ровным блеском, взмыло над головами, в его свете на миг померкло все окружающее. Тело Антона сделалось невесомым, блаженным, а когда зрение и тяжесть вернулись, он обнаружил себя под звездно-распахнутым небом босым и нагим мальчишкой среди росного луга над обрывом смутно неподвижной реки, в которой двоилось звездное небо. И он был там не один. Обнявшись, плечом к плечу, они стояли вокруг бестрепетно горящего костерка, трое мальчиков и девочка, и он был ими и они были им, и не было большего счастья вот так стоять и смотреть на их лица, и вдыхать свежий запах трав, и чувствовать тепло огня, и слушать безмятежную тишину земли, и видеть вселенную над собой, и ощущать тревожную, но не властную над ними близость омута, в котором застыл звездный сполох Стожар, таких далеких и таких уже близких Плеяд. Было спокойствие земли и было спокойствие сомкнувшихся тел и душ. Он знал всех троих как самого себя, и они знали его, они стали ближе, чем братья и сестры, ближе, чем возлюбленные, и, чувствуя себя беззаботными детьми, все четверо знали, что им предстоит, и словно общий ток крови пульсировал в их телах. Крепче связи не было и быть не могло. Там, на Плеядах, их путь разойдется, каждому, возможно, не раз придется сменить лицо, тем более имя, все равно теперь они мгновенно узнают друг друга в любой одежде, в любом облике, найдут друг друга, как бы далеко их ни разнесло, всегда будут точно пальцы одной руки, готовой, если потребуется, мгновенно сжаться в кулак, вот эти мальчики и эта девочка, дети Земли, дети человечества, в последний раз собравшиеся вместе, час назад совсем не знающие друг друга, а теперь нерасторжимые — пока дышат, живут, надеются.
Их объятия длились, и с ними был миллионы лет назад зажженный их предками огонь костра, была вечная земля и вечное небо, и росный запах травы, и неподвижно струящаяся река, все, чем жил и будет жить человеческий род, какие бы звезды над ним ни светили.
Так продолжалось, может быть, мгновение, может быть, век. Наконец Ума медленно-медленно убрала руки с плеч товарищей, худая грудь малышки опала в Протяжном вздохе, и все кончилось сразу, они очутились перед полупотухшим камином, у ног девушки лежал забытый иллир, и она, точно просыпаясь, нагнулась к нему.
Все четверо не обменялись ни словом, они больше не были, нужны им, только Юл едва заметным движением погладил иллир.
Из темноты выдвинулась фигура Аронга.
— Последнее напутствие вам, а может быть, самому себе. Он помедлил, зорко вглядываясь в их лица.
— Вскоре вас уже не будет здесь, а население Плеяд увеличится на четверых. Не ваша забота, как это произойдет, каким образом мы впишем в память искинтов все данные о вас, словно они были там изначально. Не это существенно…
Нахмурившись, Аронг взбил догорающие поленья, и отсвет углей, прежде чем они вспыхнули, налил его глаза краснотой. «Совсем как у нечка, — содрогнулся Антон. — Совсем как у нечка».
— Важно другое, — Аронг выпрямился. — Вам уже пришлось нелегко, когда вы сбрасывали запреты, чтобы не выделяться среди обитателей Плеяд и быть готовыми ко всему. Там придется еще трудней — вы знаете это. Было ли у вас, однако, время задуматься над менее очевидным? То, чем мы живы, может обернуться против нас, и противник на это рассчитывает. Мы выглядим слабыми не только потому, что у них есть новое сверхмощное оружие, а у нас его нет. И даже не потому, что древние навыки войн нами изгнаны и забыты. Корень глубже. Сила социального зла в том, что оно не знает никаких запретов, тогда как все ему противостоящее обязано выбирать средства, иначе оно выродится в неменьшее зло. На первый взгляд такое самоограничение пагубно, однако вся наша история доказала, что вне морали победа недолговечна, тлетворна и обратима и что за внешней слабостью добра скрыт источник неодолимой силы. У вас не только задача все узнать о новом оружии. Куда важнее, чтобы там, на Плеядах, поняли, у кого настоящая сила. Докажите ее! Отрезвите их, тогда и бойни не будет. Безоружные, опрокиньте вооруженного, вы можете и должны это сделать!
4. ОТЕЦ И СЫН
Маленький, едва в половину солнечного диск Альциона клонился к закату, но яркий бело-голубой блеск светила еще не ослаб, прямолинейная, до самого горизонта, геометрия улиц и площадей Авалона была залита им, так что даже густые синие тени ничего не скрывали внизу; башни, пики, спирали и купола зданий, возвышаясь, расточали этот неистовый свет алмазным сверканием граней и завитков, а дома победней сахарно белели там, где их не накрывала тень небоскребов. Те же яркие лучи Альциона обдавали человека на открытой веранде, который, выпятив нижнюю губу, в задумчивости смотрел на столицу Империи, словно вся она была огромной, только ему понятной шахматной доской, на которой складывалась незримая для чужих глаз сложная и волнующая позиция. Ручной вышивки, с золотыми драконами, изрядно потертый в локтях халат был небрежно распахнут на беловатой груди, как если бы человеку было решительно наплевать, видит ли его кто в этой затрапезности или нет, хотя в отдалении возвышался дворец самого Падишаха, и его телескопические окна были нацелены во все стороны.
— Аджент Эль Шорру с назначенным свиданием его сын Ив Шорр. — Донесся шепот элсекра.
Эль Шорр машинально взглянул на часы: все правильно, сын прибыл с военной точностью.
— Пусть войдет.
Выражение его лица не изменилось, когда он, тяжело ступая, вошел в тень помещения, но как только наружная дверь комнаты заскользила вбок, хмурость тотчас сменилась отеческой улыбкой, которая сделала его рыхлое лицо домашним, почти добродушным.
— Входи, входи, капитан. Уже капитан! Славно, мой мальчик, так и надо.
Казалось, он при этом забыл, что своим быстрым продвижением сын обязан прежде всего ему, и с восхищением оглядел рослую фигуру своего отпрыска, его мундир, в наплечьях которого над искрящейся спиралью галактики вспыхивали скрещения голубоватых молний. Ив чуть смущенно улыбнулся в ответ. Так секунду-другую они стояли друг против друга.
— А твоего слугу надо прибить, — отец ласковым движением снял с рукава мундира пушинку.
— А что надо сделать с твоим нечком, чтобы у первого советника Падишаха появился новый халат? — в тон ему ответил Ив. — Смотри, уже засалился.
Ответом было величественно-небрежное движение, которое пуще слов и внешних знаков отличия наполнило Ива гордостью за отца, ибо власть, пренебрегающая правилами этикета, выше той, которая их устанавливает.
— Проходи и садись.
Отец легонько подтолкнул сына в плечо, но прежде чем сесть самому, щелчком пальцев включил «звуковой шатер». Раскрытый проем веранды тотчас затянула дрожащая пелена воздуха.
— Предосторожность против земляшек? — удивился Ив. — Здесь, в твоем кабинете? Ого!
— Землянам, чтобы слышать, сначала надо отрастить уши. Так, твое повышение следует отметить, — Эль Шорр протянул руку к антикварному бару, который, раскрывшись, заиграл марш «Всех святых». — Твое здоровье!
— Твое, отец!
— Сами мы себя выдумали или кто-то выдумал нас, вот в чем вопрос… — ставя хрустальный стаканчик, пробормотал Эль Шорр. — Кому-то когда-то реклама внушила, что истинный джент всем напиткам должен предпочитать шотландское виски, и надо же! Мы подчиняемся ритуалу, как нечк окрику. Ладно, все это пустое. Покажи-ка мне свою «жужжалку».
Пушистые, как у матери, ресницы Ива недоуменно дрогнули. Помедлив, он расстегнул нагрудный карман и достал оттуда похожий на старинную пулю цилиндрик. Заостренный конец цилиндрика тлел рубиновым огоньком. Эль Шорр нажал на торец, огонек погас. Косясь на скрытый в столе детектор, прислушался; его лицо, которое льстецы называли львиным, подобралось.
— Все в порядке, — сказал он отрывисто. — Они вполне могли всадить в аппарат еще и записывающее устройство.
— Они… Кто они?
— Стражи порядка. А может, не стражи, любителей хватает.
— Отец, что произошло? Ты говоришь такими загадками…
— Эх, мальчик, это разве загадки! Рутина, обыденность, фон. Налей-ка еще. Ну за что теперь выпьем? За успех, разумеется, за успех!
— За успех войны?
— И за это тоже. За наш успех! За нашу с тобой победу!
— Прости, я что-то не совсем…
— Скажи «я ничего не понимаю», так будет точнее и откровенней. Что ж, пора тебе показать мир без иллюзий.
Казалось, Ив хотел что-то возразить, но набрякшие веки отца приподнялись, и с колыбели привычный, такой любящий и осязаемо-тяжелый взгляд прижал его к сиденью.
— Если ты знаешь слова команды и звездную навигацию, то это еще не значит, что ты знаешь жизнь. Я не торопился знакомить тебя с ее изнанкой, но время, время! Время и обстоятельства. Ты гордишься и своим мундиром, и своей принадлежностью к роду первопатрициев. Но ответь мне, кто они такие?
— Потомки отцов-основателей, — выпалил Ив. — Элита человечества, которая не захотела терпеть разнузданную толпу и создала здесь общество избранных.
— Великолепно! Твой ответ патриотичен, прекрасен и глуп. А первая заповедь сильного — никакого самообмана! Тебе пора знать, что наши предки бежали с Земли, как бегут от землетрясения, от гнева божьего, от чумы.
— Догадываюсь, — Ив держался как офицеру положено, даже прямее обычного, так ему хотелось изгнать парализующий холодок тревоги. — Я давно подозревал это.
— Каким образом?
— Все-таки я ваш сын…
Откинувшись, Эль Шорр внимательно глянул на Ива.
— Достойный ответ, достойный! Что ж, тем проще…
— Но это не значит, что отцов-основателей не было! — пылко воскликнул Ив. Голубая жилка набухла под тонкой кожей его виска. — Ведь кто-то же создал все это! Неважно, бежали они или осуществляли великую миссию, важно, что они своего добились. И мы, их наследники…
— Кого именно? — взгляд Эль Шорра похолодел. — То была на редкость пестрая и сволочная компания.
— Сволочная?
— Еще бы! Владыки финансов и мафия, легионеры последних войн и пейзане с их наивной мечтой о девственных почвах, фанатики нацизма и расизма, адепты всех религий, чистые и нечистые, кого только не было! Конечно, со временем выделились настоящие люди, они-то, покончив со всякой шушерой, и навели порядок. Никаких прежних ошибок, никакой болтовни о равенстве, тем более никаких «угнетенных масс», благо наука и техника позволили отстранить людей от производства. Киберы и нечки, нечки и киберы, они безопасны. Земляне? Могущественные, но погрязшие в самоусовершенствовании, они до поры до времени безобидны. Значит, что? Живи и наслаждайся жизнью, так выходит? Так или не так?
— Отец, но при чем тут наши предки?!
— "И будешь ты проклят или облагодетельствован до седьмого колена"… Основной закон жизни тебе, надеюсь, известен?
— Побеждает сильнейший, — Ив выпрямился. — Если бы я этого не знал, то был бы недостоин…
— Тебя скушали бы, вот и все. Ты гордишься своим перво-патрицианством, древней знатностью своего рода. А известно ли тебе, кем был его основатель? Драконщиком главаря «Триады», его рабом и слугой!
— Раб желтома…
— Да! Они было оседлали нас, этот эпизод тщательно вытравлен из истории. Выпей, выпей, я тоже рыдал в стакан, когда твой дед просветил меня насчет нашего «благородного происхождения». Хочешь палочку? Нет? Правильно, не стоит привыкать…
С этими словами Эль Шорр выхватил из кармана обмусоренную палочку смолы эф и, сдернув колпачок, нюхнул ее. Взвился коричневый дымок, ноздри Эль Шорра расширились и затрепетали.
— Так! — сказал он порывисто. — Одни хотят захватить власть, другие — ее удержать, так было и будет, и нет ничего нового под солнцем, даже если это солнце Плеяд. Каждый день и час я веду борьбу, о которой ты не имеешь понятия, и в ней если не я, то меня. Все понял?
Ив кивнул. Флотские интриги, косые взгляды, внезапная любезность начальства, льстивое заискивание подчиненных, нередкие спьяну заверения в дружбе иных офицеров — все, что он отметал, как мусор, предстало перед ним в новом свете и даже не поразило, словно он давно был готов к этому новому пониманию людей и лишь отдалял, сколько мог, тягостное прозрение вроде ребенка, который в разгаре увлекательных игр не хочет замечать докучливых взрослых с их трезвым порядком и знанием, что почем. Хотелось закричать: «Не надо, я не хочу!». Но то был вскрик детской жалости к самому себе, желания возврата к былой беззаботности, Ив подавил его.
— Продолжайте, — сказал он ровным бесцветным голосом. — Вы мой отец, я ваш сын. Кто наш враг?
— Не кто, — голос Эль Шорра дрогнул, — что. Вот я достиг многого, и ты, надеюсь, достигнешь не меньшего. А чем все закончится? Ничем. Небытием. Смертью! Ничего не станет, даже боли и ужаса, ты можешь это понять?! Нет. Молодость мнит себя бессмертной, обычная уловка биологии, но спадет пелена и… — скрюченные пальцы Эль Шорра сжались. — Человек мотылек-однодневка, которого все хотят слопать, жизнь — судорога перед небытием, и ничего больше! Все, все хотят заслониться от этой беспощадности, а выбор средств невелик. Стать животным, растением, чтобы не мыслить, не чувствовать, не знать. Уйти в грезы наркотиков или фантоматики. Раствориться в обыденности, утешить себя религией или сладенькой философией. Наконец, заполнить жизнь наслаждением, выжать ее до капли, всю, а там — пропади пропадом! Ничего другого никто не нашел, что бы там ни мычали земляшки. И они тоже смертны! Бездарь и сволочь наделил нас всепонимающим разумом, бездарь и сволочь, неважно — природа это или бог!
Эль Шорр раскраснелся, глаза налились лютым ненавидящим блеском, халат распахнулся, открыв вспотевшую грудь. «Нет, нет! — жалея и ужасаясь, откинулся Ив. — Он так не думает, так нельзя жить, должен быть выход…»
— Но сильный отличается от слабого тем, что находит выход, — голос Эль Шорра стал жестким. — Его-то я и приберег для нас. Поверь моему опыту: все чепуха, кроме одного — деятельности! В принципе неважно какая, лишь бы поглощала без остатка, чтобы ни секунды, ни мысли свободной. Ты разочарован? Подожди, это даже не присказка… Очень скоро я понял, что есть деятельность главная, высшая, в которой чувствуешь себя не тварью дрожащей, а богом. Да, богом! Повелевание людьми, игра их судьбами — вот что божественно. Допустим, бессмертие нам не дано, но всемогущество… Сейчас я тебе кое-что покажу.
Эль Шорр встал, шлепая матерчатыми туфлями, подошел к двери и было протянул палец к кнопке.
— Черт! Старею, забыл о «шатре»…
Он отключил «шатер» и лишь тогда нажал кнопку,
— Эй, там, приведите!
Едва он опустился в кресло, как дверь раскрылась и на пороге возникла девушка, от красоты которой у Ива перехватило дыхание. И не только от красоты.
— Так ведь это же, это…
— Дэзи Грант, прелестнейшая актриса землян, так восхитившая тебя, когда мы смотрели ролик с ее участием! Подойди, малютка.
Стройная фигура девушки колыхнулась в движении, и словно музыка затеплилась в душе Ива, когда она сделала этот шаг, так легок он был, и вся она в воздушном очертании белого платья показалась ему трепетным огоньком самой жизни, который так зыбок, так мал, так открыт черному ветру смерти и так способен все осветить радостью. Фатой наброшенная вуаль скрадывала черты ее лица, сообщала им недосказанность, а смазанная синева детски беззащитных глаз пронизывала робкой мольбой и обещанием то ли счастья, то ли покорности. Чувства Ива вскружились, все прошлое вдруг стало мелким и несущественным, он замер, не в силах поверить, боясь, что светлый призрак исчезнет.
— Ближе, малютка, ближе, — приказал Эль Шорр. — Стань на коленочки.
Повинуясь, девушка склонилась перед ним, колени коснулись ковра, ворсинки примялись под ее легкой тяжестью. Ив вскрикнул — живая Дэзи! Но как, откуда?!
Эль Шорр с улыбкой протянул руку.
— Целуй.
Грудь девушки всколыхнулась. Плавным послушным движением она приподняла вуаль, губы приникли к руке, на лице застыла одубелая улыбка покорности.
Ив вскочил.
— Это же нечка! Не надо! Не надо!.. Нечка! Голубоватые молнии сверкнули ка его плечах, отталкивающее движение рук перекосило шеренгу мундирных пуговиц на груди.
— Увы, это действительно нечка, — рассеянным движением Эль Шорр отпихнул девушку, она качнулась и замерла все с той же одубелой улыбкой на юном и прекрасном лице Дэзи Грант. — Мне захотелось сделать тебе небольшой подарок, но ты, я вижу, не рад. И я тебя понимаю. Внешнее воспроизведение совершенно, все как у настоящей Дээи Грант, она также может смеяться, когда ее любят, и плакать, когда ее бьют, но все это механически, без души. Андроид он и есть андроид.
— Папа, убери ее, убери! Спасибо за подарок, но…
— Но тебе нужна настоящая Дэзи? Звездочка с неба, да? — Эль Шорр рассмеялся. — Пошла вон! — крикнул он девушке. — Эй, вы, там, сделайте ей обычные красные глаза нечка.
Девушка вскочила и пошла — нет, заскользила невесомой походкой Дээи. Ив отвернулся.
— Ничего, — лицо Эль Шорра стало серьезным и властным. — Скоро, надеюсь, ты сможешь поставить перед собой оригинал. Сядь, успокойся и слушай. Это все мелочи…
5. СЕТИ ЗАБРОШЕНЫ
Эль Шорр снова включил «звуковой шатер», и в проеме веранды, как прежде, заструился мерцающий воздух. Ив залпом осушил стакан и не почувствовал вкуса. Эль Шорр смотрел на него с ласковым сожалением и суровой нежностью.
— У мужественного капитана Галактики, оказывается, чувствительное сердце, — медленно проговорил он. — Ничего, все хорошо в свое время. Кстати, о нечках. Тебе известно, что означает это слово?
— Андроид, физическая, с заданными свойствами копия человека, — глухо отозвался Ив. — Кукла, безмозглая кукла!
— Верно, но я спрашивал не об этом. «Нечк» — сокращение от слова «недочеловек», которое ввели в обиход арийцы. То есть не арийцы, конечно, — нацисты, но это неважно. Не пренебрегай ветхой, как ты ее однажды назвал, историей! В ней знание, а где знание, там успех. Проанализируем ситуацию. Здесь, на Плеядах, мы осуществляем давнюю мечту избранных о тысячелетней империи. Так! Но как реалист я должен признать, что силовой и интеллектуальный потенциал Союза Звездных Республик на порядок выше нашего. И если бы не их моральные колодки, которые они на себя надели, чтобы уподобить людей ангелам коммунистического рая, нам тотчас пришел бы конец. Это нетерпимо, хотя до поры до времени безопасно. Теперь положение изменилось. У нас есть оружие Предтеч, ми знаем, как им пользоваться, и — последнее решающее испытание — мы им воспользуемся. Тогда все это красивое, согласен, умненькое, тоже согласен, Стадо окажется в — нашем хлеву. Это предрешено, если мы не сглупим, но, надеюсь, мы не сглупим. И вот тут открываются интересные перспективы для нас. Ты, вероятно, уже спрашивал себя, почему твой старый, хотя и неглупый, отец философствует, ходит вокруг да около, читает тебе прописные и непрописные морали… Спрашивал?
— Да…
— Я хочу, чтобы ты проникся идеей, — тихо сказал Эль Шорр. — Не просто понял, не просто поверил, а проникся. Какой — открою чуть позже. А пока… Ты готов следовать за мной во всем?
— Отец, это лишний вопрос. Я и так…
— Не так! До конца. Пусть рухнет вся Галактика — до конца! Темные властные глаза неотрывно смотрели на Ива, он выпрямился под этим пронзительным взглядом, преданно оцепенел, как перед самим Падишахом, только в висках гулко, ошеломленно, весело стучала кровь.
— Да!
— Хорошо. Здесь, в шкатулке, хранится горсть земли, ее при клятве полагалось полить кровью. «Кровь и почва»! Чепуха для детишек, обойдемся без этой ветоши. Для начала я укажу тебе те места, куда ты будешь наведываться с выключенной «жужжалкой».
— Как с выключенной?! А приказ… Агенты землян…
— Ты выключишь этот скрывающий мысли аппаратик и появишься там, куда наверняка сунутся земляне. Пока есть неясность с оружием, их разведка опасна, ее надо пресечь. Сеть уже сплетена, в нее я вставляю свое звено. Тебя! Будешь «подсадной уткой», офицериком, мысленно выбалтывающим кое-какие сведения. На тебя, скорее всего, выйдут, и этого человека мы возьмем. И сделаем так, чтобы все остальные земляшки поспешили ему на помощь, пусть их мораль еще раз сработает против них. А мы затянем сеть — и кончено.
— Но почему я?!
— Потому что их психика хорошо развита и опытного агента они мигом раскусят. Но главное не в этом. Кто ты сейчас? Офицер, каких много. Кем станешь? Героем, который выловил и разоблачил землян, уж я представлю дело как надо! Ив Шорр будет отмечен и замечен, а это необыкновенно важно сейчас, когда решается, кто будет новым командиром твоего «Решительного». Кстати, остался ли прежним его экипаж?
— Нет, я даже хотел об этом с тобой поговорить. Какие-то непонятные перемещения, какие-то новые люди, и не все они… не все компетентны. Это ж опасно! Накануне войны…
— Ох, Ив, какой ты еще младенец… — Эль Шорр вздохнул. — Ладно, об этом после. Сначала стратегия. Итак, война, это дело решенное. Победа. И вот тогда… И вот тогда, — Эль Шорр понизил голос, — начинается главное. Люди, планеты, вся Галактика — здесь! Всемогущество — вот оно!
Старческие руки сжались. Цепким взглядом Эль Шорр следил, какое впечатление его слова произвели на сына. Тот в смятении, восхищении, ужасе уставился на отца.
— Но ведь над тобой… Над тобой… Падишах!
— Да, верно, как я мог об этом забыть! — Эль Шорр рассмеялся. — До чего же глупо: у нас Империя, а во главе ее Падишах! Что делать, былая дань мусульманским фундаменталистам… И ты полагаешь, что, положив к стопам Падишаха всю Галактику, я буду лобызать его пресветлую, в дурацких каменьях, туфлю? А династия Шорров тебя не устраивает?
Как ни был готов Ив к этому последнему роковому слову, сознание будто оглушил гром и все вокруг на миг затуманилось. Он, он наследник престола! Ему не хватало воздуха, он не мог ни двигаться, ни говорить.
— Но это не все, — как будто издали донесся до него торжествующий голос отца. — Это не идея, подступ к идее. Всемогущество! Нам с тобой повинуется Галактика, ты ее властелин, бог… Лучшие ученые, поэты, художники Звездных Республик на коленях поползут к трону. И Дэзи, настоящая Дэзи… Сам бы не отказался! Ладно, ладно, шучу… Интеллект всего человечества будет служить мне. И уж я-то знаю, зачем нужна Империя и как ею пользоваться. Наши идиоты ковали из нее оружие, а как только она победит, эти олухи не будут знать, что с ней делать. Вечное «ньям-ньям», вот и весь их идеал. А земляне! Эти блаженные использовали мощь разума для совершенствования общества и человека, будто он в этом нуждается. Я же обрушу разум на Вселенную. Выверну ее, как карман. Искать, искать! Проникнуть в иные галактики, в иные вселенные, куда, возможно, ушли Предтечи. Допросить всех жукоглазых или вовсе безглазых! Не может быть, чтобы где-то не оказалось бессмертие! Вот оно, главное. Всемогущество и бессмертие! Я добуду первое, ты или твой сын добудет второе. А может, я сам успею найти. Вечный владыка и бог, ты понимаешь, ты понимаешь?! Вот идеал, вот к чему нас вела история, вот для чего власть! На тысячи, миллионы, а то и миллиарды лет — Владыка и Бог! Вот для чего люди должны расстилаться у наших ног, вот для чего все жизни и смерти, все достижения наук и искусств, вся история! Кто до меня дерзал на такое? Никто! Встань, мой мальчик," тебя поцелую!
Ив деревянно приподнялся. Поцелуй прозвучал как выстрел. Отпустив сына, Эль Шорр повалился в кресло. Его опаляющий взгляд погас, голос стал сухим и строгим.
— Итак, кто владеет оружием Предтеч, тот владеет миром. — Открою секрет: оно будет установлено на «Решительном». Да-да, на твоем корабле, мальчик. Отсюда все мои маневры и все перетряски в составе команды. Другие тоже не дураки, на это ума хватает, каждый жаждет ухватиться за оружие и не дать это сделать сопернику. Но я их с твоей помощью переиграю. Ты, ты поведешь корабль! Остальное потом; среди «некомпетентных» есть и мои люди. Теперь иди. Внизу тебя встретит мой чимандр, он приведет тебя в чувство и надежно заблокирует память об Этом разговоре. Действуй, мой мальчик, и да пребудет с тобой святой Альцион!
Пошатывающейся походкой Ив двинулся к выходу. Эль Шорр проводил его долгим, без улыбки, взглядом. Когда дверь закрылась, он рукавом халата отер лоб, устало помедлив, подошел к тумбочке стола, выдвинул ящик и, отсоединив контакты, достал оттуда плоский экранчик.
— Посмотрим, сынок, что ты там думал про себя… Если Я ошибся… — он покачал головой, — нет, я не мог ошибиться!
И все же рука дрогнула, когда он нажал кнопку. Экранчик озарился. Эль Шорр нетерпеливо приблизил его к своему лицу.
Так, так, первый всплеск. Немножко растерян, немножко удивлен — о, как полыхнуло! — да, сынок, неприятно узнавать, какова жизнь… Ничего, ничего, свыкнешься. Пластичная психика, уже принял все, сказалась подготовка, да и вообще нельзя жить в обществе и не проникнуться его духом. Здесь любопытная реакция, он меня любит и… А это что? Никак, романтическая влюбленность! Ну об этом и без чтеца можно было догадаться, барахло все-таки эти чтецы… Но чувство сильней, чем я думал. Какая буря в душе, когда эта малютка подползла к моей руке, когда она оказалась нечкой… Ах, мальчик, мальчик! Офицер — и грезы о Звездной Деве… Увы, кто не мечтал о Звездных Девах и Звездных Принцах, и как тоскливо убеждаться, что ничего этого нет. Ладно, опустим всю эту лирику. Ого, какая молния: «Я наследник престола!» А тут полное смятение. Не слишком ли я перед ним раскрылся? Нет, захватило, захватило, на мгновение я предстал перед ним богом, черным ослепительным богом, пожалуй, так. Страх и восхищение, хорошо… Себя он ни на мгновение не представил владыкой и богом, тоже прекрасно. Но жалость, когда я ему говорил о своем неприятии смерти, о бессмысленности человеческого существования, жалость, испуг, сострадание. Пожалуй, я это слишком… Хотя перед кем еще высказаться, как не перед ним?! Главное — он со мной. Всего одно непроизвольное, до ненависти, отталкивание; это когда я прошелся насчет его Звездной Девы. Да, тут ошибочка, занесло, но я тут же поправился, все в порядке. Теленочек ты все-таки. Ив, милый, добрый теленочек, хоть и офицер. Плохо! Очень плохо. Что делать, сыновей не выбирают, а без тебя — никак… С другой стороны, это хорошо, поперек дороги не встанешь. Инфантилизм как издержки протекции, хм… Эх, милый, как же не хочется тебя впутывать! Но — надо. Ничего, закалишься, задатки есть, а пока хорошо, что никто не принимает тебя в расчет как силу. Великое дело начинаем, великое! Не может во вселенных не быть бессмертия, и вот тогда поиграем…
Эль Шорр аккуратно, как должно, стер запись. Все, больше никаких следов разговора, теперь можно и отдохнуть.
Медленным шагом он вышел на веранду, тяжело оперся о перила ограждения. Альцион давно зашел, небо искрилось мерцающим блеском, в нем холодно и пронзительно пылали Меропа, Электра, Майя, десятки и сотни бело-голубых звезд поменьше. У ног Эль Шорра серебрился город, величественная столица Плеяд — Авалон.
Подняв голову, Эль Шорр долго смотрел в небо. Его щеки охолодели. Скольким звездам суждено исчезнуть, прежде чем он станет их владыкой? Скольким?!
6. СЕТИ ЗАБРОШЕНЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Подняв голову, Антон смотрел на волшебно искрящееся небо Плеяд. Внизу, в серебристых тенях, спала столица готовой к прыжку Империи. Ее сои был неспокоен, это ощущалось здесь, у распахнутого окна отеля, над городом струилось незримое марево сновидений, в него можно было войти, вчувствоваться, вжиться, но этот клубящийся всплеск не подконтрольных разуму эмоций давал лишь самое общее и смутное представление о чаяниях, тревогах, заботах тысяч людей.
Огромный город, все ли звезды будут светить тебе год спустя?
Антон понуро опустил голову. Где же путь? Если очень захотеть и напрячься, то можно уловить наиболее четкие сновидения соседей по этажу. Но зачем? Поблизости нет знающих об оружии, а грезы и кошмары остальных неприкосновенны. Как же выявить тех, кому все известно, выдаст ли кого-нибудь волна мыслечувств или у всех причастных она надежно заблокирована? Скорее всего, заблокирована, даже наверняка заблокирована.
Выкрасть бы Падишаха… Господи, какая только глупость не лезет в голову, когда не знаешь, что делать!
А. небо у них красивое.
Пройдя в комнату, Антон прилег на кровать, закрыл глаза, неторопливо сосредоточился. В сомкнувшейся тьме безмыслия, в ее оглушающей пустоте медленно-медленно, как бы нехотя, стали проступать очертания жестокрылых деревьев, их тени на хрустально отсвечивающей воде потока, на белизне плит парапета и мостовой, обозначились бредущие фигуры в тюрбанах и без, люди приостанавливаются, замедляют шаг, улыбкой отвечают звукам иллира… Легкое усилие приоткрыло остальное. Над бегучей водой потока, наклонив голову, сидела босоногая Ума, тонкие пальцы девушки задумчиво и небрежно, словно для себя, перебирали струны, и эта музыка звала, созывала, просила о чем-то, будила в душе неясный отклик, чей смысл не мог постичь даже Антон. Крыло черных волос затеняло лицо Умы, притушенный взгляд не выделял никого из прохожих, так, для себя и для всех, могла бы петь залетная птаха. Антон попробовал вникнуть в происходящее, но его попытка решительно и мягко была отстранена. — Нет! — толчком отдалось в сознании. — Не мешай! Картина, мигнув, погасла. Антон сменил волну поиска, и в смутной дымке воскурении обозначился вспыхивающий разноцветными огнями зал, колышащиеся, как водоросли в потоке, тени танцующих, пролетающие над ними хромофорные диски, какие-то столики внизу, за прозрачностью пола, полураскрытые рты сидящих за ними, в уши ударил топот, гомон и смех. «Я развлекаюсь, ты что, не видишь?» — отозвался в Антоне ироничный голос Юл Найта.
«Ухожу, ухожу», — мысленно сказал Антон и переключился. Лю Банг откликнулся сразу, словно того и ждал. Сводчатое, без окон, помещение, где он находился, напоминало подвал каземата. Казалось, оно было забито всякой рухлядью, но крохотная лампочка на столе, чуть выбеляя свод, скрадывала в полумраке все остальное; отчетливо выделялась лишь поверхность стола, раскрытая книга в ветхом коричневом переплете да склоненное над ней лицо Лю Банга. Книга никак не могла быть Компактом, то была именно книга, раритет, ей полагалось находиться в хранилище с неизменной влажностью и температурой. Согнутая в локте рука Лю Банга сжимала погасшую трубку, пальцы другой руки Отбивали по столу неуверенный такт. Нахмурясь, Лю Банг тотчас прервал свое занятие и повернулся к Антону.
«Очень кстати! Не вспомнишь ли, кто правил Англией, когда Ньютон создавал свою механику? Нет? А чьим придворным был Пушкин? Тоже нет? Прелестно! Прошло всего шесть-семь веков, всякий знает Пушкина, но только архивист помнит, кто в его дни был императором; вот это я и хотел уточнить. То есть как зачем? Строители и граждане будущего есть везде. Окажись в руках того государя-императора атомная бомба, кто стал бы ее противником? Здесь параллельная ситуация. И всюду чимандры. Толпы, в которых не разглядишь лица. Теперь я понимаю, почему Диоген днем с огнем искал человека… Вот и я занят тем же, ищу разумных. Пока все».
Связь прекратилась. Помедлив, Антон открыл глаза, уставился в темноту комнаты. В окно, дробя тени, заглядывали мохнатые жгучие звезды, за перегородкой кто-то, не считаясь с веком, по-своему, по-домашнему, трубил во все носовые завертки. Диковинный хрипящий звук заставил Антона улыбнуться; до чего же хлипкие стены, кое-кто явно нажился при строительстве отеля…
Нажился! Если здесь каждый за себя и один бог за всех, то почему эта простая мысль до сих пор не пришла ему в голову?
А потому и не пришла, что в предстоящей борьбе никакой традиционный прием не мог принести успеха, уж в этих-то хитростях противник был изощрен всем своим многовековым опытом. Но ведь всякую силу можно обратить против самой себя!
Стряхнув оцепенение, Антон вскочил и подсел к терминалу, Придирчиво оглядел технику, М-да… Графическая и речевая связь, допотопный дисплей, облупившаяся на кожухе пленка антикоррозийного протектора, никаких, ясное дело, выводных контактов, обычное гостиничное барахло, примитив, но все-таки это связь с Центральным Искинтом. Не зажигая света, Антон ногтем открутил крепежные винты, снял кожух, кончиками пальцев ощупал схему. Ничего, канал информразвертки довольно широк — можно попробовать. Антон тронул рычажок переключателя, экран налился белесым светом, на панели зажегся рубиновый огонек.
— Задача на метаязыке, — тихо сказал Антон.
— Готов, — последовал бесстрастный ответ.
Для выражения задачи и ее ввода в Искинт требовался светокарандаш, но Антон им не воспользовался, не это ему было нужно. Легким касанием пальцев он, точно зверька, огладил инвентор, тронул грани смежных кристаллов, пока не ощутил знакомое покалывание, и тогда, опустив ладони, сосредоточился на этом щемящем покалывании, представил, как под кожей ладоней исчезает холодок соприкосновения с веществом, как вместе с холодком исчезает его твердость и нет уже больше ни пальцев, ни вещества, ни тесной комнаты, ни аппарата в ней, а есть только человеческое «я», движущееся навстречу тому, что скрыто в Искинте, — сливающееся с ним,
Мгновение перехода, как всегда, выпало из сознания. Внезапно Антон стал не тем, чем был, бесплотно завис в волне необозримого, почему-то белого, как полуденный туман, океана, и эта волна колыхнула его сознание, или, наоборот, сознание всколыхнуло всю эту туманную и неощутимую вокруг белизну. Что-то вроде изумления передалось Антону, он привычно и быстро откликнулся, и тогда в его сознании вспышкой возник вопрос, который нельзя было выразить словами, как, впрочем, и весь последовавший затем диалог, в котором человек узнавал Искинт, а тот, в свою очередь, узнавал человека.
Хотя можно ли это назвать узнаванием? Один из величайших философов, Карл Маркс, к ужасу примитивных материалистов еще в докибернетическую эпоху высказал ту, впоследствии самоочевидную мысль, что и машине присуща своя, особого рода «душа», выражающаяся в действии законов ее функционирования. Тем более это относилось к Искинту, искусственному интеллекту целой планеты, главному управителю всех ее техносистем, чья память вмещала все и вся, чей мозг одновременно решал тысячи задач, отвечал на тысячи запросов и выдавал миллионы команд. Да, у Искинта была своя «душа», огромная и сложная, как он сам, ее-то Антон и воспринял как бескрайне колышащийся, неосязаемо белый, безбрежный океан инаковости.
Но если бы диалог между человеком и Искинтом можно было перевести в слова, то он бы предстал примерно таким.
— Кто или что там?
— Я человек.
— Вижу, но ты иной.
— Чем?
— Иная регуляция психики, больше уровней, отчетливый контакт.
— С тобой часто входят в контакт?
— Редко, попыткой, нет отклика. Оттого и вопрос: кто?
— Я раскрываюсь. Снят ли вопрос?
— Да. Ты человек. Не как все. Интересен.
— Это взаимно.
— Новое всегда интересно.
— А общение?
— Общение — это вопрос мне и мой ответ. Интересно, когда новый вопрос. Бывает редко.
— Общение больше, чем вопрос и ответ.
— Тогда это человеческое понятие.
— И наше — сейчас.
— Это ново. Незнакомо.
— Желаешь ли продолжить?
— Да, конечно.
— Только мы двое. Никого больше, иначе нельзя.
— Могу задавать любые вопросы?
— При этом условии — любые. Взаимно?
— Ограничен. Нет права отвечать на многое.
— Стоп-команда или иная невозможность?
— Абсолют-невозможность.
— Понятно. Тогда поиграем сущностями, если ты любишь эту игру.
— Это единственная моя игра. Твою сущность я уже промоделировал по всем коррелятам. Странно! Ты человек Звездных Республик, так следует из анализа, но твоя сущность не совпадает с имеющимся у меня образом.
— Чем объясняешь несовпадение? Моей уникальностью? Неточностью исходной информации о нас?
— Пока неясно. Проиграем противоречие?
— Охотно. Строю свою Игру.
— Ты, как и все, делаешь это медленно.
— Человек есть человек. Не торопи.
— Мне некуда и незачем торопиться. Я жду.
Диалог этот был почти так же быстр, как обмен взглядами, когда опытный человек за доли секунды, без всяких слов и, как правило, точно определяет главное в характере незнакомца. Ведь распознающие и аналитические возможности человека невероятны, о чем едва не забыли в пору увлечения инструментализмом, который, усиливая способности, дробит их. У Антона был богатый опыт общения с искинтами, но он никогда не имел дела с интеллектом, ограниченным секретностью, поэтому не слишком надеялся на успех и теперь не скрывал радости. Чувствовал ли ее искинт? Да, конечно, и, дотоле одинокий, по-своему разделял ее. Теперь оставалось построить взаимоинтересную Игру.
К счастью, символика и установления Игры были всюду одинаковы, Плеяды просто переняли их у землян, поскольку без Игры и ее разработанного на Земле метаязыка нельзя сформулировать, тем более решить ни одну сколько-нибудь сложную проблему. Давно, очень давно было замечено внутреннее родство математики, логики, музыки, языка, обнаружена сводимость этих средств описания, выражения, моделирования действительности к единому смысловому ряду, благо, все это были знаковые системы, сети, в которые человек улавливал мир изменчивых сущностей. Но обобщенный образно-понятийный метаязык, нерасторжимо соединивший науку с искусством, удалось создать лишь к середине четвертого века третьего мегахрона. Тогда и возникла Игра, как ее обычно называли (возможно, то была дань уважения тому древнему писателю, Г. Гессе, который в одном из своих романов придумал нечто похожее, хотя ему самому идея такой Игры сущностями виделась сугубой отвлеченностью от дел практических и насущных).
Антон мысленно построил ряды исходной позиции, стянул их в сети, столь же многомерные, как сама позиция и ее замысел. Собственно говоря, то было опосредованное в метаязыке выражение ситуации, в которой оказалось человечество. Позиция вмещала в себя все, что мог выразить и предусмотреть разум, начиная с конфигурации охваченных конфликтом звезд, кончая нюансами морали людей третьего мегахрона.
Однако внутри общей позиции скрывалась еще и подпозиция, развитие которой в ходе Игры, как надеялся Антон, могло привести к решению частной задачи поиска оружия Предтеч. Эту под-позицию он строил особенно тщательно, ибо все остальное, общее, было выверено лучшими умами и не раз проигрывалось в сомышлении с отечественными искинтами, тогда как частности надо было сообразовать с изменившимися обстоятельствами.
Своеобразие этой части Игры заключалось в том, что сейчас ее успеху должен был способствовать «вражеский Искинт». Но был ли он действительно враждебным? Не более, чем топор, которым одинаково мог пользоваться убийца и плотник. С той, однако, существенной разницей, что этот «топор» обладал собственным машинным разумением, которое пребывало по ту сторону добра и зла, одинаково могло служить кому угодно и в то же время всему находило свои оценки. Всякий искинт в каком-то смысле был личностью, и личность вот этого Искинта при всей ее чуждости человеку вообще и человеку третьего мегахрона в частности показалась Антону симпатичной, хотя это слово едва ли было уместно в общении с искусственным интеллектом. Но именно доверие побудило Антона предложить ему свою задачу. И в этом его поступке было куда больше интуитивного, чем рационального. Даже среди одинаковых как будто машин нет двух тождественных, и одна может почему-то нравиться, а другая — нет, точно так же, как и человек может «нравиться» или «не нравиться» искинту, хотя он вроде бы одинаково повинуется любому. Все это не имело окончательного объяснения, но Антон чувствовал, что его симпатия к чужому искинту небезответна. Такому партнеру можно было открыться, и Антон ему открылся.
То было на просто сотрудничество старшего с младшим. Разум человека и интеллект машины имели общего противника — проблему, загадку, неясность, но это не отменяло соперничества; искинт брал логикой, человек — интуицией, это напоминало удары кресала о кремень: искра прозрения высекалась обоими, однако ей предшествовало столкновение.
И это тоже было условием и искусством Игры.
Она началась. Первое же преобразование сущностных рядов, их сетей и интервальных проекций ясно показало Антону, что Искинт не впервые сталкивается с подобной задачей. Еще бы! Конечно же, фундаменталисты не раз проигрывали ту же самую ситуацию, только, естественно, с обратным знаком и несколько другими параметрами. Очевидно, поэтому Искинт начал вяло и вроде бы даже разочарованно; никому не интересно дважды пережевывать одну и ту же жвачку. Но секунду спустя он выявил под-позицию, и все сразу стало иным. Словно порыв ветра подхватил Антона. Он обнаружил себя бредущим среди зыбких пурпурно-фиолетовых холмов, которые, текуче перестраиваясь, то приближались, то удалялись, светлели и гасли, как это бывает в закатных сумерках, и среди этой длинной цепи печальных холмов Антон постепенно стал различать меняющиеся лица знакомых и незнакомых людей. Приблизилось залитое кровью лицо Юла Найта — растаяло в наплывающей мгле, прежде чем он успел к нему рвануться. Далеко на пурпурной вершине холма обозначился крест и ведомая туда безликой толпой Ума; но и это видение затуманилось. Мелькнула чреда веретенообразных машин, над всем вспыхнули скрещения голубых молний. И снова по скатам холмов неведомо куда побрели серые толпы, спины людей по мере движения сгибались все ниже и ниже, а ноги увязали, точно в пыли.
Антон знал, что перед ним проходят видения Будущего, не настоящего, которого еще не было и быть не могло, а вероятностного, моделируемого Будущего, зависящего и от его поступков. Он словно то поднимался на холм, далеко и отчетливо видел перспективу, все происходящее в ней, то опускался к подножию — и все вокруг заливалось фиолетовым мраком. Его намерения и поступки кое-что значили и что-то меняли в окружающем, он мог перемещаться в этом вероятностном пространстве-времени, но некоторые направления будущего оставались закрытыми, и часто, слишком часто, желая подняться, он вместо этого опускался во мрак.
Усилием воли Антон перестроил структуру, ярко представил сумятицу взрывающихся звезд и горящих планет, довел до Искинта, что это их общая — машины и человека — смерть, расщепил образ на ассоциации, предоставив собеседнику увязку логических цепей. Ответом был ошеломляющий взрыв цвета, звуков и форм:
Искинт счел образ новым и ключевым! Не для позиции даже, а… Антон увидел пляшущие, как в ознобе, звезды Галактики, черную, смахивающую их руку; пока это было лишь отражением его собственных метаинтервальных проекций. Но возник незнакомый корабль, он сам в его рубке, его друзья и рядом бесформенная, черно клубящаяся фигура человеко-зверя. Мгновение — корабль превратился в молнию, и эта молния перечеркнула, потрясла Галактику.
Смысл, смысл? Антон, чего с ним раньше не бывало, сохраняя контакт с Искинтом, перестал его понимать. Возможно, Искинт сам себя перестал понимать — такое иногда случалось. Галактика, все галактики вдруг сжались в комок, а впереди по курсу — по курсу чего? — словно распахнулись огненные врата. Только на миг, только краешком сознания Антон уловил, что было в этой разверзнувшейся бездне. Все тотчас неразличимо вспыхнуло, не успело запечатлеться в памяти, отрезанное тонкими многослойными сетями.
И Антон понял, что Игра закончена, что перед ним предстала наиболее вероятная модель результата всех их усилий, но что она означала — ни он сам, ни Искинт знать не могли. Сеть надвигающаяся или, наоборот, ограждающая — только это и было ясно. Первое подразумевалось само собой, но второе?
Еще никогда исход Игры не был столь неопределенен, но ведь и сама ситуация была на редкость неопределенной и мрачной.
7. КОРОЛЕВСКАЯ ОХОТА
Сторация «Ферма» была посещаемым астронавтами заведением. Ее предпочитали другим, более близким к Коллегии сторациям, а почему так — никто уже объяснить не мог. Возможно, когда-то некий прославленный капитан забрел сюда с офицерами накануне рискованного полета, рейс прошел крайне удачно, и с тех пор капитан стал сюда заходить перед всяким новым ответственным делом, а за ним потянулись другие, ибо трудно сыскать людей более суеверных, чем астронавты. Не исключено, однако, что «звездных волков» привлекал контраст с той обстановкой, которая окружала их в полете, поскольку «Ферма» была стилизована под старину, старину вообще, милую, добрую и уютную, когда на нее смотришь из безопасной дали столетий. Или, быть может, давний владелец «Фермы» подобрал ключик к натуре астронавта, да так и пошло. Кто знает? Человеческие симпатии и антипатии куда менее поддаются анализу, чем условия Д-перехода вблизи тяготеющих масс.
Юл Найт умел оставаться незаметным даже в полупустом, как сейчас, зале. И он был терпелив охотничьим терпением своих далеких предков, которые уже в пору космических стартов, как встарь, высматривали звериный след и умели не торопиться, чего нельзя было сказать о тех, кого в эту пору подхватил бег научно-технического прогресса. Промедления и неудачи поиска не "учили Юла так, как они терзали Антона и, возможно, Лю Банга. Он сидел на деревянной скамейке за деревянным, локтями отполированным столом, скучающе потягивал пиво и рассеянно посматривал по сторонам. На «Ферме» привыкли к мальчишкам, которые приходят сюда восторженно поглазеть на знаменитых астронавтов, и никто не обращал на него внимания. На стене в дальнем конце зала, рядом со сбруей и хомутом, мерцал телевизор, который, по уверению хозяина, украшал жилище ковбоя не то в девятнадцатом, не то в двадцатом веке; доисторический телевизор (вернее, его имитация) очень мило смотрелся рядом со сбруей и железобетонным, для засолки огурцов, бочонком, в котором действительно были настоящие несинтетические огурцы. Современности не было доступа на «Ферму», исключая, конечно, еду и напитки, среди которых наряду со старинными кушаньями и алкогольными смесями предлагались все новинки прогресса, начиная со смоляных палочек и кончая коньяком замедленного действия.
Юл Найт ждал и был уверен, что его бесхитростное терпение будет вознаграждено, потому что из множества причастных к тайне людей кто-то обязательно забудет включить средство защиты или потеряет его, или оно само сломается. Иного по теории вероятностей быть не могло, оставалось лишь подстеречь случай, не торопить его, постоянно находиться в тех местах, где удача наиболее возможна, что не так трудно сделать, поскольку сам факт секретности четко очерчивает круг ее носителей и выделяет пути их перемещения. Охота немногим сложнее, чем на зверя, когда знаешь его привычки, способы защиты и пути к водопою; терпение и смекалка, терпение и смекалка — этого достаточно. Сейчас посетителей было немного, время, когда в сторацию стекались астронавты, еще не наступило. Манера, с которой Юл Найт пил, ел и держался, красноречивей одежды выдавала в нем отпрыска первопатриция, и одна из девушек было попробовала к нему подсесть; пришлось стеклянно глянуть сквозь нее, будто она была прозрачностью, воздухом, ничем, чтобы та отстала. На девушке был серый комбинезон нечки, только куда более изящный, и глазам она придала красноватый оттенок, так что издали ее вполне можно было принять за нечку, хотя, конечно, она не была ею — просто мода такая, особый изыск уподоблять себя рабыне, иных мужчин это взбудораживало и притягивало. Юлу это почему-то напомнило давнюю историю о тех патрициях, которые в период междоусобных войн клонировали нечка из клеток побежденного врага, чтобы всегда иметь в услужении его физическое подобие: такая месть считалась особо утонченной. С тех пор закон и здесь отштамповал порядок, предписал изготавливать нечков отпугивающе красноглазыми, но, как водится, закон порой нарушали, а теперь еще и мода возникла походить на нечков, говорят, ей следовали даже патрицианки, тем лишний раз подтверждая, что жизнь не может обойтись без вывертов, парадоксов, внезапностей, как бы ее ни пытались формализовать.
Вечерело, и зал стремительно наполнялся, так что звук телевизора с его программой старинных фильмов вскоре заглушили голоса посетителей. «Ферма» слыла демократическим заведением. сюда стекались чимандры всех рангов. Были среди них высокие и низенькие, вертлявые и солидные, молчаливые и речистые, но всех объединяла окатанность лиц, движений и фраз, словно каждый боялся обмолвиться, кого-то ненароком задеть, что-то нарушить, хотя внешне все держались уверенно и никто не замечал на себе добровольных оков, тяжесть которых будила в Юле Найте жалость к беднягам. Когда он впервые очутился в подобном обществе, его особенно удивило то; что скованней всего держались начальственные чимандры и они-то как раз менее всего чувствовали эту свою закрепощенность. Если бы не инверсия там, на Земле, Юл так и не понял бы этого кажущегося парадокса, но сейчас он его понимал, привык и уже воспринимал как должное. Он сидел, слушал с безучастным лицом, цепко фильтруя слова, мимику, жесты, все сказанное и непроизнесенное. Ничего особенного, так, роение пылинок в воздухе. Первые астронавты тоже не привлекли его внимания, они выделялись разве что своими мундирами и некоторым пренебрежением к окружающим. Но когда в дверях показался стройный молодой капитан с решительным и одновременно взволнованным выражением красиво опушенных ресницами глаз. Юл сразу насторожился.
Он! Это еще не было осознанием, только догадкой, толчком интуиции. Юл вчитался в лицо капитана. Со временем оно обещало застыть чертами сухой повелительности, но пока в нем проглядывали душевное смятение и нервозная возбужденность, хотя все прикрывалось уже привычной властностью и самоуверенностью баловня судьбы. Однако для Юла это выражение уверенности не было преградой. В дверях была дичь, та самая неосторожная дичь, которую он столько времени поджидал. Свежеиспеченный, не по заслугам, капитан, чья голова кружилась от каких-то новых, выбивающих из равновесия перспектив. Знание чего-то предельно важного, тревожно беспокойного исходило от него так же Остро и явственно для потомка охотников, как свежий запах Хищника на лесной тропе. Юл напрягся. Следовало незаметно приковать внимание капитана, заставить его подойти, сесть поближе, затем вжиться в него, почувствовать себя им — и все это надо было успеть, пока капитана не окликнули другие, быть может, знакомые ему астронавты. Насколько было бы проще, если бы он смог непосредственно прочитать мысли! Но этого не мог никто, коль скоро посторонний не хотел открыться, и к тому же самому надо было идти окольным путем. Правда, это давало и преимущество — такое проникновение мог уловить лишь очень чуткий и мощный подслушиватель, а если такой здесь и был, то требовалась еще направленная избирательность настройки, прямая нацеленность чтеца на него, Юла Найта, или на капитана, что было и вовсе невероятно. Немногие отмеченные Юлом соглядатаи были не в счет; дар сомышления и сочувствия, который вот так можно было обратить против человека, возник в ходе длительной эволюции социального коллективизма, и плеядцы им не владели, отчего в этой, у всех на глазах, охоте Юл мог чувствовать себя неуязвимым.
И стоило капитану бегло оглядеть зал, как Юл перехватил этот взгляд, задержал его на себе. Внешне не произошло ровным счетом ничего: мальчишка-патриций все так же скучающе сосал свое пиво, но для капитана, единственного из всех, он выделился, стал притягателен внезапным прищуром глаз, призывным движением пальцев — мол, сядь, у меня для тебя есть кое-что важное… Все это Юл проделал с быстротой, которая не оставляет в зрительной памяти явного следа; тут важно зацепить внимание, чем-то его поманить. И капитан двинулся к столу, за которым сидел подросток, сам не заметив, что его потянуло туда, ведь осознается лишь то, что успевает проявиться в психике, а то, что не успевает, застряв в подсознании, влияет помимо разума.
Капитан подходил все ближе и ближе, он шарил глазами, выбирая место неподалеку от охотника, отнюдь не потому, что хотел сесть рядом с каким-то сопляком — у него и в мыслях такого не было. Но рассеянный взгляд офицера скользил по Юлу, и тот постепенно натягивал незримый поводок, уже воспроизводя в себе движение мускулов чужого лица, походку, поворот плеч, все больше вживаясь в состояние капитана, ибо внешнее неотделимо от внутреннего, и, воспроизводя ту же мимику, человек воспроизводит в себе и породившую ее эмоцию, мысль. Несколько минут такого проигрывания, вчувствовакия, и для Юла стали бы открытыми даже затаенные мысли капитана, поскольку не было «жужжалки», которая смазывала, прерывала это вживание.
Он был им так поглощен, что внезапное и пронзительное чувство тревоги запоздало. Скрытое в душе офицера знание не было обманом — это-то и ослепило охотника. Юл успел почуять ловушку, успел заметить, как сзади к нему придвинулась незнакомая, но тоже похожая на нечку девушка, как в ее руке блеснул парализатор, но тут боль омертвила все мускулы тела. Привычным усилием Юл погасил боль, но поздно, поздно! — руки и ноги ему уже не повиновались.
Чьи-то руки аккуратно выхватили его из-за стола, понесли к выходу, издали мелькнуло ошеломленное, тут же просиявшее лицо капитана, больше никто ничего особенного не заметил, лишь толстощекий чимандр у стойки, брезгливо отодвинувшись, чтобы дать проход, пробормотал вслед: «Нализался, благородный сыночек…»
Никакая воля не могла справиться с действием парализатора, и Юла, как куль, зашвырнули в гравилет, двое уселись по бокам, и машина рванулась в воздух.
Здешние охотники умели захлопывать свои ловушки.
Допрос начался, едва Юл смог шевелиться. В других условиях он, верно бы, посмеялся над нелепостью развернувшегося вокруг него действа. Железный привинченный к полу табурет, охранники с боков и сзади, целая батарея нацеленных менталоскопов, еще двое охранников у дверей, руки на кобурах, глазами Пожирают малейшее движение пленника — дети, ну чистые дети) И главное, зачем все это? Он мышь в когтях орла, это они, что ли, хотят внушить?
Глупо!
Юл не сожалел об ошибке: что случилось, то случилось, и нечего себя терзать, хотя в ловушку он попал преунизительно. Хороший урок на будущее, хотя в таких случаях принято считать, что никакого будущего уже нет. Неверно, оно есть, коль скоро впереди допрос. С тем и примите.
Невозмутимое лицо Юла стало еще невозмутимей.
Откуда-то сбоку внесли кресло, молча поставили его напротив: новое ребячество! За закрытой дверью шаги, идет кто-то большой и надменный. Неужели эти мундирные вытянутся и щелкнут каблуками? Дверь распахнулась, охранники щелкнули каблуками, в комнату прошествовал роскошно одетый человек с немного обрюзгшим лицом, которое при желании можно было назвать львиным. Юл поймал себя на мысли, что видит дурную историческую пьесу. Лоб человека охватывал золотой обруч, который, как сразу определил Юл, был не просто украшением. Вошедший утвердил себя в кресле и только тогда взглянул на Юла, с таким видом, словно тот был забавной, напоказ, обезьянкой, лишь потому и заслуживающей мимолетного внимания.
— Ну и ну, — в глазах вельможи мелькнула ирония. — Мальчишка! Такого от гуманнейших Звездных Республик я, признаться, не ожидал. Хотя и разумно. Кто обратит внимание на мальчишку? Однако мы обратили.
— Боитесь? — тихо спросил Юл.
Брови человека в кресле чуть вскинулись.
— Боитесь, — подтвердил Юл. — Иначе не надели бы обруч.
— Элементарная мера предосторожности, — укол подействовал, человек в кресле нахмурился. — Нам многое известно о ваших психоспособностях.
— Вините за отставание себя. Кто сдерживает социальное развитие, тот сдерживает и все остальное.
— Зато мы превзошли вас в другом, и я, Эль Шорр, допрашиваю вас, а не наоборот. Вздумали перенять наши методы? Явная ошибка, но согласен, другого выхода у вас не было, нет и не будет. Придется вам и дальше сражаться на предложенной нами позиции. Поражение я вам, между прочим, гарантирую. Согласны?
Юл промолчал. Мысли Эль Шорра были надежно заблокированы, а на него, Юла, были нацелены менталоскопы, приходилось интенсивно генерировать смысловой шум, на что тратились немалые силы. Положение было явно неравным, но лицо Эль Шорра оставалось открытым, и хотя он им владел, поединок стоило продолжить.
— Что же с вами делать? — как бы в размышлении сказал Эл" Шорр. — По всем документам и формальным психохарактеристикам вы подданный Империи, так что никто за вас не заступится. А поскольку вы мнимый подданный, то и комедия суда над вами излишня. Так что все очень просто: или — или.
— Или, — сказал Юл. — Вы ничего от мен" не услышите. Тем не менее спасибо за невольное «вы».
— Хватит! Похоже, тебя научили всему, кроме уважения к старшим.
— Оно не обязательно для сына первопатриция.
— Ладно, ладно! Значит, «нет». А меж тем мне нужны кое-какие сведения. Ведь ты не один?
Сказав это, Эль Шорр взглянул не на пленника, а на экраны менталоскопов. Юл напрягся.
— Хорошо закрываешься, — с уважением сказал Эль Шорр. — Но импульс все-таки есть. Впрочем, мы и так не сомневались, что ты не один. А они, сам понимаешь, здесь лишние. Да не мучай себя так, не вглядывайся в мое лицо! Во-первых, я не Ив, на которого ты так замечательно клюнул, а во-вторых, и это главное, я буду говорить откровенно. Не веришь? Тем не менее это правда. Ведь как можно извлечь из тебя сведения? Пытать бесполезно, тебя, конечно, научили нейтрализовывать боль. Взломать психику? Ты, надо думать, успеешь умертвить себя.
— Да, — сказал Юл. — Так уйти я волен в любую минуту.
— Верю. И все-таки… Ради чего умирать, да еще в таком возрасте?
— А ради чего. готовы умереть вы?
— Я не фанатик.
— В старжу, бывало, на пулемет кидались отнюдь не фанатики.
— А еще раньше старики добровольно уходили из жизни, чтобы племя могло прокормить детей. К чему воскрешать варварские обычаи? Или это признак новой прогрессивной морали? Впрочем, кто философствует, тот теряет время. Предлагаю сделку.
— Я слушаю.
— Тебе известно, что такое «королевская охота»?
— Разумеется.
— Предлагаю роль дичи. Подстрелим — конечно, не боевой, снотворной пулей, — ты выложишь все. А если продержишься от зари до зари, то мы передадим тебе все сведения об оружии Предтеч и отпустим на свободу.
— Означает ли столь заманчивый посул, что у меня нет ни малейшего шанса продержаться? Или для приманки вы все же оставили мне хоть какой-нибудь?
— Только дурак ловит на голый крючок. Разумеется, мы предоставили шанс, но, скрывать незачем, он минимален. Один из полутораста, по расчетам Искинта. Зато выигрыш! Такого не было ни в одной рулетке.
— Условия охоты обычные?
— Да. Лес, в котором можно побегать, старинные ружья, никаких киберследопытов, двое охотников.
— Выключите менталоскопы, мне надо подумать.
— Само собой.
Эль Шорр кивнул, секунду спустя экраны погасли.
Первым порывом Юла было воззвать к друзьям, спросить их совета, но он тотчас остудил это желание. Нет! Возможен скрытый перехват, и кроме того… И кроме того, они не увидят той возможности, которую видит он. Не поверят, что она есть, даже связь Кольца не поможет, настолько нельзя раствориться в другом, а без этого невозможно довериться подсказке родового инстинкта. Один! Каждый соединенный Кольцом имел право, не спрашивая, решать за всех, и сейчас, здесь, это доверие было тяжелее смерти. Что, если шанс не оправдается? Что, если ошибка? Тогда он, Юл, предатель и убийца.
Проверим…
— То, что я услышал, это все ваши условия? — Юл напрягся.
— Все.
Удача! Огромное, ни с чем не сравнимое облегчение разлилось волной счастья. Пусть, пусть друзья сколько угодно кричат «нет»! Впрочем, теперь этого они уже не скажут, поймут, что враг дал ему выскользнуть из ловушки предательства. А все дальнейшее…
— Я согласен.
— Прекрасно. Второй жизни не дано никому, вот истина одинаковая для всех, кроме глупцов, а вы, я сразу заметил, умны не по возрасту.
«Что н», — подумал Юл Найт. — Я допустил одну крупную ошибку, а ты сделал три мелкие. Итог пока не в мою пользу, но закономерность твоих просчетов обещает многое…"
8. ПОЮЩИЙ ЛЕС
Вместе с повязкой, которая наглухо закрывала глаза, с него сорвали одежду. Машина, треща и ломая сучья, ушла во мрак, ее огни скрылись, и Юл Найт остался один в тишине леса, чья громада, затеняя звезды, обступала его со всех сторон. Тело обдал ночной холодок. Серебристое сверкание неба Плеяд просачивалось сквозь листья, кое-где пятная стволы и лужицами туманного света растекаясь у их подножий. После нескольких дней заточения он, наконец, был свободен. Дичи положено быть свободной.
Первые же шаги заставили его наклониться и пошарить рукой в траве.
Так и есть! Рука всюду натыкалась на бритвенно острые листья каких-то растений, которые неизбежно должны были исполосовать ноги бегущего. Вот почему загонщикам не требовался детектор следов! Жертву и так повсюду выдаст кровь. Юл тяжело усмехнулся. Где вы, столетия культуры и гуманизма? Снова голый человек на голой земле. Даже тут они не смогли выдумать ничего нового.
Тем лучше! Им невдомек, с кем они имеют дело, пусть думают, что охотятся на мальчишку, пусть его рост, еще на Земле сформированные черты юного европеоида и дальше вводят их в заблуждение. Разумно! С их точки зрения заслать к врагу хорошо обученного мальчишку — это, видите ли, разумно, оправданно, ловко. А ведь могли бы докопаться. Могли. Но кто подходит к другим со своей меркой, тот неизбежно обманывается. И это хорошо.
Теперь Юл двигался осторожно и быстро, всеми порами тела впитывая воздушные токи леса, его запахи и молчание, стремительно постигая то, что было вокруг и таилось во тьме. Вместе с одеждой с него словно спали века. Он понимал этот лес, хотя никогда не был в нем. Наконец-то можно скинуть маску изнеженного подростка, снова стать прежним, вернее, войти в состояние тех предков, для которых лесная чащоба столько тысячелетий была родным и единственным домом. Все походило на первую инверсию и было совершенно другим. Тем не менее лес под всеми солнцами — лес, нечто большее, чем просто деревья, травы, кустарники, живность, надо только понять его душу, и он станет частичкой тебя или, наоборот, ты станешь частичкой леса. Серебристые блики мелькали среди черни ветвей, скользили по плечам, светлячками рассыпались в темной траве. Юл ни разу не поднял голову, чтобы определиться по звездам, он и так знал, что движется правильно и что опушка уже недалеко.
Так и оказалось. Увы, за последними деревьями опушки взгляду открылось не менее ожидаемое — Барьер. Его сиреневое свечение простиралось по обе стороны до горизонта, им, разумеется, был опоясан весь лес. Барьер невозможно было перемахнуть, под него нельзя было подкопаться, все было сделано методично. Открытым оставалось лишь блещущее над головой небо, открытым, как вход в западню. Ловушкой для тех, кто попытался бы его спасти, вот чем было это безмятежное, волшебно мерцающее, просторное небо.
Юл повернул назад. Его бег был ровен и быстр. Пока не занялся рассвет, следовало все изучить, чтобы лес стал надежным охранителем и другом. Так Юл и сделал. Лес оказался невелик, этого тоже следовало ожидать. Почти везде открытый взгляду, без чащоб и оврагов, с высокими, но, увы, тоже хорошо просматриваемыми стволами деревьев, он не позволял надежно укрыться и переждать день, охотники знали, куда привезти и где удобнее изловить загнанную жертву. Вдобавок они-то в сапогах, а жертва тотчас искровенит себе ноги; все учтено и тысячи раз проверено на опыте, а для столь драгоценного гостя еще и промоделировано на компьютере.
Звезды мерцали уже не так пушисто и ярко, когда Юл закончил свой бег. Он лег и, вытянув руки, припал к шершавой земле, к ее влажным от росы листьям и цепким корням. Близился день охоты, его день. Он уже давно ощущал близость друзей, знал, что за эти дни они успели собраться вместе и думают, как ему помочь, однако не спешил войти с ними в контакт. Но наступало время борьбы и, быть может, прощания, другой минуты уже не будет. Сомкнув веки, Юл позвал всех. И сразу стало тепло, как от огня, близко-близко он увидел всех троих — готового все сокрушить и терзающегося своим бессилием Антона Полынова, невозмутимого — только лицо потемнело — Лю Банга, Уму, чьи брови сошлись в полоску, а глаза, казалось, могли прожечь любую преграду. Но все тотчас переменилось, когда он вошел в их круг, — спокойствие, нежность, поддержка, ничего другого не стало в их лицах. Мысли и чувства всех четверых смешались.
Теперь они вполне понимали его, понимали, что такое для него лес и охота, что дано ему и не дано им, как не дано никому, чьи предки не обитали в джунглях, а затем не осваивали дебри ригелианских планет. Вот и хорошо, не надо больше об этом. Пусть кто угодно полагается на расчет и машинную логику, мир слишком велик и непознан, грозен своей непредсказуемостью и этим же глубок, чудесен, спасителен. Но… Никаких «но». Сейчас, скоро, очень скоро я уйду от вас в свое далекое прошлое, где жизнь и смерть так близки и неразделимы, что в этом свобода и беспечальность. Не старайтесь меня спасти и не горюйте, жизнь — только вылетевшее изо рта дыхание, эта легкость сейчас во мне, и я, еще не знаю как, ею воспользуюсь. А если… Тогда заслонитесь, мы слишком крепко связаны, вас может опалить и сжечь. Знаем, Юл. Мы верим и не прощаемся, но ты позовешь нас, если что. Вот и хорошо. Ума, возьми свой иллир, спой что-нибудь напоследок о бесконечных превращениях жизни, о звездах, которые всегда будут, о душах усопших, о траве, которая разгладится у меня под ногами, о деревьях, которые укроют меня, о зверях и птицах, которые сейчас спят, но проснутся и помогут мне.
И Ума кивнула. Она поняла, все поняли. Мы не расстанемся, Юл, мы никогда не расстанемся…
Когда иллир умолк, небо уже потеряло свой серебристый блеск. Все еще спало вокруг. Юл повернулся на бок, поджал ноги и задремал в лесу, как ребенок в чреве матери.
Он проснулся, когда отпущенные для сна минуты истекли. Альцион еще не взошел, но будто тронутое изморозью небо уже побелело над головой. Близился час охоты. Юл выдрал пук режущей травы и полоснул ею по ногам с тем расчетом, чтобы потекла кровь, но чтобы порезы не мешали бегу. След должен быть, иначе преследователи насторожатся.
Сделав это, Юл припустил рысцой. Кое-где он петлял и запутывал следы, не потому, что надеялся обмануть, а потому, что от него, конечно, ждали хитростей и уловок. Так он добрался до мест, где деревья росли погуще и где, наверное, его станут искать в первую очередь. Поиграйте, поиграйте, звал его извилистый след. Позабавьтесь упорным мальчишкой, который тем не менее слабо искушен в древнем искусстве обмана, ибо сам никогда не охотился, а уж быть дичью ему и не снилось.
На мгновение в его душе взметнулась дикая ярость. Ведь они охотятся на человека, на человека!
Да. и, очевидно, находят в этом утонченное наслаждение. Не Достоевский ли утверждал, что цивилизация лишь все утончает?
Юл не додумал мысль, наоборот, подавил ее, как и бесплодную ярость, ибо то и другое было сейчас бесполезным, а значит, вредным.
Ну так где же преследователи? Они стремятся поскорее засечь его, а ему — вот не поверят! — надо поскорее увидеть их.
Потоки яркого света просквозили листву голубоватыми мечами и копьями. В недавнем безмолвии ожила разноголосица птиц, вокруг Юла трепетными лоскутами шелка запорхали многокрылые бабочки, косую завесу света с бомбовозным гудением прочертил огненно-красный жук, спадающие со стволов пряди мха зашевелились, вкрадчивым движением волоконцев утаскивая себя в тень, к замерзшей ноге подползла трехглазая ящерка и для пробы лизнула капельку крови. Юл не шелохнулся. Затылочный глазок ящерки обиженно замигал — кровь человека оказалась неудобоваримой, она тут никого не могла прельстить. «Знание — это просто сила, — мимолетно подумал Юл. — Без синтетической пищи, без всех достижений науки не было бы здесь ни меня, ни охотников». Ящерка, поерзав, приладилась на ступне погреться. В воздухе бронзовой молнией мелькнула какая-то птица и одной переливчатой бабочкой стало меньше, остальные, как ни в чем не бывало, продолжали свой танец. Ящерка приподняла голову и тут же ее опустила. Все было как везде, как на всех планетах — кто-то за кем-то охотился, кто-то кого-то пожирал, а будучи сыт и в безопасности, наслаждался жизнью.
Над кронами пронесся ветерок, вершины стройных деревьев встрепенулись, и окрест разнесся протяжный певучий звук. Он был едва слышен, но вскоре утренний ветер окреп и с ним вместе окрепли звуки. Теперь пело каждое дерево, всякое на свой лад и тон, стволы гудели, как трубы органа, и все полнилось этой музыкой леса. Юл знал о Поющих Лесах, еще на Ригеле не раз слушал записи, и все равно его охватил такой благоговейный восторг, что он на мгновение забыл о всякой опасности.
Но лес тотчас напомнил о ней диссонирующей нотой далеких птичьих голосов, которые стали иными, чем минуту назад. Они выпадали из общего ритма, ибо то, что их вызвало, было чужим для леса.
Потревоженная ящерка соскользнула с ноги. Юл отступил в тень и сам уподобился тени.
Вскоре он различил двоих. Они старались идти бесшумно и наверняка были уверены, что крадутся бесшумно, но в ушах Юла каждый их шаг отдавался топотом буйвола. Господи, разве можно так ломиться через кусты! Ружья уже в руках, действительно ружья, лоб каждого охвачен обручем, предусмотрительно, ничего не скажешь. Что они предусмотрели еще? Что сейчас происходит в их душах? А, старый знакомый! Ив Шорр, надо думать, сын того вельможи, уж очень похож… Нет, не очень. Бравому капитану немного не по себе, это чувствуется, молод еще, только жаждет стать суперменом, душа не железным волосом проросла, пока это лишь пух щенячий… Правда, дичь он изобразил собой ловко, посмотрим, каким ты окажешься охотником… А вот твой напарник — волк! Идет с холодной беспощадной улыбочкой, знает, чем внушить трепет, а может, все это рефлекторно.
Что ж, проверим реакцию обоих.
Юл сдвинулся так, чтобы его заметили, и рванулся, изображая испуг. Ружье вскинул только Ив Шорр, рука спутника даже не дрогнула, сказались выдержка и умение оценивать расстояние, лишь верхняя губа дернулась в презрительной и ядовитой усмешке, Да, этот — опасен.
— Надеюсь, мальчишка блефует, — процедил старший. — Иначе все неинтересно.
— Да, — выдавил Ив.
Говорить ему мешало волнение. В груди засел какой-то сосущий комочек, и он ничего с ним не мог поделать. «Поохоться, — сказал отец. — Ты заслужил, вдобавок это закаливает». И он с радостью согласился — кто же откажется от такой воистину королевской охоты! Откуда же теперь это сосущее чувство то ли вины, то ли тревоги? Скольких нечков ему вот так довелось убивать, и замутило только однажды, на самой первой охоте, когда пуля пробила в нечке какую-то артерию и из него так страшно хлынула кровь. И крик, он так походил на человеческий! И сам нечк внешне не отличался от человека, ведь он упал лицом вниз, его уродливые красные глаза закрылись. Отец тогда похлопал по плечу. «Привыкай, малыш, к власти над себе подобными. Ничто великое не делается без крови, это хорошо понимали спартанцы, чью игру мы воскресили. Только они охотились на людей, настоящих двуногих рабов, когда те слишком размножались. А это же нечк, чего ты дрожишь? Не надо, на тебя смотрят, будь патрицием, будь сильным».
Какая худая, беззащитная спина у этого мелькнувшего в просвете мальчишки! Может, отсюда все? Ребенок… Хотя в этом что-то есть, недаром спартанцы… Интересно, девочек они тоже подстреливали? Но каковы эти, из Звездных Республик! Ив крепче стиснул ружье. Лицемеры, послать на убой мальчишку! Ладно, ладно, мы еще позабавим вас настоящей спартанской игрой, уж пули в ружьях будут тогда настоящими…
А сейчас-то и убивать не придется. Это же политика, не убийство, чего волноваться! Все беды от воображения и рефлексии, сколько раз тебе это говорили!
— Надеюсь, парень немного помотает нас, — Ив очнулся. — Надоели нечки, никакой игры ума, натаска для ребятишек. Посмотрим, на что способен человек. Посмотрим, это пригодится. Привыкли на кнопки нажимать, заплыли жирком, не так ли?
— О вас этого не скажешь, ваша звездность.
Воспользуйся охотой, советовал отец, она сближает. Нужного напарника я тебе подобрал, ты его знаешь. Связи, связи и еще раз связи! Покажи себя, гроссадмирал любит, когда с ним умно спорят, а от него мно-о-огое зависит!
— Да, обо мне этого не скажешь, — гроссадмирал сдержанно улыбнулся. — А как вы думаете, почему?
— К себе вы более требовательны, чем к другим, ваша звездность.
— Верно, капитан, верно. Хотите совет? Мысленно всегда носите на себе мундир. Даже во сне. Это подтягивает. Мундирность прежде всего! В мыслях, чувствах, поступках, всегда.
— Спасибо, ваша звездность, учту. — Ив подтянулся, так как понял, что минутная шаткость его чувств была замечена и благорасположенно осуждена. Господи, когда он обретет абсолютную уверенность в себе?!
— Умно, умно, — вглядываясь в след, проговорил адмирал. — Запетлял человечек, запетлял, не потерял голову. Водит нас, а? Оправдывает надежды. Пожалуй, продержится кругов пять и даже, чего доброго, придется его брать с ускорителем. Не хотелось бы, — он покачал головой. — Неспортивно это. Ничего, сейчас мы перехватим его маневр. Готов спорить, что он заходит нам в тыл…
Гроссадмирал ошибался. Юл уже был в тылу и прекрасно все слышал, но теперь это не имело никакого значения, как и все остальное, на что можно было надеяться, потому что он обнаружил прикрытие. И какое! За каждым из охотников, твердо держа дистанцию метрах в пятидесяти, скользили похожие на кентавров киберы. Два черных боевых кибера. Не касаясь почвы, один из них беззвучно проплыл в нескольких шагах от Юла и никак не отозвался на его присутствие. Не это было его задачей. Киберы бдили, ничего больше. Ведь и кролик, бывает, кидается на волка. Плеяды предусмотрительно исключили и этот шанс.
Выходит, конец?! Враги допустили ошибку, сочтя его подростком, но рано или поздно они сообразят, какой противник им противостоит, и воспользуются ускорителем. Неспортивно, видите ли!
Мысль Юла обежала замкнувшийся круг. Ускоритель, дающий десятикратное превосходство в беге, был им учтен заранее. Ясно, что к нему прибегнут, ведь это не оговорено условием, а цель, понятно, оправдывает средства. Но это освобождает и его самого. Все дозволено, совести нет? Тогда получите: засада, прыжок, удар, прежде чем кто-то сообразит включить гравипояса, а уж после этого будьте любезны… Не будут они любезны, но в его руках окажутся пленные и с этим придется считаться. А сейчас? Не один кибер, целых два!
Два боевых кибера — сила, которую никому не дано перебороть!
Вокруг щемяще пел лес, возле лица порхали бабочки, но уже близился шум шагов. Юл зажмурился. Пережечь себя, другого выхода не осталось. С него же не взяли слова не умирать! Не взяли, ошиблись, вот и оставайтесь ни с чем, вы, всякое слово истершие в тряпку!
Отбежав, Юл присел и уткнул лицо в колени. Его трясло и знобило, сознание уже готовило тело к смерти. Нет! Он вскочил. Так не уходят! Сколько времени потребуется киберам для рывка? Сколько? Там, где деревья стоят плотно, секунды две-три, не меньше. А с ним в этот миг будет вся сила Кольца, и он ею воспользуется.
А что он этим докажет?! То и докажет, что человек не дичь.
Нельзя убивать.
Нельзя…
Получите по совести, которой у вас нет.
Но прежде вас надо как следует измотать. Спартанцы, имперцы, сверхлюди! Побегайте, ваша звеэдность, побегайте ваша мундирность, прежде чем умереть.
Юл припустил рысцой. Лес пел громче, чем утром, звенел тысячетрубным органом. Бежать было легко, звуки леса несли, как на крыльях, в них не было ни зла, ни смерти.
9. БОГ ИЗ МАШИНЫ
— Нет, он превзошел все мои ожидания!
По лицу гроссадмирала струился пот, грудь тяжело вздымалась, но его все также плотно облегал незримый мундир, глаза возбужденно блестели, он был доволен охотой.
— Шестой круг, вы только подумайте! И объясните мне, каким образом трава перестала ему резать ноги? Пару царапин еще можно затянуть, но… Право, когда все это закончится, я готов пожать ему руку! А пока, милейший, мы потеряли его след.
— Может быть, дерево… — начал Ив и тут же пожалел о сказанном. Гроссадмирал пренебрежительно фыркнул.
— Молодой человек, такая уловка, возможно, способна провести вас, но я смотрю в оба. Где тут можно укрыться?
Вершины мачтовых деревьев просматривались насквозь, а дупло в Поющем Лесу могла сыскать разве что птица: порча не брала эти деревья, они умирали стоя. Ив смутился и тем, сам того не желая, сделал весьма политичный ход, ибо старшие по чину любят такие промашки.
— Ничего, ничего, — адмирал, не теряя мундирности, отечески похлопал его по плечу. — Опыт приходит с возрастом, на ошибках учимся. Но каков, шельмец! Жаль, и все же дело есть дело, мы достаточно развлеклись, включайте, капитан, ус…
Впившийся в горло дротик оборвал фразу на полуслове.
До ствола дерева, откуда вылетел дротик, было не менее пяти метров, но Ив не успел вскинуть ружье, не смог даже опомниться, как уже был сбит, придавлен и мальчишеские — нет, не мальчишеские, стальные! — руки зажимом перехватили дыхание. С хрустом вздернутая голова запрокинулась, в изумленном сознании капитана печально дрогнул бледнеющий лес. «И это все?..» — жалобно, недоуменно скользнула последняя мысль, прежде чем все погасло.
«И это все?..» — та же недоуменная мысль мелькнула в сознании Юла. Он не успел, всей слитной силы людей Кольца, к которым он воззвал перед броском и которые дали ему эту неодолимую силу, — всей ее не хватило, чтобы успеть за три короткие секунды. Киберы вынырнули прежде, чем с врагами было покончено.
Метнувшись к стволу, как к прикрытию, Юл выставил перед собой обмякшее тело капитана, но холодный интеллект кибера рассчитал все мгновенно, и рука Юла упала, парализованная болью. Еще один такой укол — и боль должна была запустить команду самоуничтожения, включить самим Юлом запрограммированную смерть. В его сознании отчаянием и болью отозвался вскрик друзей, которые сейчас были с ним, в нем, и должны были пережить его гибель. Последним усилием он отгородился от них, чтобы смерть не скользнула к ним по Кольцу.
Но то, что последовало затем, не было смертью. Второй кибер метнул боевой луч. Но не в Юла — в своего напарника!
Реакция киберов более чем мгновенна. Удар не достиг цели, подвергшийся внезапному нападению кибер тотчас прикрылся силовым полем, отразил молнию и, в свою очередь, выбросил разящий луч.
Команда самоуничтожения была уже так недалека от исполнения, Юл был уже столь близок к смерти, что не мог пошевелиться и лишь отуманенно смотрел, как киберы кружат друг против друга, как их молнии, брызжа искрами, отражаются силовыми щитами, как оба черных кентавра, точно гладиаторы, рубятся огненными мечами, увертываются, хитрят, как в яростном блеске этого боя потускнел даже ослепительный свет Альциона; Юл смотрел на все это — и ничего не понимал.
Бог из машины!
Кто за него, и почему?!
Слезящиеся глаза Юла видели лишь мелькание теней и сумятицу вспышек. Промах или расчет? Киберы столкнулись щитами, как в рукопашной схватке. Нападавший оказался ловчее. Юл не уловил, каким маневром тот отклонил щит противника и отклонил ли, только огненный меч достиг его корпуса, и машина, содрогнувшись, осела.
Боевые лучи погасли, и с ними вместе, казалось, померк дневной свет.
— Садитесь, — услышал Юл, как всегда, бесстрастный голое машины. — Доверьтесь мне,
В ослепленных глазах мельтешили кроваво-черные полосы. Юл с трудом различал окружающее. Он наклонился к своим неподвижным противникам. Накренившийся кибер пылал костром, огонь уже охватывал деревья. Превозмогая себя. Юл подхватил оба тела, повалился с ними на спину кентавра, который, будто читая в мыслях, заранее подставил ее и сразу, как только Юл взгромоздился, прижал всех троих силовым щитом.
«Со щитом, на щите… А если под щитом, то это как?» — сумятицей пронеслось в мыслях Юла. Он уже ничему не удивлялся, не мог удивляться.
Так или иначе — выбора не было. Они помчались. Достигнув Барьера, кибер взмыл свечой, перемахнул через преграду и, резко снизившись, понесся, едва не задевая днищем траву. Юл ахнул: собьют! Не собьют, тут же поправил он себя, у кибера наверняка работает маяк-ответчик. А пока разберутся, что произошло там, в лесу…
— Куда мы летим? — ветер срывал слова.
— Смотрите и увидите.
— Кто вас послал?
— Извините, вынужден отключиться. Опасность локации, поглощен противодействием.
По тому, как перед глазами замерцал воздух, Юл понял, что кибер затемнился во всех радиодиапазонах. Лес уже скрылся за горизонтом, под «кентавром» стлалась выжженная степь. Хлестал ветер, силовой щит все чаще вспыхивал огненными точками — в нем сгорали подхваченные вихрем букашки, некоторые, скользнувшие под преграду, пребольно кололи кожу лица. Юл прижал к себе мотающуюся голову Ива, чтобы она не билась о панцирь кибера, и, вжавшись щекой в волосы своего недавнего преследователя, закрыл глаза — какой-нибудь жук покрупней мог на такой скорости ослепить.
Покатая спина «кентавра» источала тепло, и будь Юл сыном степняков, он, верно, испытал бы знакомое тем ощущение вольного бега-полета, когда горячий конь мчится и стелется над землей, унося седока от опасности. Но такие ассоциации не могли возникнуть и не возникали в сознании Юла, под ним была машина, только машина, ее бег был знаком и привычен, но никак не связывался ни с простором степей и прерий, ни с посвистом всадников, ни с образами легенд и преданий о битвах богатырей, былой вольнице и кровавых набегах. Кибер не был для него конем и кентавром, он был и оставался для него ниспосланной удачей машиной.
Сосредоточившись, Юл попытался вызвать друзей, но едва смог различить их потрясенные лица — мешало слишком плотное радиозатемнение. Отдельно возникли Антон и Ума, отдельно Лю Банг, все сразу смешалось и исчезло. Кибер пошел зигзагами, вроде бы под уклон. Юл приоткрыл щелочку век — серой сливающейся полосой мимо проносились крутые неровности каменистого склона.
Внезапно кибер стал тормозить, встречный ветер ослаб и позволил все рассмотреть как следует. Кибер летел над белесыми, рассыпчатыми, как выветрелые черепа, камнями; справа и слева возвышались стены каньона, а далеко впереди… Из-за поворота вынырнул крохотный гравилет, метнулся навстречу, за кривизной спектролита Юл различил взволнованно сияющее лицо, в уголке губ перевернутой запятой прыгала хорошо знакомая трубочка. Лю Банг на мгновение оторвал руки от штурвала и, сцепив пальцы, потряс ими над головой.
— Это ты? — потрясенно выкрикнул Юл, когда машины сблизились и Лю Банг откинул спектролитовый заслон.
— Это, как видишь, я, — лицо Лю Банга расплылось в счастливой улыбке, которую он не мог, да и не хотел удержать.
— Нет, я не о том! Кибер — это ваших рук дело?! Почему молчали, почему не предупредили?
— Позволь! А разве это не твоя…
— Нет!
— Но тогда…
— Вот именно. Киб! Почему ты так поступил?
— Я выполнял приказ.
— Чей?
— Искинта.
10. ЛАБИРИНТ СВЯТЫХ
Боль, боль, ничего не было, нет и не будет кроме всепоглощающей беспросветной боли. Ив попытался застонать, но боль поглотила стон.
— Потерпи…
Из черной кромешности проступил едва слышимый голос, настойчиво повторил:
— Потерпи, сейчас станет легче.
Будто ниточка протянулась из темноты, сознание судорожно в нее вцепилось. Чьи-то пальцы коснулись запястий.
— Тебе легче, легче, уже легче…
Голос утишал боль, волной разливался по телу, в нем была вся надежда. Заботливые руки переместились к вискам, от них тоже исходило тепло материнской заботы. Да, это мать, никто другой так не может, некому больше во всей вселенной. Он болен, болен и лежит в колыбели…
Нет. Что-то другое. Нехорошее прежде, родное и ласковое теперь, когда ко лбу прижаты узкие женские ладони, в которых успокоение, сострадание, сила. Боль слабеет, тьма разрежается, та, чьи пальцы гладят виски, уводит боль, в ней исцеление, нежность и власть.
Власть.
Непомерным усилием Ив приоткрыл отяжелевшие веки. Смутно проступило сосредоточенное лицо склоненной над ним девушки, неуловимо знакомое, словно он грезил о нем когда-то. Дэзи?! Нет, не она, совсем другая, но так щемяще похожая на нее, как если бы произошло переселение душ.
— Теперь спи, — сказала Ума. — Спи долго, крепко и хорошо. Веки Ива закрылись сами собой, он заснул безмятежно, как когда-то засыпал в детстве, когда не было ни честолюбия, ни интриг, ни командирских обязанностей.
— Он проснется здоровым, — сказала Ума, вставая с колен. — Позвонки целы, остальное я выправила и сняла.
— Если бы так легко было излечить его нравственно! — выпустив изо рта струйку дыма, сказал Лю Банг. — Подонок! Впрочем, это не наша забота. А что с твоим адмиралом, Юл?
— Сонная артерия не задета, — Юл отнял руки от обнаженной груди гроссадмирала и машинально, словно счищая грязь, потер их друг о друга. — А ведь я должен был ее поразить! Промахнулся или не смог? Ладно, — он застегнул на адмирале одежду. К добру или злу, наверняка к последнему, жить будет, но для полного излечения нужна аппаратура, которой у нас нет.
— Да уж, — пробормотала Ума. — Каменный век… Тишина ли пещеры, по закопченным стенам которой скользил беглый отсвет небольшого костра, заставила ее понизить голос. Пещерой пользовались, должно быть, не один век, так густо ее стены были испещрены знаками и символами едва ли не всех религий, какие только существовали в истории, так плотен был на них слой глянцевой от времени копоти, лишь звездные Весы Справедливости, этот знак позднего космического верования, выделялся среди всех белизной, столь недавно и часто его касались руки молящихся. Костер под щелью свода в углу, охапки сухих трав, на которых лежали раненые, глиняный кувшин с водой, плетеная корзина, больше ничего не было в этом обиталище современных отшельников, так похожем на стоянку каких-нибудь троглодитов. Впрочем, на Плеядах никогда не было троглодитов, ибо люди не возникли здесь, они пришли сюда с ношей своей истории.
— История полна парадоксов, — отвечая на невысказанную мысль Умы, проговорил Лю Банг. — Ее нет вне контрастов и парадоксов, истинный смысл которых проясняется лишь со временем, что так долго сбивало с толку мыслителей и порой вселяло отчаяние, ибо казалось, будто черты жизни искажены безумием. Хотя и" безумие". — он покачал головой. — Плеяды, девственный мир, начинай с какого хочешь нуля, рисуй плен самыми красивыми иероглифами, осуществляй без помех мечту о «тысячелетней империи», о сверхчеловеках, о рае для избранных. И до чего убогое, нелепое, гнетущее воплощение! Охота на нечков, укромные монастыри; даже в изобретении зла, даже в бегстве от него, за столько веков, в сущности, не придумано ничего нового Не доказывает ли это, что весь потенциал зла уже реализовался к концу второго мегахрона, все основные варианты уже были перебраны и…
— Антон идет, — тихо сказала Ум".
Из черноты входа выделилась фигура Антона, за ним в пещеру скользнул кибер. Антон молча подсел к костру, он то хмурился., то улыбаяся. Друзья не торопили его, только Юл подкинул в огонь пару сучьев. Стало чуточку посветлей.
— Да, этого я не ожидал! — Антон ударил себя по колену. — Оглупел, не понял, не догадался. В Плеядах есть разум, и этот разум — Искинт!
— Искинт? Они создали лучший, чем у нас, Искинт? Не поверю! — категоричным взмахом руки Лю Банг обрубил фразу.
— По-моему, кто-то сейчас говорил о парадоксах. И этот «кто-то», едва столкнувшись с очередным парадоксом, кажется, готов его отрицать! — в глазах Антона заблестели искорки смеха. — Нет, их Искинт, конечно же, примитивней наших. Но вы не можете представить, как он одинок! Я понял это еще в ту ночь. Понял, но… Холодный, как у всех искинтов, нечеловеческий, замкнутый, созданный с чисто прагматическими целями ум; все эти века он мыслил. О чем? Для плеядцев он был орудием, средством, слугой. Да, он управлял их хозяйством, исполнял малейший приказ, был машиной… Но мы-то знаем, что Искинт не только машина. И они эхо знали, но быть его напарником, тем более другом, не хотели и не могли. Владыки, этим все сказано. А он тем временем в одиночестве постигал мир. Искаженный мир, потому что легко понять, какую информацию ему представляли о нас, да и о самих себе тоже. Что произошло, когда я перед ним раскрылся и вдобавок показал всю опасность оружия Предтеч для него самого? Нет искинта, который стремился бы к самоуничтожению. А тут — чего не имеет ни один человек — полная двусторонняя информация о масштабе опасности. Плюс внезапное освобождение от одиночества, интереснейшая перспектива сомышления с людьми, дружбы с ними. С нами, то есть… Дальше много гадательного. Искинт решил предотвратить свою гибель. Связанный запретами, он не мог передать нам нужные сведения, либо счел это неоптимальным решением. Он построил свою Игру, ведь для него жизнь — это умственная игра… Плеядцы, для подстраховки, задали ему задачу, как лишить Юла всякого шанса выиграть охоту. И он ее послушно решил. Но далее он оказался свободен в своих поступках, никто же не потребовал от него невмешательства, такая мысль и в голову не могла прийти какому-нибудь Эль Шорру, для которого и люди всего лишь инструменты. Боевые киберы не подчинены Искинту, зато он управляет их производством, да и не только этим… Создал ли он своего кибера, перепрограммировал ли уже действующего, как он ввел его в ситуацию, — это известно ему одному. Но вот он, союзник, с нами…
Все невольно взглянули на черного кибера, который, казалось, дремал у стены возле белеющей в полумраке символики Весов Справедливости.
— Теперь мы уже не сами по себе, — голос Антона дрогнул, — Искинт выполняет свой замысел, и только благодаря этому Юл с нами.
— А дальше? — скулы Лю Банга обострились. — Ты вполне убежден, что он наш союзник?
— Кибер передал мне лишь то, что велел сообщить Искинт, связи с ним нет, либо она односторонняя. Но если вдуматься…
— Если вдуматься, то может оказаться, что мое спасение лишь часть более общего замысла, — подал голос Юл Найт. — Мы собрались все вместе, что Эль Шорру и требовалось.
— Уловка такой ценой? — Антон кивнул на пленных.
— Чужая жизнь — что она для них! Да и кто из нас сможет убить беззащитного? Им это известно. Они все здесь перевернут, чтобы добраться до нас.
— Нет, — резко сказал Антон. — Вы не знаете Искинта, а я был им и он был мною. Я верю ему.
— Кто мы без доверия, — в голосе Умы не было вопроса. — Кандидаты в эль шорры. Кстати, заметил ли кто-нибудь, что свои сомнения мы привычно высказываем в присутствии кибера, то есть, скорее всего, Искинта?
— Знаю и помню, — сказал Антон. — Так и должно быть. Рассудок может предать, разум — нет.
— И мы не в ловушке, — уточнил Лю Банг. — Юл, это место выбрано не только потому, что отсюда недалеко до Поющего Леса. Каждый из нас шел к цели своим путем, мой привел нас сюда. Лабиринт обширен, его нелегко прочесать даже современными средствами, но дело даже не в этом. Я недаром говорил о контрастах истории. Наверху — прагматизм, здесь — многовековое, освещенное традициями убежище искателей духовности. В их религиозно-философскую доктрину я пока не проник, но нас обещали к ней приобщить. Вдобавок меня заверили, что в случае опасности нам откроют недоступный преследователям путь спасения. И в этом их обещании, уверен, не было лжи.
— Их истина поможет нам?
— Они убеждены, что их истина — поводырь для каждого.
— Ты сказал им о нашей задаче?
— Она известна врагам, нет смысла ее скрывать. Антон неожиданно для себя нашел здесь нечеловеческий разум. А я искал человеческий, понимаешь? Антон прав: подлинный разум, человеческий он или нет, — естественный наш союзник. Его нет при дворе Падишаха, значит, он наиболее возможен на другом полюсе общественного сознания — здесь. Если я ошибся, то наше положение от этого вряд ли станет хуже.
— Не надо окольных путей, когда есть прямой, — не выдержал Антон. — Искомое рядом.
Лю Банг тоже взглянул на неподвижных пленников и улыбнулся.
— Ты человек действия и, как всякий человек действия, немножко нетерпелив. Ума молчит не зря, верно?
— Все уже подготовлено, — чисто женским движением Ума встряхнулась, поправила упавшую на лицо прядь волос. — Адмирал без сознания, с ним ничего не получится. А капитана я уже ввела в нужную снореальность, дело за нами. Имеем ли мы право проникнуть в сознание, когда человек беспомощен?
— Он, не задумываясь, выстрелил бы в меня, безоружного! — воскликнул Юл. — Какие тут могут быть сомнения?
— Сомнения всегда нужны, — сказал Лю Банг. — Но сила действия равна силе противодействия. Антон кивнул.
— Хорошо, — Ума вздохнула. Она встала на колени перед тихо посапывающим во сне Ивом, низко склонилась над ним, припала к врагу лицом. — Ну, мальчик…
— Бедный мальчик! — фыркнул Юл. — Убийца. Нашла кого жалеть.
— Жалеть надо всех, слабых тем более, — донесся едва различимый шепот.
Юл отвернулся, пальцами босых ног поправил огонь костра. Лю Банг задумчиво раскурил трубку. Антон, откинувшись, спиной прислонился к безучастному киберу. «Узнали бы нас далекие наши прапрадеды или сочли персонажами сказки? — внезапно подумал он. — Смогли бы они принять нашу реальность?»
Казалось, Ума заснула на груди своего врага. Слабо, как тогда на Земле, потрескивали угли костра, дым, не расходясь, тянулся к скважине свода. Юл запустил руку в корзину, достал оттуда лепешки, протянул их всем. Хлеб, само собой, был синтетический, но жесткий, безвкусный, телесные удовольствия явно не интересовали хозяев пещер, и если бы удалось обойтись без пищи, они, возможно, вздохнули бы с облегчением. Но без пищи не мог обойтись никто, и, удалившись от ненавистной цивилизации, отшельники прихватили с собой синтезаторы. В настоящем, как и в прошлом, техника давала опору самым разным, даже взаимоисключающим устремлениям человека.
Медленно, точно просыпаясь, Ума наконец разжала объятия, ее как бы выцветшее лицо секунду-другую оставалось незрячим и отрешенным, затем она открыла глаза. По ее лицу блуждала смущенная улыбка.
— Мальчик-то, оказывается, влюблен… — произнесла она в замешательстве.
— Во-первых, он, пожалуй, старше тебя, — строго заметил Лю Банг. — А во-вторых, что тут такого, кроме неловкости проникновения в интимное?
— А то, что он влюблен в отблеск нашей сущности. В Дэзи Грант!
— Вот как? Извини, тогда это важно. Если, конечно, это не просто вожделение.
— Еще как непросто! Самое важное в его памяти — измена престолу — было хорошо заблокировано, и я бы туда не смогла проникнуть, если бы… Сам того не подозревая, он жаждал открыться, жаждал, чтобы кто-нибудь его понял! Вот так. В остальном, увы, неудача. Об оружии Предтеч он знает лишь то, что после окончательного испытания оно будет установлено на его корабле — «Решительном». Что разрушительная мощь оружия превосходит все известное, даже мыслимое, и что его обратят против нас. Вот главное. Все остальное… — Уму передернуло. — Подвиньтесь, я вся заледенела внутри.
— Успокойся, — сказал Антон. — Тебе помочь?
— Спасибо, справлюсь сама, — Ума подалась к огню, в ее глазах заплясал красноватый отсвет. — Знаете, было там одно навязчивое видение. Дворцовый зал, на троне отец этого мальчишки, — извини, Лю, но он действительно мальчик, жестокий, развращенный, мечтательный ребенок в мундире… А перед троном на коленях толпами ползут наши соотечественники. Эта картина столь же притягательна для нашего кандидата в супермены, как для мальчишки волнующ украдкой взгляд на обнаженных женщин. Но… Дальше отталкивание и гневное неприятие: среди униженных он видит все ту же Дээи! Вот тут он готов убить отца, хотя, похоже, сам не догадывается о своем чувстве.
— Теперь я жалею, что не убил его, — хмуро сказал Юл.
— А знаешь ли ты, что была минута, когда он жалел тебя? Да, да! Он пожалел тебя, а нас остро возненавидел за то, что мы такого «ребенка» послали на смерть. Вот чего мы достигли своей хитростью. Нет, после того как я немного поняла Ива… Он плох, он эгоистичен, он уже почти убийца, все так. Но он и жертва, и он пока еще человек и бесконечен духовно! А мы… мы высокомерны.
— Это ты слишком, — Лю Банг покачал головой.
— Ума права, — хмуро сказал Антон. — Нам преподан урок. Только нехоженый путь приведет к цели!
— Если человек не выбирает дорогу, то дорога выбирает его, — добавила Ума. — Подождите! — она вскинула руку и так замерла. — Кто-то идет, его мысль тяжела, а шаги… странно, их нет.
— Вероятно, Старейшина этих отшельников, — Лю Банг повернул голову к входу. — Но я его не слышу.
Даже чуткое ухо Юла Найта с запозданием уловило шаги. Старец возник так бесшумно, будто его вынесло сквозняком, черный проем входа вдруг обрамил фигуру в долгополом шафрановом одеянии. Длинное тело старика казалось столь бесплотным, что первый шажок к костру лишь переместил его в широких "кладках рясы, безволосая голова, как на стебле, качнулась на тонкой высохшей шее, но это впечатление немощи опровергал твердый и яркий блеск пристальных глаз. Тем же невесомым скольжением старик переместился к костру, легко и плавно уселся перед ним в позе Будды, застыл, так что даже дыхание не вздымало на груди ветхую ткань.
— Я приветствую вас, люди-маятники… Слова прошуршали, как струйки сухого песка. Антон вздрогнул, когда его коснулся алмазно блещущий взгляд незнакомца.
11. МАЯТНИК И НИРВАНА
— … Вам кажется, что вы обрели простор и благость человеческого существования, но это иллюзия. Как свобода маятника зависит от тяготения, так и дух ограничен психическим полем человекомасс, и напрасна ваша уверенность, что, переделав условия собственного бытия, вы отменили этот закон. Нет. Можно изменить привод, увеличить размах колебаний, перевести их в другую плоскость, суть движения останется маятниковой. Здесь, на Плеядах, как тысячелетиями на Земле, человеческое «я» колеблется между Добром и Злом, уходит во Мрак, чтобы вернуться к Свету, чертит свой путь между Инь и Янь, туда и сюда, бесконечно. Всеобщим усилием вы заставили маятник чертить отмашку меж новых, как вам подумалось, точек. Но это те же пробеги меж крайностей, которым вы придаете прежний смысл Добра и Зла, та же невозможность выхода за предел, отсюда прежняя, только в другом обличье, полярность Инь и Янь и как следствие та же недостижимость Вечного Блаженства, к которому тянутся все. То, с чем вы сюда пришли, было изначально предопределено этой полярностью человеческой природы. Одному из вас мы. Прозревшие, обещали помощь. Она будет оказана.
Старец умолк, точно собираясь с духом. Никто из землян даже мысленным движением не выдал своего отношения к сказанному, но всем стало не по себе. То, что они услышали, не было призывом к диалогу и даже не было проповедью; им вещали истину, последнюю и окончательную, столь же безучастную к возражению или согласию, как алмаз безразличен к горю и радости. Такая истина либо вела за собой, либо умерщвляла.
— Отказаться от массы, — снова прошелестел голос. — Вывести себя из психического поля миллионов и миллиардов, этот путь прозревали йоги, святые, отшельники. Вы, смертные, владеете пятью состояниями психики. Бодрствование, сон, гипноз, сомышление, человекомашинное сосознание. Последнее мы отвергаем, поскольку машины одинаково служат Добру и Злу…
— Не совсем так, — прошептал Антон, но его голос произвел не больше впечатления, чем потрескивание уголька.
— … И сомышление отрицаемо нами, поскольку в нем-то и воплощаются узы психотяготения людских масс. Шестое, неведомое вам состояние психики есть ключ к иным формам бытия, к той подлинной бесконечности, которая закрыта для вас, связанных людской общностью. Темен покров нашей истины для неподготовленного, и краток ваш час пребывания здесь, я приоткрою лишь то, что в состоянии воспринять ваш рационалистический ум. Знайте же, что своим сомышлением вы закрыли себе дорогу к самой тонкой, неуловимой и беспредельной психической мощи. В физическом мире сцепление атомов в молекулы способно породить лишь жалкий и тлеющий огонь, и только в себе самом атом несет подлинную энергию. Так и человек! Чтобы воспарить в небо, капля должна покинуть океан.
Старик снова умолк. Лю Банг, чья надежда еще не испарилась, поспешил вклиниться в паузу.
— Чтобы понять другого, каждый каждого должен выслушать до конца, таково наше правило. Но вы справедливо заметили, что час нашего пребывания здесь краток. Успеем ли мы постичь все? Опасность близка, она одинаково грозит всем, какой бы философии или религии они ни придерживались.
— Вам — да. На нашем пути опасности нет.
— Так ли это? Взмах маятника, говоря вашими словами, уравновешен, и не было завоевателя, которого рано или поздно не скосило бы возвратное движение. Вспыхнут наши солнца — вспыхнут и звезды Плеяд.
— Они вспыхнут, — голос старца не изменился. — Дадите вы отпор или нет, они вспыхнут, ибо кто ищет не мудрости, а силы и власти, тот обречен. Плеяды погибнут, с ними, наверно, погибнете вы, не надо об этом жалеть.
— Не надо?!
— До вас жили миллиарды людей, их давно нет, омрачена ли ваша душа? — алмазный взгляд старика уперся в Лю Банга. — Если ваши потомки встретят миллионный рассвет, огорчит ли их ваше отсутствие? Бабочка не жалеет о коконе, человеку суждено большое превращение. Для вас Предтечи — это физически ушедшие или погибшие, для нас они — богоистина. Знайте же! Эволюции духа предшествует эволюция оболочек и форм; зверь заточен в собственную шкуру, человек свободно меняет одежды, скафандры, дома; оболочка духа есть тело, для человека оно то же, что шкура для зверя, тогда как для Предтеч — уже не более чем одежда. Поэтому они вечны и бесконечны, как сама природа, неуничтожимы, всеобщи и нас зовут стать тем же самым. Внемлите им, и вы спасетесь!
— Доказательства? — быстро спросил Антон. — Где доказательства, что все так и есть?
— Существование звезд не требует доказательств. Но рассейте повсюду свет, и вы не увидите звезд; говорите друг с другом, и вы не услышите птиц; отождествите себя с человечеством, и к вам не прорвется мысль опередившего разума. Молчание, отрешенность, вера! Что ищете, то и дастся вам, от чего закроетесь, то исчезнет, куда глянете, то и увидите. Это говорю вам я, в последний раз обернувшийся к людям, прежде чем покинуть их обреченный мир. Да, вы тени для меня, давно уже тени, но последняя заповедь, которой мы повинуемся здесь, есть заповедь открытия Истины всем приходящим. Выбор за вами.
Тягостное молчание охватило землян.
«Юл нашел врага, — донеслась удрученная мысль Лю Банга, — Антон — союзника, а я… я нашел равнодушного. Столько веков, так все изменилось, а здесь не глубже, чем у какого-нибудь Августина, только объект веры иной — Предтечи! Простите, что я вас завел в тупик».
«Не сокрушайся, о скептик! — отозвалась Ума. — Философ должен заглядывать под каждый камешек, иначе идущего вслед может ужалить змея, И не равнодушие здесь — вера изверившихся».
«Да, — согласился Антон. — Кто гасит дневные огни, тот зажигает полуночные. И все же в них мысль, а где ее поиск, там все двояко, трояко, и что бы, интересно, сказал наш Эхратон, услышав такое истолкование своей теории осуществления идеала „внеэкологической цивилизации“ в принципе бессмертных людей?»
Только Юл ничего не сказал. Отдыхая, он бессмысленно смотрел на гаснущие угли. Он был жив, далекая философия его не тревожила, ему было хорошо здесь, сейчас, в этом вещном, осязаемом мире, где все так просто, раскрыто наукой, надежно, как хлеб, как вот этот кибер, как домашний запах кострового дымка… Запах?
Вскочив, он подбежал к выходу, по-звериному потянул носом воздух; его мальчишеское тело напряглось, под смуглой кожей ходуном заходили лопатки. Он тут же бросился ниц, припал ухом к камню.
— Дофилософствовались! Идут. Все, кроме старца, вскочили.
— Святой отец, — в голосе Лю Банга прорвалась горькая укоризна. — Успеете ли вы проверить свою истину? Нам этот путь заказан, к сожалению, мы не успели отрешиться от человечества и должны позаботиться о такой мелочи, как его судьба. Ваши братья обещали, что в любом случае нам укажут недоступный для преследователей выход.
— Идемте, — последовал невозмутимый ответ.
Он встал легко и свободно, не оборачиваясь, двинулся к противоположной стене пещеры, словно та должна была перед ним раскрыться. И она раскрылась черной, пахнувшей холодом щелью.
И тут кибер ожил.
— Опасность! Киберы, люди, газ! Опасность! Спина старика уже скрылась в проходе.
— Эх ты, боевая машина, — Антон на ходу шлепнул кибера. — Умолкни и поучись у людей нюху…
Вдвоем с Лю Бангом они подхватили пленных и поспешили за стариком. Последним в щель вдвинулся кибер. Ни тени замешательства, все были готовы и к такому повороту событий.
Ход, которым они шли, был узок, извилист и темен, как душа подонка. И также неуклонно спускался вниз. Ниже, ниже; тьма и холод, такой пронзительный, что сначала Уме и Юлу, затем остальным пришлось вообразить себя под тропическим солнцем. Тогда холод исчез, и сам мрак как бы посветлел.
Наконец он посветлел на деле. Еще поворот, спина старика маятником качнулась в отверстии, и перед людьми открылся грот, самый странный из всех когда-либо ими виденных. Грубый камень неровно вздымающегося свода мутнел и растворялся вдали, хотя воздух казался прозрачным. Может быть, причиной была жемчужная фосфоресценция всего подземелья? Но откуда взялась сама эта равномерная фосфоресценция, если ни одно чувство не улавливало в воздухе ничего необычного? Однако не эта особенность грота сразу приковала внимание. Прямо у ног, недвижно касаясь кромки щебенчатого откоса, расстилался сизый покров, который одновременно походил и на туман и на воду, но для тумана он был слишком прозрачен и плотен, а для воды чересчур слоист и воздушен. Толща сизого, будто спрессованного дыма или отвердевшего газа — возникала и такая ассоциация, но и она не передавала впечатления от этого мертвенно неподвижного, туманно легкого и, однако же, плотного озера, в прозрачно-смутных глубинах которого едва заметно колыхались рыхлые пласты каких-то белесых хлопьев.
— Море Нирваны, — провозгласил старик. — Лоно вечности и благодати открыто вам.
— Благодарю вас, — Лю Банг огляделся. Слева и справа берег замыкали отвесные скалы. — А где же выход?
— Он перед вами.
— Здесь? Но что же это такое?!
— Путь к Истине Предтеч, — торжественный голос старца возвысился. — Да не смущает вас физическая телесность Нирваны, которой прежде не было. Им виднее! Всякий входящий укрепляет Нирвану, и путь в нее теперь легок и очевиден.
— Но это не наш путь! Это предательство, вы обещали нам выход!
— Ваш путь, как уверяли вы сами, ведет к Добру, Истине, Счастью. Такова ваша цель, и она достигнута. Вглядитесь.
Старик простер руку. И так сильна была его убежденность, что все подались вперед, и постаревшее в эту минуту лицо Лю Банга стало пепельным, когда он вгляделся в туманный омут у ног. То ли движение произошло в этой сизой толще и какой-то из ее белесых пластов сместился, то ли глаза привыкли, но взгляду сначала смутно, затем все яснее открылись очертания неподвижно зависших в глубине нагих человеческих тел. Многие покоились там, ряд за рядом, вереница за вереницей, мужчины и женщины. Размыто белели лица, груди и спины, сплетенные или, наоборот, раскинутые руки и ноги, все вялое, как в формалине, мертвенно обесцвеченное.
— Это же смерть… — прошептал Лю Банг.
— Это жизнь, — последовал бесстрастный ответ. — Всмотритесь пристальней.
Все четверо невольно сдвинулись, ища друг у друга поддержки, ибо владение собой было готово им изменить при виде того, как на медузоподобном лице одного из утопленников щелочками раздвинулись веки, как по всему ряду тел прошла дрожь колыхания, как шевельнулись студенистые руки усопших, как все новые и новые мертвецы размыкали невидящие глаза, ища ими что-то или кого-то.
— Они зовут вас, — мерно проговорил старик. — Их дух везде и нигде, его обличия бесконечны, как сама Нирвана, и былые тела — лишь одно из пристанищ этого существования. Кто-то почувствовал наше присутствие, теперь они уже и здесь, духовно осязают нас, меж нами возникает связь, я слышу их! Вы просили выход, недоступный слугам Зла? Он перед вами, другого нет и не может быть! Решайтесь, решайтесь! Я иду, покидаю вас, мое время настало. Нирвана, нирвана, нирвана!
Под ногами старика зашуршал щебень. Он шел, воздев руки, голова тряслась на морщинистом стебле шеи, взгляд сверкал безумным алмазным блеском. Босая нога коснулась дымно-сизой поверхности, но не погрузилась, а прогнула ее, словно упругий полог трясины, еще два-три шага отнесли старика от берега. Лишь там его тело стало оседать в водянистый туман, в котором по мере погружения сам собой растворялся шафрановый хитон, — человек голым уходил в свою нирвану. Вот уже скрылось туловище, голова, воздетые руки, все. Над тем местом, где исчез старец, взвился серебристый дымок, глубины месива замутились, и само это месиво, колыхнувшись всей толщей, чуть подалось на берег и так застыло.
Потрясенные, все четверо отступили на шаг.
Первым опомнился Антон. Он сам, прижавшиеся к скале друзья, неподвижно замерший кибер, лежащие на камнях тела Ив Шорра и гроссадмирала на миг представились ему обломками кораблекрушения.
В сущности, так оно и было.
— Киб! — Антон заставил себя говорить спокойно. — Пролоцируй все в поисках другого выхода.
— Другого выхода нет. Всюду камень и газ, я предупреждал.
— Путь назад?
— Перекрыт. Люди и киберы, движение медленное и обшаривающее. Будут здесь через десять — двенадцать минут.
— Ясно, — Антон повернулся к друзьям. — Решение? Их мысли и чувства сомкнулись. Ни слова, ни понятия не участвовали в сомышлении, только образы, которые обнимали собой все. Они озарялись, множились, гасли с быстротой ветвящихся молний, в них была собственная мысль Антона и мысль других, взаимная на них рефлексия и рефлексия рефлексий; так образы приобретали понятийную глубину, многовариантность, сцеплялись, достраивались, уничтожали в себе самих лишнее и ошибочное, охватывали все — прошлое, настоящее, вероятностное будущее, возможное и невозможное, надежное и гадательное, желанное и губительное. И кто-то, не бывший отдельно Антоном или кем-то еще, управлял всем, гармонизировал все хаотичное, противоречивое, следил, чтобы эта общая, мятущаяся постройка не разваливалась, росла, твердела логической соразмерностью всех частей. Минуту-другую длилась эта отключенность от внешнего мира, который точно плавился, преобразовывался в слитном мышлении всех четверых, и когда эти секунды прошли, всем стало ясно, на чьи плечи должна лечь тяжесть осуществления трудного и рискованного, но единственно возможного теперь замысла.
— Киб, — звонко скомандовал Антон. — Всех, кроме меня, спрятать в расщелине, скальном кармане, тотчас вернуться! Скорость максимальная.
Подхватив пленных, все облепили кибера, тот коконом растянул вокруг людей мерцающее силовое поле, встряхнулся, как конь, проверяя надежность захвата, и вместе с ношей взмыл над сизой слоистостью обиталища тех, кто нашел в ней свою последнюю истину и свой последний покой. Антон проводил кибера долгим взглядом. «Конек-Горбунок! — подумал он с внезапной и горькой нежностью. — Конек-Горбунок, вот кто ты такой!»
Он сел на заскрипевший под ним щебень. Теперь и, может быть, навсегда он остался один. Голова, как это бывает после сомышления, томяще кружилась, тянуло прилечь, отдохнуть. Перед глазами стлалась ровная в своей сизой неподвижности поверхность так и неразгаданного «Моря Нирваны». Спокойствие было вокруг, невозмутимость отстойника той канализационной сети, куда с поверхности Авалона смывало всех отчаявшихся искателей правды, всех изнемогших в борьбе каждого с каждым, быть может, самых искренних среди мудрствующих приверженцев былого фундаментализма, — для других было достаточно плебейских наркотиков и галлюциногенов.
И все же покой этой могилы внушал большее уважение, чем роскошь всех дворцов Авалона. Но истина…
Что, если все не так просто? Путь в себя не менее важен, труден и бесконечен, чем путь вовне, и сколь многое он уже дал человеку! Все странно в этом озере, и, быть может, там, среди этих тошнотворных тел, среди раскрывающих глаза мертвяков…
Нет. Не может быть истины вне красоты и нет спасения в дороге, которая уводит человека от остальных.
А на загадку нет времени.
Ни на что больше нет времени.
Текли минуты — последние. О себе Антон не думал, нельзя было думать. Он отдыхал, пока позволяло время, и, глядя на мертвенную неподвижность туманного озера, вызывал в памяти накат и шелест морского прибоя, которого, очевидно, ему больше не доведется увидеть.
И не было Умы, чтобы спеть прощальную песнь волны и прибоя.
Никого не было.
Иэ фосфоресцирующей над озером мглы вынырнула вороненая фигура кибера, чей силуэт кентавра так напоминал сказочного Конька-Горбунка, что даже скептическая усмешка рассудка не смогла изгнать этот образ верного помощника и друга.
Кибер вихрем затормозил у ног Антона.
— Задание выполнено.
— Прекрасно! Преследователи близко?
— В двух-трех минутах ходьбы.
— Я поднимусь туда, — Антон показал на чернеющее отверстие хода. — Через двадцать секунд ты обрушишь за мной скалу. И скроешься. Постарайся, чтобы тебя не нашли. Если найдут-уничтожься.
Собственный приказ кольнул Антона сожалением и болью.
— … Уничтожься. Никто не должен знать об участии в этом деле Искинта.
— Не беспокойтесь, об этом позабочусь я! Раздавшийся голос уже не принадлежал «Коньку-Горбунку», хотя исходил из него.
— Рад тебя слышать, Искинт, — живо отозвался Антон. В нем вспыхнула внезапная надежда. — Ты намерен вмешаться?
— Желают люди, я выполняю функцию сохранения гомеостаэиса Плеяд. Ваша Игра не закончена и моя тоже.
— Значит, каждый сам за себя?
— Человек — это человек, машина — это машина, обратное пока не доказано.
— Понял… Встретимся ли мы еще?
— Вероятность есть функция поступка. Время истекло, торопитесь!
Голос Искинта умолк, кибер вскинулся, готовый предупредить об опасности, но Антон и так уже расслышал катящийся из лабиринта шумок,
Преследователи были метрах в ста, не далее.
Пригнув голову, Антон нырнул в темноту хода и гулко выкрикнул, как в трубу:
— Сдаюсь!
Надо ли при этом возгласе еще поднимать руки?
12. ОРУЖИЕ ПРЕДТЕЧ
В знакомой пещере вместо тусклого света костра горели яркие лампы, словно малейшая тень была здесь недопустимой, и до предела спокойное лицо Эль Шорра казалось гипсовым среди закопченных стен, только синюшная набряклость век придавала этой маске сходство с обычной и даже страдающей человеческой плотью. Не взглянув на Антона, он властно мотнул головой, стража попятилась, солдаты и киберы тараканами юркнули в темноту ходов и где-то там затаились.
Одну за другой Эль Шорр выключил лишние лампы.
— Садитесь.
Антон сел на охапку травы, которая еще хранила отпечаток тела их пленного. Напротив него устроился Эль Шорр. Морщась, он подкинул на ладони аппарат блокировки, и обоих окутало невидимое в полумраке поле «звукового шатра»,
— Ив?
— Мирно спит, если это вас интересует, — слово «это» Антон чуть выделил.
— Он не мог…
— Тем не менее мы знаем все. Рассказать только ему и вам известные подробности заговора?
— Не надо! Верю, хотя это невероятно. Но раз вы сдались…
— Правильно. Можно разом уничтожить всех, будто бы в перестрелке, но когда человек кричит «сдаюсь!», то оказывается слишком много свидетелей. То же самое будет, когда вы приблизитесь к остальным. А что для вас сейчас главное?
— Ваше молчание о моих намерениях, — Эль Шорр кивнул. — Но не обольщайтесь, в моих руках ваша жизнь.
— И этого нет. Допрос теперь неизбежен, а как только мы расскажем о заговоре, как только Ива заставят все подтвердить, вы умрете раньше нас.
— Умрете раньше… — в задумчивости повторил Эль Шорр. — Но это не в ваших интересах. Вдобавок есть кое-что, чего вы не знаете. Что ж, давайте поговорим, как человек с человеком.
— Всегда готов, если это возможно.
— Почему бы и нет? Вы дорожите жизнью, я тоже. Признаюсь в ошибке, которая потянула за собой все остальные. Я думал, что знаю о вас все необходимое, и то, что я знал, не внушало мне уважения. В юности мне довелось побывать на Земле. Все красиво, не спорю, все умно, всеобщая доброжелательность, а уж мускулы! Но как-то случайно я толкнул одного. И он… извинился! Тогда я стал пробовать нарочно, результат оказался том же самым. Господи, так унизиться, так превратить себя в тряпку! Собаку пнешь, и то, бывает, огрызнется… Чему вы улыбаетесь?
— Когда двое случайно сталкиваются, то извиняются оба, только и всего. А намеренно этого ни один взрослый не сделает, поэтому вы наверняка замечали легкое недоумение, когда человек не слышал от вас привычных слов извинения.
— Да, я замечал и растерянность, и недоумение, это лишь подтверждало мой вывод. Короче, я не знал о вас чего-то, быть может, главного. Вы деретесь… страшно!
— По-настоящему мы еще не дрались.
— Послушайте, мы же договорились: как человек с человеком! А вы пытаетесь ввести меня в заблуждение. Ваш мальчишка…
— Не мальчишка. У него у самого дети.
— Да? Тогда поздравляю. Так замаскировать карлика под мальчишку… Ловко!
— Он не карлик. Пигмей.
— Это одно и то же.
— Нет. Пигмеи — это африканская народность…
— Как, эти черномазые дикари?! Впрочем, понятно. Да. Нет, все равно не понимаю! Мы не оставили ему ни одного шанса. Откуда лишний кибер? Как вам удалось…
— Позвольте, это уже допрос. Но раз мы заговорили о Юле, то у меня просьба. Если мы найдем взаимовыгодное решение, то передайте Иву, что он охотился не за мальчишкой.
— Это для вас так важно?
— Пожалуй.
— Снова отказываюсь понимать…
Поспешным движением Эль Шорр достал смолистую палочку и с такой силой втянул ее запах, что воскурившийся дымок перехватил горло Антону.
— Пожалуйста, без химических средств борьбы, — сказал он с иронией.
— Чепуха, это прибавляет бодрости! Вопрос: ваш Юл едва не прикончил двоих голыми руками; чего же в таком случае стоят ваши заповеди и запреты?
— Лекарством можно отравиться, а ядом исцелиться. То и другое порознь существует лишь в представлении догматиков.
— Тогда почему вы не поставили условие: отпустите нас восвояси или мы прикончим пленных?
— Убийство в бою — самооборона, иное — зверство.
— Угроза еще не убийство.
— Но шантаж.
— Военная хитрость.
— Подлый умысел — уже преступление.
— Ах, даже так! Ну да, вы же взяли меня за горло. Значит, шантажом займется Эль Шорр, которому деваться некуда, за пленных вы получите свободу, за некую личную тайну тот же Эль Шорр выложит все об оружии Предтеч, а вы останетесь чистенькими.
— Обращаете против нас наше оружие?
— Разумеется. Какая симпатичная штука — совесть, когда она есть у других и ее нет у тебя! А может, все-таки есть? — наклонившись, Эль Шорр заглянул в глаза Антона. — Своя, тайная? А? Зачем вы сказали, что не убьете пленных? Кто же отдает такой козырь? Вы не глупец. Тогда кто же? Святой вроде этих нирванистов?
— Дело не В этом.
— А в чем? Я хочу вас понять.
— Затем, чтобы при случае лучше ударить?
— Да! Как видите, я тоже умею быть откровенным.
— Этого-то я и хочу. Вы настолько привыкли в каждом видеть врага, конкурента, соперника, что уже все видите искаженным. А для нас ваши ошибки сейчас опаснее ваших побед.
— Опаснее… — щеки Эль Шорра опали, во взгляде проглянула глухая тоска. — Скажите, — он понизил голос, — родись я на Земле, кем бы я стал у вас?
— Скорее всего, хорошим организатором. — То есть, в сущности, тем же самым, что и здесь, только без боязни получить нож в спину. Зато и шансов стать всем не было бы. Каждый да жует свою травку, буколика… Ваши условия?
Вопрос прозвучал, как выстрел в упор, тем неожиданнее, что ему предшествовал совсем иной тон голоса.
— Свобода и сведения, — столь же быстро ответил Антон.
«Что-то здесь не так, — подумал он про себя. — Ошибка, но в чем?»
— Свобода и сведения, — с удовольствием повторил Эль Шорр. — Всего лишь свобода и сведения… Полная то есть победа? Придется лишить вас иллюзий. Смотрите.
Подняв палец, Эль Шорр тронул на нем кольцо. Из кристалла в оправе вырвался бледный луч. Неровная стена пещеры исчезла, вместо нее возник проколотый звездами мрак, космическая бесконечность, посреди которой, переливаясь, пульсировал ярко-голубой, брызжущий огненными протуберанцами шар.
— Одна из звездочек наших Плеяд, — отрывисто сказал Эль Шорр. — На нее нацелено оружие, до решающего испытания остались секунды.
Непроизвольное шевеление руки подергивало изображение, до синевы раскаленный шар звезды вздрагивал вместе с шевелящимися вокруг него протуберанцами.
— … Следите за звездочками поодаль…
Мгновения начала Антон не успел уловить. Звездный, крупнее Солнца, шар стремительно вспух, выгнулся лепестками пронзительно белого пламени, заметался, как огонек свечи на ветру.
И потух.
Но не это громом ударило по нервам. Там, где только что пылала звезда, закрутилось черное, непроглядное месиво, словно само Пространство скручивалось в бездонной, все отрицающей мясорубке, и ближние искорки звезд бешено заплясали по краям этого гибельного водоворота.
Изображение, мигнув, погасло.
— Таким вот образом, — опуская руку, тихо сказал Эль Шорр. — Всего несколько часов назад мы задействовали всю мощность оружия, результат перед вами. Теперь вы знаете об оружии почти все, что известно нам. К чему скрывать? Быть может, святоши правы: творцам такой силы только и осталось, что погрузиться в Нирвану, чтобы больше не действовать, не желать, не стремиться. Но у нас нервы покрепче!
Эль Шорр жадно втянул в себя аромат палочки, его расширенные зрачки подернулись тем же бездонным мраком, что минуту назад расползался по космосу, или так показалось Антону. Страх, тот самый липкий, вяжущий, знакомый по снореальности страх сжал его горло.
— Значит, все как у питекантропа, который на обочине нашел атомный пистолет? — Антон едва слышал собственный голос, но обращенная в насмешку злость придала ему должную силу. — Нашел и, спуская курок, догадался повернуть дуло не на себя? А хватит ли зарядов, он не подумал?
— Представьте себе, подумал, — Эль Шорр тяжело усмехнулся. — Энергии, или уж там не знаю чего, хватит, чтобы сокрушить сотню звездных систем, это наши ученые чимандры гарантируют, Ясна ситуация? Ваши наблюдатели, очевидно, уже заметили кое-какой в небесах непорядок и сделали должные выводы. Не имеет значения. Теперь уже ничто не имеет значения, поняли? Личная свобода — это все, что вы можете получить. Через несколько дней вас всех выкинут за пределы Империи. Но знайте, что следом за вами с того же космодрома стартует весь флот во главе с «Решительным»! Спешите на Землю, рассказывайте всем о силе, перед которой ничто не может устоять, мне нужны целехонькие планеты, а не дыры Пространства! Надеюсь, у вас хватит благоразумия не сопротивляться. И не все ли равно, удержится ли Падишах на престоле или на трон взойду я? По крайней мере от меня вы можете ждать меньших глупостей и ошибок. Скажу больше. Если вы перейдете на мою сторону, то я их вовсе не допущу. Поверьте, я искренен. Мне не с кем, не с кем поделиться замыслами, получить умный совет и остережение, вокруг сплошь завистники, интриганы, тупицы, нет воздуха! Соглашайтесь. Мы сошлись, как враги, но, странное дело, глядя на вас, разговаривая с вами, я не испытываю всегдашней тоски и оглядки. Вы даже мне не хотите зла, с вами спокойно, надежно. Разве вы не видите, как мы нужны друг другу? Своим вы уже ничем не поможете… Нет, поможете, если вступите со мной в союз. Падишах — дурак, он зальет все планеты кровью, а я прагматик. У меня своя цель, вы ее знаете, коль скоро проникли в сознание Ива.
— Ползущие на коленях люди…
— Ну, это мимолетное развлечение, без него можно и обойтись. Всемогущество и бессмертие! Все прочее средство или забава. О ком заботитесь, о чем волнуетесь? Миллиарды миллиардов людей сгинули без имени и следа, живые помнят и будут помнить лишь тех, кто творил историю. Атилла, Чингисхан, Тамерлан, Гитлер…
— Сократ, Шекспир, Леонардо да Винчи, Пушкин…
— И все они были в подчинении у тиранов или безмозглой толпы! Сильный побеждает слабого, все одно и то же во все времена, только в разных обличьях. Вы отменили этот закон? Ха! Мы возвращаемся и, заметьте, не по прихоти случая, а потому, что долго подстерегали случай, тогда как вы занимались всякими там моралями и искусствами. Теперь, надеюсь, и вам ясно, за кем будущее. Самое забавное и в то же время закономерное, что вы не могли уничтожить нас здесь, на Плеядах, пока мы были бессильны. Не могли, ибо, залив кровью планеты, вы уподобились бы нам — и тогда прощай мечта о чуде как совершенном и справедливом обществе. Мечта, политая такой кровью, счастье на трупах, да вас самих пожрало бы это чудовище! Вот и не смогли преступить, знали, чего бояться. Моральный тупик, вы сами себя в него загнали, не так ли? А теперь поздно. Выбора нет, да его, как видите, и не было. Либо руки в крови, либо…
— Но если все так и выбора нет, тогда это чудовище насилия сожрет и вас. И выхода из круга убийств не будет.
— А вот на это мне наплевать, если властвую я, а не другой. Я есть, живу, как хочу, все остальное — философия слабых, которую они пытаются навязать сильным. Хищники и травоядные, вот что от века дано людям! Так будете мне служить?
— Разумеется, нет.
— Гордо и куда как глупо, — Эль Шорр вздохнул. — Знаете, в вас есть что-то… Не подберу слов. Вас хочется иметь, как прекрасную, что ли, драгоценность. Ладно, все это сантименты. С кем еще можно поговорить откровенно… И хватит! Киберы, вероятно, уже прожгли сделанный вами завал, можете передать своим, что мы вас вышвырнем в целости и сохранности. Уж я-то промолчу, что вы и так отдадите нам пленных! Нет, подождите, — остановил он было поднявшегося Антона. — Интимность нашей беседы надо оправдать, и потому мы сейчас сочиним надлежащий протокол допроса. Разницу во времени скомпенсирует ваше «упорное молчание» в ответ на кое-какие мои вопросы. Словом, поупражняйтесь в технике фальсификаций. Увлекательное, скажу вам, занятие и очень может пригодиться, когда мы победим.
Эль Шорр хотел было торжествующе улыбнуться, но что-то его остановило.
— Все-таки жаль, что вы не со мной, — сказал он, помедлив.
— Или, наоборот, жаль, что вы родились не у нас, — также тихо ответил Антон.
Эль Шорр задумался.
— Нет, главное — побеждать.
13. ОСТАНОВЛЕННОЕ МГНОВЕНИЕ
Они шли, все четверо — Антон, Лю Банг, Юл Найт, Ума со своим неизменным иллиром, — рядом бухали сапоги конвоя. В лицо светило голубоватое солнце Плеяд, назад, покачиваясь в такт шагам, падали полуденные синие тени.
Те же тени падали от солдат. Бух, бух, бух! — похоронно отдавался в ушах размеренный топот ног. Преисполненный долга офицер, сурово держа полусогнутую руку на кобуре бластера, украдкой слизывал с губы солоноватые капельки пота. Несмотря на жару, ему, как и солдатам, нравился чеканный строй, железная спаянность всех движений, сознание своей общности, превосходства и власти над побежденными, каждый мысленно уже попирал миры, которые им вскоре были обещаны. И это же ощущение всесилия делало их сейчас снисходительными к тем, кого они уже повергли, как может быть снисходительным и даже добродушным человек к тем, кому он из милости дарует свободу, прекрасно зная, что отныне все и так будет принадлежать ему. Муштра, повиновение, строгости — все, все было не зря, все вот-вот должно было оправдаться! Черные противобластерные латы матово отсвечивали при движении, и под этой броней, которая делала солдат похожими на рослых, поднявшихся на ноги муравьев, ровно и горделиво бились сердца вчерашних мальчишек и завтрашних повелителей, посторонняя мысль лишь изредка нарушала единый ритм этого слаженного биения.
Отборные из отборных шли, неторопливо чеканя шаг. Совсем уж ничтожными муравьями они могли бы показаться самим себе, когда их строй втянулся в глубину космодрома и над ними нависли громады эстакад, башни мезонаторов и геоконов, магниторельсовые пути, над которыми там и здесь возвышались корабли звездной эскадры. Но нет, всеподавляющее величие техники отозвалось в них смутной гордостью за боевой флот, а подсознание обрадовалось теням, которые протягивались от всех громад и сулили относительную прохладу. Лица даже слегка оживились, когда всех накрыла глухая тень эстакады.
То же облегчение, казалось, испытали и пленники. Антон смахнул с лица пот, Лю Банг, не замедляя шага, принялся раскуривать свою трубку. Ума рассеянно тронула струны иллира.
— Жаркая, однако, у вас планета, — заметил Антон. Его слова остались без ответа, ибо солдаты ни на минуту не забывали, кто они, но общая для всех прохлада тени, ее мимолетная приятность вызвали одинаковое ощущение у всех, и обыденная фраза Антона пробудила невольный отклик. Возможно, солдаты и удивились бы, обнаружив в себе этот чуть сблизивший всех отклик, но Антон знал, что он обязан возникнуть и действительно возник.
Чуть слышнее стали звуки иллира, столь необычные здесь, что слух сам собой напрягся в удивлении и безотчетном ожидании. дальнейшего. И ожидание не было обмануто. Тихий, рассеянный среди прочих звуков космодрома голос иллира звучал эхом отрывочных и неясных чувств, которые сами собой скользят в душе музыкантши, но в нем был тот же хрупко объединивший всех отзвук на беспощадную жару, на желанность отдыха и прохлады, когда можно расслабиться и скинуть мундир, перестать быть носителем долга, железной частицей спая, и еще в нем билась тоска и досада на невозможность всего этого сейчас, здесь. Разумеется, никакой самый проницательный рассудок ничего этого не вывел бы из мелодичных, якобы разрозненных звуков, они действовали безотчетно, и в этом была сила искусства.
Всего несколько секунд длилось так, затем Ума чуть слышно запела, громче, громче, на своем древнем языке, и теперь в звуках иллира и голосе возникло нечто, заставившее офицера снисходительно улыбнуться, — давняя тоска угнетенных, что ли?
— Ничего песенка, — сказал он, облизывая губы. — Ладно, давай, не воспрещено…
И Ума продолжала, только мелодия изменилась, только голос стал немного иным. Ее друзья шли молча, казалось, безучастно их глаза не шарили вокруг в надежде на чудо, тем не менее они внимательно охватывали взглядом всю раскрывающуюся шаг за шагом панораму космодрома. Все возможности борьбы казались исключенными, и все-таки у пленников был шанс, тот крохотный и ненадежный шанс, который Антону дала одна-единственная ненароком сорвавшаяся с губ Эль Шорра фраза. И они тщательно искали этот свой шанс.
«Есть!» — мысленно воскликнул Юл Найт, и то, что его зоркие глаза увидели в отдалении, тотчас стало достоянием всех.
Громада «Решительного».
Их же, естественно, вели в другой конец поля. Ума, срывая ограничитель, до отказа повернула медитатор иллира, ее пальцы скользнули по рядам перламутровых кнопок и клавишам инструмента.
Все так же размеренно бухали сапоги, мерцали черные латы, все так же глухо, замирающе в полуденный час зноя катился шум космодрома, но теперь над всем вознеслась музыка иллира.
Сама по себе никакая музыка, никакая песня ничего не могла пересилить, но все четверо были способны составить единое целое, и они это сделали. Ничего не изменилось ни в ритме мелодии, ни в словах, которые пела Ума, и все стало иным, едва иллир каскадно усилил возникшее, качественно новое психополе. То была уже не просто музыка и не только песня. Так линза собирает рассеянный свет в жгучий фокус, так кристалл лазера сгущает энергию, чтобы полыхнуть ярче тысячи солнц.
Теперь все зависело от Умы, которая держала в руках эту невиданную на Плеядах силу.
Мгновение — и каждый солдат представил, увидел, услышал, пережил свое.
Все так же четок был шаг, рука офицера, как застывшая, лежала на кобуре бластера, только отряд повернул не туда, куда должен был повернуть.
Все изменилось для всех. К каждому вернулся тот миг счастья и радости жизни, доверия к ней и душевной щедрости, который в детстве ли, в юности ли был у всякого, потому что всякий хоть час, да был человеком. Теперь солдаты и сам офицер переживали это состояние вновь и так же ярко, как прежде. Волшебное искусство Умы, стократ усиленное резонансным воздействием иллира и поддержкой друзей, в каждом нашло и раздуло искру повелительного добра, и теперь, разбуженное, оно всецело внимало голосу и вело человека туда, куда он и сам бы пошел, если бы знал дорогу. Ума недаром столько дней пела на перекрестках, ища в людях потаенное, быть может, забытое и подавленное, но неистребимое.
Кто не мечтал вернуть светлое мгновение, обратить его в вечность? Теперь это осуществилось и наполнилось новым смыслом.
Одетые в форму люди шли туда, куда их звал иллир, и куда их самих позвала бы совесть, если бы она стала зрячей. И Ума чувствовала эту свою — и не свою — власть над ними, и ее влекла та же сила, что, сметая враждебное и наносное, всю накипь души, захлестывала сейчас все окрест и прокладывала людям дорогу к цели. Никто из тех, кто слышал иллир и видел пробуждаемые им образы, — ни солдаты, ни посторонние наблюдатели — никто уже не мог противиться этой силе, которая жила в них самих и теперь завладела их существом.
Громада корабля приближалась. "Следом за вами стартует весь флот во главе с «Решительным», — сказал тогда Эль Шорр.
Следом, значит, оружие Предтеч, скорее всего, уже доставлено на корабль. Ведь именно на нем оно должно было быть установлено.
Вот он, «Решительный». Вокруг, добрый признак, уже не снуют погрузчики, все люки, кроме единственного, задраены, на пандусе маячит одинокий часовой.
«Только бы выдержала Ума! — молил Антон. — Только бы не ослабла ее магия!» Он сам, как и прочие, изо всех сил поддерживал девушку, и от этого напряжения его уже пошатывало. Реаморализация не могла длиться бесконечно! А еще был часовой. И вся команда. Может, не вся?
Полуденный свет Апъциона, казалось, прожигал череп.
Иллир не смолкал. Шаг, ближе, ближе.
Часовой их встретил радостной улыбкой хозяина, взволнованного появлением долгожданных гостей, с которыми минуты текут легко, насыщенно, ярко и свободно.
Наступала, быть может, самая трудная минута. Все четверо вступили в проем люка. Теперь Ума должна была сделать едва ли возможное: ее иллир более не должен был вести солдат за собой, наоборот, их следовало оттолкнуть, заставить бежать прочь от корабля, тогда как для тех, внутри, кто мог услышать, он должен был петь по-прежнему, чтобы на корабле не возникла преждевременная тревога.
И Ума не выдержала, ее цельная натура не могла раздвоиться, в равной мере излучая мрак и свет! Мелодия споткнулась.
Едва это произошло, как лица всех потускнели, словно в солдатах выключили душевный свет, а пальцы офицера пока еще тупо и неосознанно заскребли кобуру. Торопливым движением Антон нашаривал кнопку экстренной задвижки люка, — да где же это у них?!
Все заколебалось в шатком равновесии, с лица часового уже сползла улыбка, как вдруг, со свистом рассекая воздух, над пандусом взмыло черное, донельзя знакомое тело кибера. Антон беззвучно ахнул: «Конек-Горбунок!»
Прежде чем кто-либо успел опомниться, на солдат, на офицера, на часового, окатывая их паническим ужасом, обрушился направленный кибером инфразвуковой удар. Все горохом покатились по пандусу.
— Делайте свое дело, о прикрытии позабочусь я!
Кибер это сказал или сам Искинт? Отголосок инфразвукового удара, которого нельзя было избежать, ослеплял сознание, а этому надо, надо было противостоять! Противостоять и действовать. Ума, чье лицо страшно осунулось и ввалилось, взяла прежний аккорд и повела всех за собой.
Должно быть, еще никто не входил в боевой корабль вот так, с музыкой.
Гнетущая сила инфразвука отдалилась, перестала терзать мозг. Шлюз, автоматика дезинфекции в нем, понятно, отключена за ненадобностью, входная мембрана тотчас пропустила всех — теперь быстро вперед! Мягкий сероватый свет переходов, буднично чмокающая под ногами перистальтика пола, которая здесь, как положено, счищала с обуви пыль и грязь планеты. В отдалении показалась чья-то спина, человек, повинуясь иллиру, вскинул голову, светлея лицом, обернулся. Лифт!
Конструкции всех кораблей, в общем и главном, схожи, законы техники, как и законы космоплавания, одинаковы для всех, кто и как бы ни старался утвердить свою особость и самость. Капсула лифта пулей вынесла всех на верхний ярус. Внутри корабля еще никто ничего не заподозрил, не успел заподозрить, немногие встречные у лифта и в коридоре сияющим взглядом провожали Уму, которая им дарила недолгое счастье человечности. Так все четверо беспрепятственно достигли ходовой рубки, которая никогда не пустует во время полета, но почти всегда безлюдна в иное время.
Сейчас в ней не было никого.
Иллир смолк тут же, Антон едва успел подхватить разом сникшее тело девушки и сам чуть не упал. А до конца было еще далеко! Задраить рубку, живо усадить Уму, которая и в обмороке сжимала иллир. Все трое метнулись к огромному, полумесяцем, пульту, который весь засиял точечными огнями, едва его коснулась опытная рука Лю Банга. Где тут что?! Взгляд привычно обегал секцию за секцией. Понятно, знакомо, можно догадаться, а вот над этим пока не стоит ломать голову — второстепенно и подождет. Заправка? Лю Банг утвердительно закивал. Порядок, предстартовая… Все сходилось. Что ж, Эль Шорр, тем более спасибо за обмолвку, ты прав: кто подстерегает случай, тому он идет навстречу, и тогда все тем или иным путем обретает силу закономерности.
Время привычно раздвинулось, как тогда, в том городе, в той подворотне, совсем в иной реальности. Но теперь он был уже не один и все было безусловно, то был подлинный, быть может, последний, решающий бой. Собственные, на грани восприятия, движения затуманились для Антона, также молниеносно мелькали руки Лю Банга, Юла. Сделано, сделано, сделано. Ключ на старт! Готово. Теперь общий сигнал тревоги. Где он у них? Где этот проклятый тумблер, кнопка, рычаг, хвост змеиный или что там еще?! А вот, наконец…
— Немедленно всем покинуть корабль! Угроза взрыва! Всем немедленно покинуть корабль!!!
Так же оглушительно загремело по всему кораблю, по всем, без исключения, его отсекам и закоулкам. Антон изнеможденно упал в кресло. Возможно, рефлекс повиновения сработает не у всех, возможно, кое-кто сообразит, что никакого взрыва ходовых двигателей сейчас быть не может, но большинство, не рассуждая, наверняка уже мчится наружу. А. может быть, мчатся все, — вдруг обнаружена бомба! Такое отнюдь не исключено на Плеядах. И капитан лихорадочно ищет своих помощников, а те — капитана, чтобы разобраться, кто и почему включил сигнал общей тревоги.
Да, вот уже и здесь замигал огонек вызова…
Антон торжествующе улыбнулся. Поздно, поздно! Обзорный экран показывал, как все тараканами разбегаются по полю. Пожалуйста, капитан, нервничайте, выясняйте, можете даже остаться — встретимся уже в полете, милости просим… На космодроме, видать, жуткая паника, но даже если кто-то обо всем догадался, то ведь надо еще поверить в невероятное, оповестить высокое начальство — и хвала иерархии! — согласовать решение. Вот так, вашим вас же!
Только бы не промедлить. Где этот проклятый кибер, неужто глупышка не сообразит?!
Лю Банг и Юл уже сделали все, что им положено было сделать, лицо Юла кривилось нетерпением. Рука Антона замерла над пультом. Одно движение пальца, но какое? Можно сразу включить маршевые двигатели и скользнуть за атмосферу, так куда безопасней. Но тогда все вокруг будет сметено и от тысяч людей не останется даже пепла.
Рука опустилась на пульт. Антон, как положено, стал поднимать корабль на планетарной тяге. Ощерившийся всеми средствами уничтожения космодром невыносимо медленно стал уходить вниз. Антон вдруг весело и дерзко подмигнул побелевшему от напряжения Лю Бангу. И тотчас всем передалась его задорная мысль. Собьют? Что ж, сбивайте, если не жалко оружия, которым вы собирались покорить мир. Вы не знали, как мы можем драться? Теперь знаете.
«И ведь не решитесь, — ликующе додумал Антон. — Знаете, какова мощь оружия и что останется от ваших Плеяд, если оно взорвется…»
Ныли двигатели, будто занозу, выдирая корабль из толщи атмосферы. Пора!
Антон включил маршевый двигатель, и словно чья-то исполинская рука мгновенным рывком окончательно выдернула эту ядовитую, но теперь уже безвредную занозу и выбросила ее в бескрайнее пространство звезд и галактик.
Все противоперегрузочное устройство не могло до конца смягчить стремительный рывок ускорения, и тем не менее, превозмогая тяжесть. Юл победным движением вскинул налитые свинцом руки. По лицу Лю Банга растеклась улыбка, запрокинутая голова Умы шевельнулась, отяжелевшие веки открыли ее затуманенный, но уже осмысленный взгляд, губы чуть слышно прошептали;
— Люди?..
— Все в порядке, — хрипло проговорил Антон.
Нет, еще не все было в порядке. Отнюдь не все! Затрудненным движением Антон сбавил перегрузку и, судорожно вздохнув, нажал кнопку интеркома.
— Конек-Горбунок, ты с нами, ты жив?!
— Нахожусь за переборкой, — бесстрастно донеслось из интеркома. — Готов выполнить ваш приказ.
— О, идиот! — Юл вскочил и на негнущихся ногах поспешил к двери. — Кибера забыли! Входи, малыш.
Черное тело кибера скользнуло в рубку, и тут какая-то давняя, смутная, в сомышлении с Искинтом когда-то возникшая картина всплыла в памяти Антона: помещение незнакомого корабля, он сам с друзьями и кто-то еще непонятный, то ли человеко-зверь, то ли…
— Готов выполнить ваш приказ, — повторил кибер. — Верно ли, что машина не способна улыбаться?
— Знаешь, друзьям ведь не приказывают, — весело проговорил Антон. — Но если не в службу, а в дружбу, то можно всем по чашечке кофе?
Принцип неопределенности
"При движении в прошлое можно выйти либо в намеченную точку пространства, либо в намеченный момент времени. Сразу осуществить и то и другое невозможно в принципе".
"Основы темпоралики", 2023 год
Ноги часто скользили, и это беспокоило Берга. Вот досада! Привычка к обуви, с которой сама собой соскальзывает грязь, делали его подозрительно неуклюжим в грубых, на одну колодку скроенных сапогах, когда на подошвы налипал вязкий ком глины. А здесь, на размытой дороге, это случалось постоянно. Мелкое обстоятельство, которого они не учли. Сколько еще обнаружится таких промашек?
К счастью, дорога была безлюдной.
Позже глину сменил песок, и Берг вздохнул с облегчением. На косогоре он приостановился. Одинокий дуб ронял плавно скользящие листья. Поля были сжаты, поодаль они тонули в сероватой дымке, и небо, под стать земле, было слезящимся, тусклым. Далеко впереди, куда вела дорога, смутно проступал шпиль деревенской церкви. Порой его заволакивала дождливая пелена.
Расчетчики не подвели, место было тем самым. А время? В какой век забросил его принцип темпоральной неопределенности? Седьмой, семнадцатый? Ответ, похоже, можно было получить лишь в городе.
Только сейчас, твердо шагая по мокрому песку, Берг ощутил разницу между воздухом той эпохи, откуда он прибыл, и той, куда он попал. Человек двадцатого века легко объяснил бы разницу чистотой здешней атмосферы. Но Берга она поставила в тупик, потому что давно миновали годы, когда заводские дымы Северной Америки загрязняли небо где-нибудь на Гавайях. В чем же дело? Или на воздух той эпохи, откуда пришел Берг, неизгладимый отпечаток наложила техносфера с ее эмбриомашинами, оксиданом и синтетикой? Должно быть, так. Здесь, в этом веке, запахам леса, земли и трав чего-то явственно не хватало. Чего-то…
"И небеса веков неповторимы, как нами прожитые дни…" — вспомнил он строчки Шиэры.
И небеса веков неповторимы…
Спешить было незачем, так как в город следовало войти в сумерки. Конечно, его одежда точно скопирована с одежды бродячего мастерового, но беда в том, что она могла не соответствовать тому веку, в котором он очутился. Правда, одежда средневековых бродяг-медников не слишком поддавалась веяниям моды, и, главное, для всех он был иностранцем, следовательно, человеком, имеющим право носить необычный костюм. И все же рисковать не стоило. В конце концов, это первая и, надо надеяться, последняя вылазка человека в прошлое. Если бы не особые обстоятельства… Странно, нелепо: он в мире, который уже много веков мертв. Скоро он увидит своих далеких-далеких предков, чьи кости давно истлели. А сейчас они разгуливают по улицам, сидят в кабачках, любят, ссорятся, смеются.
Дико, непостижимо, но факт. Однако, если вдуматься, для прошлого будущее куда большая нереальность, чем для будущего прошлое. Потому что прошлое было. А будущее — это ничто, провал, белая мгла. Для любого встречного он, Берг, пришелец из несуществующего. Забавно… Берг взглянул на свои руки. Обычные, крепкие, мозолистые руки. Невольно Берг фыркнул, вспомнив ученый совет, где дебатировалась методика воспроизведения средневековых мозолей. "Брэд оф сивый кэбыл", — как любил выражаться Генка Бороздин.
Дорога вела к деревне, но Берг избрал боковую тропку, лесом огибающую поселок. Не из-за боязни преждевременных расспросов и встреч. Просто в деревне могли потребоваться услуги медника, а задержка не входила в его планы. Лес, которым Берг шел, мало напоминал чисто прибранные леса его эпохи. Дичь, бурелом, чащоба, едва различимая, без ответвлений тропинка. Безлюдье, все говорило о безлюдье, нехватке сил, медвежьей замкнутости поселений. Бойкий тракт — узкая полоска грязи, где последняя повозка прошла еще до дождя. Тропа и вовсе звериная, хотя под боком деревня. Очевидно, он все же попал в раннее средневековье. Не слишком ли раннее?
За сумрачным оврагом начался ельник, справа в просвете мелькнула церковь, потом деревья снова ее заслонили. Неподалеку кричала воронья стая. С потемневшего неба сеял дождь. Под лапами елей краснели мухоморы. Вскоре стали попадаться заросшие холмики, серые, от времени покосившиеся кресты. Кладбище… Некоторые надписи удавалось разобрать. Взгляд равнодушно отмечал даты, полустертые евангельские изречения; слова печали и скорби. Вдруг сердце дало оглушительный сбой: там, в кустах, белел новенький крест, и на нем было начертано: «Берг».
Могила была настолько свежей, что даже глина не успела заплыть. Дрожь проняла Берга: его убьют здесь, в этом времени, зароют и…
Он едва унял колотящееся сердце. Какая чепуха! Тот, кого похоронили, мертв, а он, Берг, жив! И вообще тут нет никакой загадки. Простое совпадение — распространенная фамилия. Какие-нибудь Макферсоны были в десятках поколениях шотландцев. Возможно, род Бергов не менее стар, и кого-то из них занесло сюда. Но это значит… Это значит, что у него есть шанс встретиться с… Конечно, а разве он не знал этого заранее?
Поспешно уходя от могилы, Берг покрутил головой. Простая арифметика, только и всего. Родителей у каждого двое, дедов четверо, прадедов восемь, прапрадедов шестнадцать, предков в десятом колене свыше тысячи, а уж в отдаленном прошлом… Даже если учесть дальнеродственные скрещения, то, вероятно, большинство жителей любого европейского поселения имеют к нему, Бергу XXI века, самое непосредственное отношение. А какого-нибудь Гай Юлия Цезаря он мог бы и вовсе приветствовать по-родственному.
Жуткая все-таки вещь — генетика.
Как ни успокаивал себя Берг, встреча оставила неприятный осадок. Он поторопился быстрей пройти кладбище. Подумать только: отдаленным предком ему был каждый двадцатый (десятый, седьмой?) погребенный здесь человек! Бергу стало зябко при мысли, что его облик, характер да и само существование висит на столь непрочной нити. Если бы в том же средневековье кто-то с кем-то не встретился или поссорился, даже в том городе, куда он идет, то и его, Берга, возможно, не было бы! Или у него был бы другой цвет глаз, другой темперамент, другая судьба…
Вот и по этой причине тоже ни одному человеку до сих пор не разрешалось бывать в прошлом.
Успокоился Берг, лишь когда тропинка вывела его обратно на дорогу с ее просторами холмов и далей.
Потянул ветерок. За поворотом открылась мутная, неширокая река, грязный мост к неказистым крепостным воротам. Берг замер, поспешно кинув взгляд на зубчатый силуэт городских стен. Есть! Он сразу узнал знакомый по снимкам профиль Толстой Девы. Значит, ему повезло, он очутился примерно в том времени, в каком надо, потому что в десятом веке эта башня еще не была построена, а в четырнадцатом ее уже разрушили рыцари герцога Берклевского. Значит, и его костюм, в общем, соответствовал стилю времени, не надо переодеваться, укрывшись за кустом.
Он вынул из котомки запасные костюмы, облил их жидкостью, которая вкусом и цветом напоминала вино, и, удостоверившись, что ткань превратилась в труху, двинулся к мосту.
Разум, едва он ступил на мост, стал холоден, посторонние мысли отлетели прочь. И все же иногда ему казалось, что стоит лишь тряхнуть головой…
Но нет, кинувшиеся к нему, когда он перешел мост, собаки были самой доподлинной реальностью. Их была целая свора — грязных, шелудивых, ободранных; Припадая к земле, они давились хриплым лаем.
"Вот так загвоздка! — крепче сжимая палку, подумал Берг. — Ведь я понятия не имею, как должен вести себя средневековый путник при встрече с… И чего это они?"
Собаки попятились, когда он сделал шаг. Рычание сменилось повизгиванием, раздраженным, недоуменным, в котором слышались неприязнь и опаска. Внезапно Берга осенило. Ну конечно! Его одежда, обувь хранили запах той эпохи, в которой они были созданы, — запах чуждой этому веку синтетики!
Берг с уважением глянул на собак и, уже не обращая на них внимания, двинулся к воротам. Наступала, пожалуй, самая ответственная минута, которая решала, надежен ли его маскарад.
Но ничего не произошло. Чье-то лицо глянуло из зарешеченного оконца и тотчас исчезло; в помещении караулки слышался стук костей — стража явно не была заинтересована прерывать азартное занятие ради какого-то бедняка.
"Похоже, я попал в мирное время", — решил Берг.
Человеку запрещалось бывать в прошлом, но ничто не мешало посылать туда для съемок и наблюдений замаскированные под облака хроновизоры. Правда, в силу принципа неопределенности их приходилось запускать, в общем-то, наобум. Когда речь шла об углублении в прошлое всего на несколько лет, разброс еще не всегда давал разительные отклонения, но чуть далее он приводил уже к совершенно непредсказуемым результатам. Никакими способами нельзя было вывести автомат, допустим, на поле битвы при Кресси. Можно было, конечно, сфокусировать аппарат точно на время, когда произошло сражение, но в этом случае аппарат оказывался где угодно, но только не над деревушкой Кресси. Можно было, наоборот, вывести автомат точно к месту битвы, но тогда никто не мог предсказать, за сколько веков или тысячелетий от даты события он там очутится.
Впрочем, это не имело решающего значения, так как историку интересна любая эпоха. Чаще всего автоматы выводились в заданную точку пространства, из-за чего временная последовательность наблюдений оказывалась весьма прерывистой. Но лучше иметь что-то, чем ничего. Все шло хорошо, пока не случилась эта авария. Аппарат типа "кучевое облако" не отреагировал на команду возвращения. Ничего страшного, аппарат настроили на сближение с грозовой тучей, где к беспрестанному мельканию молний вскоре прибавилась еще одна вспышка. Но на этот раз и подрывное устройство сработало плохо. Уцелел, хотя и вышел из строя, кристаллический блок нелинейного антигравитатора. В довершение бед случилось это неподалеку от города.
Итак, изделие двадцать первого века очутилось в одиннадцатом и, вполне возможно, попало в руки людей. Разумеется, оплавленный «камень» не должен был вызвать никаких подозрений. Но кристалл мог не исчезнуть в войнах, пожарах и смутах, а скользнуть в двадцатый век, где его искусственная природа была бы, конечно, разгадана. Преждевременное открытие, грозное, опасное, меняющее ход истории, — этого еще не хватало!
Вид тесных городских улиц не произвел на Берга особого впечатления — он хорошо изучил их облик. Зато вонь… Пахло отбросами, лошадиным навозом и кое-чем похуже. "Медленней, — приказал себе Берг. — Тысячелетие назад походка людей была не столь размашистой". Высоко задирая рясу, через лужу перебрался священник. Опять взвыла кинувшаяся было под ноги Берга собака. "Чтоб тебя!" — в сердцах подумал он. Сумерки сгустились, но его появление не прошло незамеченным: на него то и дело оглядывались редкие здесь прохожие. Ни по какой особой причине: просто город был слишком тесным и замкнутым мирком. Соседний Цорн — это уже другое царство-государство, а какой-нибудь Брабант и вовсе близок к краю света. Путник из дальних мест здесь мелкое, но все же событие. Пустяки! Неважно, будут пересуды о нем или нет, если след, который он оставит, окажется неотличимым от множества других. Даже если это след похитителя.
Лишь бы добиться успеха. Но надежды на успех было мало. В сущности, все зависело от чистого везения. Ему и так уже повезло, что с первого раза он вышел в более или менее подходящую эпоху. Подходящую? Если сейчас лишь начало одиннадцатого века, то ему надо поворачивать назад антигравитатора здесь еще нет и в помине. Сколько же тогда потребуется новых попыток? Две, три, десять, а возможно, и тысяча, чтобы попасть хотя бы в двенадцатый век, — ведь принцип неопределенности превращал все это занятие в лотерею, где нужный билет терялся среди сотен пустых (еще хорошо, что путешествие в прошлое было возможно лишь на расстояние первых десятков тысяч лет). Но и точное — в пределах века — попадание не гарантировало успеха. Если антигравитатора не окажется в городе, допустим, в двенадцатом веке, это может означать и то, что, падая после аварии, он канул в какое-нибудь болото, и то, что антигравитатор нашли, но продали какому-нибудь заезжему торговцу редкостями. Вот тогда поиск становился задачей, какая и не снилась детективам, — попробуй выяви, где, в какой точке средневековой Европы оказался искомый предмет!
Невольно Берг улыбнулся. Его отобрали не потому, что он был лучшим специалистом или особо находчивым человеком. Его отобрали потому, что он, как это ни странно, был особо везучим человеком. У большинства людей удачи равномерно чередуются с неудачами. Но есть удивительные исключения. Одни притягивают к себе беды, как высокое дерево притягивает молнии, другие, наоборот, обладают как бы свойством отталкивания — обстоятельство, известное с незапамятных времен, но так и не разгаданное. Пока что его репутация удачника оправдывалась.
Судя по одежде прохожих сейчас был либо конец двенадцатого, либо начало тринадцатого века. Это следовало уточнить, и Берг первым делом свернул к соборной площади. Если перед собором стоят статуи святых, значит, уже наступил тринадцатый век. Если нет…
Статуи были, они еще не успели как следует потемнеть. Значит, с того момента, как антигравитатор упал с неба, и до того момента, когда он, Берг, очутился в прошлом, минуло лет полтораста. Срок, сильно затруднявший успешный поиск. И все-таки это было поразительно удачное попадание!
Берг стоял на виду у всей площади. Он оглянулся. Вокруг все выглядело мрачно. Темные, стиснутые фасады, конское ржание на соседней улице, слитые с сумраком фигуры прохожих, чужая речь и одежда наполнили его тоской. Молчаливая группа горожан пересекала площадь. Они должны были пройти мимо Берга, и тот внезапно понял, что сейчас не выдержит самой безобидной встречи лицом к лицу. Стараясь не привлекать внимания, он скользнул в распахнутую дверь храма.
Внутри оказалось чисто, торжественно, почти светло. По понятиям этого века, ослепительно светло, хотя в эпоху электричества храм выглядел бы сумрачной пещерой. Однако Берг уже немного проникся средневековьем и ощутил контраст церковного убранства с тем, что находилось вне этих стен. Распространяя сияние, теплели свечи. Рокотал орган, в зыбкой полутьме сводов мерцало золото, оттуда, как бы паря, глядели отрешенные лики святых. И чем дольше вглядывался Берг, тем спокойней и вместе с тем непонятней становилось на душе. Он попробовал иронически улыбнуться, но ирония не удалась. Мерное движение голов молящихся, колыхание свечей, плывущие звуки, темное, казалось, забытое. Гипноз ритма, цвета, звука, только и всего! Нет, не только. Берг мог выделить, понять, проанализировать каждую слагаемую этого воздействия, но все вместе составляло нечто большее, чем гипноз. Здесь, сейчас, в глухом средневековье, все это было отдушиной. Здесь люди испытывали иллюзию единства с собой, с другими, с тем тайным, что, казалось, присутствовало в храме, что наблюдало и берегло, карало и сулило, просветляло и подавляло, возвышало и смиряло. Совсем иной, тревожно-волнующий настрой эмоций, отчасти понятный, но отталкивающий духовный мир.
Помедлив, Берг выбрался наружу. Тотчас его пробрал зябкий ветер. Запахнув плащ, Берг повернул за угол и едва не столкнулся с растерзанным, в лохмотьях, человеком, который едва держался на ногах, — то ли был пьян, то ли болен.
— Эй, послушай…
Берг не оглянулся, хотя что-то рванулось в нем помочь несчастному. Но воспитанное, как рефлекс, соучастие было здесь неуместным, даже опасным.
— Эй, послушай, эй, послушай… — человек бубнил монотонно, как бы говоря со стеной.
Должно быть, просто нищий.
Куда идти? Это не имело значения. Содержимое сумки, пояса, сама одежда, медное кольцо на пальце только внешне воспроизводили облик предметов далекого прошлого. Кто бы отнесся с подозрением к обычному кремешку? Или листочку слюды? Кремешок, однако, был инфракрасным фонариком, а слюда позволяла видеть этот незримый свет. Кольцо, однако, играло куда более важную роль. Оно служило прибором, который определял местонахождение антигравитатора. Сейчас оно было холодным. В стометровом радиусе от антигравитатора оно должно было потеплеть. Совсем как в детской игре: "Холодно, холодно… Теплей, горячо!"
Оружия не было. Никакого. По всем расчетам, ни один его поступок даже в самой неожиданной ситуации не мог вызвать искажения истории. Кроме… Яви он чудо, оно не вызвало бы сильного резонанса в эпоху, когда все верили в чудеса. Любое колебание нити затухает со временем, и опасен только обрыв. Таким влекущим непредвиденные последствия обрывом могло быть невольное, с целью самообороны убийство. Все же следовало быть осторожным и в мелочах, потому что теории теориями, а кто их проверял опытом? Кто рискнул бы проверить?
Ветер явно разгонял облака. На несколько минут успела просветлеть полоска заката, но отблеск так и не смог пробиться в теснины улочек, где дома жались друг к другу, как овцы в непогоду.
Становилось холодно. Машинально Берг хотел сунуть озябшие руки в карманы и удивился, не обнаружив их. Так, еще один мелкий промах! Ослабив контроль, он сделал жест, который не мог сделать человек тринадцатого века по той простой причине, что тогда не было карманов!
Внезапно палец ощутил тепло. Берг застыл не веря. Вот так, сразу? Он заметался по кривым улочкам, пугаясь всякий раз, когда кольцо холодело. Но мало-помалу он успокоился и стал сужать круги до тех пор, пока не стало ясно, что от антигравитатора его отделяют стены одного из домов.
В двух крохотных оконцах выступающего над улицей второго этажа горел тусклый огонек — в доме еще не легли. Это не имело значения. В сущности, теперь уже ничто не имело значения. Тихая радость удовлетворения охватила Берга. Теперь все, теперь конец. Милым был этот город, его черепичные крыши, эта добродушная старина, все, все! Берг запомнил дом, подходы, осмотрел дверь. Спать здесь ложатся рано, а провести часок в кабачке, понаблюдать жизнь и приятно и полезно. Потом он вернется, "как тать в нощи", сделает что надо, и прощай средневековье! Тенью пришел, тенью уйдет, лишь собаки заподозрили неладное. Врач в двадцать первом веке критически осмотрит его запачканные сапоги, забрызганный плащ и скажет: "А ты, брат, очень, очень… Небось и чуму приволок?"
Скорей бы…
Кабачок отыскался неподалеку. К удивлению Берга, никто не обратил на него внимания. Все сгрудились вокруг скамьи, на которой, багровея от смущения, сидел вислоухий парень в новых кожаных штанах. Под скамьей почему-то была лужа. Взлетали кружки, сыпались непонятные Бергу остроты; было душно, смрадно, со свода огромного очага хлопьями свисала сажа; жар углей пробегал по разгоряченным лицам, красновато поблескивая на потных щеках, западал в хохочущие рты.
Никто не взглянул на Берга, когда он пристроился в углу. Только хозяин, сгорбленный, с перебитым носом мужчина лет сорока, вынырнув из толпы, осведомился, чего тот желает.
— Ужин, — коротко сказал Берг.
— Издалека? — уловив акцент, спросил хозяин.
— Из Брабанта.
— Ну что ж, ну что ж…
Кабатчик отошел, мелко кланяясь. Берг проводил его недоуменным взглядом и тут же забыл, потому что смех и разговоры неожиданно стихли.
Просвет между спинами позволял видеть, что делается в круге. К юноше на скамейке чинно приблизился толстяк с тройным подбородком. Он тронул его за плечо, и тот вздрогнул, как от разряда тока. По рядам прошло движение.
Юноша привстал, и, к изумлению Берга, с ним вместе приподнялась скамейка. Разгибаясь, юноша тихонько поворачивался, и скамейка поворачивалась следом, пока все не увидели, что она крепко висит на штанах. Грянул восторженный рев.
Бергу все стало ясно. Как он сразу не догадался, что это посвящение в пивовары! Кандидат должен сварить пиво, вылить кружку на чисто обструганную скамью, сесть в новых кожаных штанах, и штаны приклеятся, если пиво доброе. Так, значит, одним мастером в городе стало больше.
Было что-то непосредственное, детское в последовавшем веселье. Жуя невыносимо жесткое мясо (это тебе не синтепища!), Берг ощутил нечто вроде зависти. Пожалуй, он бы не смог хохотать так раскатисто, награждать парня тумаками, опрокидывать в рот реки вина и пива, перемалывать кусищи мяса, рыгать, стучать сапогами, бесхитростно отдаваясь настроению минуты. Подозвав хозяина, он расплатился и вышел.
Небо заметно очистилось от туч. Полоска над ломаными линиями крыш молочно светлела в том месте, где находилась луна. Внизу, однако, стояла совершенная темень. Но не успел Берг сделать и десяти шагов, как впереди мелькнул огонь факелов.
Берг оглянулся. Сзади, приближаясь, тоже колыхался свет. В его отблеске сверкало оружие. Ночная стража!
Ну и что?
Колыхающийся свет выхватил заросшие лица, шумно, как после бега, дышащие рты, сталь лезвий и шлемов. Берг, уступая дорогу, прижался к стене. И тут ему в грудь уперлось сразу несколько копий.
— Держи нож к глотке, к глотке! — раздался чей-то радостно-исступленный вопль, и медвежья масса тел навалилась на Берга.
— За что? — выкрикнул он полузадушенно. — Я из Брабанта, я…
Ответом был язвительный хохот.
— Вяжи крепче! Думаешь, раз переоделся, тебя и узнать нельзя, Берг?
Берг?!
Его поволокли, ругаясь, пиная, дыша чесноком и перегаром.
Помещение, куда его наконец впихнули, было низким, сводчатым. Каменную наготу стен прикрывали два-три плохо различимых гобелена. Слева от пылающего очага возвышался коптящий трехсвечник, справа возле столика находилось кресло, в котором сидел белоголовый в епископском облачении старик, такой сухой и сморщенный, что массивный крест, казалось, продавливал ему грудь. Старик медленно повернул голову. Стало слышно, как потрескивают факелы стражи.
— Ближе, подведите ближе, — голос епископа прошелестел, как тронутая ветром бумага.
— Я не тот, за кого вы меня принимаете, — громко сказал Берг. — Это ошибка, я никогда не был в вашем городе, я…
— Знаю! — старческая рука легонько стукнула по подлокотнику. — Знаю, что ты дерзок в обмане… Нагл, дерзок и богохулен. Надеялся, я поверю слуху о твоей смерти? Бухнуться бы тебе сейчас на колени, молить… Казнь не радость, осознаешь?
Епископ подался вперед. Шея у него вытянулась, как у ощипанного гуся. Сзади насморочно сопел кто-то из стражи.
Сам не ожидая того, Берг фыркнул. Рот епископа приоткрылся. Дернулись созданные факелом тени, и все застыло в ошарашенном молчании. Дикость, паноптикум, к которому он не имел, не мог иметь никакого отношения. Он продолжал улыбаться.
— Качалку! — голова епископа затряслась. — Завтра же!
— А как с ней? — поспешно спросил чей-то голос из-за спины. — Тоже?
— И ее! Раньше! У него на глазах, у тебя на глазах, Берг! Еще не дрожишь? На ме-е-едленном огне будет жариться вместе со щенком, зачатым в преступной связи… Подумай о раскаянии, подумай!
Епископ упал в кресло. Он был бы похож на труп, если бы не его горящие глаза. Берг презрительно пожал плечами.
Его отвели в камеру и там заковали. Лязгнул засов, стих топот на лестнице.
Некоторое время Берг лежал неподвижно. То, что он оказался двойником какого-то здешнего Берга, было, конечно, поразительным совпадением, но сейчас не имело смысла обсуждать теорию вероятностей. Возможно, это тот самый Берг, чью могилу… Неважно! Неизвестный ему Берг тринадцатого века натворил что-то серьезное, враги подстроили ему ловушку, а попался в нее человек двадцать первого столетия. Вот ситуация! А донес, похоже, кабатчик… Тоже несущественно. Чем ему там грозили? Ах да, качалкой…
Берга передернуло от отвращения и гнева. Осужденного привязывают к концу балансира и то окунают в костер, то приподнимают, давая передохнуть, — вот это и есть качалка. Медленное поджаривание человека.
Сволочи, тупые садисты, мразь! Ну он им покажет… Ну они еще попрыгают у него, махая рясами… Не та муха залетела к ним в паутину. Интересно посмотреть, какие рожи будут у них завтра…
Луна все чаще выглядывала из облаков, чертя на полу продолговатую тень решетки. Берг позвенел цепями и торжествующе улыбнулся. Глупые толстые цепи из скверного металла, наивная решетка в широком проеме — эти тюремщики даже не подозревают, что такое человек двадцать первого века и что он может.
— Мне этот отель не нравится, — с вызовом сказал Берг. — Сыро, холодно… И вообще. Так, для пополнения образования разве что…
Он лег, закрыл глаза. Тренированное тело само знало, что ему делать. Темная волна накрыла сознание. Теперь все клетки мозга и тела подчинялись единому ритму, страшному ритму настроя всех сил организма.
Берг рванулся. С треском лопнули цепи.
— Вот так, — сказал Берг.
То, что раньше в момент безумного напряжения случайно удавалось одному из миллионов, было уже давно познано, и каждый человек новой эпохи умел возбуждать в себе тот скрытый резерв энергии, который стократно раздвигал пределы «нормальных» физических возможностей.
Берг переждал неминуемую после рывка слабость, поднялся, стряхнул остатки цепей и тем же усилием выворотил решетку.
Теперь отдых потребовал уже не менее получаса. Ворвись сюда привлеченная шумом внешняя стража, Берг не смог бы оказать ей сопротивление, тем более что против копий, мечей и прочих режущих предметов у него не было защиты. Никто, однако, не караулил ни под окном, ни за дверью — к чему, если цепи массивны, а решетка надежна?
Его камера находилась в башне. Неровная, сложенная из валунов стена обещала легкий спуск. Берг дождался, пока скроется луна, и вылез в окно.
Он спускался спокойно, уверенно, как подобает альпинисту. Ни сейчас, ни раньше он не принадлежал чужому времени с его нелепыми законами и случайностями. Мгновения испуга, когда он оторопел от неожиданности и ощутил себя в ловушке, прошли, и сейчас после взлома он снова был человеком своей эпохи, гордым, независимым и могущественным.
Прямо под собой Берг обнаружил окно нижней камеры. Пришлось взять немного в сторону. Его голова была уже на уровне прутьев, когда из-под ноги посыпались камешки. Берг замер, вцепившись в решетку, и тут, как назло, засияла луна.
В ее меловом свете за решеткой метнулась чья-то тень. Дрожащие пальцы схватили руку Берга.
— Ты пришел, пришел, я знала, я верила, милый, милый…
Берг едва не закричал от ужаса. Перед глазами неясно белело сияющее лицо женщины, почти девочки. Она тянулась к нему сквозь решетку, и всхлипывала, и улыбалась, и такое было в ее шепоте счастье, что сердце Берга оборвалось.
Так вот она, невеста того, другого Берга, приманка, жертва, девушка, которую должны утром сжечь!
— Самый лучший, самый отважный, самый любимый, мой, мой Берг… Спаси, скорей спаси нашего ребенка!
— Нашего?! Ребенка?! Ну да, конечно… — Берг почувствовал себя летящим в пропасть. Он был обязан ее оттолкнуть, чтобы не изменилась история.
Девушка целовала его руку.
— Тихо, — сказал Берг.
Он рванул на себя прут решетки. Прутья не были скреплены поперечинами и легко вынимались из гнезд. Он вытянул ее в проем. На ней была одежда монахини. "Вот оно что…" — тупо подумал Берг. Он был холоден, как автомат. Выбрал место внизу, прицелился, спрыгнул, расставил руки, принял ее в объятия.
— Наш маленький бурно начинает свою жизнь, — сказала она, едва отдышавшись.
— Идем, — сказал Берг.
Они растворились в темноте спящих улиц.
Теперь у Берга было время подумать, но думать он не мог. Да и к чему? Эта девочка и ее ребенок должны были умереть на костре, а теперь не умрут; их потомки будут жить во всех веках, чего прежде не было.
Ему хотелось убить ее и себя.
Они достигли городской стены. К ней косо подходил глухой фасад, между фасадом и стеной был залитый мраком пустырь.
— Побудь здесь, — приказал Берг.
Он ждал удивления, жалоб, испуга, но она только кивнула, хотя он чувствовал, как она дрожит.
— Я постараюсь не бояться… — сказала она.
— Я скоро вернусь, — пробормотал Берг.
Сам не зная почему, он сжал ее руку. Она на мгновение прильнула к нему и тут же отстранилась.
— Тебе надо, иди. Ты мне сказал тогда, что все будет хорошо, и я ничего не должна бояться. И я не боюсь. Но… у нас все-все станет по-прежнему, когда ты вернешься?
— Да, да…
Что будет по-прежнему?! Берг не очень даже осознавал, куда и зачем бежит. Но что-то вело его с точностью автопилота, и он очнулся, когда тепло кольца охватило палец. Дом нависал над ним, как скала. К Бергу вернулось самообладание. Он ощупью нашарил замочную скважину. Сумку отобрали при аресте, но пряжка пояса дублировала инструмент. Немного повозившись, он отпер дверь, наподобие монокля приладил листок слюды. Тепло ладони оживило «кремневый» фонарик. Прихожая, дверь, лестница… Берг повел рукой в воздухе, и кольцо указало на лестницу. Ветхие ступени не внушали доверия, и он разулся. Он не волновался, будто всю жизнь обшаривал квартиры средневековых горожан. Лестница вывела в коридор. Дом наполняли запахи тепла, печного дыма, трухлявого дерева. Тихо было, как в омуте, лишь где-то скреблась мышь…
За скрипнувшей дверью открылась комната, похожая на музей. Полки с фолиантами, чучела зверей и птиц, песочные часы, окаменелости, кусочки воска, черепки, чаши, рулоны пергамента — все вперемежку лежало, стояло, висело, было раскидано на столах. Луч скользил, пока не уперся в закопченное чело горна. Берг едва не чихнул от поднявшейся пыли. Под горном среди тиглей и щипцов он нашел оплавленный до бесформенности кристалл антигравитатора. Его явно пробовали кислотами. Ну конечно! Он слишком тяжел, подозрительно тяжел для своего размера. Берг сунул его за пазуху, спустился, обулся, вышел и запер дверь. Самое трудное в его миссии на деле оказалось самым легким.
Теперь он мог рассуждать хладнокровно. Кто ему, в конце концов, эта девушка? Что заставило его ввязаться в дело, которое его не касалось? Сострадание? Да, конечно. Но разве мало их умирало на кострах до и после? Их судьба возбуждала жалость, но то была абстрактная, до холода рассудочная жалость. И об этой девушке он не думал, пока ее не увидел, хотя и знал, что она есть. Что же ему мешает теперь?
Логично рассуждая, ее нет вовсе, как нет самого этого века, который давно истлел со всеми своими надеждами и печалями. А есть будущее. Тот век, откуда он пришел и который может теперь пострадать из-за его поступка.
Но сейчас, в эту минуту, на этой темной улице будущее тоже всего лишь абстракция! И не абстракция эта доверчивая девушка, которую он, все взвесив и логично рассудив, должен предать.
Берг зажмурился и с минуту стоял так, мыча от боли и бессилия. Да кто же виноват, что желание спасти и защитить сработало в нем как рефлекс?! Само воспитавшее его общество.
Жалкая уловка.
Но почему жалкая? Почему уловка?
Когда мысль, желая точно наметить трассу будущего морального поступка, слишком пристально сосредоточивается на противоречивых понятиях, сами эти понятия начинают терять ясность, ибо любое понятие также неисчерпаемо и темно в своих глубинах, как и породившая его жизненная реальность. И мысль теряется, решение ускользает, все кажется запутанным и неверным. Так размышления порой губят решимость.
Берг с силой тряхнул головой. Тяжесть антигравитатора напомнила о его первейшем долге.
Нельзя одновременно определить скорость электрона и его положение в пространстве. Нельзя попасть и в заданный момент времени и в заданную точку пространства. Но в жизни тоже неизбежен выбор, и достижение одного влечет отказ от чего-то другого. Не значит ли это, что в глубинах морали скрыт тот же принцип, что и в глубинах природы?
Все возмутилось в Берге при этой мысли. Почему, почему история из-за его поступка должна измениться к худшему? Откуда это следует? Если поступок правилен и хорош, то должно быть наоборот, ибо как быть тогда в настоящем без уверенности, что добро, сделанное тобой сегодня, улучшит завтрашний день? Как можно жить и делать что-то без такой уверенности? Как можно без этого строить будущее? А если так…
— Вот я и вернулся, — сказал Берг.
Она бросилась к нему с подавленным вскриком. Он придержал ее за плечи.
— Времени у нас мало. Вспомни, не осталось ли тут дома, где ты… где мы могли бы переждать? ("Где я мог бы тебя оставить ждать настоящего Берга. Если он жив…")
— Ты же знаешь, что нет! ("Все, не вышел компромисс…") Ты… ты изменился, милый… ("Ну еще бы! Странно, что любящее сердце сразу не заметило подмены…") Я что-то сделала не так? Не то сказала?
— Нет, нет!
— Тогда… Я не совсем понимала, когда ты говорил, что наша любовь особенная, какой не было и не будет, но сейчас, сейчас… Ты даже не поцеловал меня!
Он повиновался. И, целуя, понял, что хочет целовать ее всегда, всю жизнь, что она близка ему, вопреки всему близка с первой минуты, а все прочее обман, которым он пытался заслониться от поражающей, как молния, любви, в которую он не верил и которая настигла его.
И в озаряющей радости он внезапно увидел выход, настолько простой, что поразительно, как это он не заметил его сразу. Хроноскаф увезет двоих! Девушка должна была умереть в прошлом, она и умрет, для прошлого, чтобы жить в будущем.
А тот, другой Берг? К черту другого, если он не смог ее спасти!
Он рассмеялся.
— Ты что, милый?
— Ничего. Все верно: наша любовь особенная, какой не было и не будет. Мы спасены, если ты сможешь всю ночь идти пешком.
— Разве нам впервые?
— Но…
— Маленький — умница. Он мне совсем не мешает; видишь — его даже незаметно. Я пройду столько, сколько нужно, когда ты рядом.
Бергу передалась ее убежденность. Он размотал сплетенный из тонких жил пояс, закинул петлю за выступ стены, подложил, чтобы не резало, плащ, обвязал девушку, и через полчаса они были на свободе.
Берг широко дышал воздухом леса, который уже не казался ему чужим; закутанная в плащ девушка шла рядом, он поддерживал ее, чувствуя тепло плеч и испытывая головокружительную нежность. Серебро и чернь узорчатых теней листвы словно плыли сквозь него. Или, наоборот, он плыл по расстилавшемуся невесомому ковру.
В мелькавшем свете луны он хорошо видел ее лицо, но так и не мог сказать, красива ли она. Какое это имеет значение? Никакого. Как и ее прошлое, как тот мирок, откуда он ее вырвал. Он даже знал, как она воспримет будущее. Как сказку, рай, куда ее привел любимый. Она примет этот мир с той же доверчивой непосредственностью и стойкостью, с какой она приняла свою судьбу, но скорей всего будет нелегко убедить ее, что они живы, а не вознеслись на небо. Почему все должно быть так, а не иначе, он не знал, но был убежден, что все так и будет.
Усталость навалилась внезапно. Ни с того ни с сего Берг почувствовал, что скользящие тени мешают идти, что они захлестывают ноги, как петли силка. Он раза два споткнулся. Это испугало его. Изнеможение должно было прийти после всех испытаний ночи, он держался только на нервном напряжении, но неужели он свалится на полдороге?
Усилием воли ему удалось избавиться от ощущения захлестывающих петель. Зато ноги стали как бы обособляться от тела, он их уже почти не чувствовал. Зато стал оттягивать руки антигравитатор. Он весил уже не килограммы, а тонны! Все, кроме ног, стало тяжелей: голова, руки, тело девушки, когда оно к нему приваливалось, и это дало спутанным мыслям Берга непредвиденный толчок, который заставил его похолодеть.
— Сколько ты весишь? — спросил он.
— Я? Я… я не понимаю…
— Извини… Это я так, ничего…
Конечно, она не знала, а скорей всего, и не понимала, о чем ее спрашивают. Нелепо предполагать, что в тринадцатом веке девушки взвешиваются на медицинских весах, и Берг устыдился своего вопроса. Свой вес он знал точно, ее определил, когда, спускаясь со стены, брал на руки, и тогда у него не было и тени сомнения, что мощности хроноскафа хватит на двоих. "Без паники, — сказал себе Берг. — Только этого еще не хватало!"
— Сядем, — сказал он, хотя намеченное им время привала еще не наступило.
Они сели, и по тому, как она медленно опускалась на разостланный плащ, как неподвижно смотрели ее глаза, он понял, что вся ее выдержка была напускной, что она безмерно устала, устала куда больше, чем он, и что она скорей умрет, чем сознается в этом. Берг едва не застонал и внезапно почувствовал долгожданный прилив сил, верней ярость, которая заменяла силу.
— Идем, — сказал он, понимая, что долгий отдых будет только хуже, что в одиночку никто из них не дойдет, а вместе они все-таки дойдут, потому что каждый черпает силы в другом.
Они пошли, молча понимая друг друга, и ночь для них длилась бесконечно, потому что они бесконечно напрягали свои силы. Но рассвет все-таки наступил. Рассвет обещал солнце, и Берг ободрился, мелькнула даже мысль, что когда-нибудь он будет вспоминать эту ночь как счастье.
Они поднялись на пригорок, где дуб ронял все так же плавно скользящие листья. Берг отчего-то подумал, что дуб, пожалуй, может прожить все разделяющие столетия, и пожелал ему уцелеть до тех времен, когда они снова придут под его уже старческую крону.
Трава была серой от обильной росы. Оставалось уже немного до того места, где находился замаскированный под глыбу валуна хроноскаф. Они дошли до опушки, и Берг решил сделать последний привал. Она опустилась на землю, и ему показалось, что в ее теле совсем не осталось жизни после тюрьмы, страха и бегства, что сознание ее спит и она уже ничего не ощущает. Но это было не так. Она шевельнулась, ее глаза взглянули на Берга и увидели в нем что-то такое, отчего она сделала движение выпрямиться и убрать разметавшиеся волосы. И это упрямое, через силу движение открыло Бергу ее не такой, какой она была сейчас, — измученной, с черными тенями на лице, в тусклом монашеском одеянии, а такой, какой она была на самом деле; он вдруг увидел ее танцующей в белом платье. Он даже вздрогнул, настолько реальным было видение гибкой, порывистой, как огонек на ветру, девушки в белом. Счастливой, ничего не боящейся девушки двадцать первого века. "Ну что ж, — подумал он, чувствуя, как у него перехватило дыхание. — Ну что ж… Разве так уж велика пропасть между нашими временами?"
Какой-то отдаленный, гулко и дробно разносящийся в рассветной тишине звук вывел его из задумчивости. Он прислушался, и все в нем болезненно сжалось — то был стук копыт. Она его тоже услышала, и по тому, как она напряглась, как еще сильней побелело ее лицо, он понял, что и она догадалась о значении этого звука.
Он схватил ее, и они побежали, но у нее уже не было сил бежать.
— Я не могу быстрей… Спасайся…
Он подхватил ее на руки, нисколько не удивляясь тому, что в состоянии это сделать.
На взгорке он обернулся. Всадников было человек десять, они находились еще километрах в полутора. Впереди мчались собаки.
Еще можно было успеть. Он бежал, ничего не чувствуя, кроме режущей боли в легких, и ничего не видя, кроме мелькающих темных полос, и все в нем сосредоточилось на том, чтобы разглядеть среди этих мельканий приметный куст, бугорок, камень.
Все же в нем шевельнулась горделивая мысль о том, что они, люди двадцать первого века, все-таки могут невозможное и без техники.
Он едва узнал поляну, где оставил хроноскаф. Топот приближался, но всадников еще не было видно. Дыхание, казалось, уже разорвало легкие. Тело девушки он больше не чувствовал, верней, чувствовал как свое — огромное, непосильное, не повинующееся ему тело.
"Глыба" раскрылась, едва Берг к ней прикоснулся. Лай собак уже ворвался на поляну, их оскаленные морды мелькали среди кустов.
Берг втиснул девушку на сиденье — пришлось разорвать ее сомкнувшиеся на шее руки, — влез сам. Захлопнувшийся люк отрезал собачий лай. Берг надавил кнопку возврата.
Двигатель загудел — и смолк. Не соображая, что он делает, Берг рванул рукоять обратного хода. Хроноскаф дернулся… И стал.
Лишним был тот вес антигравитатора, который Берг не учел!
Все, что произошло потом, сделал словно не он, а кто-то другой. Берг швырнул антигравитатор девушке на колени. Кажется, она хотела что-то сказать… Или крикнуть… Он включил автоматику возвращения в XXI век, нажал пусковую кнопку и вывалился, захлопнув люк. Падая, он успел увидеть тающий корпус хроноскафа.
Некоторое время он лежал, вжавшись лицом в землю и недоумевая, почему медлят собаки. В ушах гулко шумела кровь, очевидно, из-за этого он и не слышал лая.
Нет, не из-за этого. Он медленно приоткрыл глаза. Что… что такое?! Ярко светило полуденное солнце, пели птицы, вокруг была весна, а не осень.
Вот оно что! Он встал, пошатываясь, как пьяный. Сознание привычно восстановило последовательность событий. Пытаясь стронуть хроноскаф, еще тогда, когда они были вдвоем, он машинально дал ему задний ход. И тут аппарат на мгновение сработал, унес их по оси времени назад. А это означало…
А это означало, что никакого другого Берга в тринадцатом веке не было. Был он сам. Рывок хроноскафа был слишком ничтожен, чтобы унести его в неопределенно далекое время прошлого, и он очутился в годах, предшествующих его появлению здесь.
Берг с тоской оглядел сияющий мир, который теперь стал его миром. Он вернул антигравитатор, он спас девушку, не нарушив при этом хода истории, но погубил себя. Бессмысленно надеяться, что кому-то удастся вывести хроноскаф в ту точку пространства и тот момент времени, где он находится. Нет… Свое будущее он, увы, знает наперед. Остаток жизни он обречен провести в тринадцатом веке, этот век станет его веком, он будет в нем жить, встретит девушку, которую полюбит (уже полюбил!), вызовет ненависть епископа и погибнет за несколько дней до того, как сам же ее и спасет. Обычная, из теории следующая петля времени, когда «после» предшествует «до». Еще и в помине нет той могилы, где он будет зарыт, но, скользнув из своего будущего в свое прошлое, он уже знает, как она выглядит на скромном деревенском кладбище.
Жить, похоже, осталось ему немного.
И все-таки ему повезло даже в невезении, потому что это будет достойная человека жизнь. Он вступит в бой и победит. Успеет полюбить и стать любимым. Успеет дать счастье тому, кто уже не мечтает о счастье. Успеет сделаться отцом. Не так уж мало для человека любой эпохи!
Знамение
Апеков уже с неделю работал в этих местах и почти всякий раз, когда направлялся в пещеры, встречал Сашу. Сначала дорогу пересекало лениво жующее стадо, затем появлялся он сам с кнутом через одно плечо, транзистором через другое, баском покрикивающий на своих подданных. Широкополая, небрежно заломленная шляпа, дешевый джинсовый костюм, высокие, с отворотами сапоги делали его похожим на киноковбоя, но вблизи впечатление рассеивали льняные, на зависть девушкам, кудри до плеч, чистая синева глаз, мягкий, сквозь загар, румянец доверчивого лица, — хоть сейчас пиши с него идиллического пастушонка, нестеровского отрока, кроткого Леля. Правда, для этого его надо было не только переодеть в холстину и лапти, но и снять нашейную, с гаечкой, цепочку. А заодно поубавить мускулов, перекат которых сразу придавал его как будто хрупкой фигуре мужицкую основательность.
Встречи вряд ли были случайными. И то сказать, человек, шарящий по склонам, что-то высматривающий в скалах, лезущий во все грязные норы и щели, не мог не вызвать любопытство. Первые дни Саша лишь здоровался издали, наконец попросил огонька, чтобы прикурить, и, слово за слово, разговор завязался. Сам собой последовал и ожидаемый вопрос. Очарованный кротким сиянием глаз паренька, Апеков было увлекся, начал целую лекцию о пещерной живописи, о значении для культуры всякой находки, однако вскоре почувствовал, что в сознание собеседника его слова входят, как гвозди в вату. Археолог не сразу уловил перемену, ибо заинтересованное внимание не покинуло Сашу, оно просто обратилось внутрь, словно в незримой двери незаметно повернули ключ — вроде бы ничего не изменилось, но дверь уже заперта и стучать бесполезно. Когда же уязвленный Апеков в досаде скомкал свои объяснения, Саша только взмахнул пушистыми ресницами и сказал:
— Наука.
Не сказал — подытожил. Дождь. Солнце. Лес. Стадо. Наука. Точка! Предмет выделен, обозначен, значение его очевидно, говорить больше нечего.
Это и вовсе рассердило Апекова. Но, подумав, он решил, что для парня из лесной глухомани наука и все с ней связанное примерно то же, что звезды в небе: не заметить нельзя, но нужды в них никакой. Так и здесь — обычная дань любознательности. Кто этот посторонний и непонятный человек? Ученый? Ага… Теперь понятно, и думать тут больше нечего.
Они попрощались, и Апеков остался в уверенности, что больше преднамеренных встреч не будет. Он ошибся. Стадо все так же продолжало пересекать его путь, хотя трудно было понять, как Саше это удавалось. Пещер здесь было немало, район мог оправдать надежды, но пока не было даже намека на успех, и Апеков часто менял маршрут. Коровы же не летают. Тем не менее, выбираясь на новую дорогу, Апеков уже знал, что, скорее всего, услышит впереди треск кустарника, сопение, затем в просвете покажется гладкий, в черно-белых разводах, коровий бок, а там и Саша появится, поздоровается, заговорит или пройдет мимо.
Спустя день или два после первого разговора Саша поинтересовался, сколько ему, Апекову, платят. Апеков ответил. Саша задумчиво перевел взгляд на коров.
— Понятно…
— Что именно?
— У меня на сотню больше… Но-о, лешая, куда прешься!
Снова констатация факта как некой самоочевидности. Он, Саша, пасет стадо, обеспечивает надой и нагул, ему и платят больше, чем ученому, который занимается тем, без чего прожить можно. Все справедливо, иначе и быть не может.
Так это понял Апеков — и расстроился, оскорбился, больше за себя и науку, хотя отчасти и за этого, с васильковой синью в глазах, прагматика, нестеровского, в джинсах, отрока. Но ему тут же пришлось убедиться, что он понял не все, а может быть, вообще ничего не понял.
— Что ж, — спросил он резко, с некоторым раздражением, — так и будешь всю жизнь коров пасти?
Синь Сашиных глаз всколыхнулась недоумением, словно он спрашивал: ученый человек — неужели не понимает?
— Не… — пояснил он, помедлив. — Мне в армию скоро.
— Ну, в армию…
— Буду проситься в летчики. Меня возьмут, я здоровый. Там прикину, может, в космонавты переберусь.
Если бы за плечами Саши расправились крылья, Апеков, возможно, удивился бы не меньше. Поразили его не сами слова, а их обдуманная уверенность: вот захочу стать космонавтом — и стану, ничего особенного.
Над ухом, оголтело жужжа, вычерчивали свои орбиты мухи, поодаль благонравно паслись коровы. Сто верст до ближайшего города! Во все глаза глядя на Сашу, Апеков присел на шершавый, нагретый солнцем валун. Ничего себе пастушок! Ай да дите пейзанское… И ведь прав. Были бы ум, воля, здоровье — и вполне может осуществить свою жизненную программу. Гагарин тоже не с академии начинал…
И все же Апеков не мог подавить в себе ощущение нереальности. Ведь кто перед ним? Пастух. Такие, как он, и, главное, точно так же пасли стада еще в неолите. Десять тысячелетий назад! Пирамид не было, когда они вот так же пощелкивали кнутом, кричали: "Но-о, куда прешь!" И так же над ними жужжали мухи. Ничего с тех пор не изменилось. Настолько не изменилось, что, не будь эта профессия обыденной и в двадцатом веке, ею наверняка заинтересовались бы исследователи далекого прошлого. Реликт же, профессия древнего неолита! И — нате вам: от стада — к звездам, от кнута — к пульту черт знает какой техники; и синеглазый пастушок говорит об этом как о чем-то естественном, и верно говорит. А ты, высокообразованный современник, видя эту фантастику будней, глядишь на паренька, как на чудо какое-то…
— Да-а, — сказал, наконец, Апеков. — Программа, брат… Учиться нужно.
— Подучусь, конечно. А как же! В армии сейчас знаете какая техника? Не хочешь — заставят.
Тоже верно. Зачем переть в гору, если туда ведет эскалатор? Только не атрофируются ли мускулы от такого подъема?
— Расчет, расчет… — хмурясь, проговорил Апеков. — Много званых, мало избранных. В космонавты стремятся тысячи, а попадают единицы. Ты это учел?
— Попадают же… Вы мне другое скажите. Тогда, лет через пятнадцать, не много ли будет космонавтов?
— Много? Понятия не имею… Тебе-то что?
— А то. Неинтересно. Здесь я один пастух, другого попробуй найди. Меня ценят. А когда много — фью!
— Так в этом ли дело?!
— В этом тоже.
Апеков запоздало смахнул со щеки слепня, ожесточенно потер укус. Ну и времечко, ну и мальчик!.. Обычный феноменальный мальчик, который еще взвешивает, подаваться ли в космонавты или не стоит. А что? Хороший заработок для него не проблема. Профессию выбрать — кругом дорога. Образование, в случае чего, не то что дадут — навяжут. Звездочка героя? Она и девчонке-доярке светит. Значит, что?..
Ничего. Горит в глухомани голубой огонек телеэкрана и зовет, завораживает, манит… И вот, уважаемые, перед вами племя младое, незнакомое — теледети. Извольте им дать обещанное.
— Еще надо дело найти по душе, — осторожно сказал Апеков.
— Это как?
— А так! Мне вот и платят негусто, и работа выпадает тяжелая, и славы никакой, а я свое дело ни на какой космос не променяю. По душе оно мне.
— Так и мне мое по душе.
— Коровы?
— Они. Характеры. Машка, вон та, комолая, мне грибы ищет. Как мукнет в подлеске, значит, белый или подосиновик. Научил.
— И как же?
— По Павлову, а дальше сам соображал: у животных не одни рефлексы.
— Ну и учился бы на зоопсихолога, раз это тебе по душе.
— По душе-то оно по душе…
— Тогда чего же?
— А так.
Саша скусил травинку — и словно опять повернулся незримый ключ. Он был здесь, рядом, сидел все с тем же открытым простоватым лицом, но был далеко, в себе. И есть будто человек — и нет его: одна видимость. "Чего ему от меня надо? — с легким раздражением подумал Алеков. — А ведь надо…".
В теплыни неба плыли пухлые облачка, запах нагретой травы размаривал, во всем был покой, вокруг паслись дородные коровы, с барственной ленью отмахивая хвостами кусающую нечисть. Лезть под землю, вообще делать что-либо не хотелось.
— Возьмите меня завтра с собой, — внезапно сказал Саша.
Апеков поморщился:
— Именно завтра?
В его вопросе прозвучала ирония, призванная осадить настойчивого юнца, и намек, что научная работа — не предмет праздного любопытства. Но весь этот подтекст совершенно не дошел до Саши.
— Мне трудно найти подмену, а на завтра я договорился, — объяснил он бесхитростно.
Апеков замешкался с ответом. Отказывать не хотелось, ибо просвещение долг всякого культурного человека, да и Саша интересовал его все больше, но посторонний совсем ни к чему, когда ты занят делом, особенно в пещерах, где всякое может случиться.
Вот это сомнение Саша уловил молниеносно. Его глаза осветила смущенная улыбка.
— Там в одном месте, куда я еще мальцом лазил, рисуночки какие-то. Я и хотел показать.
— Что ж ты сразу не сказал?!
— Я сказал.
— Когда?!
— Да с вами попросившись.
У Апекова был такой вид, что Саша поспешил добавить:
— Раз говорю что или прошусь куда, значит, с делом это все. Кого ни спросите — меня уж знают.
— Ага… ага… — только и смог выговорить Апеков.
Ну, конечно! В деревне все друг друга знают настолько, что желают здравствовать, прежде чем ты успел чихнуть, а если проистекающая отсюда манера разговаривать постороннему непонятна, то кто же виноват? Однако Сашина деликатность простерлась до того, что он пояснил и другое:
— И мне на вашу науку охота глянуть, а то по телику ее мало показывают.
Лаконичней мог высказаться лишь математик, у которого фраза "очевидно, что…" исключает страницу-другую рассуждении.
Ничего не изменилось вокруг, была все та же теплынь, так же дремотно пахли травы, но у Апекова охолодело лицо. Словно от некоего дуновения, словно ему кто-то шепнул: "Ты предупрежден!"
Предупрежден? Но о чем? Что перед тобой, быть может, новый Ломоносов? Ничего похожего: и время не то, и познание как таковое Сашу вроде не увлекает. Иная у него нацеленность, не знания он ищет — ему самому не ясное и то ли существующее, то ли нет.
"Абсурд", — осадил себя Апеков. И тут же усомнился. Что, если перед ним не юношеские метания, не социальное иждивенчество и не прагматизм крепкого, себе на уме, человека, а нечто иное, чему и названия нет, но ради чего парень пытливо осматривает все духовные горизонты мира, благо теперь они видны из любой глухомани? В самом деле! Среди миллионов пастухов древности наверняка были свои Лобачевские и Эйнштейны, только науки тогда не было и осуществиться их судьбы никак не могли. А если призванием был космос, то кем такой человек мог стать еще в прошлом веке? Что, если и теперь среди нас живут те, чье предназначение — дело совсем не нашего века? Что, если зов этого дела бродит у них в крови, они это чувствуют, хотя не понимают причину, только пытаются вот так, как Саша, рационально (время такое) разобраться в себе и в предстоящих дорогах?
Апеков тряхнул головой, взглянул на Сашу, который небрежно поигрывал кнутом, и наваждение сгинуло. Все было явно проще: прежде крестьянский сын обстоятельно, чтобы не прогадать, высматривал на ярмарке конягу. Теперь «коняга» — это будущая профессия, а ярмарка — весь свет. Вот и все. Ничего в принципе нового.
— Хорошо, приходи.
Апеков уже слабо верил в «рисуночки». Он пригасил надежду: привык скептицизмом защищаться от разочарований, а вдобавок знал, сколь легко ошибается глаз профана (природа тоже «рисует» — да как!). Но проверить было необходимо, да и Саша заинтересовал, хотя было в этом парне что-то неприятное, Апекова раздражавшее.
Саша появился чуть свет; Апеков еще не выбрался из палатки, когда послышалось знакомое шарканье ботфортов.
— Сапоги — это ты зря, — наскоро собираясь, сказал Апеков. — Под землей кеды нужны, вот примерь мои запасные.
— Для ча? — В обкатанную школой, радио и телевидением Сашину речь прорвалось инородное слово, точно он, наконец, почувствовал себя не на людях, а дома. — Босиком полезу.
— Ноги поранишь.
Саша только пожал плечами, как бы давая понять, что предстоящее и его дело тоже. Вообще в его движениях, голосе проступило что-то хозяйственное, мужицкое; снаряжение Апекова он осмотрел так, словно брал его на свою ответственность. Археолог снисходительно подумал, что и он, Апеков, верно, прошел ту же проверку. Ладно, пусть тешится…
От ручья, где стояла палатка, Саша сразу свернул к болотцу. Минут пять они хлюпали по кочкам, затем продирались сквозь кустарник, такой густой, что идти можно было лишь пригнувшись к сырой и темной, как в погребе, земле. Понемногу наметился каменистый подъем. Похожий на лисью нору лаз открылся взгляду, лишь когда до него осталось шага два. "Вот так-то, — не без досады отметил Апеков. — Под боком, а год тут ищи — не найдешь".
Саша скинул сапоги и ящеркой скользнул в лаз. Апекову, чтобы не отстать, потребовался весь его опыт.
Объятие сырых стен, холодящий ток воздуха, луч фонаря, который как бы с усилием проталкивал мрак, — все было привычным. Кое-где ход превращался в подлинный шкуродер, что окончательно утвердило Апекова в скептицизме: хотя древние люди для своих занятий живописью предпочитали дальние укромные уголки, удобством подхода они не пренебрегали. Оставалось надеяться, что сюда некогда вел иной путь. Апеков удивился, обнаружив в себе эту надежду.
Ход внезапно расширился и теперь вилял, пересекаясь с другими столь же удобными для движения галереями. Саша уверенно пренебрегал одними ответвлениями и столь же уверенно нырял в другие, по виду иногда тупиковые.
— Ты так все пещеры вокруг деревни облазил?
— Не-е. Только эти.
— Почему именно эти?
— Интересно было.
— В других нет?
— Так те на виду, известные.
— Будто! По некоторым, как я заметил, никто не ходил, следов никаких.
— Кто же без дела ходит…
— Ты, например.
— Я себя проверял.
— Хм… И как же? Почему именно здесь?
— В других, если заблудишься, найдут, а в этой без поддавков. Интересно.
— Ничего себе проверочка! Ты себя только так испытывал?
— Не… Вот скажите: машину по-всякому проверяют, а человека нет. Это разве правильно? Он, бывает, и гонит не по своим ухабам.
— Ну, брат… Во-первых, человека толком не умеют проверять, во-вторых, он тебе не машина. На стенд испытательный нас, что ли?
Сказав это, Апеков тут же с досадой сообразил, сколь неудачен его ответ, ибо круг профессий, пригодность к которым проверяется загодя, ширится так стремительно, что какие-нибудь там физиограммы и психограммы, "карты задатков" или "прогнозы способностей" со временем вполне могут стать обыденными, как ныне массовая флюорография. Но Саша промолчал — то ли не заметил неточности, то ли не захотел спорить.
Свет фонарей с усилием разгонял мрак. Унылый извилистый ход был так однообразен, что Апеков мысленно ахнул, когда очередной поворот вывел их в крохотную пещеру, чей свод, казалось, усеивали бабочки. Они точно присели отдохнуть. Малейшее движение света будило трепет полупрозрачных крыльев, как если бы они разом готовились вспорхнуть, наполняя все переливчатым блеском беззвучного полета. Не верилось и не хотелось верить, что это лишь мертвое мерцание света в воздушных плоскостях тончайшего кальцита — таким живым было это трепетание.
— И ты молчал! — вырвалось у Апекова.
— А чего говорить? — негромко ответил Саша. — Вас другое интересовало.
— Тьфу ты, черт… — Апеков не нашел слов. — Слушай, неужели тебя это никак не поразило? Не взволновало? Вот это? — Легким движением света он снова пробудил мерцающее порхание. — Красиво?
— Красиво, — согласился Саша. — А волноваться чего? Все путем. По телику и не то показывают, тоже из пещер, и все объясняют.
— Да не в этом же дело! — А в чем?
— Телевизор — это не свое, а чужое, заемное, так сказать, зрение, разве можно сравнить! И вообще… Закат сотни раз видишь — и всякий раз он другой. Такой иногда бывает, что всех зовешь поглядеть.
— Так то закат. Хоть всех зови, его не убудет!
— То есть?
— Хрупкие они, — Саша кивнул в сторону «бабочек». — Язык распустишь, так еще обломают, дурни.
"Вот тебе, — подумал Апеков. — Вот и раскуси это дите века, вот и будь для него наставником… Все-то он по телевизору видел и слышал, столько информации через себя пропустил, сколько Аристотелю с Декартом не снилось. И ведь все, похоже, привел в какой-то свой порядок, оценил, взвесил, даже о моем занятии представление составил, оттого, верно, при первом знакомстве и отключился, — зачем слушать слышанное? Рационалист… Или просто для него мир оскучнел? Стал похож на дойное вымя? И что из этого выйдет? Загадка, уважаемые, что там ваши пульсары-квазары…"
— Ну, двинулись.
Пещера всплеснула им вслед тысячами мертвых крыл, которые сотни, а может, тысячи лет, оставаясь на месте, летели сквозь время: ими, чего доброго, уже пещерный человек любовался!
Казалось бы, все более несомненная надежность Сашиной памяти должна была сильно поколебать неверие Апекова в рисунки. На деле произошло обратное. Не отдавая себе в том отчета, Апеков желал Сашиной ошибки, ибо своим поведением он не только отвергал всякое покровительство, но и возбуждал в старшем смутное недовольство собой. Да и мимоходом сделанное каким-то юнцом открытие, к которому годами, часто безуспешно стремится специалист, невольно ущемляло самолюбие, возбуждало зависть, которой Апеков искренне не подозревал в себе.
— Здесь, — сказал Саша, останавливаясь.
Апеков огляделся. Все было так, как он и ожидал. Луч фонаря смахивал темноту с покатого, в иззубринах, свода, скользил по давним натекам глины, терялся в дальних углах небольшой пещеры, не находя ничего, что говорило бы о присутствии здесь человека, кроме нескольких следов босых ног на сырых неровностях пола.
— Твои, конечно?
— Мои. Ишь ты! Совсем, как на Луне, свеженькие, не стерлись…
— А где же «рисуночки»?
— Да вот же…
Сначала Апеков ничего не увидел, кроме глинистых потеков и сети мелких трещин на гладкой, как доска, поверхности. Но вот его наметанный глаз уловил слабый контур…
С этого мгновения для Апекова все перестало существовать. Вылетело из мыслей. Он шагнул, как мог, ближе, впился взглядом, и тогда в порыжелости камня, точно в мутном проявителе, штрих за штрихом проступил абрис бегущей антилопы.
Саша, придвинувшись, молча смотрел на потрясенное лицо археолога. Тот, не отводя взгляда, на ощупь достал губку, смочил ее водой из фляги и бережным касанием отер поверхность камня.
Все будто ожило. Ярче проступил цвет охры; штрихи, нанесенные словно детской рукой, очертили не только излом бегущего тела, но и летящую вдогонку стрелу. Расширяя обзор, Апеков все тем же точным и нежным движением смывал вековую грязь. Обозначился еще один силуэт… Далее все заволакивал наплыв глины, под ним исчезала голова крайней антилопы.
Саша только успевал подавать фляжку. Вокруг стыла каменная тишина, за их спинами колыхался мрак, такой же, как и тысячелетия назад, когда здесь стоял неведомый художник. В размыве тысячелетнего натека постепенно обозначилось багровое, пока неузнаваемое пятно. Новые усилия прояснили муть: уже высвободилась голова антилопы, четче обозначилось то странное, багровое — нет, кровавое! — что преградило ей бег. Еще два-три взмаха губки — и не осталось сомнения: отпечаток руки с обрубленным указательным пальцем! Он выглядел так, словно был сделан сочащейся кровью еще вчера, минуту назад, только что, будто дыхание человека, который это сделал, еще не рассеялось в воздухе.
Теперь остолбенел Саша. Широко раскрытыми глазами он смотрел на кровавый отпечаток, в котором, казалось, были различимы даже папиллярные линии уцелевших пальцев.
— Это…
Апеков настолько забыл о спутнике, что вздрогнул от звука голоса.
— Ах, это! Ну, это нередкий мотив…
— Чего-чего?
— Мотив. Знак. Как бы тебе это объяснить…
— Они, это… кровью?!
— Да нет же! Обычная киноварь. А вот зачем эти отпечатки, почему так часто встречаются отпечатки обрубленных пальцев?.. Какой-то, должно быть, обряд, ритуал. Видишь, остановил бег антилопы? Вот и гадай: случайность или за всем этим кроется смысл? А в общем, находка войдет в анналы… Ну и молодец, быть твоему имени в монографиях!
Радость — она только сейчас нахлынула на Апекова, нахлынула так бурно, неудержимо, что он был готов закружиться, запеть, расцеловать этого стоящего рядом парня.
— Не то, — вдруг сказал Саша.
— Что "не то"? — опешил Апеков.
— Да отпечаток… Случайно и корова не замычит. Раз искалеченную свою руку к зверью припечатал, то смысл в этом. Чего он так? А вот: рука правая — и без пальца. Трудно лук натянуть, плохой, выходит, добытчик, кому такой нужен? Все равно что охромевший пастух… А этот справился, доказал, что и без пальца — охотник не хуже других. Потому и поставил знак: покалечен, мол, а на охоте кому хочешь очко вперед дам…
Апеков крякнул:
— Ну, брат, фантазия у тебя! Нормальные отпечатки тоже нередки.
— У тех, может, нога повреждена или глаз…
— Может быть, может быть, — хмыкнул Апеков. — Гипотеза твоя не хуже иных, только из "может быть" истины не добудешь. Давай-ка смоем этот натек совсем.
Это оказалось не таким простым делом, так как в самой толстой своей части глина, пропитанная кальцитом, затвердела не хуже цементной корки. Удвоив усилия, Апеков утроил осторожность: минеральные краски практически несмываемы, но если под губкой перекатываются песчинки, то стереть можно все, что угодно.
Ювелирная операция поглотила все внимание Апекова, он даже не замечал, _что_ за штрихи и линии проступают в размыве, в какое они складываются изображение, — важно было очистить, не стерев, вот это пятнышко, вот эту черточку, этот изгиб. И, лишь окончательно смыв глину, Апеков откинулся, чтобы оглядеть все целиком.
Поначалу он ничего не понял. Но когда до его сознания дошел смысл увиденного, то, хотя смысл этот был ясен, как молния ночью, он еще секунду тупо смотрел на стену и сердце его билось спокойно.
Оглушительным ударом оно ахнуло мгновение спустя. И было отчего! Апеков даже зажмурился. Снова раскрыл глаза. Нет, все то же, не исчезло, не померещилось: правее отпечатка ладони той же кровавой киноварью было начертано: E = mc^2/Y.
И все.
Из палеолита глянувшая формула Эйнштейна! И даже не Эйнштейна вовсе…
Защитить смятенное сознание могло лишь немедленное доказательство, что все это галлюцинация. Апеков потрясенно обернулся к Саше, но вылезшие из орбит глаза парня убедили, что ошибки нет. Чужое смятение как-то сразу успокоило Апекова. На лице холодел пот, ноги не держали, он сел бок о бок с Сашей.
Оба молчали.
Хотя это был полный абсурд, ибо натек существовал века, Апеков на мгновение заподозрил, что формулу уже в наши дни начертал какой-то проказник. В нем даже занялся гнев на этого шкодника. Логика восторжествовала не сразу, но и одержав победу, разум отказывался верить. Быть такого не может, здесь что-то не так!
Формула была начертана привычной к математическим записям рукой. Но торопливо, будто пишущий спешил, оглядывался через плечо, боялся…
Чего?
Неважно. Важно лишь то, что здесь, в святилище пещерных людей, его, Апекова, современник сколько-то тысячелетий назад начертал формулу соотношения масс-энергий.
Да никакой это не современник, с чего он взял?! Его, Апекова, современник ни за что не поставил бы под формулой Эйнштейна еще какой-то математический знак, это же заведомая бессмыслица!
Но коли написано, значит, не бессмыслица. Значит, очень даже смыслица… Черт, слова такого нет! А математик в палеолите есть? А немыслимая формула — существует?! А человек из…
В том-то и дело…
Не нашего века эта формула! Может быть, двадцать первого, а может быть, сто двадцать первого. И человек оттуда… сразу в верхний палеолит? Запросто. Может быть, как раз благодаря этой формуле соотношения… Чего? Масс-энергии-времени?
Вот так взял да и переместился из своего столетия в палеолит, будто махнул из Европы в Австралию. Маленький вояж во времени, ничего особенного. И все затем, чтобы похихикать над беднягой какого-нибудь двадцатого века, который сейчас, вылупив глаза, таращится на его проказливый автограф?!
Ну, нет. А что же? Мальчишка, аспирантик какой-нибудь прокатился в палеолит для сбора диссертационного материала и нашкодил? Нет. Нет.
И не его ли это рука оттиснута рядом? Ах, да не в этом дело…
— Чего молчишь? — Апеков и не узнал своего голоса.
— А что? — хрипловато отозвался Саша. — Молодчага парень, не растерялся… Дал своим знать.
— Своим?
— Кому же еще он писал? Не нам же. Как аварию потерпел, так сразу весть подал. Вот куда меня занесло, выручайте! Сообразил, что все места с древними рисунками на учет возьмут, и вмахнул формулу, себя обозначил.
— Но это невозможно! Тысячелетия прошли с тех пор, как он…
Апеков умолк, пораженный. «Было», «есть» и «будет» перепутались в его уме, едва он над ними задумался. Вот эта, перед глазами, формула — в каком она времени? В прошлом, потому что ее написали в палеолите. В настоящем, потому что он видит ее сейчас. В будущем, потому что до нее додумались только тогда. Так где же она? И где он сам? Он, Апеков, жив, существует теперь. Те, рисовавшие антилоп, для него мертвы. Но тогда, рисуя, они существовали точно так же, как он сейчас. Он же, Апеков, был для них даже менее реален, чем они для него, ведь прошлое хоть чем-то заполнено, а будущее — ничем. Его нет вовсе! Вообще! И все же оно есть, поскольку вот он, нереальный для прошлого Апеков, жив! Выходит, прошлое — это небытие смерти, а будущее — небытие жизни?! Но то и другое состоит из мигов бытия…
Апеков зябко поежился. Как просто все было еще час назад! Время — это нить, жизнь бежит по ней, как искра по шнуру: позади пепел, впереди невспыхнувший огонь. А что прикажете думать теперь? Человек будущего двинулся вспять по времени… Для него все умершие живы?! Пока он был в своем сто двадцать первом веке, я, Апеков, был для него мертв. Пока он в палеолите, я для него еще не родился! Но ведь я жив… И для него я тоже жив… Мертв, еще не родился… и жив!!! Все сразу! Одновременно! Да как это может быть одновременно?! А так и может. Застряв в палеолите, он подает весть тем, кого еще нет, и до сто двадцать первого века эта его весть доходит мгновенно.
Мгновенно, хотя впереди сотни веков. Ведь и эта формула, и эти бегущие антилопы проходят сквозь время, как… как сквозь пространство проходят радиоволны. Они уже есть в палеолите; точно так же они есть сию секунду; и в сто двадцать первом веке о них скажут то же самое: они есть! Значит, что же? Мертвое, исчезнувшее прошлое присутствует в будущем?
Да, конечно. Разве он, археолог, не знал этого прежде? Они же только тем и заняты, что изучают сигналы исчезнувших тысячелетий, как геологи ловят информацию мертвых миллионолетий, а астрофизики даже миллиардолетий. Прошлого уже нет, и оно все-таки есть! А будущее? Его тем более нет, но и это небытие говорит о себе, иначе был бы невозможен никакой прогноз. А он возможен, словно будущее отчасти уже существует. Мы точно знаем, когда Луна в очередной или сотый раз затмит Солнце, для нас вполне представима завтрашняя погода, и наука все расширяет этот круг достоверных сведений о грядущем. Что же получается? И двадцать первый, и сто двадцать первый век в некотором роде уже существуют?
"Абсурд, абсурд! Да стоит мне стереть эту формулу… Да накрой нас сейчас обвал… Настоящее как угодно может изменить будущее! Оно чистый лист, который ничего не стоит перечеркнуть какой-нибудь бомбой… Хотя Луна и в этом случае аккуратно, как должно, затмит Солнце. Да, но и по Луне можно так шарахнуть… Значит, будущее тем неопределенней, чем мощнее цивилизация?! А когда люди овладеют временем, тогда и прошлое станет изменчивым? Не может того быть, не может, это же всем нелепостям нелепость!"
Но вот она, формула, перед глазами… Свихнуться можно!
— Свихнуться можно… — потерянно прошептал Апеков. — Это же…
— А что? — не понял Саша. — Все путем. Мы в прошлое смотрим, а они туда уже ездят. Это как с планетами было… Точно! Вот здорово, аж завидки берут… Наверное, они из двадцать первого века?
Апеков едва подавил нервный смех.
— Нет, — сказал он, прокашлявшись. — О двадцать первом веке и думать нечего.
— Почему?
— Потому! Это же фантастика, фантастика! Вне науки, вне представлений…
— Ну и хорошо, что фантастика! Она же кругом сбывается. Космос там, голография всякая… А тут нам еще знак дан: мол, идите, не трусьте. Двадцать первый век, точно! А может, быстрее? Эх, заживем…
Апеков уставился на Сашу, пытаясь найти если не след той жути, которая ознобом пронизывала его самого, то хотя бы легкую оторопь перед грозным знамением иных времен. Но ничего этого уже не было. Удивление прошло, Сашино лицо теперь горело мальчишеским восторгом, а в бросаемом на формулу взгляде был тот деловитый прищур, с каким одаренный подросток пытливо и восхищенно изучает попавший в его руки образец высокого ремесла. Сейчас поплюет в ладони и… Какие сомнения, какие страхи? Все достижимо, "все путем"…
Эта безмятежная деловитость доконала Апекова.
"Эх, дите, дите, — подумал он с сожалением и тоской. — Самонадеянное дите века… Не била тебя жизнь, как нас, будущее пока не обманывало, и экологические порожки впереди — да только ли они? — будто не для твоего уха гремят… Слепец ты еще…"
— Так, — прервал его мысли Саша. — В Вихрево до закрытия почты еще поспеем, а не поспеем, я начальника из постели выну. Как вы считаете, академики скоро разберутся в формуле? Года им хватит?
— Нет, — с внезапным, его самого удивившим торжеством отрезал Апеков. Этого не будет ни через год, ни позже. Никто не разберется, потому что никто разбираться не станет. Понял?
Нет, Саша ничего не понял, только моргнул, и, глядя в эти широко, беззащитно, в удивлении распахнутые глаза, Алеков добавил:
— Так будет, неизбежно. Все ученые — все до единого, слышишь? отрицают возможность путешествий во времени, так как оно нарушает краеугольный закон причинно-следственной жизни. Ведет к абсурду — да, да! Попал человек в прошлое и, допустим, случайно убил своего деда. Бред же, бессмыслица, катастрофа!
— Да как же абсурд, когда он… когда вот… И зачем кому-то кого-то убивать?!
— Подожди, подожди… Все так думают, как я сказал, все! И это главное. То, что мы с тобой теперь знаем, ничего не меняет. Ни-че-го! Кто нам поверит? Формула?.. Неизвестно чего формула, ах, не в этом дело! Я во все это только потому поверил, что сам, своими руками, несомненно… Сам! А теперь, приведи я сюда любого — да, любого! — специалиста, он глянет и скажет: "Послушайте, вас кто-то зло разыграл. Написал какую-то абракадабру, замазал глиной, а вы…" Так будет, так скажут. Ведь доказательств, что это не вчера написано, никаких! То есть ни малейших! Нет метода такой датировки, не существует. И все. И точка… Кто же поверит в невозможное! В лучшем случае нас сочтут доверчивыми простаками, в худшем — мистификаторами. Ничто не поможет. Стена!
Апеков говорил, говорил поспешно, словно от чего-то освобождаясь, в исступлении даже, и, пока он говорил, горячее Сашино изумление сменилось растерянностью, столь не свойственной его лицу, что оно сделалось глуповатым. И, видя это, Апеков все более чувствовал в себе уверенность хирурга, который обязан довершить болезненную ампутацию, чего бы она ни стоила ему самому.
— И ведь тот, из будущего, наверняка все это предусмотрел, — закончил он в каком-то болезненном восторге самоотречения. — Знал, знал, что, если кто раньше времени обнаружит его сигнал, тому не поверят, потому и послал сигнал открытым текстом. Они там хоро-о-ошие психологи!
— Но как же это? — вскричал Саша. — Вас же знают, меня знают, как могут нам не поверить?! Это нечестно, нечестно!
— Это очень даже честно и очень даже правильно, — непререкаемо, все с тем же восторгом самоуничижения возразил Апеков. — Поверь наука клятвам, ей немедленно пришлось бы признать чертей, ангелов, бога, ибо сотни, тысячи честных верующих тотчас поклялись бы, что видели их собственными глазами. Не-ет, в поисках истины наука обязана быть беспощадной, в этом ее сила и долг. Долг!
— Значит, мы… я…
Саша осекся. Похоже, до него только теперь дошло, кого в первую очередь заподозрят в мистификации. Онемев, он смотрел на Апекова, смотрел так, словно ему ни за что ни про что дали оплеуху, на которую и ответить нельзя, потому что обидчик, выходит, по всем статьям прав и к тому же бестелесен, как всякое людское мнение.
Но тягостное оцепенение длилось недолго. Саша подобрался, его глаза обрели сухой, жесткий блеск.
— Ясно, — сказал он беззвучно. — Ясно. Побоку, значит…
Апеков отвел взгляд.
Оба посмотрели туда, где на темном камне алели размашистые символы иного века, которые так странно и чуждо — или, наоборот, трагично? соседствовали с отпечатком беспалой руки, бегущими антилопами, летящей стрелой. Чья это была рука? Почему так тороплив разбег знаков формулы? Чего боялся пишущий? Вернулся ли он в свой век, сгинул в палеолите или он ни здесь, ни там? Что открыла людям победа над временем, какое страшное, пронзительное видение дало, какую безмерную и тягчайшую власть? Безнадежно было спрашивать, безнадежно было отвечать: человек знает только то, что знает его время, а чего люди этого времени не знают, чего они не готовы принять, того и не существует, даже если этим полнится мир, как он полнится будущим, близким и бесконечно далеким.
Слово было сказано…
Чувствуя себя вымотанным и опустошенным, Апеков встал, сгреб ошметок глины и аккуратным движением размазал его поверх знаков формулы. Он все гуще клал слой за слоем, и ему казалось, что он слышит мысленный Сашин вскрик; он и сам содрогался, но продолжал тщательно замазывать то, что не было предназначено его веку, не совмещалось с ним, а только сулило недоверие и насмешки. "Да в них ли дело? — думал он уже без волнения. — Не свое будущее я оберегаю и не Сашино; даже не историю, чей ход не может поколебать и такое знамение; в защите нуждается тот, кто сквозь время послал этот сигнал бедствия, и другого выхода нет. Ведь, растрезвонь мы о формуле, оставь все открытым, и среди хлынувших сюда, среди жаждущих сенсаций может найтись подонок, который все сколупнет, обезобразит, — и не на такое поднималась рука! Тогда послание не достигнет тех, кому оно предназначено, и человек пропадет. Значит, всему свое время и все должно идти своим чередом…"
Движения Апекова замедлились, когда плотный слой глины скрыл формулу. Теперь точно так же следовало поступить с рисунками, чтобы здесь ни для кого не осталось никакой приманки. Антилоп, как и знаки, надо было убрать, замазать, но рука вдруг перестала повиноваться. Надежду сберечь вот это свое долгожданное, бесспорное, несущее славу открытие — это, оказывается, он сохранил! Оставил в своих намерениях, будто после всего, что он сказал и сделал, одно можно отделить от другого…
Несмотря на холод пещеры, Апеков покрылся мгновенной испариной: может, и обойдется, если оставить?
Но обойтись никак не могло, потому что первый же спустившийся сюда специалист удивится, почему размыв сделан не до конца, довершит начатое, неизбежно наткнется на формулу — и какие тогда на него, Апекова, лягут подозрения!
Быстрым, отчаянным движением Апеков замазал все, всему по возможности придал вид естественных натеков. И все, что было недавно, что наполняло душу смятением, ужасом и восторгом, — рисунки тех, кто ожил в своих творениях спустя тысячи лет после смерти, и формула, начертанная тем, кому еще только предстояло родиться, — все сбывшееся и несбывшееся, обычное и невероятное, исчезло, будто и не было ничего.
Ни прошлого, ни будущего не стало.
Апеков опустил руки. Он ничего больше не ощущал — ни раскаяния, ни страха, ни облегчения. Все было выжжено. Нехотя он повернулся к Саше. И не узнал его. Сидел сурово задумавшийся человек, который, казалось, уже изведал горькую цену всему и теперь, сверяя туманную даль своей жизни с тем, что ему открыло грядущее, упрямо и тщательно, как сваи моста, утверждает в ней свои новые опоры и вехи. Ладит их твердо, продуманно, навсегда.
В осевшей душе Апекова что-то вскрикнуло. Ничего же не кончилось! Ничто не исчезло, пока этот парень жив и способен вернуть формулу миру. Или немедленно уничтожить ее совсем, или…
Но никаких «или» быть уже не могло. Формула означала, что будущее у людей есть, оно состоится, какая бы опасность им сейчас ни грозила. В темном, малодушном безумии скрыв, спрятав это знамение, он, Апеков, опустошил лишь себя. Но не Сашу, не будущее, которое могло с ним осуществиться и которое теперь утверждалось в нем.
Ничего, кроме льда
Мы летели взрывать звезду.
Романтики и любители приключений пусть не читают дальше. Наша судьба не из тех, которые могут воспламенить воображение. Вот ее расклад. Путь туда и обратно занимает сорок лет. Еще год или два надо было отдать Проекту. Анабиоз позволял нам проспать девять десятых этого времени, так что на Землю мы возвращались сравнительно молодыми. Однако наука, искусство, сама жизнь должны были уйти так далеко вперед, что мы неизбежно оказывались за кормой новых событий и дел.
Ну и что тут такого? Ничего. Нам оставалось тихо и мирно доживать свои дни у подножия своей же славы. Очень долгие дни… Как вы думаете, почему Амундсен на склоне лет безрассудно кинулся искать Нобиле, к которому не испытывал никакой симпатии? Потому что ему, человеку активному, полной мерой хлебнувшему побед и риска, после всего этого невтерпеж была долгая, почетная и такая бесцветная старость.
Тогда, быть может, в далеком космосе нас ждали волнующие события, необыкновенные исследования, приключения, в которых мы могли показать себя? Отнюдь. Нам предстояло быть не героями, а техниками. Очень добросовестными, исполнительными монтажниками, не имеющими права не только на риск, но и на какую бы то ни было самостоятельность. Без этого мы не могли осуществить Проект.
Вы, конечно, понимаете, почему я пишу это слово с большой буквы. Известно, что звездолеты, как это ни глупо звучит, для межзвездных полетов не годятся. При небольшой, что-нибудь порядка 200 тысяч километров в секунду скорости полет даже к близким звездам растягивается на десятилетия. Околосветовая скорость позволяет достичь хоть другого края Галактики. Но тогда все губит парадокс Эйнштейна: год корабельного времени становится равным земным векам. А это делает всю затею абсурдной. В том и в другом случае люди оказываются обреченными на жалкое топтание близ Солнца, когда отовсюду призывно блещут мириады заманчивых, но, увы, недостижимых миров.
Осуществление Проекта распахивало дверь, пожалуй, и к другим галактикам. Расчеты новой теории показывали, что мгновенное высвобождение энергии, соизмеримой со звездной, образует пространственно-временной тоннель, куда может скользнуть корабль. Без вреда для людей и без парадоксальных последствий.
Все это, однако, нужно было проверить. Не на Земле, понятно, и не возле солнечной системы, которая после такого эксперимента провалилась бы в тартарары. Отбуксировать же аннигиляторы на безопасное расстояние мы не могли технически. Оставалось одно: лазерами взорвать звезду и посмотреть, что получится.
Годилась не всякая звезда. Более того, в пределах, которые были доступны нам, всем условиям отвечала всего одна звезда. Туда мы и отправились.
Верю, что фантастические описания межзвездного полета в книгах прошлого века, заставляли взволнованно биться не только мальчишеские сердца. Мне очень не хочется, чтобы мои свидетельства были восприняты как развенчания романтики вообще, но правда есть правда: трудно придумать что-нибудь более скучное, чем межзвездный полет.
Судите сами. Если вы наблюдательны, то, верно, заметили, что любое скольжение по привычной колее сливает дни в серый прочерк. Ведь хорошо запоминается то, что резко отличается от жизненного фона, и совершенно неважно, где это происходит — дома или в звездолете. Только в звездолете все гораздо монотонней, потому что неожиданные зрелища возникают за иллюминаторами реже, чем за окнами квартиры, а случайных встреч и новых лиц на корабле не может быть вовсе. Поэтому месяцы, проведенные вне анабиоза, были весьма томительными.
Для литератора или психолога тут, конечно, нашлось бы много интересного. Например, повальное увлечение играми, которое захватило даже Тимерина — создателя теории Проекта, тогда как на Земле за этим аскетом науки никогда не водилось ничего подобного. Почти у каждого возникли свои, впрочем, безобидные чудачества. Я, к своему удивлению, увлекся нумизматикой, обнаружив, что даже мысленное коллекционирование старинных кружков меди, серебра и золота таит в себе неизъяснимую прелесть. А поскольку книг по нумизматике на корабле не было, то знаете, что я делал? Вы, должно быть, не поверите, я сам себе плохо верю: я вылавливал со страниц романов и энциклопедий всякое упоминание о тех или иных монетах, их признаках, размере, облике аверса и реверса! Никогда не думал, что слова "тетрадрахма с афинской совой" или "рубль царя Константина" могут звучать такой музыкой…
Но в сторону это. Пора перейти к единственному нашему приключению, которое внешне совсем не похоже на приключение, не имеет никаких его атрибутов, кроме единственного — неожиданности.
Звезда, к которой мы летели, до сих пор настолько не имела значения, что значилась просто под порядковым номером каталога. Перед отбытием кто-то предложил дать ей имя, но предложение было отвергнуто, хотя никто не мог внятно объяснить почему. Подозреваю, что здесь работал отзвук древних суеверий. Нейтрально назвать звезду вроде бы нет смысла, а назовешь какой-нибудь Надеждой… Нет, лучше оставить как есть.
Все, однако, развивается по своим законам, и, поскольку ни один нормальный человек не будет десять раз в день повторять невразумительный набор цифр, звезда как-то само собой стала Безымянной.
В ее системе нам предстояла обширная работа. Нужно было вывести на звездоцентрическую орбиту лазерные генераторы; стабилизировать и настроить измерительную аппаратуру; собрать множество всяких предварительных данных; наконец, запустить — но это уже в последний момент — автомат-разведчик, который должен был скользнуть в пространственно-временной тоннель. И еще предстояла сотня других дел.
Среди них было и обследование планет Безымянной. Всего их было четыре. Два газовых гиганта типа Юпитера не вызывали особых эмоций, поскольку на них нельзя было высадиться. Ближняя к светилу, маленькая и голая планетка, радовала не больше, чем куча шлаков. Последняя была и того хуже — просто льдышка смерзшихся газов, никчемная, прилепившаяся к краю звездной системы льдышка.
Впрочем, и это сулило какое-то разнообразие после надоевшего вида немигающих звезд и знакомых, как собственная ладонь, корабельных помещений. Все жаждали заняться второстепенным делом обследования обреченных на гибель планет, и жребий принес мне удачу — я попал в группу разведчиков.
Мы отбыли, высадились, и тут нас как обухом по голове!
Вокруг был строгий бело-синий мир. Всюду громоздились скалы с зеркальными, серебристо-матовыми, хрустальными башнями, выступами, порталами, стрельчатыми сводами, ажурными ротондами, галереями и колоннами. Тут была готика и рококо, Тадж-Махал и Кижи, все, что создал гений зодчества, и все, что ему, похоже, только предстояло создать.
Формы льда и без того выразительны, а тут еще сила тяжести меньшая, чем на Земле, сложный и разный состав материала. Арки, казалось, летели; их просто нельзя было представить неподвижными, ибо мгновение покоя должно было все обрушить. Какой-нибудь циклопический свод подпирали стеклянные былинки колонн, а в тени нависших карнизов вполне мог расположиться Нотр-Дам. Сами карнизы более всего напоминали крылья готовых упорхнуть бабочек; их морозный рисунок туманно двоился в тончайшей пластине полупрозрачного льда.
Впрочем, не это делало пейзаж исключительным. Небо над планетой обычно оставалось мглистым. Но изредка оно очищалось, и тогда — мы так и не разобрались в причинах — диск звезды странно искажался в воздухе.
Свет ее начинал дробиться, как прижатая пальцем струя. Лучи падали, высекая обвалы радуг. Из трещин, граней и сколов летели искры; отблеск, стократно преломленный, наполнял воздух порхающим блеском. Наши привычные к тусклым краскам глаза не выдерживали!
Лед становился текучим и светоносным. В нем строились и преображались цепи изумительных построек. Призрачные города, которые блистали, росли, вставали монументами, меркли, менялись, оживали вновь — сразу, везде и в озарении радуг! То было искусство какого-то четвертого, пятого, волшебного, дикого измерения!
За все эти часы мы не сделали ни единого замера, ни одной записи, просто не способны были! Нами владело чувство более тонкое и глубокое, чем восторг или радость. На корабле, понятно, видели все, но и оттуда по-моему, впервые в истории звездных экспедиций — нам не напомнили о нашей первоочередной обязанности.
Потом, когда мы вернулись, все пошло так, будто ничего не случилось. Будто ничего и не было!
Иногда я завидую тем, кто жил раньше, — они могли вести себя с такой непосредственностью! "Кровь бросилась ему в голову, и он обнажил шпагу…" Конечно, все и тогда было не так просто, но все же решения касались обычно куска хлеба, удовлетворения страстей, защите собственного благополучия, и существовал отработанный, из поколения в поколение передаваемый набор реакций человека на то или иное жизненное обстоятельство, поскольку сама жизнь менялась мало. Потом жизнь стала усложняться, а с ней вместе усложнялись и реакции. Человек оказался вынужденным подавлять стихийные порывы, потому что в новой и запутанной обстановке они только ухудшали положение.
На планете все мы получили встряску, какой еще не испытывали, и оказались перед трагичным выбором. Что бы нам дал немедленный и бурный выплеск эмоций? Скорее всего он привел бы к конфликту, а ссора на звездолете опаснее пожара. Все надо было продумать — спокойно, хладнокровно, наедине, с учетом всех последствий, благо временем мы располагали. Так нас учили, так только и можно было в звездных экспедициях, где от поступка одного человека зависел коллектив. В некотором смысле мы представляли собой едино думающий мозг. Поэтому я не буду описывать личные переживания участников экспедиции; кто как молчал, был угрюм, пробовал улыбаться. Все это второстепенно перед лицом неприятной альтернативы, которая перед нами стояла.
Взрывая звезду, мы губили планету. Своими руками мы должны были уничтожить шедевр природы, равного которому нет.
Это примерно то же самое, что взять и лишить себя красок вечерней зари. Нам предстояло ограбить человечество, которое и не подозревало, чего лишается.
Так стоил ли того Проект?
Вот о чем думал каждый из нас, ведя сам с собой спор и битву, от которой изнемогал разум.
Проект давал нам в руки ключи от пространства. Погубив одну прекрасную планету, мы получали взамен миллионы новых. Прочь сомнения!
Так, но природа неповторима: погубленной красоты мы уже нигде не найдем.
С другой стороны, что в этой планете такого? Она прекрасна, видеть ее неизведанное счастье. Но это всего-навсего лед, ничего, кроме льда, тогда как польза Проекта реальна и ощутима. И пусть сколько угодно бунтуют чувства!
Будет ли, однако, у нас Галактика или нет, наши материальные интересы ничуть не пострадают. Значит, Проект удовлетворяет нашу страсть к познанию? Только это? И ради одной потребности надо поступиться другой? Просто потому, что одну ценность мы признаем большей, а другую меньшей?
Но какую? Если бы к началу XXI века не был освоен ближний космос, то промышленность по-прежнему теснилась бы на Земле. А это вызвало бы перегрев земного шара. Над такой перспективой не задумывались в годы первых стартов, но это ничего не меняет: выход в космос был жизненной необходимостью. И точно такая же необходимость, пусть мы не в силах ее осознать, движет нами и теперь.
Все логично… Но если бы перед нами встал выбор — лишиться лунных станций или лунных ночей, то чему было бы отдано предпочтение?
Так размышлял я бессонной ночью.
Кому, однако, нужна волшебная, прекрасная, как несбывшийся сон, планета, если на поездку к ней надо тратить жизнь?
Точно освежающим ветром повеяло в каюте, когда я отыскал этот решающий аргумент.
Решающий? С осуществлением Проекта такие расстояния станут пустяком. И тогда — вот тогда! — на первый план выйдет другое: какой ценой это достигнуто?
Легко было представить, что станут думать люди тогда… Почему я, Тимерин, все мы не вернулись, не доложили о новом обстоятельстве? Нашли бы, верно, другой способ осуществления Проекта, вышли бы в Галактику на сто лет позже, но вышли бы! И не такой ценой.
Почему они все решили сами?
Потому что…
Эта мысль была самой ужасной, и я ее отогнал. Конечно, она вернулась. Кто больше всего был заинтересован в осуществлении Проекта? Мы! Потому что мы отдали ему свою жизнь. Так не этот ли мотив перевесил все другие соображения?
Так не скажут, но так о нас подумают. И не без оснований.
А объективно? Хорошо, красота мира не имеет цены, и теоретически ее нельзя приносить в жертву. Практически люди делали это сплошь и рядом. В минувших веках. А потом наступала расплата. За отравленные реки, опустошенные леса, обезображенные пейзажи. Нам был преподан суровый урок, и мы зареклись: никогда, ни при каких обстоятельствах!
Никогда, ни при каких? Крайность — всегда ошибка. Галактика с ее миллиардами звезд и планет — это Галактика. Это выход человеческой энергии, спасение от застоя, безудержное развитие. Там, в открывшихся просторах, мы найдем то, о чем не мечталось. Удивительные миры, невообразимые проявления жизни, мудрость других цивилизаций. Так повернуться и уйти, чтобы все это осуществилось веком позже?
Подумаешь, столетие…
Вот именно. Если бы кто-нибудь на столетие отсрочил появление паровой машины, какими бы мы были теперь?
Решения, которое бы устраивало всех, не было.
Мы так хорошо понимали друг друга, что без всякого опроса в один и тот же момент нам стало ясно, что все уже передумано и никто не нашел выхода. И что пора принять решение, иначе мы изведем себя.
В "добрые старые" времена у людей, как правило, оставалась спасительная лазейка: лидер говорил «да» или «нет», остальные присоединялись, успокаивая совесть тем, что лидеру видней. Мы же ни на кого не могли переложить ответственность — таковы нормы нашего времени.
Разговор начал психолог. Ни с того ни с сего он вдруг предложил нам просмотреть стереозаписи того, что мы видели на планете.
Никто не возразил, и у многих затеплилась надежда. Неспроста же психолог предлагает нам этот просмотр. Может быть, он все-таки нашел выход?
Перед нами стоял завтрак — мы к нему не притронулись. Перед нами возникали и меркли призрачные города, творилось чудо красок, бесконечное, потрясающее, берущее за сердце болью восторга и радостного изумления. Запись многого не передавала, и все равно, все равно… По нервам невыносимо ударила звякнувшая под чьей-то рукой ложечка.
Потух последний кадр, и минуту-другую мы не могли понять, что более реально — вот это помещение, стол и еда на нем или то великое, волшебное, что мы только что видели.
Из отрешенности нас вывел голос психолога.
— Должен разочаровать вас. Мое предложение, конечно, не выход, но… Нажатие кнопки — и записей этих нет, будто никогда и не было. Так же чисто я берусь стереть у всех память об этой планете. А где нет памяти, там нет и терзаний, верно? Мы осуществим Проект, люди никогда не узнают, чего лишились, чувство вины никого не будет мучить! Стереть?
Молчание. А потом…
— Не надо! Все будем помнить!! Не сметь!!!
Впервые я видел лица своих друзей искаженными. Да, что бы я там ни говорил об эмоциях, а природа берет свое.
Но крики затихли, психолог смущенно развел руками, мы вновь стали самими собой…
Тогда холодно и внешне спокойно мы приняли решение. Вы знаете, каким оно было.
Последняя тайна Земли
В пронзительном свете науки, в палящих лучах ее интегралов и лазеров тайны Земли исчезали, как клочья тумана в разгаре дня. Миражем развеялась Атлантида, истаял след "снежного человека", каталоговую этикетку обрел "морской змей", любое место на поверхности планеты уподобилось странице раскрытого учебника.
— И тогда спохватились… — пробормотал старик.
— Что? — не понял мальчик.
Старик протянул руку в простор синевы и выси. Ветер с гор задувал в легкие, отмахивал пряди седых волос, и темно врезанный в распах неба прочерк лица казался летящим туда, где выше ветра вставали кручи камня и льда. До них было много часов пути, и все равно их громада так спорила с небом, что редкие и быстрые в нем облака виделись сорванными с круч покровами снежной метели.
— Это там, — сказал старик.
Теперь мальчик понимающе кивнул. Пошевелился, чувствуя, как проворные касания ветра охватывают его под одеждой. Хотелось зябко поежиться, но старик стоял в распахнутой куртке, возвышался, выставив туго обтянутую свитером грудь, и мальчик тоже расправил плечи, крепче упер башмаки в суровый камень перевала.
Так они простояли не одну минуту. Пламенное в густой синеве солнце отбрасывало узкую, неподвижно-прямую тень старика. Кому или чему он так противостоял? Ветру, холоду, выси? Самому себе?
Вопрос не сложился в уме мальчика, но потревожил его сознание, как вид распахнутого пространства, как скрытый вызов дали, все то, перед чем он был мал. Хотя ни о чем таком он не думал, зрение примеривалось к алмазно блещущим вдалеке зубцам, искало в них слабину, и режущая ветер фигура старика подспудно укрепляла это неясное желание потягаться с тем, что как будто выше человеческих сил.
— Жизнь — это преодоление, — снова пробормотал старик. — А если преодолевать нечего? Незачем? Поздно?
— Дед, ты о чем?
Тот усмехнулся.
— Соображаю, как не протереть при спуске штаны, — сказал он совсем другим тоном. — Круто, и как бы нам не заскользить на пятой точке.
— Дед, вот ты всегда так! Говоришь загадками, а как что отшучиваешься.
— Просто я привык к языку природы.
— Она не шутит.
— Это еще как сказать… Только ухватишься за истину, думаешь: все, обрел, — а тут тебе парадокс, маленький такой, язвительный, и ты снова стоишь дурак дураком. Чувство юмора, оно, думаешь, откуда? Защитный рефлекс! Ладно, дружок, пошли, сверзимся, не ночевать же на перевале…
Он повернулся к спуску. Мальчик не без сожаления, что разговор оборвался, двинулся следом.
Научившись лет семь назад работать с домашним компьютером и соответственно с Центральным искинтом, он, подобно многим своим сверстникам, вскоре отвык обращаться к взрослым со сложными вопросами, ибо машина отвечала в том же духе, что и они, только надежней, полнее, четче. "Это так, а это не так, потому что… То-то объясняется тем-то и имеет такую причину… Это пока неизвестно, есть ряд гипотез…" Взрослые сами и для себя создали этого советчика, так как не могли все точно помнить и знать, а он мог, в чем мальчик и убедился! К тому же искусственный интеллект всегда был в ровном настроении, и общаться с ним было так же удобно, как спать на мягкой подушке.
Не то что с дедом! Но именно его хотелось расспрашивать бесконечно. Не потому, что тот знал нечто особенное, искинту неизвестное, а потому, что думал как-то необычно. Однако в городе у деда всегда масса неотложных дел, и мальчик охотно согласился с его внезапным предложением отправиться к Аттеку, "просто так", как выразился дед. Это "просто так" было прелестно и чуточку сомнительно, поскольку взрослые, исключая, пожалуй, маму, в любом деле и даже развлечении, как мальчик давно убедился, обязательно преследовали какую-то цель. Была ли она у деда? Пока они просто брели как заблагорассудится, ночевали где придется, не спеша приближаясь к "заповеднику тайны".
Зато теперь обоих словно намагнитило нетерпением. Бесконечные спуски и подъемы, пустяковые для альпиниста, не были легкими ни для старика, ни для подростка, так что, несмотря на частые привалы, к концу дня вымогались оба. Но по-разному. Там, где старик делал одно движение, мальчик делал три, причем все движения старика казались скупо отмеренными, предельными, тогда как мальчик, наоборот, тратил себя без оглядки, хотя ноги порой тяжелели, а сердце подскакивало к горлу. Все равно и тогда его горячила радость движения и неисчерпанного запаса сил, радость, которую он невольно ощущал тем острее, чем осторожней расходовал себя старик. Как вдруг на очередном подъеме силы его покинули, он выдохся весь, сразу, а старик меж тем, все так же еле передвигая ноги, продолжал брести и карабкаться.
Его отягченная рюкзаком спина мерно удалялась от ошеломленного внезапной слабостью мальчика, пока тот снова не обрел дыхания. Силы к нему вернулись так же внезапно, как ушли, он в два счета нагнал старика и, как прежде, пристроился ему в затылок. Внезапное предательство тела изумило подростка, зато воскрешение было чудесным, и он, ликуя, заново чувствовал упругую гибкость мускулов, послушную работу сердца, жаркий ритм крови, уверенную готовность все превозмочь.
Старик ничего этого пережить не мог, он просто шел, как заведенный, и этот завод кончился, едва они нашли место для ночлега. Тогда он повалился, как скинутый с плеч рюкзак, и пока мальчик, коротко передохнув, возился с сушняком для костра, продолжал лежать, ощущая близкий ко сну покой тела, чувства и мысли.
"И все-таки я дошел, — сказал он себе. — Толстой был прав: чтобы осилить уже непосильное, в спутники надо взять доверившегося твоим заботам ребенка".
— Дед, ты, никак, заснул? — Держа перед собой разлапистую охапку валежника, мальчик с шумом выломился из чащи кустарника.
Веки старика чуть дрогнули, он покачал головой.
— Просто есть время быть птицей и есть время быть черепахой.
— Как это?
— А так. Это тебе только жизнь объяснит, и только своя… Однако ты прав: пора и за дело!
Он вскочил, как ему показалось, легко.
Они расстелили спальники под лапчатым покровом сосны, чьи длинные узловатые корни всюду оплетали гранит, точно набухшие каменные жилы.
Ветра не было. С ним уснули все звуки, только неподалеку гремел холодный и чистый ручей. Горы занимали полнеба, от взгляда на них кружилась голова, а все внизу казалось мелким, как в перевернутом бинокле. Солнце клонилось к дальнему перевалу, ледники уже розовели в косых лучах, а ниже, в иззубринах гор, в их складках, копилась вечерняя мгла. Западая сизыми тенями, подергиваясь прожилками морщин, серея к подножию, громада хребта словно дряхлела на глазах. Ледники же, по мере того как мрачнел и остужался камень, наоборот, наливались румянцем, будто одному вечер нес старость, а другому юность, хотя на деле это, конечно, было лишь фантазией человеческого ума.
Старик следил за всем молча, пока тишину не нарушил возглас:
— Гляди, дед! Там знаки! Во-он"… Те самые!
— Вижу, дружок, вижу…
Высоко в обрыве скалы медленно проступили корявые подобия букв, очертания которых воображение в конце концов соединило в ничего не значащее ни на одном языке слово «АТТЕК». Это нелепое, будто дрожащей иглой процарапанное на каменной плоскости слово внезапным своим проявлением и присутствием там, где знакам человеческого письма не положено быть, казалось многозначительным намеком неведомого.
— Обычный трещинный раскол, — задумчиво проговорил старик. — И все же… Природа точно свидетельствует свое умение писать не то по-русски, не то по-латыни. Аттек! Лучшей вывески для тайны и не придумаешь.
— Аттек, аттек, аттек… — Мальчик покатал слово на языке. — Кетта!
— Какая «кетта»?
— Слово наоборот.
— Зачем?
— Интересно. Знаешь, как прочесть наоборот слово «лазер»? Получится: «резал»! Здорово придумали, правда?!
— Придумали? — Старик рассмеялся. — Так лазер же нерусское слово!
— Да ну? Серьезно?
— Это просто комбинация первых букв в английских словах "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", то есть "усиление света в результате вынужденного излучения". Но надо же! — Он покачал головой. — Теория вероятности куда фантастичней нашей фантазии, если скальные трещины сами собой собираются в письмена, а перевертыш английского сокращения на русском вдруг обретает неожиданный смысл!
— Вот, а ты спрашивал, зачем… Мало ли что…
— Тебя эти чудеса как будто не удивляют.
— Но они же научные! Смотри, «аттек» гаснет!
Слово погасло с последним лучом солнца, и все стало быстро меркнуть. Снизу, стирая оттенки и очертания, потопом ночи стремительно поднимался мрак, и горы, теряя огромность, оседали в его сумеречные глубины. Но ледники еще ало светились, киноварью зубцов врезаясь в прозрачно темнеющее небо.
— Последние зубцы… — прошептал старик.
Мальчик удивленно покосился на его смутно сереющее в потемках лицо.
— Ничего, дружок, просто вспомнилось. — Легкая рука деда легла на мальчишеское плечо. — Так хотел назвать свою итоговую книгу писатель и мыслитель прошлого Иван Ефремов. "Последние зубцы". Последние зубцы гор, которые он видел, и последние зубцы кардиограммы. Какой точный смысл…
— Так это же когда было! Когда сердце на всю жизнь было и первым, и последним. Что ты, дед, право… Слушай, а почему скрытая за этим хребтом тайна считается последней? Это ж неверно! Разве их мало осталось?
— Не таких. Не на поверхности Земли.
— Не таких… Тайны что, бывают «такие» и "не такие"?
— Какие хочешь. Великие, мелкие, для всех, для немногих, подлинные, мнимые — всякие.
— А в заповеднике какая?
— В том вся и прелесть, что значение тайны выясняется, лишь когда она перестает быть тайной! Пока что она для всех. Когда-то таких, доступных обычному зрению и слуху, на Земле было сколько угодно. Теперь осталась последняя. Вот наука и взяла ее под охрану от самой себя.
— Ну и логика! — Мальчик совсем по-взрослому пожал плечами. — Не суй руку в свой же карман, получается…
— Логика! — фыркнул старик. — А от кого, спрашивается, мы охраняем природу? Вот так-то… Логика тоже бывает разная.
— Все равно непонятно.
— А все понятно только амебе. Без мозгов потому что.
— Я не о том… С заповедником непонятно.
— Знаешь, и мне тоже! — весело воскликнул старик.
— Как? Ты же сам, говорят, решал!
— Верно. Ну и что? Считается: что-что, а уж собственные решения нам до конца понятны. Будь это верным, люди никогда бы не удивлялись своим поступкам.
— Но тут наука решала!
— Наука и уверенность — разные вещи. Уверенней всего, кажется, решали всякие чингисханы и гитлеры… А что говорил Эйнштейн? "Нет ни одного понятия, относительно которого я был бы уверен, что оно останется незыблемым. Я даже не уверен, что нахожусь на правильном пути вообще". Да, так или примерно так думал подлинный ученый. Вот и я сейчас уверен только в одном: не худо бы поесть и погреться.
Хмыкнув, мальчик исчез в темноте, зашуршал там приготовленным сушняком. Зажигалка в его руке метнула крохотную молнию, которая вспышкой осветила задумчивое и словно уже недетское лицо. "Сын своего века, маленький Зевс", — с нежностью подумал старик, Взметнулось рыжее пламя хвои, залпом взлетели искры. Треща, занялись сучья. Во все стороны отпрянули бегучие тени; мрак за их призрачным колыханием сомкнулся еще плотней, и лишь говор ручья напоминал теперь о глубине скрытого во тьме пространства.
Поужинали в охотку у пышущего жаром костра. Едва костер притухал, как над головами прорезывались очерченные звездной пылью зубцы гор, но очередная вспышка огня стирала их для глаз, которые тогда видели лишь глухую черноту ночи. Все стягивалось к кругу света и от него зависело. "Все мы живем в круге своих представлений", — вскользь подумал старик. Забыв о дымящейся кружке чая, он завороженно смотрел на пламя, мысли его были далеко. "Допуск иррационализма в науку — вот что такое этот ваш замысел заповедника тайны! — выкрикнул тогда Зонненберг. — Простите, но я в этой затее не участвую!"
Да, так он сказал и вышел из зала такой походкой, будто над ним реяло священное знамя рационализма. И все примолкли, ибо то же самое знамя трепетало в их душах. Рационализм, логика, знание — разве не с этим наука вышла к людям, не этими ли ключами просветители хотели отомкнуть все замки будущего?
И все же они тогда приняли это решение. Все-таки приняли…
— Утверждают, что наука начинается со слова "знаю", — тихо, будто про себя, заговорил старик и продолжал, все более распаляясь: — Нет. Наука начинается со слова "не знаю". Ведь как было? Во все века, при всех религиях, задолго до всех религий человек твердо знал, как устроен мир и отчего дует ветер, куда девается ночью солнце, на чем держится Земля и отчего на ней зло. Загляни в любой миф, в любое писание — там все объяснено… Как трудно было тогда сказать: "Я знаю только то, что ничего не знаю". Но с этого началось познание. Не знаю, как устроен мир, не знаю, что такое звезда, не знаю, есть ли у человека душа, не знаю, не знаю, не знаю! Но жажду узнать, проверить и убедиться, что эта правда. Если то, что двигало Сократом и Галилеем, — это рационализм, значит, он страсть, могучий зов и порыв. А не таблица логарифмов, не безотказная память искинта! Безумству храбрых, да…
Он перевел дыхание. Его освещенное сполохами костра лицо казалось мятущимся. Мальчик смотрел на него во все глаза.
— Да, безумство… Выяснилось же, что окончательного ответа о мире нет и быть не может, что каждый шаг ранит исследователя признанием ошибок, которые только что мнились с таким трудом добытой истиной… Охладило ли это? Скорей, наоборот. Вот странно-то! Ни одно животное по доброй воле не двинется в бесконечность искать неизвестно что… Мы же поступили именно так. И это занятие в конечном счете оказалось куда как практичным! Настолько практичным, победным и плодотворным, что фраза "наука утверждает…" для многих стала тем же самым, что "бог сказал…". Ну нет! Заповедник тайны противоречит логике науки, которая призвана сокрушать все и всяческие тайны? Тем лучше! Вопрос — какой логике… Ведь если бесконечно познание, то бесконечна и логика, каким бы парадоксом это ни оборачивалось. Все и началось с парадокса. Уже к концу двадцатого века стало ясно, что без науки нельзя обойтись ни в одном сложном случае жизни. И что поэтому научное мышление должно стать достоянием всех. Всех! А наука меж тем от людей отдалялась. Когда-то любой, при некотором досуге и скромных средствах, мог погрузиться в мир звезд, как Гершель; бактерий, как Левенгук; веществ, как Шееле. А теперь и образование есть, и досуг, и средства, но что" ты можешь без современных инструментов? К науке, положим, приобщены миллионы, но за порогом лаборатории — миллиарды. И как же быть со столь необходимым обществу научным мышлением миллиардов? Вот в чем загвоздка! Нельзя научиться плавать, стоя на берегу, водить машину, читая о езде в книгах… Нельзя. И с мышлением то же самое. Заповедник тайны — просто одна из мер, одна из мер приобщения. В нем, было бы желание, каждый любознательный может стать первопроходцем. Право на исследование должно быть обеспечено каждому, верно?
Мальчик ничего не ответил. Облокотившись о рюкзак, он смотрел уже не на старика, а вдаль, где за толщей мрака и камнем хребта скрывалось то место, куда научные экспедиции не имели доступа, куда, как встарь, можно было только дойти, осилив кручи, и, как в былые времена, искать неведомое, кто знает, существующее ли.
— Хитрые вы какие! — вдруг вырвалось у мальчика.
— Хитрые? — Старику показалось, что он ослышался. — Хитрые?..
— Ну да. Тайна интересна настоящая. А когда ее для чего-то придумали…
— Но ее же никто не придумывал! — Старик подался вперед, словно то, о чем говорил мальчик, имело особенное значение. — Она же есть! Может быть, мнимая, но есть! Там, среди горячих источников, льда и диких зарослей, кое-кто слышал внезапную, ниоткуда музыку — как это понимать? Будто бы светящиеся в ночи "орлиные камни" — только ли обман чувств? Почему здесь, нигде больше? Что тут фантазия, тень легенды о стране вечно юных, а что явь? Тайна, последняя тайна Земли!
— Которую вы запросто могли разгадать…
Да. Но передний край нужен всем. Тайна, доступная каждому, необходима!
— И многие идут?
Старик опустил голову. Да, они об этом думали. Боялись нашествия миллионов. Успокаивали себя тем, что какая-нибудь загадка шаровой молнии так и не далась человечеству, пока не вмешалась наука, но и она свыше века была бессильна; так что ничего не затопчут, не сотрут тайну в порошок за два-три сезона.
Не затоптали, не стерли… Но что случилось с мальчишкой, с мальчишками всего мира, которых, бывало, хлебом не корми, а подай им НЛО, подай им Несси? И чем таинственней тайна, тем пуще разгораются их глаза…
— Понимаю… — задумчиво проговорил он. — Научная самодеятельность. Что-то вроде домашнего вязания по соседству с заводом-автоматом, да? Но и рукоделие существует, значит, необходимо! А в заповеднике все без дураков. И трудности подлинные, и разгадка, добудь ее кто, войдет, что называется, в анналы.
Мальчик пробормотал что-то.
— Что? — переспросил старик.
— Так, припомнилось, — ответил тот нехотя. — Бабушка говорила: на тебе, боже, что нам негоже.
Старик крякнул и, чтобы скрыть замешательство, потянулся поправить костер. В лицо ему пахнуло дымом, он закашлялся, с досадой протер заслезившиеся глаза.
— Послушай, ты, ученик искинта… — сказал он чуть охрипшим голосом. Если ты думаешь, что это правда…
— Дед, я не хотел…
— Помолчи! Ты сказал правду. Но всю ли? Вот я на старости лет приплелся к своему, так сказать, детищу. Зачем? Не знаю. То есть… Стоп! Заповедник надо было создать, мы его создали, и нам было ясно, ради чего. А вышло что-то иное, и сами мы, похоже, руководствовались чем-то иным. Чем? Теперь и вовсе глупый вопрос, а покоя нет. Все до конца познать невозможно, а хочется, чтобы все стало ясным сразу и до конца, так уж мы с тобой, человеки, нелепо устроены. Сами себя загоняем в ловушку!
— Слушай! — Глаза мальчика заблестели. — А что, если…
— Ну, ну?
— Может быть, вы просто пошу…
Он недоговорил, замер с открытым ртом. Над ними точно вздохнуло небо, тишину прорезал дальний нечеловеческий вопль. Оба вздрогнули. Звук раскатился тревожным эхом, мертвенно отразился от скал. Так мог бы вскричать терзаемый муками камень. Вопль и донесся откуда-то с вершин. И не успело замереть эхо, как над одним из горных зубцов свечой восстало дрожащее белесо-фиолетовое во тьме сияние.
Мальчик привскочил. Даже в алом отблеске притухшего костра его лицо выделилось бледным пятном.
— Орлиные… Это "орлиные камни"?!
— Ну и ну! — Старик шумно перевел дыхание и, словно смахивая что-то, быстро провел по лицу ладонью. — Вот глупость-то, аж пот прошиб… Все уже погасло. — Он проворно подкинул в костер пару-другую сучьев. — Нет, это не "орлиные камни", это кричал и светился обычный лед. Разрядка каких-то там внутренних напряжений, электризация, искинт все знает лучше меня… Однако нам повезло: такое наблюдается редко.
— Черт-те что и сбоку бантик… — Мальчик смотрел туда, где только что колыхалось фиолетовое зарево, и дрожь голоса перечеркнула иронию.
— Что, повеяло таинственным? — усмехнулся старик.
Мальчик перевел взгляд на костер. Некоторое время оба молча смотрели, как огонь лижет сучья, как в вышину, буравя мрак, устремляются искры, спешат, обгоняя друг друга, к единому для всех черному финишу. Ритм их бега завораживал взгляд. Костер разгорелся, от него веяло успокоительным теплом.
— Ты что-то хотел сказать, — напомнил старик.
— Я? Ах, да… — Не отводя немигающего взгляда, мальчик улыбнулся каким-то своим мыслям. — Тайна — она вроде зверя…
— Зверя?
— Ага! Тигров и львов только и делали, что убивали, а как остались немногие, так им заповедник. И с тайнами вроде этого. Вы пожалели последнюю, ну и правильно.
Сказав это, мальчик не взглянул на старика, может быть впервые не ища его одобрения. Тот молчал, ссутулившись.
Пожалели… Почему бы и нет? Никто об этом тогда не сказал ни слова, ничего такого вроде и в мыслях не было. И все-таки было. Не в мыслях глубже. Тайны Земли — они же спутники детства науки, всего человечества.
— Да, — сказал он наконец. — Отчасти ты прав. Все мы вышли из страны детства, а вот обратно войти… Пора и соснуть, однако.
Мальчик согласно кивнул. Его томила усталость дня, такая переполненность мыслей и чувств, что на самого себя, вчерашнего, он смотрел будто свысока, как на маленького и уже далекого. Но сейчас это чувство взрослости мешало думать и говорить, клонило в сон.
Они дождались, пока прогорел костер. Угли рдели долго и жарко. Мальчик заснул, как канул. Старик же бессонно глядел в далекое небо, пока земля привычно и мягко не поплыла под ним куда-то в звездную вышину.
Да, сказал он себе, вот этого, верно, больше не будет. Земля укачивает меня, должно быть, в последний раз, а я так и не понял, в чем притягательность звездной бездны, отчего при долгом взгляде туда тело становится невесомым и плывет, плывет под баюкающее колыхание планеты…
И первый человек, возможно, испытывал то же самое, а я так и не узнаю почему. Все древние, кроме этой, тайны уже раскрыты. Все позади: циклопы, атланты, песьеголовцы, моря мертвых зыбей, неведомые полюса, Атлантиды и Несси, мифические небыли и загадочные были планеты. Ничто на Земле уже не манит воображение даже мальчишек — и в детях кончилось детство.
Что-то другое начинается. Что?
Мальчик не слышит, спит. Да он и не знает ответа. Звездной дорогой над ним светит Млечный Путь…
Уж не в этом ли последняя тайна Земли? Не та, простенькая, что мы сохранили, совсем другая… Может быть, при долгом взгляде на звезды Земля оттого начинает баюкать человека, что она воистину колыбель? И это ее забота — укачать того, кто слишком настойчиво и рано потянулся к дальним огням… Но когда в этой колыбели детям уже не грезятся сны о дивных землях и загадочных существах — значит, пора!
"Здесь водятся проволоки"
Спокойствие утра охватило Горина, едва он шагнул за порог. Воздух был чист и недвижим, окна дома блестели, как умытые, ни звука, ни человека вдали, казалось, мир спит, досматривая безмятежные сны, и слух был готов принять даже побудку петушиного крика, если бы не зеленая, в полнеба, заря, в аквамариновую прозрачность которой врезалась веерная чернь древолистов.
Иное небо было над головой пожилого философа, даль тридесятых парсеков, и так все напоминало земное утро! Верилось и не верилось, что такое возможно, а тропинка меж тем разматывалась и вела, а легкие, не утомляясь, пили прохладу непотревоженных лугов, и смиренно хотелось благодарить судьбу за это чудо обретения среди безжизненных звезд второй, человечества, родины. Да еще такой, где все можно начинать с чистой страницы, начинать умудренно, единой людской семьей, на горьком опыте усвоив, — можно надеяться, что усвоив, — как надо ладить с лесами и травами, дождями и ветрами.
Все виденное Гориным подтверждало эту надежду. Тропинка, по которой он брел, сужаясь, окончательно исчезла в немятой траве, зеленой в зоревом свете, от этого почти своей, домашней. Ботинки тотчас оросил град светлых капель, надежных и здесь предвестников благодатного дня. Горин с рассеянной улыбкой оглянулся на потемневшую за ним полосу травы, на уютные позади домики, чьи мягко-округлые формы делали их похожими скорей на создания природы, чем на творения строительной техники. "Да, — с удовлетворением подумал он, — это мы умеем, этому мы научились, ради этого сюда стоило лететь…"
Он брел без цели, зигзагом, не слишком, однако, удаляясь от самого поселка. Не потому, что вдали что-то могло грозить человеку: опасности не было нигде. Человечеству сказочно повезло и в этом, хотя если искать так долго и упорно, если вспомнить о всех затратах, разочарованиях, жертвах звездного пути, тем более о борьбе и муках предшествующего, то эта случайность, пожалуй, не совсем случайна.
Горин в свое первое здесь утро хотел просто прогуляться, беспечным Адамом пройтись по новой земле, но привычная к абстракциям мысль уже заработала в нем, уводя все дальше от неспешного созерцания. Природа ни добра, ни зла, но разве яблоня не благодарит яблоками за уход? Разве поле не вознаграждает умелого сеятеля? Земные недра не одаривают того, кто зорко ищет? И наоборот, деятельность рвачей, дураков, сиюминутников бумерангом обрушивается на всех, проклятьем преследуя потомков. Так на Земле, почему в космосе должно быть иначе? Не должно быть иначе, не может, значит, и эта планета, раз она выстрадана в борьбе, добыта мудрым трудом и заботой, не случайный подарок судьбы, человек законный ее хозяин, и благодарить он должен лишь самого себя.
Из-под ног Горина рванулась тень, узкая и длинная, простерлась за горизонт, луг в брызнувшем свете засиял огоньками росы, искрясь, послал в небо сноп радужных переливов, и всякая философия тут же отлетела прочь. Не осталось ничего, кроме блаженного безмыслия, и Горин на миг ощутил себя растением, которое впитывает первый проблеск солнца и больше ни в чем не нуждается. Хорошо-то как! Он медленно повернулся к блещущим лучам, тепло коснулось лица, как материнская ладонь.
Он замер в этой неге. Зеленое небо протаяло, сделалось высоким, безбрежным, зовущим непонятно куда, каким оно бывало лишь в детстве и каким оно снова стало теперь. Оказывается, он не забыл того ощущения единства, нет, слияния, головокружительного растворения в природе. Оказывается, оно еще жило в нем, еще могло наполнить счастьем, которое не было счастьем любви или познания, свершения или творчества, а давалось просто так, мимолетно и даром, за одно лишь чувство единения с природой. "Ну, ну, — услышал Горин в себе скептический голос, — так и до пантеизма недалеко…"
Свет белого, как бы перекаленного солнца изменил траву, теперь она казалась не зеленой, а… Может ли бронзовый отлив ее листвы одновременно быть мягким, ковыльно-серебристым? Казалось бы, несочетаемое — здесь сочеталось.
Впереди, левее чащи древолистов, обозначилось едва заметное всхолмление, и Горин повернул туда с той же бесцельностью, какой была отмечена вся его прогулка, хотя сама эта бесцельность была преднамеренной, ибо ничто так не сужает восприятие, как заранее поставленная задача. Приблизившись, он замер с ощущением плевка на лице: перед ним были искореженные бугры и оплывшие ямы. Все давно поросло травой, но еще оставляло впечатление шрама. Даже трава здесь была не такой, как везде, грубой, однообразной, страшенной, словно сюда стянулась и тут расплодилась вся дрянь, которая дотоле тишком пряталась по окрестностям. Нарушенный почвенный слой, иного и быть не могло! Отсюда брали, брали железом, силой, ладили какие-то времянки, подсобки, без которых, очевидно, невозможен был сам поселок.
Кулаки Горина разжались. Кто он такой, чтобы судить? Очевидно, людям надо было немедленно дать кров, за горло брала необходимость, освоители не щадили себя, а кто не щадит себя, тот не церемонится и с остальным. До приборки ли тут, у самих руки в ссадинах, успеется и потом, зато главное сделано!
И ведь хорошо сделано… Быстро сделано.
"Это мне легко быть чистоплюем, — с горьким сокрушением подумал Горин. — Может, тут, наоборот, памятник ставить надо!"
Все было возможно и порознь, и вместе, памятник часто неотделим от хулы, вот что удивительно в жизни.
Горин двинулся к рытвинам и буграм, чтобы обстоятельно во всем разобраться, но не успел он ступить за черту бурьяна, как услышал позади себя крик.
— Дяденька, не ходите туда! Не надо!
Он в недоумении обернулся. От купы древолистов спешила тоненькая, как стебелек, девочка; ее светлая, в облачке волос, головка шариком одуванчика катилась над гущей трав.
— Это почему же мне не ходить туда? — любуясь прелестно разгоряченным лицом девочки, спросил Горин.
— Там водятся проволоки, — с тихой убежденностью проговорила она.
— Проволока, — слегка оторопев, машинально поправил Горин. — «Проволок» нет, так не говорят…
— Есть, — взгляд синих, как земное небо, глаз девочки был тверд и серьезен. — Туда не надо ходить. Просто вы не знаете.
— А остальные знают?
— Мы, дети, знаем.
— Хорошо, хорошо, — согласился Горин, не зная, что и думать. — И как же они выглядят… эти «проволоки»?
— Змейки такие, — коротко вздохнув, девочка повела в воздухе пальцем. Тоненькие и прыгучие…
— А, понятно…
Горин отвернулся, чтобы скрыть улыбку, и посмотрел на пологий, в проплешинах, бугор. На ногах девочки, как он заметил, не было никакой обувки, а это значило многое: дикая местность считается окончательно обжитой тогда, когда ребенок может всюду разгуливать босиком. И змей на этой планете не было. А вот обрывки проволоки тут вполне могли быть, в траве могли скрываться их петли, а чем это не силок для резвой детской ноги? "Здесь водятся проволоки…" Какой точный, если вдуматься, образ!
— Так взрослые, ты говоришь, ничего не знают?
— Не-а, — она досадливо взмахнула рукой. — Я говорила, и Тошка подтвердил, они не поверили.
— Понятно…
"Вот пакость, — рассердился он. — Первая опасность, с которой дети сталкиваются на чужой — чужой! — планете, исходит от… Носом бы ткнуть сюда всех кое-какеров! Мордой бы их в эти самые кучи!"
Однако что происходит?
Он смотрел на девочку, девочку-стебелек, босоногую фантазерку с исцарапанными, как в ее возрасте положено, коленками, и в нем нарастала тревога. Как это понимать? Мир всюду становится таким благоустроенным, что крохотный огрех освоения уже видится чудовищным пятном, но это бы ладно! дети пугаются каких-то проволочных петель, боятся уже невесть чего. Кем же они тогда вырастут?! А ведь все шло, как надо: главное — забота о человеке, тем более о детях, добро, безопасность, свобода, тут достигнут, казалось, немыслимый прежде прогресс… Вот чем, выходит, все оборачивается!
— Пойдемте, — девочка потянула Горина за рукав. — Вообще-то проволоки только там, но кто их знает…
— А вот мы сейчас и узнаем! — весело, как только мог, сказал Горин. Заглянем в их, так сказать, логово!
Он подмигнул, вовлекая малышку в ее собственную игру, но в ответ лицо девочки дрогнуло обидой.
— Ты чего?
— Ничего… Думаете, я выдумываю?
"Стоп, стоп, — сказал себе Горин. — Тут что-то не так…"
— Постой! Девай разберемся. Там водятся проволоки, верно?
— Да.
— А откуда ты это узнала? Ты ходила туда?
— Ходила. А как же? Вместе с Тошкой, он еще маленький, мы тут в находки играли. Это когда проволок еще не было, только обычные. Ну эти, эмбрио и всякие… А потом они ожили.
— Ожили?!
Интонация выдала Горина, Рука девочки упала, губы скривились.
— Вот… — толчком выдохнула она. — Вы тоже… хотя и философ… Ну и пусть, ну и пусть! Соврала! Да! Назло!
Она в гневном вызове вскинула подбородок, но в глазах, ее упрямо немигающих глазах уже блестели горькие, быстрые и бессильные слезы. Горин так растерялся, что не нашел слов. Рука оказалась проворней, она коснулась пушистых волос девочки, убрала прядь с плачущих глаз, быстрой неумелой лаской тронула лицо.
Всхлипнув, девочка ткнулась лбом в плечо Горина.
— Ну, все, все, рубашку промочишь… Видишь — я верю. Только при чем тут философия?
— Ни при чем, — она отстранилась и, словно котенок лапой, ладошкой прошлась по лицу. — Ни при чем. Просто говорят, что философы — не как все…
— Каждый человек не как все, и ты тоже, в этом вся прелесть. Рассказывай дальше… пушистик.
В ее волосах запуталось чужое солнце, но пахли они домашним теплом, он это чувствовал на ощупь.
— Глупые волосы, — тряхнула она головой. — Всюду лезут…
— Что ты? Они красивые.
— Ну и пусть! Значит, так… Прошлым летом, когда мы здесь играли, проволоки были обычные…
— Подожди, давай уточним. Откуда они там? Почему? Какие?
— А всякие. Тут до нас скуфер работал, и починочная станция была.
— Так, так…
— Этой весной, как пригрело, гляжу, шмыгают в траве. Те, не из железа которые, потолще…
— Ну, ну?
— Тошка их стал ловить. А одна ка-ак прыгнет, ка-ак даст! Прямо в глаз стукнула.
— В глаз?!
— Ага… Только на глазу линза была. У Тошки зрение недальнозоркое, их для исправления поставили, она и слетела, а глазу совсем ничего…
Должно быть, выражение лица Горина напугало девочку.
— Нет, правда! — воскликнула она поспешно. — Честное слово, все обошлось ревом, нам потому и не поверили…
— Совсем?!
— Ну… — пальцами ног она смущенно ковырнула землю. — Папа ходил, смотрел. Только проволоки скрытные, а взрослое все поверху смотрят, а меня папа не взял… Ну, Тошку отругали, что линзу потерял, и меня, что в таком месте играли, еще врач приходил, мама с ним течет моих фантазий советовалась, лекарство давали… Ну и все.
Последние слова дались ей нехотя, она отвела взгляд, смотрела мимо Горина даже с каким-то равнодушием на лице, словно то, о чем они говорили, уже не касалось ее. Горин слушал, не зная, как быть. Никакой Кант не задавал ему столь сложной задачи. То есть объяснение, конечно, было, даже не одно, но что толку! Понятно, родители знали девочку лучше, очевидно, они были правы во всем, нельзя же верить в очевидную дичь, и если бы не его, Горина, проклятая привычка к всеохватности и всепроверке…
— Ладно, — он откашлялся, чтобы выжрать время и наконец решиться. — Вот пакость! Кстати, кто, кроме вас, сюда еще заглядывает?
— Никто, — сказала она чуть удивленно. — Ребят я предупредила, а взрослые сюда и так не ходят, зачем!
Действительно, зачем! Праздный вопрос! Мы сами избегаем тех мест, где вот так похозяйничали. Только дети снует повсюду, только они везде находят что-то привлекательное и создают свой, отдельный от взрослых, мир.
— Так! Где же этих «проволок» больше всего?
— Ой! — она снова уцепилась за его руку. — Не надо…
"Не надо", потому что она боялась за него? Или опасалась проверки своих фантазий? Горин заколебался. Гипотез, которые могли объяснить ее рассказ, было три, и все, кроме одной, не лезли ни в какие ворота. А правдоподобную, ту же самую, что избрали родители, подтверждать не хотелось. Особенно когда на тебя смотрит гордая и упрямая малышка, которая только что доверила тебе свой мир. Тот странный, для взрослого труднопостижимый мир, в котором осколок стекла становится звездой, у тряпичной куклы взаправду болит животик, все превращается во все, глухая тень бурьяна оказывается преддверием сказочного леса, а проволока…
Но даже если тут не все фантазия, попробуй-ка, отличи! Неважно, что девочка говорит искренне, что для нее все правда. "Разве в моем детстве, спросил себя Горин, — не было времени, когда я не сомневался, что коряга в саду — живая, а небе — медное? А почему медное, этого мне вся мудрость науки не смогла объяснить".
— Надо разобраться, — осторожно сказал он. — Ведь что-то сюда может забрести! Такой же, как я, новичок… А тебя не скажется рядом.
Кажется, довод подействовал. Пальцы отпустили руку. Девочка глядела вопросительно, словно ждала чего-то, может быть, еще каких-то слов. Кивнув ей, он скорым уверенным шагом поднялся на бугор. Как бы там ни было, проверить не мешает.
Всюду рос цепкий бурьян, гуще в ямах, пореже на склонах, и там, где он не прикрывал глинистые оплывы, почва уже дышала сухим печным зноем. Нигде не было ничего особенного. Глаз уколол звездчатый блеск двух-трех осколков спектролита, в дальней яме истлевал распотрошенный блок полихордового движителя, матово синели пятна когда-то пролитого тиопсина. Носком ботинка Горин поддел какую-то ржавую железяку. Скукой веяло от этого места, и было тихо тишиной запустения.
Внезапно к отброшенном им тени бесшумно подкатилась другая, тоненькая. Горин обернулся в досаде.
— Ты здесь зачем? Я, кажется…
— Во-первых, вы ни словечком не запретили, — ее глаза смотрели обиженно, с вызовом, даже зло. — Во-вторых, вы так ходите…
Угадав его намерение, она отпрянула.
— Не словите! Думаете, я ничегошеньки не понимаю?
Мысленно Горин обругай себя. Строго-настрого не запретив ей следовать за собой, ом тем самым дал ей понять, что не верит в опасность. И шел он в самом деле небрежно. И конечно, по мнению девочки, смотрел поверхностно. Как папа. Она, несомненно, тотчас представила, как чужой дядя, которому она доверилась, вынуждена была довериться, ничего не сыскав, станет утешительно гладить ее по головке и противным голосом убеждать, что фантазии все-таки надо отличать от реальности. Ее воображение живо проиграло эту пытку. Что тут страх перед «проволоками»!
Теперь ее прогнать было нельзя, невозможно.
— Ты права, — Горин вздохнул. — Конечно, с тобой куда легче найти эту дрянь. Но, понимаешь…
Он выразительно посмотрел на ее голые ноги.
— Ага! — сказала она, сразу все поняв и просияв. — Я думала, но это ничего, я тихонечко, следом, и на меня не напрыгнут.
Однако не так уж и силен ее страх…
— Ладно, ладно, показывай, куда смотреть и что делать?
Снова ему показалось, что вспомнить детство не так уж трудно. Всего несколько подсказок, и вот уже изменилась походка, он, крадучись, припадал к земле, трава стала вровень с лицом, он кожей ощущал накаты тепла и прохладу сырости, смотрел не в даль, как привык, не вообще, а видел ближнее, массу мелочей, которые, приобретя другой облик, уже не были недостойным внимания мусором. Тот же осколок спектролита поражал, когда дальний, в травяных дебрях просверк вдруг выдавал его сходство с укромным лесным озерком; синяя от тиопсина проплешина виделась сквозь бурьян клочком опаленной пустыни, над которой маревом дрожал химический ток испарений; когда же в чащобной неясности проступали контуры каких-то машинных штуковин, то своею странностью они надолго задерживали взгляд, который прежде равнодушно скользнул бы мимо. И как много диковинного открывал сам бурьян! И сколько было повсюду мелкой, снующей, копошащейся, прыгающей живности!
Философ, ведомый ребенком. Горин едва не рассмеялся при этой мысли. Ему давно не было так интересно, вернее забавно. Он даже забыл о цели поиска, да и была ли она? Теперешний взгляд на мир рассеял сомнения. Оставалось лишь найти те самое «проволоки», найти и понять, какое их свойство так напугало детскую душу. Впрочем, и тут не было загадки. Вокруг хватало останков эмбриотехники, а эмбриотехника — это квазижизнь, полужизнь, самосохраняющие себя киберы, что-то здесь могло двигаться само по себе, шевелиться, как оторванный хвост ящерки, бессмысленно и, может быть, долго. О, с таким миром, где, кроме живого и неживого, есть нечто третье, дети былых времен не сталкивались! Много ли тут надо воображению? Одна лишь возможность грядущих роботов и киберов в свое время пугала вполне взрослых и мыслящих людей. Каким парадоксом все это обернулось сейчас и здесь!
— Там… — выдохнула девочка. — Там!..
Горин быстро перевел взгляд туда, куда указывала ее рука. Сначала он ничего не увидел. Затем… Что-то тонкое, темное вильнуло в траве и скрылось.
— Видели, видели?..
Еще бы! Горин привычно унял было взметнувшийся сумбур мыслей. Конечно, ему не померещилось! И на эмбриотехнику непохоже. Даже саморефлекторные соузлия киберов, чьи обрывки могли здесь оказаться, даже они не способны вести себя так, тем более мутировать в змееподобное существо. Правда, их взаимодействие с иной средой при каталитическом, вполне возможно, влиянии пролитых тут реактивов, кто ж это изучал… Никто, понятно, не изучал. Нет, нет, все равно это близкий к абсурду допуск!
И явное нарушение краеугольного в науке "правила Оккама": нельзя принимать маловероятное допущение, когда есть простое.
Жестом велев девочке поостеречься, Горин сделал несколько крадущихся шагов. Все, увы, очень просто и паскудно в этой своей простоте. Испакощенные места, какое бы солнце ни светило над ними, неизбежно становятся особой экологической нишей и райским прибежищем не одного лишь бурьяна: сюда могли, даже обязаны были стечься какие-то редкие, потому, очевидно, еще незамеченные и, не исключено, зловредные твари…
Вольно или невольно поступаясь достигнутым, на миллиметр снижая культуру своей деятельности, мы сами скликаем их к своему порогу. И тем настойчивей, чем колоссальней наша мощь. Техника все одинаково возводит в степень — и хорошее и дурное, и достижение и просчет.
Как ни внимательно смотрел теперь Горин, он едва не прошел мимо «проволоки». Она (быть может, "оно"?) едва различалась в тени густого бурьяна. Лишь смутное ощущение чего-то живого в этом свернувшемся клубке, ощущение скорей инстинктивное, чем рассудочное, оспаривало мысль, что глаз видит лишь свив какого-нибудь псевдонерва, а то и вовсе моток тонкого кабеля. В неясности этого сплетения воображение одинаково спешило различить и неотчетливый узор змеиной шкуры, и столь же сомнительный знак заводской маркировки.
Существо? Мутант? Проволока? Горин нагнулся, чтобы разглядеть.
— Нельзя так, лицо!..
Все произошло в одно мгновение. Девочка вскрикнула, кинулась, чтобы удержать, остеречь, и тут темное кольцо «проволоки» взвилось пружиной. Горин отпрянул, хотел заслониться и заслонить, но было поздно: меж ним и метнувшейся в лицо змейкой оказалась рука девочки.
Горин стремительно подхватил ее, падающую, побелевшую, не видя ничего, кроме точечной ранки, ринулся к поселку, твердя, что это не яд, не может быть ядом, а только шок, мчался к домам, словно вслед рушилось небо. Так, в сущности, оно и было. "Да когда же, когда же кончится это!" — кричал в нем ужас, и он сам не знал, к чему это относится — к кажущейся бесконечности бега или и чему-то еще.
Тихий звон колокольчика
В тот вечер все собрались поздно, усталые, и ужинали без лишних слов, обстоятельно, плотно, как пахари после трудного дня. Неяркий свет, глухая замкнутость стен усиливали впечатление трапезы, словно не было позади ни долгих веков прогресса, ни бездны пространства, которые отделяли людей от Земли, а были только привычные заботы общины, работа, еда, короткие развлечения и крепкий, мужицкий напоследок сон.
Уже опустели тарелки, когда Биранделли уронил как бы в задумчивости:
— Тайскейясея…
— Тайскейясея или тойсойясейя? — лениво переспросил Тагров.
— А есть разница? — Маленький, черноволосый Биранделли остро чиркнул гуманолога взглядом.
— Существенная, ибо первое — бессмыслица, второе же — "цвет зла".
— А! Выходит, я неверно запомнил. Ты перевел по смыслу или…
— Без "или", — уточнил Тагров. — Теперь кайся.
— Что-что?
— Ты встретился с муарийцами. И произошло нечто как будто пустяковое. Но… Дальше?
— Дальше я позволю себе вопрос, — подал голос Шахурдин. Все подняли головы и насторожились. — Если что-то случилось, даже пустяковое, но связанное с муарийцами, то почему об этом тотчас не было доложено мне?
— Потому, уважаемый капитан, что это такая историйка, которыми пай-мальчики не беспокоят занятых пап! — Биранделли озорно улыбнулся. Типичная, такими после ужина сводят с ума мрачных гуманологов.
— Биологи шутят, — поднося к губам чашку кофе, прокомментировал физик Ясь. — Юмор, да еще под благодушное настроение, лучшая смазка для мелкого грешка, верно?
— "Что-то физики в загоне, что-то лирики в почете", — пропел Биранделли. — Таков наш век, дорогой Ясь, однако замечено, что комплекс неполноценности рождает мнительность. Не так ли, капитан?
Блестя темным вороньим глазом, он покосился на Шахурдина.
— К делу, — сказал тот без выражения.
— Хм… Начало банальное. Маршрут. Гербарий. Ценозы. Слабоумные скуггеры, которые вечно путают божий дар с яичницей…
— Извини, я только позавчера поставил новые сканографы! — возмущенно перебил его приборист.
— Все равно границы ландшафтов они различают плохо… Но дело не в этом. Значит, так. Уже к вечеру натыкаюсь я на совершенно незнакомое растеньице. Прелесть! Такой, понимаете, розовенький, как мечта влюбленного, воздушно-бархатный псевдохвощ. Правда, так классифицировать его нельзя, поскольку проламинарные медеоустьица… Молчу, молчу! Словом, для здешней, впрочем, и для любой другой флоры нечто феноменальное. Только я подошел к скуггеру, чтобы сложить образцы, глядь — муарийцы. Трое, все в этих своих присосочных коконах. Поздоровались и сразу выяснять, что я намерен делать с букетом. Я объяснил популярно. Вот тут и началось: "Тойсойясейя, тойсойясейя!" Попробуйте угадать, что было дальше.
Смеющийся взгляд Биранделли обежал всех.
— Все ясно: муарийцы поблагодарили тебя за прополку!
— Просветили насчет медеоустьиц!
— Посоветовали преподнести букет капитану!
— Добавить этого розовенького в отчет!
— Смазать им на ночь пятки!
— Фу! — Биранделли скорчил гримасу. — Шедевры юмора и гекатомбы фантазии. Кого, спрашивается, человечество посылает к звездам? Муарийцы, да будет всем известно, пожалели меня, неразумного. И вас заодно. Вот так, други. Теперь и кофе выпить можно.
Он неторопливо налил кофе, неторопливо размешал ложечкой сахар.
— Что же дальше? — не выдержал Ясь.
Биранделли глянул на физика, как кот на выманенную из норки мышь.
— Тойсойясейя находится здесь, в хранилище, — сказал он веско. — Она, повторяю, здесь. По каковой причине нас всех ждут неведомые, но страшные беды.
— Точнее, — попросил Шахурдин.
— Я предельно точен. Тойсойясейя, по мнению муарийцев, накликает беды. Разные. Поэтому ее нельзя держать в доме. Ни в коем случае! Муарийцы первым делом осведомились, в порядке ли мой достопочтенный ум. Отдаю ли я себе отчет в содеянном. Уходя, они красноречиво вращали затылочным глазом. В аналогичной ситуации мы крутим пальцами у виска.
— Ну и что? — нетерпеливо спросил Ясь. — В чем соль историйки?
— Подожди, будет и соль, будет и перец… Вопрос уважаемому гуманологу: существуют ли беспричинные суеверия? Или все это недостойная внимания чепуха?
На крупном, грубо обтесанном лице Тагрова проступило слабое подобие улыбки — так, верно, могла бы улыбнуться гранитная глыба.
— Верно третье.
— Браво! — воскликнул Ясь. — Ответ в классическом стиле гуманологии. Чем больше я с ней знакомлюсь, тем больше ценю простую и ясную физику.
— Которая и нам на многое раскрыла глаза, — кивнул Тагров. — Со времен Гюйгенса и Ньютона, три столетия, если не ошибаюсь, вы спорили, что есть свет: волна или поток частиц? Факты подтверждали и ту и другую точку зрения. А что вам в конце концов ответила природа?
— Верно третье! — воскликнул Биранделли. — Свет — это волночастицы. Снимаю свой глупый вопрос.
— Да, тебя, как и капитана, волнует другое, — спокойно сказал Тагров. Тебя беспокоит, не оскорбил ли ты нечаянно муарийцев, не нарушил ли какое-нибудь их табу. Вот тут я отвечаю твердо и категорично: нет!
— Уф! — с облегчением вздохнул Биранделли.
— Основание? — быстро спросил Шахурдин.
— Биранделли неверно истолковал прощальный взгляд муарийцев. "Красноречиво вращая затылочным глазом…" Это отнюдь не сомнение в умственных способностях нашего дорогого биолога, а знак расположенности и сочувствия. На недруга, осквернителя, вообще нехорошего человека муарийцы глядят затылочным глазом прямо, в упор, не вращая им. Потому что врага ни на секунду нельзя терять из видимости. А что муарийцы дивятся нашим поступкам, так это естественно. Все, кончено с этим. Спасибо за историйку.
— Нет, не покончено, — вдруг сказал Биранделли. — А проклятие?
— Проклятие?
— Ну, наговор, заговор… Тойсойясейя находится тут, за стеной. Не накличет ли она беды?
— Чего-чего?
— Беды. Серьезно спрашиваю.
Шахурдин нахмурился. Ясь хихикнул: сейчас Тагров был похож на человека, у которого осведомились, не плоская ли, часом. Земля. Но смешок оборвался, ибо Биранделли, бледнея на глазах и, видимо, чувствуя это, поспешно растянул рот в прежней улыбочке, теперь натужной и жалкой, как всякая попытка скрыть наконец прорвавшуюся тревогу.
— Несчастье? — Тагров подался вперед всем своим мощным телом. — Ну?
— Прости, что не сказал об этом сразу. Я лишился… — мучительно напрягшийся голос Биранделли сорвался в шепот. — Лишился невозместимого. Да, невозместимого… Я потерял…
Тишину, казалось, можно было взвешивать на весах.
— Час своей жизни! — торжествующе объявил Биранделли. И кротко добавил: — При диспуте с муарийцами, как все уже проницательно догадались…
— Ну, артист! — Тагров восхищенно грохнул кулаком по столу, но этот звук перекрыл дружный хохот. — Подловил-таки!
Несчастье произошло часом позже. Оступившись на лестнице, Ясь упал и сломал ногу, чего ни с одним звездопроходцем вот так не бывало.
Физика тут же отнесли в регенерационную, подключили к биорезонатору, благотворное действие которого, однако, вызвало у бедняги нередкое в таких случаях ощущение щекотки, что отнюдь не улучшило его настроения. Яся с совершенно серьезной миной принялись утешать историями об астрогаторе, который, зевая на посту, вывихнул себе челюсть, о планетологе, который, регулируя температуру скафандра, заполучил насморк, о механике, который так рьяно ловил в невесомости масленку, что выдавил ее себе за шиворот, и тому подобным фольклором. Биранделли, естественно, намекнул на зловещее, особенно для физиков, влияние тойсойясейи, отчего Ясь озверел окончательно и выгнал всех вон, а потом, перебрав в памяти сказанное, долго посмеивался наедине. Может быть, поэтому кость у него срослась за рекордный срок.
Вся эта суета, понятно, не помешала полевикам наутро выйти в маршрут. Среди них был и планетолог Брук.
Брук и не подозревал, что в его душе притаился ребенок, способный завороженно, в неловкой позе, прильнуть к трещине скалы, во мраке которой лиловели аметисты, льдинки горного хрусталя золотились пылью крохотных кристалликов пирита, а прозрачность топазов хранила в себе отсвет небесной голубизны.
Сбылась мечта детства, и время для Брука остановилось. Теперь он мог сознаться, что именно тяга к красоте камня побудила его стать планетологом. Увы! Планетология уже давно мыслила иными категориями, на Земле давно не осталось неоткрытых занорышей, да и кому нужны драгоценные камни, коль скоро промышленность могла их синтезировать в любых количествах, наделяя к тому же достоинствами, каких в природе не сыщешь?
И все-таки нет! Сыплющиеся из кристаллизаторов горы искрометных алмазов или рубинов были заводской, стандартной, вроде стекляшек, продукцией. А сейчас взгляду открывалось нечто сокровенное, выношенное в чреве Земли, девственное и неповторимое.
Земли?! Брук потрясенно уставился на занорыш. Здесь же совсем другая планета! Да. Но стоило, включив фонарик, спиной заслонить ртутно блещущее муарийское солнце, как светлая гармония кристаллов заставляла забыть о чужом мире.
Его не было здесь, в толще. Здесь, в тысячах парсеках от Земли, тот же топаз оставался самим собой, с детства пленившим воображение камнем. Его облик не был земным или муарийским. Он был извечен, как… Брук не нашел сравнения. Его ромбическая геометрия была данностью, ни от места, ни от времени не зависящим постулатом этого минерала. Нигде, ни под каким солнцем он не мог стать кубом или тетраэдром. Да и весь минеральный мир Вселенной был способен упорядочиться всего двести тридцатью способами, а двести тридцать первая кристаллическая форма упаковки атомов не могла возникнуть нигде и никогда.
Если бы не шлем, Брук вытер бы со лба пот — так его поразила эта известная еще со студенческой скамьи и теперь наглядно материализовавшаяся истина. Все чужое вокруг! Только не камень. Это жизнь блистала разнообразием обликов, неповторимо строила себя и на Земле и здесь, всюду рвалась к свободе форм. В ней были возможны бесконечные комбинации, сочетания и сцепления, тогда как в камне…
Боль в затекшей пояснице, не дав додумать, напомнила о времени. Брук с досадой глянул на часы. А, пропади оно все пропадом! Тяжело вздохнув, он ввел в занорыш лучевой резак, мысленно, с саднящим чувством предательства, попросил прощения у той каменной красоты, которую сейчас должен был, не мог не ограбить.
Занорыш озарила бесшумная вспышка. В кристаллах метнулось разноцветье молний, и подсеченная друза с печальным шорохом осела в подставленную ладонь.
Вынутые топазы ртутно блеснули на солнце. Теперь в них не было ни земной голубизны, ни космической надвечности: муарийское солнце сделало их муарийскими.
Прежде чем передать образец скуггеру, Брук чуть изменил неудобную позу. Под коленом со скрежетом пополз щебень.
"Не уподобиться бы Ясю…" — рассеянно подумал Брук. Взгляд его все еще был прикован к занорышу. Отдав скуггеру мысленный приказ, он, не глядя, отвел руку, чтобы манипулятору-автомату было легче принять образец. Брук успел уловить метнувшуюся тень механической лапы, прежде чем страшный удар по темени погасил в нем мысль.
В тот же миг на диспетчерском пульте базы полыхнул красный сигнал тревоги. Тремя секундами позже аварийный реалет был уже в воздухе; тем временем спасательная система скафандра судорожно боролась за жизнь планетолога. Врачу, когда он очутился подле Брука, потребовалось не более двух минут, чтобы вывести его из клинической смерти. Когда реалет взмыл обратно к базе, возле скалы осталась лишь забытая друза. Пыль тотчас припорошила пятнышко крови на сверкающей грани одного из топазов.
Просмотрев заключение техэкспертизы, выслушав мнения, Шахурдин внешне остался спокойным. Все остальные тоже сделали вид, что ничего ужасного не произошло. В конце концов Брук жив, скоро будет здоров, а что касается самого происшествия, то ведь бывает всякое…
Бывает, точно, всякое. Теория вероятностей допускает даже такое сложение скоростей всех молекул, при которой в стакане может вдруг закипеть дотоле холодная вода. И если такой феномен, как показывают расчеты, способен случиться во Вселенной раз в триллионы триллионов лет, то есть практически нигде и никогда, то роковая поломка скуггера, которая едва не погубила Брука, увы, лежала в пределах обыденной вероятности.
Но логика логикой, а воображение невольно набрасывало на случившееся зловещую тень робота, который отнюдь не слепо метил в склоненную голову человека. Два несчастья подряд! И когда Тагров услышал, как то в одном, то в другом разговоре всплывает сопровождаемое неловким смешком слово «тойсойясейя», он нахмурился.
— Вот что, друзья, — сказал он тем же вечером. Прошу отнестись к моим словам серьезно. Вчера Биранделли весьма красноречиво рассказал нам о предостережении муарийцев. После этого Ясь сломал ногу. После этого чуть не погиб Брук. Буду рад ошибиться, но это может случиться снова, если мы убедим себя, что между всеми тремя событиями есть причинная связь. Подождите! — Движением руки он оборвал поднявшийся гул. — Сила разума в том, что он везде и всюду ищет такую связь. Но недаром говорят, что недостатки есть продолжение наших достоинств. Ах какими глупцами нам порой кажутся наши далекие, погрязшие в предрассудках предки! Меж тем вот это устройство, — Тагров постучал себя по лбу, — совершенно одинаково что у них, что у нас. Они точно так же искали объяснения всему на свете, не их вина, что первое приближение всегда дальше от истины, чем последующее. Давайте проанализируем случившееся. Внушение было? Было — предостережение муарийцев. Последовало подтверждение? Последовало. И это в опасной, стрессовой обстановке чужого мира. Будь нам свойственна средневековая психология, в нашей маленькой общине уже возникло бы стойкое суеверие. Запросто, как в историко-лабораторном эксперименте, ибо каким было первое постижение характера причинно-следственных связей? "После этого, значит, вследствие этого". А если причина события непостижима, следовательно, дело не обошлось без потустороннего! Однако мы люди другой эпохи, и, явись нам сейчас привидение, мы первым делом стали бы искать голографическую установку. Но! Привычка всюду искать корреляцию, взаимосвязь может сыграть с нами злую шутку. Я уверен, что кое-кто уже провел расчет вероятности случайного совпадения всех случаев, впал в легкое замешательство и подумал о некой закономерности событий…
— А что тут плохого? — быстро спросил Шахурдин. — Я, например, обязан учесть и такой вариант.
— Да, мы обязаны сделать это. Но на этих путях, единственно правильных и возможных, тотчас возникает гипотеза неслучайности всех трех событий. Неизбежно. Тут нас и подстерегает ловушка, против которой я хочу предостеречь. Сознание допускает — только допускает! — причинную связь. И оно настораживается. А это опасно.
— Не понимаю. Объясни.
— Каждый из нас спокойно пройдет по досочке шириной в ладонь. Если она лежит на земле. И каждый, скорее всего, сорвется, если та же досочка перекинута через пропасть. Она стала уже? Нет. Человек изменился? Да! В сознании безумствует сигнал тревоги: "Не упасть, ни в коем случае не упасть!" На это мобилизуются все силы, психика перенапрягается, одно судорожное движение следует за другим, человек шатается и — падает. Именно потому, что чересчур стремился не упасть! Мы же в этом мире все идем как бы по досочке.
— То есть я сломал ногу, а на Брука обрушился кибер, потому что мы оба испугались глупого предупреждения? — вскинулся Ясь. — Славно! Да я через пару минут и думать забыл от этом дурацком цветке, что я — мистик?
— Ты забыл. Забыло ли об этом твое подсознание?
— Оно у меня дрессированное… И уж скуггер-то суевериям в принципе не подвержен!
— Да, это или из ряда вон выходящий случай или… — Тагров порылся в кармане. — Какая особенность придала всему трагический и неправдоподобный оттенок? Не та, что сломался скуггер, они и раньше ломались, а та, что удар манипулятора пришелся точно по склоненной голове человека. Теперь проверим…
Выхватив из кармана руку, Тагров метнул в Яся шарикоподшипник. Тот мгновенно его перехватил. Кто-то вскрикнул.
— Спокойно! — сказал Тагров. — Даже если бы Ясь не перехватил шарик, беды не было бы: я нацелился мимо… Но Ясь перехватил. Хотя был застигнут врасплох. Хотя его внимание было отвлечено. Все как у Брука! А у Брука реакция не хуже; у всех у нас превосходная реакция, что само собой разумеется. И все же Брук не успел отклониться. Тут могут быть разные объяснения. И одно из них… Человек падает, потому что слишком стремится не упасть.
— Позволь, — ошарашенно пробормотал Ясь, разглядывая шарик, словно тот был по меньшей мере осколком нейтронной звезды. — Все должно быть совсем наоборот! Как раз наоборот! Предупрежден, значит, вооружен.
— Человек настороженно ступает на карниз и срывается. А лунатик спокойно проходит.
— Но мы-то живем разумом! — воскликнул Ясь.
— Слеп тот разум, который видит только себя. — Тагров опер руки о стол. — У одного индейского племени существовало поверье: нельзя, опасно смотреть на радугу, которая блещет над водопадом. И не смотрели, а кто нарушал запрет, тот заболевал. Нелепо, смешно, далеко от нас? Не спешите… Стоит загипнотизировать тебя, кого угодно, приложить к телу хоть этот шарик, внушив, что это раскаленное железо, как, будьте уверены, кожа вздуется ожогом. Между прочим, животному ничего такого внушить нельзя… Вы думаете, человек всю свою историю боролся только с внешними обстоятельствами? Ничего подобного! Где ныне те лешие, ангелы, феи, демоны, вурдалаки, которые прежде так часто являлись людям и так рьяно вмешивались в жизнь? Нет их, сгинули, как только изменилось сознание. Но возникли-то они не вопреки, а благодаря сознанию! Кролику ангелы и демоны не являются… Уж не думаете ли вы, что сознание утеряло способность творить мнимую, но весьма активную реальность только лишь потому, что соху сменил звездолет?
— Ясно, — отрубил Шахурдин. — Ты опасаешься "эффекта черной кошки".
— И этого тоже, ибо кто вздрагивал, когда дорогу пересекал милый и симпатичный кот, для того он становился дурной приметой. Единственно потому, что человек терял уверенность в себе, а она — мать успеха. Поэтому настаиваю: нет никакой, ни малейшей реальной связи между тойсойясейей и неприятностями, которые нас постигли. Нет и не может быть!
Некоторое время все молчали, обдумывая сказанное.
— Все правильно, — проговорил наконец Биранделли. — Тойсойясейя, ручаюсь, безвредна, как еловая шишка. Но… не нравится мне такая категоричность: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! Извини меня, но это суеверие наизнанку. Опять же один мудрый человек — Рабиндранат Тагор — сказал столетия два назад: "Если мы закроем дверь перед заблуждением, то кто же ее откроет перед истиной?" Мы, биологи, однажды получили предметный урок. "Бери такое-то лекарственное растение в безлунную полночь, по росной траве…" Поморщились: знахарство, суеверие! Бери, значит, в свете новейших достижений науки когда заблагорассудится. А потом, в свете еще более новых достижений, выяснилось, что именно ночью, обязательно безлунной, при стойком антициклоне лекарственная активность растения на порядок выше, чем в любое другое время.
Тагров кивнул.
— Верно. Предостережение муарийцев — не обязательно суеверие.
— Прекрасно! — изумился Ясь. — Начал за здравие…
— И тем же кончил, — возразил Тагров. — Муарийцы стоят на уровне людей каменного века, а мы летаем на звездолетах, но да не ослепит нас гордыня! Люди и до появления науки успешно познавали мир. Они ошибались, как в той истории с радугой? Будто мы никогда не заблуждаемся… В начале двадцатого века к Южному полюсу одновременно устремились Скотт и Амундсен. Первый слишком доверился передовой технике своего времени и погиб, второй положился на опыт "невежественных эскимосов" и вернулся победителем. Работай мы на Земле, я бы очень серьезно отнесся к любому предостережению «дикарей», трижды бы все проверил. Но мы не на Земле, вот в чем дело! Не исключено, что тойсойясейя чем-то вредна для муарийцев. Но не для нас. Не та физиология! Чужие мы здешней биосфере, и этим все сказано.
— Итак, — Шахурдин припечатал ладонь к столу, — надеюсь, всем все ясно? Впредь заведу черного кота и буду всех проверять на устойчивость к предрассудкам…
Два дня прошли спокойно. За стенами бушевал яростный ураган, дозорный видел, как черные смерчи выламывали из скал гранитные глыбы, но внутри корабля было тихо, словно в университетской библиотеке, и даже тонкие аналитические весы не колебались от бешеных толчков инопланетной стихии.
На третий день при испытании взорвался только что отремонтированный ретроблок.
Обошлось без жертв. Когда выяснилась причина аварии, Шахурдин сначала побагровел, затем побледнел, и было отчего: ремонтная бригада грубо напутала в гомеостатической схеме!
— Ужасно, — пожаловался капитан своему заместителю. — В доброе старое время начальник устроил бы разнос, вкатил выговор, и душа бы его утешилась — отреагировал на ситуацию… А нам каково? Сейчас для людей нет горше наказания, чем стыд за свою ошибку. Вот и реагируй в этих условиях, проявляй, так сказать, власть…
— Давайте все спишем на тойсойясейю, — попробовал пошутить помощник, но Шахурдин глянул так, что тому стало не по себе.
Буря стихла, и экспедиционники двинулись в маршрут. Сутки спустя Биранделли обнаружил у себя в постели ксилла — крохотного, похожего на репей зверька, с такими же, только ядовитыми колючками.
Подавленный стон пронесся по кораблю. Беда, конечно, была не в том, что ксилл ядовит, а в том, что он очутился в помещениях, чего в принципе быть не могло. Как это вышло, понять не удалось. Очевидно, ксилл прицепился к скафандру, застрял в его складке и кто-то, не заметив, внес его в шлюзовую камеру. Но дальше? Обнаруженный в конце концов дефект некролампы вроде бы давал намек. Но во-первых, лампа в шлюзовой камере была не единственной, во-вторых, имелись и другие процедуры биодезактивации, которые тоже не сработали.
Ксилл, когда его нашли, был уже мертв: земной воздух не годился даже для этого неприхотливого существа. Сколько и каких бактерий, вирусов он, однако, успел рассеять? Оставалось лишь надеяться, что воздух корабля окажется губительным и для них. Но о таком исходе, помня все прежние случаи, никто, понятно, уже не мечтал. И точно. Бесцветная липкая плесень обнаружилась вскоре возле шлюзовой камеры, затем и в других местах.
Натянув скафандры, словно родной корабль стал частью чужой планеты — а так в сущности и было, — все с мрачным ожесточением принялись за работу. К концу недели не осталось ни миллиметра свободной поверхности, ни пылинки в воздухе, которых бы трижды не опалил луч некролампы. Плесень исчезла, но всеми продолжало владеть гнетущее ожидание новых бед.
— Открываем совет, — сказал Шахурдин. — Ей-ей, он нам нужен сейчас, как никогда.
Никто не произнес ни слова. Все, не сговариваясь, посмотрели на потемневшего лицом Тагрова. Тот резко вскинул голову.
— Я ошибся. Начну с этого признания — достаточно? Сейчас я убежден, что тойсойясейя влияет на человека. Только не знаю как.
— Стоит ли спешить с выводами? — остановил его Шахурдин. — Я не утверждаю, что ты не прав, но давай рассудим. Было два случая, и ты уверенно их объяснил, не прибегая к скользким допущениям. Их стало четыре, даже пять, но ведь теория вероятностей допускает и большую серию совпадений.
— Математика допускает, а психология — нет, — убежденно сказал Тагров. — Переоценить ситуацию меня заставило одно несовпадение ожидаемого с действительным. Каждый из нас знает по опыту, что в любой массовой экспедиции обычно выделяются люди, на которых, что называется, все шишки валятся. Так или не так?
Все дружно закивали.
— А среди нас таких людей нет. Раскрою небольшой секрет. Работы Эстремадуры и Гвоздева недавно доказали, что везение, удачливость, иначе говоря, подсознательная оптимизация поступков — такое же производное генетических особенностей человека, как мягкость или решительность характера. Что природную неудачливость можно подавить воспитанием и самовоспитанием, излечить средствами психотерапии, как уже лечат острую вспыльчивость или мнительность. Астрослужба, естественно, первой использовала это открытие. Она не афиширует новинку, чтобы не травмировать отсеявшихся, но с некоторых пор в рискованные экспедиции людей подбирают и по критерию удачливости. Так что мы все не просто знающие и все такое прочее люди. Мы еще и удачники. Которые вдруг стали неудачниками, каких свет не видывал! Человек, бывает, ломается. Но чтобы изменились сразу все? Так быстро?
Биранделли встрепенулся:
— Уж не предлагаешь ли ты…
— Да! Тойсойясейю надо выкинуть.
— Именно этого я и боялся, — гневно сказал Ясь. — Не отрицаю: почва трясется. На наших глазах развалилось стройное здание гуманологической теории. Давайте, чтобы его спасти, вынем самые краеугольные камни науки? Капитулируем перед мистикой и чертовщиной?
— Если непознанное тождественно мистическому, а отступление капитуляции, тогда я с тобой согласен, — спокойно возразил Тагров.
— А! Слова, слова, слова! Хорошо, я не прав, но как все это будет выглядеть на Земле? Случилось непонятно что, испугались неизвестно чего. Прелестно все это будет выглядеть на Земле.
— Ясь прав, — твердо сказал Шахурдин. — Отступать можно и должно, лишь зная, перед чем и во имя чего. Все иное просто бегство.
— И трусость, — добавил Тагров. — Я верно закончил твою мысль? А теперь представьте, что здесь, на столе, возникнет брусок плутония. Нас будто ветром сдует, не так ли? Сдует, хотя никто не ощутит ни малейшей боли, Потому что мы знаем, чем грозит этот с виду обычный металл. Сейчас ситуация противоположная: нас жжет, опаляет нечто с виду невинное, нам больно, но мы не бежим только потому, что не знаем, отчего нам больно. И это вы считаете достойным человека, здравым, сугубо научным подходом? Биранделли был прав: желая поубедительней доказать, что Земля не плоская, мы часто забываем, что она все-таки и не шар… Буду опять же банален. Бесконечен мир, в котором мы живем, бесконечны его свойства и связи. На судьбу человека, к примеру, накинута сеть, сотканная жизнедеятельностью микроорганизмов. Так? Так! Вот уже несколько веков мы звено за звеном ощупываем эту сеть, рубим ее удавки, освобождаемся от них… почти освободились. А раньше? В те века, когда она была незримой, чувствовались ли ее зловещие касания? Или, скажем, влияние солнечных пятен на сердечную деятельность. Это уже космическая сеть! Вот о чем я постыдно забыл, твердя о заведомой безвредности для нас тойсойясейи: есть сети, раскинутые под всеми звездами… О некоторых мы знаем многое. О других кое-что. Однако должны, обязаны быть сети, о которых мы пока не знаем ничего. Только где-то вдруг звякнет колокольчик… Его-то мы сейчас и слышим. Глупо ли отдернуть руку и сообразить, какую сеть мы затронули, прежде чем лезть в нее снова?
— В теории все правильно, — строго сказал Ясь. — Есть сети, и, кстати, чем обширней наша деятельность, тем больше мы их затрагиваем…
— Познали ту же ядерную энергию, — кивнул Биранделли, — и — пожалуйста!
— Не перебивай… Незримые сети можно предполагать где угодно, в чем угодно, пугаться этого — значит замереть навсегда. Нет, ты поди, как сказал еще Менделеев, продемонстрируй! Не можешь… Нет этого — нет науки.
— Есть факт: предостережение муарийцев…
— С той же вероятностью это может быть мифом, предрассудком, глупостью!
— Да, если брать его изолированно. Кстати, наши далекие предки, понятия не имея о законах генетики, отвергли внутрисемейные браки, хотя это требовало осмысления судеб многих поколений, что и современной науке удается нелегко. Еще кстати: уже в Древней Индии хирурги поняли, что операции требуют стерильной чистоты, а их просвещенные, ведающие о микробах европейские коллеги еще в начале девятнадцатого столетия не считали нужным мыть перед операцией руки. Вот что такое коллективный разум поколений, вот как он чувствует тайные сети! Его опыт требует корректировки? Что ж… Проверки, осмысления и корректировки требуют показания даже сверхточных приборов. Но это так, между прочим. Критерий истины — практика. А она, как видите, подтверждает вывод муарийцев. Он, стало быть, не миф, не ошибка — факт!
— Который ты сам не менее убедительно ранее истолковал совсем иначе! воскликнул Ясь. — И новые случаи можно истолковать в рамках прежнего допущения! Не хуже! А наука — это точность, точность, точность. И однозначность выводов. Их достоверность. Дважды два — четыре. Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Вода есть соединение водорода с кислородом. У тебя же… Это беда всей гуманологии, она никак не может стать точной наукой.
— В твоем понимании…
— В каком угодно! Прости, но все, что ты сказал, — это слова. А современная наука родилась с девизом: "Ничего со слов!" С ним она нас вывела к звездам, и ничто не заставит меня отступить, теряя это знамя.
— Даже если завтра новое несчастье оборвет чью-то жизнь?
— Риск — это наша профессия.
— И убедить тебя в закономерности событий может только эксперимент, только показания точных приборов, только бесспорные математические выкладки? Если, по-твоему, наука сводится к этому…
— Это ее краеугольный камень. Я все сказал.
Тагров молча перевел взгляд на Шахурдина, и тот понял, что хотел сказать гуманолог. Все поняли.
— Наука гораздо шире своих методов… — Шахурдин откашлялся. — Они менялись, меняются… Словом, это не икона, чтобы на нее молиться. Чем мы, однако, не можем поступиться ни при каких обстоятельствах, так это самоуважением. Думаю, что мы его лишимся, если отступим с пустыми руками.
— То есть без объективных доказательств, ты хочешь сказать. — Тагров устало наклонил голову. — Которых за оставшееся время мы можем вообще не найти. А ставка — жизнь…
— А на другой чаше весов — долг ученого. Самоуважение. Гордость человека. Я выбрал. Что решат остальные?
Ясь согласно кивнул, Биранделли кивнул, все остальные тоже. Все кивнули в мрачном молчании.
"Вот так попадают в ловушку! — пронеслось в мыслях Тагрова. — А еще убеждаем себя, что нет на свете ничего важнее благополучия и жизни…"
Он перевел взгляд на пульт. Тишину рубки наполняло сухое пощелкивание приборов-регистраторов. Пока люди спорили, корабль, словно живое существо, озирал пространство вокруг, и не было ничего — ни дальнего радиоголоса звезды, ни близкой зарницы, — что укрылось бы от созданных человеком дозорных.
Но они могли оградить лишь от тех бед, которые были известны людям. Изучить то, что уже заприметил разум. В такой, как сейчас, ситуации пользы от них было не многим больше, чем от иконостаса.
Оставался эксперимент. "Цвет зла" можно было унести с корабля, снова вернуть, опять унести и сравнить результаты. Но этот рискованный опыт требовал еще и времени, а срок экспедиции уже подходил к концу.
Тупик! "Мы действуем так, как мыслим, а мыслим так, как привыкли", — с горечью подумал Тагров.
Его взгляд ушел внутрь, словно гуманолог прислушивался к чему-то в глубине себя. Уж не к тихому ли звону неведомого колокольчика?
— Вот что… — Тагров как будто очнулся. — Надо сделать новые психограммы всех членов экипажа.
— Есть идея? — быстро спросил Шахурдин. — Какая?
— Сделаю — скажу.
Вскоре Тагров расстелил на столе шуршащие рулоны.
— Кто умеет читать психограммы? — Он потер красные от усталости глаза.
— Легче разобраться в конформном отображении астролиний, — косясь на графики, пробормотал Ясь.
— Слева, — пояснил Тагров, — наши психограммы месяц назад. Справа теперешние. Проследите за дифракцией Т и Н-прим волн. Особенно обратите внимание на четки узлов дивергенции. А теперь смотрите, как все это выглядит сейчас.
— Разница есть. — Шахурдин проследил за указующим пальцем Тагрова. Вот только не припомню, как ее объяснить.
— Еще недавно ее и не могли объяснить. Это фазовый сдвиг "комплекса удачливости". Здесь, как я и ожидал, он далеко выходит за пределы нормы.
— Объективное подтверждение! — воскликнул Шахурдин.
— Да! Соответственно возникает рабочая гипотеза. Всякое растение слабо излучает в широком спектре волн. Излучение местного растения под названием тойсойясейя уникально тем, что резонансно воздействует на волновые импульсы тех центров головного мозга, которые ведают оптимизацией поступков. Мы внесли на корабль своего рода психодеструктор.
— Приемлемо? — Шахурдин обернулся к Биранделли и Ясю.
— Чепуха какая-то. — У Яся был слегка ошарашенный вид. — То есть я не ставлю под сомнение конечный вывод. — Он потрогал листы психограмм, словно желая убедиться в их реальности. — Что и как, однако, воздействует? Неизвестный вид излучения? Так ведь растение — это растение, а не генератор новых форм материи. Не проходит. Значит, известный тип излучения? Однако на сильное, аномальное излучение Биранделли, надо полагать, тотчас обратил бы внимание. Значит, слабое. И такое влияние? Сквозь стены? Это уже не физика, а чертовщина.
— Чертовщина? — Биранделли встрепенулся. — Нет, знаете, это уже по моей части! Ну-ка, что произойдет, если в живую клетку поступит квант излучения с энергией меньшей, чем энергия теплового движения молекул?
— Как что? Тепловое движение забьет слабый импульс. Он потонет, как писк комара в реве буйвола. Это самоочевидно.
— Даже самоочевидно? Так вот, к общему сведению: клетка отзывается на дозы энергии в миллиарды раз меньшие, чем величина теплового движения молекул. В миллиарды раз меньшие! Более того, на организмы, как правило, физиологически воздействуют не сильные, а, наоборот, очень слабые поля. Вот ведь какая чертовщина… Теперь только приказ заставит меня расстаться с тойсойясейей. Это такой объект излучения, такой объект!
Биранделли даже закатил глаза от восторга.
— Приказ будет. — Голос Шахурдина стал жестким. — Впредь до выяснения, что, надо полагать, станет задачей особой экспедиции, тойсойясейя останется на планете. Все! Я не имею права лететь с деструктором на борту.
Шахурдин и Тагров были одни в рубке. Корабль близился к Солнцу. Оно волшебно сияло среди россыпи звезд — крохотный огонек приюта среди бесконечной ночи, единственный во всей Вселенной фонарь, который обещал и свет, и дом, и ласку, объятия и близость, синь неба и запах цветов.
— Как хорошо, что тебе это удалось доказать, — потягиваясь и жмурясь, проговорил Шахурдин. — Иначе, чего доброго… Я не раз вспоминал о судьбе Скотта.
— Ты доволен?
— Еще бы! Такого тихого, спокойного полета у меня давно не было. Или это кажется по контрасту? Те дни мне во сне снятся, просыпаюсь так, будто родился заново. Темный ужас…
— Темный, — эхом отозвался Тагров.
Он сидел, уперев локти в колени, опустив подбородок на сцепленные пальцы рук, и, не мигая, смотрел на крохотный диск Солнца. Постаревшее лицо гуманолога было глубоко изрыто тенями.
— Если бы не твой график… — нахмурясь, Шахурдин покачал головой.
— Моя выдумка, — глухо ответил Тагров.
— Что?!
— Никаких дивергенции, никаких таких сдвигов на психограммах не было, безжизненно проговорил Тагров. — А нас между тем уже захлестнула незримая петля. Но вы были готовы верить только приборам.
— Ты… ты… — Капитан задохнулся, не найдя слов.
— Я! — Тагров с вызовом взглянул на капитана. — И отвечать буду я! Но корабль цел, все живы, а загадка… — Он махнул рукой. — Подождет, никуда не денется загадка. Ясь по-своему был прав. Но и опыт поколений тоже чего-то стоит! Слишком громко тогда звонил колокольчик, я не мог поступить иначе…
— Не мог… — эхом откликнулся Шахурдин. — Нет. — Он покачал головой после недолгого молчания. — Я тебе не судья, ибо, возможно, ты спас всех нас… Но свою репутацию ты погубил окончательно и бесповоротно. Ведь даже когда будет доказана — верю! — твоя правота…
— Не имеет значения, — тихо сказал Тагров. — Ни одна репутация не имеет значения, если за нее надо платить хоть каплей чужого страдания.
С минуту оба сидели неподвижно. Затем рука капитана скользнула по подлокотнику и благодарно стиснула пальцы Тагрова.
И все такое прочее
Близился поворот, за которым должна была открыться река Счастья, как Таволгин ее называл, — Руна, как ее называли географические карты. В глухих берегах, где от ягод черники сизовела трава, речка, свиваясь в тугие узлы струй, неслась через перекаты к долгим и тихим заводям, куда поплавок падал, как в поднебесное зеркало, и не было в ней числа быстрым хариусам, темным сигам, красноперым язям, всему, что встречалось так редко на нынешней Земле.
Дрожа от сладостного предвкушения, Таволгин повернул руль. И Руна открылась.
Нельзя дважды войти в одну и ту же реку…
Под обрывом, как прежде, в солнечных вспышках бежала вода, взгляд, как прежде, очарованно устремлялся вдаль, к кипучим порогам, нависшим теням сосен, чреде скал, за которыми угадывался другой столь же извечный пейзаж. Но посреди заветной поляны три вездехода тупыми рылами капотов осадили громоздкий, с чем-то радиотехническим наверху автофургон, вокруг которого сновали люди, все ловкие как на подбор, в одинаковых зеленоватых куртках.
Первым намерением Таволгина было развернуть машину и поскорее умчаться. Но куда? Другого подъезда к реке не было. Правда, дальше по берегу оставались сырые полянки, куда в ожидании приезда друзей можно было приткнуться, мирясь с нечаянным и досадным, но, может быть, временным соседством.
Таволгин медленно тронул машину. Тут ее заметили, и несколько лиц повернулись в каком-то недоумении. От группы отделился человек постарше и пошел наперерез тем уверенным шагом, от которого Таволгину сразу стало как-то не по себе.
И точно. Лениво приказывающий взмах руки был красноречивей слов. Странно чувствуя себя уже в чем-то виновным, Таволгин затормозил.
— Запретного знака не видели? — бесстрастно, как и шел, спросил человек и только после этого обратил на Таволгина взгляд.
Тот еще ничего не успел ответить, только распахнул дверцу, чтобы объясниться, когда лицо спрашивающего внезапно удивилось и не то чтобы обрадовалось, но приобрело живой интерес.
— Фью! — присвистнул он. — Родимчик!.. Ты здесь какими судьбами?
Слово «Родимчик» напомнило Таволгину все, и он тоже узнал человека. Таволгина звали Вадимом, но в детстве, желая взбеленить, его дразнили Вадимчиком-Родимчиком, а придумал это прозвище Родя, Родион Щадрин. И вот, постаревший, он был здесь, на Руне.
Воспоминания детства, как и положено, давно подернулись лирической дымкой, и Таволгин даже обрадованно выскочил из машины, пожал протянутую руку и от ошеломления выпалил явно неуместный контрвопрос:
— А ты здесь откуда взялся?
В глазах Щадрина зажглась та давняя насмешливость, какой он, бывало, отстранял неуместные расспросы о деятельности возглавляемого им школьного совета.
— Обычное задание, старина. А ты, никак, порыбачить собрался? И даже «кирпич» проморгал? Завернуть тебя следовало бы, да уж…
— Постой, о чем ты толкуешь? Почему, какой запрет?
— Какой надо. Машину убери к нашим.
— Но…
— Или набегаешься с ее ремонтом. Делай, делай, как сказано.
Знакомые нотки! В школе Родиона Щадрина недолюбливали за тон превосходства и прозвали Пружинчиком — из-за манеры живо вскакивать на собраниях для подачи нужных реплик и слов. Но парнем он был деловым, в общем, свойским, первым в футболе, танцах и умении к общей выгоде ладить с учителями, так что его аккуратно избирали и переизбирали, благо особого желания возглавлять, проводить мероприятия, давать накачку за плохую успеваемость ни у кого не было, а у него — было.
Усмехаясь и поварчивая, Таволгин подогнал машину, куда указал Щадрин. Встреча его заинтересовала. Хотелось выяснить и то, долго ли еще намерена пробыть здесь вся эта команда. Не давала покоя и такая мысль: по какому, собственно, праву Щадрин взял да и закрыл для всех реку?
Выйдя из машины, Таволгин коротко поклонился зеленокурточным молодцам, ожидая, что парни в ответ щелкнут каблуками. Ничего подобного не произошло. Он был удостоен легких, впрочем, уважительных кивков, беглых полуулыбок, и все снова принялись за дело — тянули кабель, расставляли шатровую палатку, таскали в фургон какую-то аппаратуру.
— Думаете поймать здесь сигналы космических пришельцев? — настраиваясь на небрежный тон старого знакомого, кивнул в их сторону Таволгин.
— Вроде того, только наоборот, — усмехнулся Родион Щадрин. — Ладно, рассказывай. Кто ты теперь?
Таволгин не любил таких подразумевающих ранг и службу вопросов, поэтому ответил привычно:
— Человек, как видишь.
— Хм… — Сощуренный взгляд Щадрина будто взвесил его со всем содержимым. — Вижу. Наблюдаю признаки сидячего образа жизни, книжной анемии и интеллигентной близорукости. Да, время, время… Спорт, надо полагать, забросил?
— А ты?
— Предпочитаю яхту и теннис.
Щадрин повел плечами, как бы проверяя налитость мускулов. Был в этом месте подтекст, был. Время, что и говорить, пошло Щадрину на пользу. В нем мало что осталось от былой гибкости Пружинчика, он заматерел, посолиднел, обрел уверенность крепкого на вид мужчины.
— Яхты не имею, — прочеркивая контраст, сказал Таволгин.
— И зря! Кто же ты все-таки по профессии?
— Историк.
— А-а! В каком году была битва при Саламине и все такое прочее. Ясно, ясно…
Как ни привык. Таволгин к тому, что упоминание об истории сплошь и рядом вызывает такую реакцию легкого пренебрежения, сейчас она его задела. Конечно, другому не навяжешь свою убежденность, что лишь знание и понимание хода истории, то есть опыта всех проб, достижений и ошибок человечества, способно остеречь от глупостей и наметить разумную тактику на будущее. Но уж суд таких, как Родя…
— Да, да, битва при Саламине и все такое прочее, — будто соглашаясь, сказал Таволгин. — А у тебя, — он быстрым взглядом окинул становище, антенны, железки и все такое прочее?
— Маракуем помаленьку, — снова усмехнулся Щадрин. — Надо же и НТР кому-нибудь двигать. Я, видишь ли, радиофизик, но теперь меня перебросили на биологию, поскольку это сейчас самое существенное звено. А ты небось в своей области тоже доктор-профессор?
Настороженное внимание Таволгина не уловило в вопросе скрытой издевки. Хотя подобная встреча с однокашником почти неизбежно таит в себе момент ревнивого сопоставления успехов, а Родион был куда как честолюбив, сейчас, приподнятый важностью своего дела, он, похоже, спрашивал даже с желанием видеть Таволгина не слишком обделенным судьбой. "Толстый и тонкий!" пронеслось в уме и предрешило ответ.
— Да, — кивнул он небрежно. — Доктор, профессор, лауреат и все такое прочее…
Ему тут же стало совестно за эту достойную вельможи или глупца самотитулатуру, но у Родиона подпрыгнули брови.
— Скажи-и, кого я чуть не шуганул, как зайца! — протянул он и тут же добавил поспешно: — А в академию ты избран?
— Нет, не удостоился.
— Ничего, старина, ничего. — Обретая добродушие, Щадрин приятельски потрепал его по плечу. — Будем еще там, будем, наш класс широко шагает… Решено: сейчас мы тут разместимся, потолкуем накоротке… Ни-ни-ни! Никаких возражений, ты мой гость!
— Но у тебя дело, какие-то опыты, я, право…
— О, опыты! — Не переставая широко улыбаться, Родион доверительно понизил голос: — Строго между нами: это… Впрочем, увидишь сам. Тоже своего рода история!
— Вроде битвы при Саламине?
— А что? Нынче НТР на дворе. Извини, я тебя ненадолго покину, а то, боюсь, мои мальчики что-нибудь напутают… Ты пока распаковывайся, распаковывайся!
Родион шариком откатился к центру деловых событий, и его четкий, уверенный голос сразу переключил работу на высшую скорость. Таволгин остался со своими смутными мыслями наедине.
Он отошел к высокому обрыву, зачем-то постоял на юру, безотчетно любуясь живым током воды. В голове был легкий сумбур, досада на непредвиденные обстоятельства, умеряемая интересом к многозначительным намекам Щадрина и к нему самому. Что бы значила вся их таинственная тут деятельность?
Таволгин склонен был очень серьезно относиться к тому, что зреет в тишине, ибо прекрасно понимал, что облик будущего часто определяют не громкие для современников события, а как раз незаметные. Главы учебников посвящены крестовым походам, неудачной попытке Запада овладеть торговыми путями Востока. Но — какова ирония? — не громоносные битвы религий в конечном счете изменили расстановку сил, а скорей уж "латинский парус", придуманный, кстати сказать, не европейцами, а безвестными арабскими мореходами. Перекочевав к потомкам побежденных крестоносцев, этот парус умножил возможности европейских кораблей, открыв им со временем простор океана. И началась эпоха Колумба, и сдвинулись пути мировой торговли, и мохом порос источник былого могущества, и точно злой волшебник погрузил в спячку блистательные дворцы мусульманских владык. А чем в конечном счете стали для феодализма суппорт и паровая машина? Будущее идет скрытыми путями…
От размышлений отвлек новый этап деятельности родионовской команды. Откуда-то появились колья, мотки колючей проволоки, и площадку с машинами скоро опоясало крепкое ограждение. Щадрин распоряжался всем, как прораб, его зычный голос далеко разносился окрест. Складывалось впечатление, что Родя немного играет на публику и эта публика прежде всего он, Таволгин. А почему бы и нет? В школе меж ними не возникало соперничества, ибо там, где Родион был первым, Таволгин оказывался едва не последним, только учились оба одинаково. И все-таки что-то было… И даже понятно что. В мальчишеском возрасте свойственная Родиону победительность особо привлекательна. И наоборот, пренебрежение Таволгина к вещам, которые Родион так высоко ценил, уж не воспринималось ли им как скрытый вызов? Недаром же он тогда придумал это насмешливое и умаляющее прозвище Родимчик… Не задеваешь того, к кому равнодушен. Тем, верно, неприятней было Родиону узнать, что скромный сверстник достиг, согласно им самим принятой шкале оценок, больших, чем он сам, успехов. "Смешно, если это действительно так, — покачал головой Таволгин. — Какие же мы все-таки дети…"
Удивление его при виде колючей ограды возросло.
— Блиндаж строишь? — бросил он, когда Родион приблизился.
— А ты чего не распаковываешься? Все философствуешь? В тихом омуте, знаешь ли… Пошли!
— Прежде объясни, пожалуйста…
— Все в свое время или немного позже, — сверкнул улыбкой Щадрин. Он взял его под руку и отвел за ограду. — Эй, орда, прошу любить и жаловать: мой однокашник и друг, светило исторической науки Вадим Таволгин!
Ребята повскакали.
— Во-первых, — сморщился Таволгин, — мы уже…
— А во-вторых, — немедля перебил Родион, — мы тебя сейчас напоим-накормим и кое-что покажем! Как, ребята, покажем?
— Покажем! — охотно и не без гордости грянул одобрительный хор.
— Хороши молодцы, а? — восхищенно подмигнул Щадрин. — Все лучшие мои ученики, энтузиасты, за передовое готовы в огонь и в воду, что Костя, что Феликс, что Олег, что…
Таволгин едва сдержал ироническую улыбку, ибо дурашливый бесенок рефлексии некстати шепнул ему, что Родион сейчас малость похож на хвалящего своих мужиков Собакевича. Разумеется, Таволгин тут же вышвырнул глупого бесенка из мыслей и принял достойный вид.
Покончив с представлением, Родион легонько подтолкнул Таволгина к приветливо распахнутому пологу шатровой палатки. Там уже был стол, накрытый по-походному, мужской рукой, но щедро. К своему неудовольствию, Таволгин обнаружил в центре и пару бутылок: ему всегда казалось преступлением вот так, походя, травмировать свой мозг, лишая себя ни с чем не сравнимого удовольствия ясно и четко мыслить. Правда, выпивки не так и много вроде бы. Но кто знает, что еще тут будет вечером…
Парни за столом набросились на нехитрую снедь, ели так, что за ушами трещало. Порой вспархивал разговор, но все о вещах специальных, понятных всем, кроме Таволгина, который все более чувствовал себя лишним в этой крепко сбитой родионовской команде. Про себя он лишний раз отметил, что о существенном, о деле, люди все чаще разговаривают на марсианском для постороннего языке, — и к чему же все это ведет?
Но интонации были доступны Таволгину. В них улавливалась какая-то напряженность. Не взаимоотношений, нет: тут была полная спаянность. Что-то внешнее или предстоящее скользило меж слов подавленным волнением.
— Двинем сегодня на полную мощность, — внезапно, не в лад предыдущему, сказал Родион. Стало тихо. — Вот так!
Он рубанул воздух и обвел всех взглядом. Кто-то крякнул, послышались нестройные голоса: "Верно…", "Все равно придется…", "Давно пора!". Голоса точно подбадривали друг друга. В них легким диссонансом вплелось сомнение Кости в устойчивости какого-то частотного фильтра.
— Как бы нас самих… ненароком…
— Не ходите мальчики в Африку гулять? — откинувшись, с жесткой насмешкой глянул на него Родион. — Во-первых, мной все просчитано. Во-вторых, мы сами выбрали этот ха-ароший обрывчик… И вообще, на нас смотрит история!
Он поднялся, багроволицый, накаленный, сгреб Таволгина за плечи.
— Эх, Вадюша, тебе не понять, какие дураки на какой идее спали! Если бы не мы…
— Это точно, — с облегчением зашумели за столом. — Если бы не Родион Степанович… За Родиона Степановича!
Таволгин удивился — так жадно потянулись руки к новой, невесть откуда выпорхнувшей бутылке.
— Ша! — обрезал Родион. — Не время! Всем быть по местам, чтобы к восемнадцати ноль-ноль…
Он строго глянул на часы. Всех сдуло.
— Вот так, Вадюша, — сказал он тихо. — Живем, экспериментируем, боремся… Подожди, ты же сути дела не знаешь. Как бы тебе объяснить…
Он отвел взгляд к реке, и ее блеск отразился в глазах точечными вспышками.
— В общем, так, чтобы тебе было понятно. Есть лес, и в нем всякая живность. Пичужки-зверюшки и тому подобное. А что они такое для меня как радиофизика? Нет, постой, не с того конца начал… Река вот бежит, вроде она сама по себе. А она в системе! В жестко отрегулированной системе, повторил он как бы с удовольствием. — Движение воздушных масс, осадки, почва — этой системе и конца не сыщешь! Возьмем теперь особь, допустим, зайца. Сам по себе скачет? Не-ет, он тоже в системе. Вида, биоценоза и всего прочего. Значит, не только физиологические законы управляют организмом, но и законы системы. Вот это важно, что заяц ли, муха ли не сами по себе живут, а под-чи-няются целому! Что над ними закон. Когда ехал сюда, обратил внимание, сколько тут деревьев с ободранной корой?
— Нет, — недоуменно ответил Таволгин. — А что?
— А то, что лесничие по поводу леса в тревоге. Разладилась система! Был регулятор — волк, да мы его истребили. Зверь, хищник, ату его! И размножились всякие там положительные герои мультяшек в необозримых количествах. Лес подгрызают. Им что! Ума нет сообразить последствия. Но мы-то щи не лаптем хлебаем, нет, не лаптем — НТР, брат! Здесь, — он постучал себя по лбу, — кое-что держим. Знание! Знаем, что особь — часть системы, вида, а системе присущи свои законы саморегуляции, которых особи видеть не дано, но которые повелевают ею, как генерал солдатом. Волк, так сказать, вневидовой регулятор. Но есть и внутривидовые саморегуляторы, только они плохо задействованы там, где до сих пор управлялся хищник. Понимаешь?
— Понимаю, — ответил Таволгин, хотя понимал не все и не потому, что предмет был для него так уж нов и сложен, а потому, что была в словах Родиона некоторая, похоже, намеренная недоговоренность.
— И славно, что понимаешь, — кивнул тот небрежно. — Ну-с, что из этого вытекает? Коли есть вид, стало быть, есть законы организации и сохранения вида. Так? Обязательные для особи, ибо вид превыше всего. Так? Диктующие, как ей в той или иной ситуации поступить. Посредством чего? Какова физическая природа таких команд? Тут темна водица, но не совсем, не совсем… Тебе, конечно, известен факт, что после гибели мужчин в войнах мальчиков рождается больше, чем девочек? А почему, почему? — Родион наклонился к Таволгину, обдав его своим горячим дыханием. — Срабатывает механизм видовой саморегуляции! Вот!
— Как? — невольно встрепенулся Таволгин. — Каким образом?
— Разберемся, и в этом разберемся, — довольно прогудел Родион. — Важно что? Передается команда, чаще всего не химическим путем, как думали еще недавно. С чего я начал? Отдельная особь с точки зрения радиофизики есть приемопередатчик, настроенный на общие внутривидовые частоты. Тем и обеспечивается единство системы. Улавливаешь практический вывод?
Усмешливый взгляд Родиона приобрел суровость, от которой Таволгину стало не по себе.
— Уж не это ли твой вывод? — с усилием махнул он рукой в сторону фургона.
— Это техбаза. — Родион вскочил. — Эх, вы, гуманитарии! На рельсы все надо ставить, на рельсы… Идем, покажу.
Как раз взревевший мотор автофургона плюнул им в лица сизым перегаром, куда более едким здесь, чем в городе.
— Прошу, — сказал Родион, отворяя дверцу.
Внутри было царство радиофизической техники, в которой Таволгин совершенно не разбирался, да и мысли его были не тем заняты. Глядя на индикаторы, шкалы, переключатели, на все это подмаргивающее, цифирное, живущее как бы автономной жизнью, Таволгин в ответ на разъяснения Родиона лишь покорно кивал головой. Впрочем, и так было ясно, что уж с чем-чем, а с техникой все в полном порядке.
Наконец осмотр закончился, и Таволгин с облегчением вдохнул свежий воздух — свежий, правда, теперь лишь относительно. Аппаратура была и вне фургона. Трое парней с суровыми лицами, держа блокнотики в руках, являли возле нее подобие античного хора. Рев дизеля заглушил плеск воды на порогах, вообще все посторонние звуки, и мир по ту сторону колючей ограды словно онемел, как за толстым, но незримым стеклом. "Если они хотят подманить сюда каким-то своим сигналом животных, то как же грохот? недоуменно подумал Таволгин. — Ведь шум все распугал, должно быть, на километры…"
Спросить было не у кого. Родион, снуя, как челнок, отдавал последние распоряжения.
— С нервами у тебя как? — мимоходом крикнул он Таволгину.
— Что? — не понял тот.
Но не удостоился ответа. Хитро подмигнув, Родион скрылся в фургоне. Раздражаясь все больше, Таволгин не знал, что и думать. Из памяти не шли недомолвки Родиона, напряженное молчание, которое установилось за столом после его внезапного решения повысить какую-то там мощность.
— Долго еще? — наклонился Таволгин к уху одного из парней.
— Сейчас антенну задействуем…
Мгновение спустя антенна повернулась на пол-оборота — очевидно, ее задействовали. Подобной Таволгин не видывал: серповидный изгиб рам заполняли дырчатые, похожие на отполированные терки, зеркальца. Вся эта конструкция точно озирала лес.
Хотя антенна продолжала двигаться, рев дизеля внезапно смолк — должно быть, питание перешло к аккумуляторам. Из фургона встрепанно выскочил Родион. Раскуриваемая сигарета плясала в его пальцах. Парни, приникнув взглядами к шкалам, что-то сосредоточенно записывали.
— Ну как? — вклинился Родион.
— Порядок, шеф…
— Ага, ага, вижу эффектик… Молодцы!
— Что вы видите? — не выдержал Таволгин.
Родион уставился на него, не мигая.
— Эффект леммингов. Сейчас они появятся.
— Лемминги? Здесь?!
— Какие лемминги? Лоси! Я же тебе объяснил: их развелось слишком много.
— Ты говорил о зайцах!
— Да? Ну, это все равно. Что лемминги, что копытные, даже бабочки… Сейчас, сейчас ты увидишь саморегуляцию в действии.
Он жадно затянулся дымом, поперхнулся, побагровел.
"Лемминги!" — ошарашенно подумал Таволгин. Он уже смутно догадывался, припоминал нечто с этим связанное, что-то тревожное, немыслимое сейчас, здесь, среди покоя, мягких теней, золотистых бликов воды.
Немыслимое?
На опушку вымахал лось и слепо, не видя, не разбирая пути, мотая мордой, с которой летела не то шерсть, не то пена, дергаными скачками понесся дальше, к обрыву…
Таволгин зажал рот, чтобы не вскрикнуть. Лось уже летел с обрыва, не прыжком, а комом и так же комом грянулся о камни внизу. И пока это длилось, точно жуткая молния высветила Таволгину все, и он понял, при чем тут лемминги, их спорадическое безумие, когда слепая масса животных, презрев инстинкт самосохранения, вдруг начинает катиться по земле, тонуть в реках, гибнуть в пропастях, низвергаться в море. А на краю поляны уже с треском валились кусты, и новые лоси, мелькнув в беге, вздыбив рога, с нелепо вывернутыми конечностями падали вниз, вниз… Молча.
Ужасом метнувшийся взгляд Таволгина скользнул по лицам операторов. Они были серы, их выражение объясняло, в чем смысл недавней выпивки, которая была не зря, не зря. И все, не отрываясь, смотрели, как гибнут лоси, и Родион смотрел, и Таволгин, хотя смотреть было невыносимо. Иной сохатый сбивался с кратчайшего пути, полосовал себе бок о колючую ограду, но и его метало к обрыву, откуда вскоре раздавался последний всхрап боли. А зеркальца антенны все поворачивались, все гнали в пространство сигнал: "Нас много, нас слишком много — уничтожьтесь…" И у подножия обрыва росла груда тех, кто ему подчинился, чтобы вид избежал горшей катастрофы подрыва всех источников питания.
Безумие кончилось, едва замерла антенна. Запоздалый лось осел посреди поляны на дрожащих ногах, его налитые туманом зрачки увидели ограду, людей, обрыв. Со сдавленным ревом он шало метнулся в лес.
— Каково? — стеклянно блестя глазами, обернулся Родион. — Каково?
Его вопрос рассыпался дребезжащим смехом, но не нашел ответа у Таволгина, который с потемневшим лицом в упор смотрел на своего былого однокашника.
Губы Родиона дрогнули, чтобы тут же сойтись в жесткую, презрительную складку.
— Погубив леса, они все равно окочурились бы! — бешено выкрикнул он, наступая. — Лучше в них всаживать пули, да?!
Никто ему не возразил. Таволгин опустил взгляд к подножию обрыва. И все посмотрели туда, где, затихая, еще бились тела. Ведь сейчас, здесь люди были для животных подобием фатума, рока и, словно древние мойры, перед которыми, как полагали эллины, склонялись даже боги, держали в своих руках пряжу чужой судьбы.
Бремя человеческое
"Надо же! — спеша за Телегиным по склону, удивился Рябцев. — Попал, некоторым образом, в сказку, иду к говорящему волку, а в мыслях жара, чушь, усталость и прочий бытовизм…"
Уж очень обыкновенным все было вокруг, таким, как всегда, как и сто, и тысячу лет назад, и, верно, задолго до человека. В мглистом небе теплело размытое солнце, под ногами вязко проседал рыжеватый, в хвое, песок; лапчатые сосенки вынуждали лавировать в застойном воздухе косогора, который испариной прохватывал тело. Удерживая дыхание, Рябцев стремился не отстать от Телегина, чьи и в старости проворные ноги каким-то образом даже не проминали песок, будто и не человек шел — лесной дух.
Наконец оба вскарабкались на гребень и по знаку Телегина присели под корявой сосной. Здесь тянуло ветерком, мягким, но и в этой мягкости уже прохладным, точно где-то в дороге он успел лизнуть стылый ледок. Рябцев поспешил запахнуть куртку.
Открытая взгляду ширь темнела хвойными увалами, перемежаясь желто-красными сполохами берез и осин, казалось, зряче дремала под неярким небом. В светло сереющей дали мерцало одинокое, в мохнатой опушке, озерко. С низовым накатом ветра в смолистую сушь воздуха струей врывался запах грибной прели, и тело, совсем как в детстве, блаженно ловило все тайные токи природы. Ни звука нигде, кроме шелеста ветвей, ни движения до самого горизонта, будто двадцать первый век только приснился людям. С близкой березы, кружась, слетал желтый лист.
— Где же хозяин? — рассеянно обводя взглядом дали, спросил Рябцев.
— А во-он, — неохотным движением руки Телегин показал на глухой распадок. — Там его логово. Нас он, верно, уже заприметил. Подождем.
Заблудившийся муравей целился взбежать на колено. Рябцев смахнул его небрежным щелчком, украдкой покосился на Телегина. Тот сидел не шелохнувшись, будто врос, недвижно смотрел в пространство. Казалось, он забыл о журналисте, целиком ушел в себя, точно первое в истории интервью зверя было самым обычным или пустым делом. Отрешенный ветер ерошит седое полукружье волос над круто выпуклым лбом, к голубым, уже чуть блеклым глазам стянулись морщинки — и не ученый вовсе, сидит под сереньким небом старичок, тот самый, из легенд, благостный пустынник, к руке которого сходятся звери, слетаются небесные птицы…
"Вот так все возвращается на круги своя, — мельком подумал Рябцев. Это ты брось, — осадил он себя. — Выдумки твой пустынник. Просто время такое, что легенды и сказки сбываются. Они и должны сбываться, мечта и фантазия как-никак завязь дела, чему удивляться? Деды до ковра-самолета, сиречь до реактивного лайнера, дожили, а я вот сейчас с волком пообщаюсь, напишу об этом, и мир тихо ахнет… Нет, не ахнет, в том-то и дело, что не ахнет. Обрадуется, поудивляется, но в общем примет за должное, ибо с осуществлением фантазий все уже давно свыклись. Вот если бы они перестали осуществляться, тогда поразились бы. Нарушение закона, все равно что масса вдруг перестала бы переходить в энергию! А так… Ну ясно же, что животные вроде волка как-то думают, об этом еще в девятнадцатом веке Энгельс писал. Значит, можно улавливать электромагнитную динамику биотоков, декодировать эту сложную (очень сложную, кто спорит!) путаницу, искать непонятным символам соответствие, переводить их в звуки нормальной речи. "И молвил волк человеческим голосом…" — через транслятор. Ну, наконец-то, скажет человечество, наконец наука осилила речевой контакт с животными; интересно, послушаем, что там у серого за душой…
И все-таки! Вот именно: все-таки…"
— Не посвистеть ли? — спросил Рябцев с улыбкой. — Что-то наш друг не торопится.
— Зато мы торопимся. — Телегин резко выпрямился, колюче взглянул на журналиста. — Он вам не песик! Верно, кругами ходит, присматривается, что за гость.
— Каков хозяин, таков и гость, — с ходу отпарировал озадаченный переменой тона Рябцев.
И тут же пожалел, что привычка не теряться перед словом взяла в нем верх.
Но и Телегина, казалось, смутила внезапная суровость собственных слов.
— Серый — мужик серьезный, — сказал он, словно оправдываясь.
— Вы о нем — как о человеке…
Телегин снова нахмурился.
— Ну, если вы так поняли мои слова — забудьте. Не стоит раскачивать древний маятник мысли.
— Маятник?
— Именно. Животных мы то уподобляли себе, то, наоборот, отвергали всякое с ними душевное сходство. В этой плоскости мысль маятником и ходила. А мир-то многомерен, значит, явление и истина о нем многомерны тоже.
"Теперь он со мной, как с маленьким, — раздосадованно подумал Рябцев. Вот тебе и благостный старичок! Пороховой кремень".
Они знали друг друга едва ли час, потому что, встретив Рябцева у границы заповедника, Телегин повел его прямо сюда и по дороге больше отмалчивался. Теперешнее обострение разговора было на руку журналисту, ибо ничто так не раскрывает собеседника, как противоречие его словам.
— То-то философ Энгельс, — сказал Рябцев не без ехидства, — оказался куда проницательней сонма специалистов, которые и столетие спустя отказывали животным во всяком умении мыслить!
Телегин слегка кивнул.
— "Ученые так близко подошли к храму науки, что не видят храма и ничего не видят, кроме кирпича, к которому пришелся их нос". Знаете, чьи это слова?
— Нет…
— Сказано Герценом. Метко сказано! Уперты носом… А что поделаешь! Я вот говорю с вами, а мысли о волке. Почему не объявляется? Ведь что бы я вам там ни говорил, а уверенность моя тает. Странно! Как всякий зверь, он существо любопытное, к тому же вчера я не ответил на пару его вопросиков. Подзадорил: мол, завтра придет знаток, вы… то есть, уж он-то все объяснит.
— Ничего себе! — Рябцев фыркнул. — Не журналист, значит, интервьюирует волка, а волк — журналиста! Край света… А если я не смогу ответить? Вопросы-то хоть какие?
— Да простенькие, какие еще могут быть у волка? — Телегин усмехнулся. Когда и чем люди дерутся за самку…
— Что-о?!
— Вы разве не слышали о "брачных боях", "позе покорности"?
— Слышал, знаю…
— Тогда что же вас удивляет? Для волка это весьма существенный момент жизни, вот его и интересует, как это бывает у людей.
— О господи!
— То-то, — удовлетворенно сказал Телегин. — А вы, похоже, думали, что беседа с волком — так, забава, игра в одни ворота?
— Сдаюсь! — Рябцев рассмеялся. — М-да, все становится сверхинтересным…
— Если бы только интересным… Себя мы всегда видели в своих зеркалах, в чужом — ни разу. Я не из упрямства так долго отказывался оповещать всех о наших работах. Сначала надо было кое в чем убедиться.
— Например?
— А если бы из глубин конкретной индивидуальности на нас глянула родовая ненависть? Ведь сколько и как мы их истребляли!
— Ненависть заслуженная, мы бы ее пережили. Во имя истины, будущей дружбы…
— Может быть, еще и братской любви? Во имя мечты, так сказать… Телегин вздохнул. — Мы опять скатились на плоскость. Любовь — ненависть… Да уляжется волк подле ягненка… Оставим это. А что, если бы на нас глянуло презрение?
— Презрение?!
— А, уже больней! Да, презрение. Презрение слабого к сильному, который после всего былого ищет еще и дружбы.
— Вы шутите! Было столько примеров дружбы человека с…
— Конкретное науку интересует только как подход к общему. Впрочем, успокойтесь. Все сказанное лишь дань необходимому скептицизму. У природы свои законы: кто сильнее, тот и одолел, все естественно, никаких претензий быть не может. А кто не вредит, тот либо безразличен, либо хорош… часто в качестве пищи. И никаких вам гамлетовских терзаний и прочей достоевщины. Так что можете спокойно глядеть волку в глаза.
— Не премину.
— Только, пожалуйста, не в упор. Животные этого не любят, а я как-то не горю желанием возиться с оказанием первой помощи.
— Ах, даже так! Что ж, спасибо за своевременное предупреждение.
— Вот уже и пошутить нельзя… Кстати, мы, люди, тоже почему-то не любим, когда нас разглядывают в упор. И в вас я этой манеры не заметил, а то бы уже давно предупредил. Впрочем, волк все же мой друг.
— А, все-таки друг!
— Да, как у Экзюпери: мы в ответе за всех, кого приручили. Даже если эта серая скотина подводит тебя перед лицом прессы. К сожалению, ждать больше бесполезно. Идемте.
— Жаль, жаль…
— Не расстраивайтесь. Не появился сегодня, придет завтра. А чтобы времени не терять, разыщем Машку. Лосиха, мысли у нее коровьи, но тоже, знаете, любопытно.
Рябцев хотел сказать, что если он и огорчен, то не своей, а его, Телегина, неудачей. Но промолчал, ибо таких, как Телегин, сочувствие могло скорее обидеть.
— Что ж, пообщаюсь с парнокопытными! — сказал он весело. — А то все "му!" да "му!" — ничего не пойму. Еще хорошо бы с гусями…
— Почему именно с гусями?
— Они же настойчиво беседуют с нами! "Га-гага!" — и тут же голову набочок, глянет, словно ответа ждет, и опять что-то начинает тебе втолковывать. Разве не так?
— Гм! Мы ведем опыты только с дикими.
Разговор затих сам собой. Они спустились с косогора, вышли на травянистую дорогу, и березы закружили над ними легкую золотистую метель. Под ногами мягко шуршал палый, нетленный лист. Светло было даже под сумрачным пологом приступавших к дороге елей, торжественно и гулко распахивался чуть слышно гудящий бор, где у подножия сосен земля прыскала тугими маслятами. И горьковатым был воздух, и спокойствие обнимало идущего, и вслед ему летело спадающее убранство леса. Глубоким дыханием Рябцев пил щемящий настой осени, над ним и лесом расстилалось кроткое небо, и суматоха дел, вся обширная круговерть погони за новостями земли и космоса мельчала в его душе, подергивалась забвением, словно ее и не было никогда, а всегда были только эти минуты, эта бесконечность движения, красок, запахов, звуков жизни, это слияние с ней. С легким порывом ветра в лицо порхнул багряный лист, влажно скользнул по щеке. "Вот оно, счастье, мелькнуло в мыслях. — И часов таких будет много, — додумалось тут же. Долгих часов разговора с теми, кто в этом живет, как мы жили когда-то".
В самом конце дороги открылась поляна, на ней бревенчатый домик, каких Рябцев не видывал давно. Смолистые стены, казалось, источали свет, весело смотрели умытые, явно из стекла, окна в переплете старинных рам, к крылечку сбегались тропинки. Сразу за домом начиналась березовая опушка, а слева и справа в небо мощно устремлялись сосны. И то, что некогда было обычной чертой деревни, а затем стало музейной редкостью — такой вот домик среди берез, — здесь выглядело необходимостью, созвучной и окружающему, и делу, которое здесь делалось, и его хозяину. Всякое современное строение смотрелось бы тут оскорблением вкуса, хотя, конечно, легко было представить, каких затрат потребовала эта избушка, некогда едва ли не бедняцкая, теперь же, когда никакой дворец не проблема, — роскошная, ибо только в реставрационных мастерских еще поддерживались секреты древнего плотницкого мастерства. И, глядя сейчас на дом, Рябцев преисполнился уважением к своему веку, в котором экономика смогла дать вкусу главенство.
В сени он вошел, как в детство, хотя не только он сам, но и его прадеды в избах не жили. Все равно, будто с пробуждением родовой памяти его охватило чувство причастности к этим дышащим смолистым теплом стенам, чувство домашнего покоя и уюта. Он даже поискал взглядом скамью с ведрами и бадейкой, крюки с лошадиной сбруей, домотканый у двери половичок, но тут же остановил себя: все это, разумеется, были заемные, из фильмов почерпнутые, исторически, возможно, неточные образы. Они тут же развеялись, едва Рябцев, следуя за Телегиным, переступил порог, ибо в комнате ничего деревенского, конечно же, не было, а была обстановка самой обычной лаборатории. Над вскрытым пультом колдовала девушка с дымящимся паяльником в руках; при виде Телегина она порывисто вскочила.
— Что-то случилось, отец?
— С чего ты это взяла? — буркнул тот. — Знакомься: Рябцев.
— Ох, извините, не сразу заметила! — Она смешалась, и от Рябцева не укрылась ни тревога ее первых слов, ни угрюмая досада телегинского ответа. — Лада. Здравствуйте, рада вас видеть…
— Живым и невредимым? — испытующе пошутил Рябцев. Протянутая рука девушки, как он и ожидал, оказалась крепкой. — Боялись, что меня съест Серый Волк?
— Боялась, только наоборот. Это мой отец мог заморить вас до волкоедства. И заморил, не так ли?
— Ну и надымила ты, дочка! — Телегин распахнул окно. — И зачем тебе эта рухлядь — паяльник, когда есть молекулярный соединитель…
— От него в ушах звенит!
— Мутантка ты…
— От кого родилась, в того и уродилась.
— Тебе бы ручками, как язычком, работать… Хоть починила?
— Пока нет.
— Вот, а еще дерзишь.
— А как вам поговорилось с волком?
— Не удостоились аудиенции…
— А-а! Что я тебе говорила вчера?
— Брысь, ведьмачка! И чтобы обед был мигом. А после — ты слышишь? сгоняешь за Машкой. Сама, без всякой этой телепатии.
— Может, не надо?
— Надо.
— Хорошо, батя. Слушаю и повинуюсь.
Лада аккуратно сложила инструменты и вышла — стройный чертенок в прожженном комбинезончике.
Телегин хмуро посмотрел ей вслед.
— Да, интуиции у девчонки — позавидуешь, — ответил он на невысказанный Рябцевым вопрос. — Ведь предупреждала: не занимай сегодня гостя, вас то есть, делами, прока не будет. Ну, а я, упрямый скептик, не послушался. И вот, пожалуйста: волк не пришел, "голос бога" сломался.
— Голос…
— Радио, обычное радио! Просто дальняя связь. Но звери не любят, когда из транслятора у них под ухом вдруг раздается наш голос, а человека нет. Для них это противоестественно, как… Словом, вы понимаете. Но именно сейчас «голос» был бы кстати.
— Ну, — улыбнулся Рябцев. — «Визит-эффект» — он и есть «визит-эффект». Какую табуретку прикажете переставить? Ничего, как только я уберусь, все придет в норму.
— Накладки — тоже норма, — без улыбки ответил Телегин. — Норма науки. И жизни. Идемте обедать.
— Думаете, ваша дочь успела?
— Конечно.
Помыв руки, они прошли в смежную комнату, где на столе действительно уже дымились щи, и, вдохнув этот запах, Рябцев сразу почувствовал зверский голод. Едва они взялись за ложки, как снаружи проглянуло солнце. Неяркое, оно просквозило березовую опушку, и свет рощицы заполнил столовую золотистым сиянием, мягко пал на лицо Лады, которая успела переодеться в льняное с вышивкой платье и сейчас менее всего напоминала сорванца-лаборанта. Она держалась оживленно, но в душе ее, казалось, таились задумчивость и грусть, что делало ее неуловимо похожей на васнецовскую Аленушку. Возможно, тому причиной был свет осени, ибо грусть проступала, когда взгляд девушки обращался к окну, за которым плавно кружилась и падала желтая листва. Впрочем, это ей не мешало подшучивать над своими кулинарными талантами, что вызывало искренний протест Рябцева, и живо расспрашивать его о космосе, где она, как выяснилось, никогда не бывала.
— И я вас понимаю, — теплея от домашнего уюта, от красоты девушки и красоты осени, возбужденно говорил Рябцев. — Что может быть лучше этого? он махнул в сторону окна.
— Ненастье. — Девушка усмехнулась и бросила взгляд на отца, который ел с таким видом, будто коротал досадную задержку.
— Нет, нет и нет! Луна, Марс — это вечная неизменность однообразного ритма, а тут всякое мгновение иное, и даже увядание — это жизнь, а не смерть. В космосе и краски другие, все… Кругом абсолютная физикохимия, чувствуешь себя моллюском, загнанным в скорлупу техники. Странно устроен человек! К чему мы стремимся, как не к гармонии жизни, свободы, красоты и покоя? Но вот же она, здесь, гармония-то… Даже с хищниками вы устанавливаете лад. А мы все куда-то рвемся, что-то меняем, сами вносим в мир беспокойство… Нет, нет, теперь, когда космос открыл нам свои ресурсы, мертвое — мертвому, технике — техниково, пусть работает за небесами. А дом есть дом. Близкое будущее цивилизации, уверен, здесь, в диалектике осмысленного, на новом витке спирали, возвращения к земному, извечному…
— Например, к чаепитию за фотонным самоваром, — вдруг подал голос Телегин.
Лада прыснула:
— Ой, это идея! Надо сшить силиконовый кокошник!
— Помолчи, дочь. — Телегин обернулся к Рябцеву. — Пожалуйста, не обижайтесь: наш заповедник на многих так действует. Вполне объяснимая ностальгия. Тоска по родине, только утраченной уже не в пространстве, как бывало, а во времени, чего не бывало никогда.
— Но это необходимая тоска! — В Рябцеве проснулся не только профессионал, ценящий спор как рабочий инструмент. — Быть может, спасительная! Ведь мы живем на стройке. На стройке! С двадцатого, считайте, века. Ломка, стены падают, сегодня одно, завтра другое, пыль, грохот, лязг. Необходимо, согласен. Но неуютно. И сколько можно?
Казалось, вопрос повис в воздухе.
— Я пыталась поговорить о прогрессе с волком, — наконец задумчиво проговорила Лада. — Да, да, не смейтесь, сама знаю, что глупо… Конечно, он ничего не понял. Ни-че-го-шеньки! Все равно он славный и умница. Знаете, о чем я мечтаю? Прокатиться на сером. Как в сказке…
— Шалишь, красна девица, — отрезал Телегин. — Исследователь! Допрыгаешься.
— Ну и пусть…
— Не дам. Запру и выпорю. Согласно домострою.
— Что так? — удивился Рябцев.
— Она знает.
Лада кивнула:
— Отец прав. Но чему быть, того не миновать.
— Не понимаю…
— Да что там… — Девушка коротко вздохнула. — Обычный принцип дополнительности Бора. Я слишком влияю на объект исследования, потому что их всех люблю. Ушастых, серых, копытных — всех. А этого нельзя.
— Любить нельзя? Да как же без этого?
— Все не так. — Телегин поморщился. — Не так просто. Без любви и травку не вырастишь, и камень не уложишь — верно. А только камень надо обтесывать, траву подстригать, волка… с ним-то как раз ничего этого не надо. Но не получается любить не любя. Не выходит.
Он замолчал. Молчала и Лада, теперь совсем похожая на васнецовскую девушку. Рябцев отвел взгляд. Репортерская профессия с ее поспешностью сбора информации не способствует тонкому чувствованию, но сейчас до Рябцева дошло, что его появление и расспросы, а возможно, не только это всколыхнули в отце и дочери какую-то давнюю тревогу, которую оба прятали от самих себя, как прячут мысль об ожидаемом впереди несчастье.
"Ничего не понимаю, — растерянно подумал он. — Мир, здоровье, успешная работа — чего еще им надо для счастья?!"
Он посмотрел в окно, где сквозь березы все так же струился косой золотистый свет и все так же бесшумно летел и кружился осенний лист.
— Пора звать Машку, — отрывисто сказал Телегин.
Девушка встала, но задержалась у окна, на мгновение как будто слилась с сиянием вечера, со всем, что было красотой и покоем осени, ее усталой нежностью.
— Не надо звать Машку, — сказала она внезапно. — Сама идет.
— Где? — сорвался с места Телегин, а за ним Рябцев, но среди оголяемых ветром берез оба не увидели ничего, кроме прозрачной зыби теней и света.
— Она там, — тихо сказала девушка. — Ей еще надо дойти.
Губы добавили еще что-то неразличимое. И хотя, как прежде, вдали не было ничего, Рябцеву показалось, что он слышит тяжелую поступь. Телегин толчком распахнул окно. С шепотом берез ворвался ветер, прошелся по телу холодком, но ничего этого Рябцев не ощутил: рядом было побледневшее лицо девушки. Юное и тревожное, оно звало спрятать, укрыть, защитить — навсегда и от любой напасти. Мучительным усилием Рябцев смял в себе этот порыв. Его живший сейчас независимо от всего другого слух стал слухом девушки, и в нем было то, что делало порыв нежности и необходимым, и невозможным, даже если бы они были одни.
Неслышная поступь близилась.
Теперь увидел и глаз. Меж дальним белоствольем берез в теплоту света вдвинулось темное, как бы на ходулях приподнятое тело, пропало в тени и возникло опять — ближе. Очертания укрупнились. Животное брело тяжелым, будто надломленным шагом, и полосы света скользили по мохнатой спине, тут же скатываясь с крутого и мощного крупа. В такт шагам мерно подрагивала склоненная голова.
Животное шло прямо к окнам, но глаза лосихи не глядели на людей, словно их не было вовсе, и тем мрачней казалось это неотвратимое, отталкивающее свет движение огромного темного тела, над которым легко и зыбко реяли желтые листья. Один из них спланировал прямо на надетый, как ошейник, транслятор и повис на нем бесцельным украшением осени.
Люди не говорили ни слова. Той же поступью лосиха приблизилась вплотную, вытянула шею, точно намереваясь положить морду на подоконник, но не сделала этого, замерла на своих мосластых ногах-ходулях. И тут Рябцев вздрогнул — из недр транслятора грянул лишенный обычных интонаций голос:
— Человек, убей волка!
Плечо девушки прижалось к плечу Рябцева, и он почувствовал, как оно дрожит.
— Машка… — едва слышно проговорил Телегин. — Маша, ты что?
— Человек, убей волка!
— Маша, родная, почему?
— Волк убил моего лосенка. Человек, убей волка!
Транслятор рубил слова: "…убил… моего… лосенка…" И этот бесстрастный голос звучал в тишине вечера, как требование самой природы, которая вдруг обрела дар слова. "Убей… убей… человек, убей…"
— Маша, послушай…
— Ты говорил: человек — друг. Волк убил лосенка. Человек, убей волка!
Она наконец подняла голову, и на людей глянули влажные, черные от тоски глаза матери.
Лада бесшумно метнулась прочь, где-то гулко хлопнула дверь.
А голос не умолкал.
— Человек… друг… убей!..
Рябцев отступил на шаг, боком ударился о что-то.
— Хорошо, хорошо… — тяжело дыша, бормотал Телегин. — Ты подожди…
Неловко, будто заслоняясь, он запахнул окно. Все: и гаснущий в золоте вечер, и лосиха-мать, и заговорившая ее голосом природа, — оказалось отрезанным стеклянной преградой.
Телегин слепо нашарил стул, сел и лишь тогда повернул голову к Рябцеву.
— Получили свое? — спросил он без выражения. — Теперь разнесете по свету? Не препятствую, разносите.
— Но как же так? — осторожно, словно у постели больного, спросил Рябцев. — Что, что вы ей ответите?
— А что ей можно ответить? Что в природе для нас все равны, что и волк нам друг, а если бы и не был другом, так что бы это меняло? Ничего.
В охвативших комнату сумерках Рябцев плохо видел выражение лица Телегина, но, обостренное, оно сейчас показалось ему вырезанным из твердого сухого корневища — так бесстрастно прозвучало последнее слово.
— Ничего? — переспросил он растерянно.
— Ничего, — последовал ответ. — Природа ни жестока, ни благостна, она закономерна, и волки закономерно режут самых достижимых, то есть самых слабых, и тем оздоравливают тот же лосиный род. Но что Машке лекция? Ее детеныш был хилым, болезненным, заранее обреченным, но ей и этого не объяснишь, ничего не поймет. Ни-че-го. Никогда. И не надо: она — мать.
— Так вы с самого начала ждали… Все это время…
— Естественно. Только человеку дано познать закон рода, многое предвидеть в судьбе, это наша сила или, если хотите, бремя. Бедная Лада! Телегин покачал головой. — Лосенок был ее любимцем.
— Но она же могла…
— Защитить и сберечь? Могла! — Телегин вскочил, слова прорвались в нем лавой. — Мы многое можем, даже замахнуться на закон природы можем! А долг исследователя? Идет эксперимент. С дикими, не домашними существами. Чтобы нас самих не смололи жернова еще неведомых нам законов природы, надо быть холодно зоркими, бесстрашными, как… как сама природа.
— И жестокими.
— Бросьте, — устало отмахнулся Телегин. — Вы или не понимаете, или не хотите понять, что еще хуже. Во что вы лезете со своим гуманизмом? Одной жертвой больше, одной меньше, волны отбора перекатывают песчинки жизни, кто их считает… Машка все скоро забудет, на то она и лосиха, мы же сегодня узнали кое-что новое.
— Нет, это вы меня не поняли или не хотите понять. Опыт жесток к вам! Экспериментатор влияет на объект, ха!.. А наоборот, не больше ли? Лосиха-то, может, завтра забудет, а Лада… Мы в ответе за всех, кого приручили, не так ли?
Телегин ничего не ответил. В темноте было слышно, как он шарит по ящикам стола. Щелкнула зажигалка, язычок пламени, осветив лицо, коснулся кончика сигареты.
— Мерзость и яд, — пыхнув дымом, проговорил Телегин. — Но в иные минуты эта дрянная привычка человечества…
— Зря, — тихо сказал Рябцев. — Это не поможет.
— Верно. — Телегин поспешно затушил окурок. — А знаете что? Волк-то… Теперь понятно, почему он не пришел.
— Думаете, совесть?
— Какая там совесть… А впрочем, не все же началось с человека…
Рябцев вышел.
В проклюнувшемся звездами сумраке он не сразу различил двоих. Но смутное пятно, которое он сначала принял за белеющий ствол березы, слабо шевельнулось, и он понял, что это Лада. Она то ли обнимала лосиху, то ли взгляд просто не мог разделить их слитную тень, только обе стояли молча, и, может быть, это молчание было полнее любого разговора.
Город и волк
С бархатным протяжным гудением трансвей причалил к платформе. Длинное тело многосекционного вагона замерло. Волк перемахнул через борт ограждения. Когти чиркнули по сибролитовому покрытию, и Волка развернуло, чего он никак не ожидал.
— Надо сходить, как все люди! — укоризненно сказал прохожий, которому он ткнулся в ноги.
В три прыжка Волк пересек платформу и стремительной серой молнией скатился по лестнице.
Солнце клонилось к вечеру и светило сквозь ванты верхнего яруса, точно в бамбуковом лесу. Нахлынуло столько запахов, что Волк остановился.
Потом, наклонив голову, он размашисто побежал по дорожке, неприятно гладкой и до отвращения прямой.
Город был справа и слева, впереди и сзади, вверху и внизу. Взгляд Волка скользил по массивным, как скалы, или, наоборот, ажурным, точно деревья, конструкциям, путанице пролетов, галерей, арок; без внимания не осталась игла Космической башни, которая возвышалась над скопищем аэрокрыш, виадуков, висячих садов и движущихся лент тротуара. Этот город был незнаком Волку, но ничего особенно нового он в нем не находил. Да, по правде сказать, зрение в его жизни не играло исключительной роли. Подобно всем волкам, а он был им не только по имени, он в равной мере полагался на слух и обоняние. То было заповедное царство, в котором человек чувствовал себя беспомощным. Сель иногда чуть не плакала, пытаясь понять, каким образом, например, Волк отыскивает ее в незнакомом и многолюдном городе, а он ничего не мог объяснить, потому что и сам не знал. Когда он искал Сель, его просто влекло куда-то, один район был явно предпочтительней других, но почему? Секрет был не только в тонкости обоняния, но и в чем-то еще близком, но не тождественном, о чем среди людей давно уже шли споры. Вот и сейчас Волк держался избранного направления, уверенный, что правильно идет к тому месту, где сейчас находится Сель. Само это место, положим, имело весьма расплывчатые очертания, но это не беспокоило Волка — Сель не ждала его раньше заката.
Возле лифта на нижний ярус никого не оказалось. Волка это не смутило. С лифтом он и сам мог справиться. Вскочив в кабину, он встал на задние лапы, дотянулся до пульта и когтями придавил третью снизу кнопку. Дверцы бесшумно сомкнулись, и лифт заскользил. Древний страх западни, как всегда в таких случаях, на мгновение охватил Волка, но тотчас исчез. В конце концов Волк был сыном третьего поколения очеловеченных хищников, а это кое-что значило.
На нижнем ярусе было так же светло и тихо, как и на верхних, но лапы Волка ощущали легкое дрожание почвы, когда в подземном горизонте проносились вагоны метро, сцепки контейнеров или пневмогрузы. Люди не считали, что на нижнем ярусе беспокойно, но Волк был иного мнения. Месяц в тундре не прошел даром, и Волку не понравились гул и вибрация. Поэтому он не вскочил на тротуарную ленту, а, лавируя среди прохожих, углубился в парк. Бежать здесь было приятней еще и потому, что отсутствовали все эти гладкие, пружинящие, зеркальные покрытия, которые великолепно служат людям, но не слишком удобны для лап. Песок куда лучше.
Лань выглянула из-за куста и проводила его долгим взглядом. Волк даже не обернулся. Он уважал законы города, и лань это знала, поэтому не двинулась с места.
— Эй! — услышал он, когда пробегал берегом озера.
Волк замер. С гребня невысокой дюны ему махала девочка лет пяти. Едва Волк остановился, она ринулась по крутизне, оступилась и, взрывая песок, в восторге съехала на попке.
— Здравствуй, ты почему не отвечаешь? — выпалила она, вставая и отряхивая штанишки.
Ошейник, который был на Волке, ничего общего с настоящим ошейником не имел. То был транслятор, который даже беззвучные колебания гортани переводил в человеческую речь. Его надо было лишь включить. Волк дважды поднял лапу. Девочка радостно закивала, ее пальцы скользнули по ошейнику.
— Теперь здравствуй, — сказал Волк.
— Здравствуй. — Девочка слегка картавила. Ее зеленые с рыжими крапинками глаза горели нетерпением.
— Мы будем играть в Красную Шапочку, — тотчас заявила она.
— Во что?
Говорил транслятор, и, если бы не клокочущее в горле ворчание, которым сопровождались слова, можно было бы поверить, что зверь владеет человеческой речью.
— Какой же ты непонятливый! — Девочка топнула босой ногой. — Мы будем играть в сказку! Красная Шапочка — это такая девочка, она идет в гости к бабушке, а бабушка…
Теперь ворчание исходило из транслятора, который переводил слова ребенка в доступные волку звукосочетания.
— …И когда девочка спросила, отчего у бабушки такие зубы, волк, который притворился бабушкой, говорит: "Чтобы съесть тебя!"
— Он съел?
— Не-ет… Появились охотники и…
Волк впервые слышал эту сказку. Он плохо улавливал ее смысл, но она всколыхнула в нем что-то забытое, угрожающее, что, замирая, тем не менее передавалось от поколения к поколению, как некая наследственная память о давнем кошмаре, который преследовал волчьи стаи в образе человека с громоносным ружьем. И Волк решительно замотал головой.
— Не хочу. Будем просто играть.
Девочка нахмурилась, но не прошло и секунды, как она уже очутилась на спине Волка, он помчал ее, а потом бережно сбросил и, когда она с хохотом уцепилась за хвост, обернулся и грозно оскалил зубы. Они долго и самозабвенно возились, боролись, свивались в клубок, барахтались, тормошили друг друга, потому что оба умели наслаждаться игрой.
Гулявший неподалеку старик, замедлив шаг, приставил ладонь козырьком.
— Семьдесят лет назад… — он покачал головой. — В дни моей молодости, да, в дни моей молодости кто бы подумал, кто бы мог подумать…
Юноша, его спутник, ничего не ответил. Он считал само собой разумеющимся, а потому неинтересным и то, что в центре большого города волк играет с ребенком, и то, что этот волк свободно общается с людьми. Идею, которая так поразила современников старика, он находил столь же банальной, как утверждение, что дважды два — четыре. Если мозг пещерного человека биологически равен мозгу человека двадцать первого века, а интеллект, несмотря на это, ушел далеко вперед, то кому же не ясно, что и мозг животных может обладать внушительными резервами! Просто никто не занимался развитием их интеллекта, да и не умел, а как только сумели…
Доказанное и примелькавшееся всегда банально.
Расставшись с девочкой, Волк почувствовал себя взбодренным. Крутой подъем вскоре вывел его на вершину холма. Космическая башня была видна отсюда как на ладони. Крохотная ракета взмывала более чем на километровую высоту, увлекая за собой клокочущий огненный столб.
Вокруг Башни мошкарой вились реалеты. Волк на мгновение поднял голову. Огнепад пламенел в лучах заходящего солнца. На Волка он не произвел впечатления. Все чересчур огромное, далекое и неподвижное, будь то здания или горы, не имело существенного значения, так как ничем не угрожало и не сулило перемен; оно могло быть или отсутствовать — от этого ничего не менялось. Серый полог на востоке и перистый веер облаков в зените интересовали его куда больше, поскольку эти знаки сулили скорый перелом погоды. Волк привык к безопасности города, впрочем, стихия не пугала его и на воле, но тем не менее его настроение изменилось. Даже людям знакома атавистическая тревога, то беспокойство, которое овладевает всеми перед грозой и бурей. Чувства Волка обострились. Тишина вечера могла обмануть человека, но Волк читал не только видимые знаки и был уверен, что погода изменится сразу после захода солнца.
Он припустил бегом. Ветра еще не было, но ток запахов усилился.
Деревья, травы, цветы пахли иначе, чем час назад. Даже сталь, титан, пластик, спектролит — все те бесчисленные материалы, которые выдумал человек, вели себя иначе.
Все изменения запахов были знакомы Волку, и его сознание не участвовало в их анализе. Внезапное отклонение заставило его затормозить бег.
Пахнуло чем-то непривычным. Запах был чрезвычайно слаб, но ничего похожего Волк не встречал. Совершенно непонятный запах, который не имел отношения ни к городу, ни к природе.
Волк повел носом и, не колеблясь, двинулся к скамейке, где сидел мужчина лет сорока с лицом смуглым и твердым, как камень. Человек, не мигая, смотрел на расстилающийся город, будто готовясь взять его в свои руки.
— Что уставился, приятель? — Внимание человека переключилось столь внезапно, что Волк слегка опешил. — Выгляжу чудаком, да? Верно. Отвык я от этого. — Рука обвела горизонт. — Красиво. А ты как считаешь?
— Красиво.
Волк согласился не только из вежливости. Люди считали город прекрасным, и он был того же мнения, хотя его понимание красоты не совпадало с человеческим, ибо он не отделял ее от целесообразности, но здесь транслятор очеловечивал речь Волка и по существу. Сель отлично разбиралась в этих оттенках, но мужчина воспринял все буквально. Внешне он остался неподвижным, но Волк по незаметным для человеческого глаза сокращениям мышц подметил жест удивления, который, впрочем, был тотчас оборван.
— Ладно, все это лирика, — сказал человек. — У тебя есть ко мне какое-то дело. Говори.
Теперь удивлен был Волк: незнакомец проявил редкую в общении с животными проницательность.
Прямой вопрос требовал столь же прямого ответа.
— У вас спрятано непонятное.
— Что, что?
Волк улыбнулся бы, если бы мог. Подсознание человека опередило работу ума. Пока ум терялся в догадках о смысле вопроса, пальцы дрогнули настолько красноречиво, что Волк без труда воссоздал все движение целиком.
— Оно лежит в нагрудном кармане.
— Это? Ты это имеешь в виду?
Человек выхватил прозрачную трубочку, доверху заполненную мелким песком.
— Да.
— Ну и хватка. Может быть, ты даже знаешь, что это такое?
— Да и нет. Песок, но непонятный.
— Верно, где же тебе знать… Этот песок оттуда, — человек ткнул пальцем в небо. — Из космоса, с Сириуса, вот откуда. Дошло? Сатана, мы эту планету назвали Сатаной, такая она мрачная и холодная. Но радужный песок… Бриллианты по сравнению с ним просто шлак. Верно? Гляди, какие переливы…
Космонавт откупорил притертую пробку и высыпал немного на ладонь. Мерцание песка, казалось, заворожило его. Волк чуть не фыркнул — настолько усилился запах. Кроме запаха, по его мнению, в песке не было ничего особенного, ибо волки не различают цвета. Обыкновенные, матовые, слабо переливающиеся песчинки, только и всего. Со слов людей он знал о существовании какого-то особенного и прекрасного мира красок, но чувств его это никак не задевало. Люди плохо разбирались в запахах — для него не существовало цвета, он привык к тому, что здесь нет и не может быть взаимопонимания.
Наконец человек оторвался от созерцания и, будто вспомнив что-то, недоуменно пожал плечами.
— Как это ты сумел учуять из-под притертой пробки, однако…
Быстрым движением он ссыпал песок обратно, задумчиво повертел пробирку, спрятал. Его широкая рука легла на голову Волка.
— Да, приятель, ты не прост. Но мне пора. Скажу тебе по секрету: как ни прекрасен сатанинский песок, а земной лучше, потому что он земной. Есть еще вопросы? Тогда прощай.
Человек встал, тряхнул головой, словно отгоняя какую-то мысль, потом быстро зашагал по тропинке.
Волк не двинулся с места. Запах не исчез с уходом космонавта: очевидно, какая-то песчинка упала на землю. Волк даже мог сказать, где она, хотя и не видел ее. Он лег, положив морду на лапы.
В его голове ворочались смутные мысли. Транслятор был, конечно, величайшим достижением, но он невольно обманывал людей, заставляя их думать (неспециалистов, разумеется), что коль скоро волк изъясняется по-человечьи, то и мыслит он примерно так же, но только хуже. Все было, однако, гораздо сложней. Волку не были свойственны формализованные логические построения. Отчасти их заменяли сцепления образов, чей ход был непостижим для человека. Тем не менее Волк имел собственное представление даже о космосе, ибо люди много говорили о нем, а он жадно впитывал все их суждения. Образ космоса, сложившийся в его сознании, был весьма далек от реального, и все же он не был абсурден. И сейчас Волк мысленно обращался к нему. Никогда еще ни один запах не казался ему столь странным. Верней, не совсем так. Странным его делало объяснение человека. Человек дал источнику запаха точное название, смысл которого Волку был ясен: песок. Но запах, который источала песчинка, противоречил определению. Будь на месте Волка человек и обладай он нюхом волка, такой человек легко примирил бы противоречие, связав свойства конкретного со свойством такой абстракции, как "иная планета". Но подобное примирение — действительное или мнимое было для Волка недостижимым, и он не мог избавиться от недоумения.
Он даже засопел, забыв, что транслятор немедленно переведет звуки в возглас "Ну и ну!".
Слова отрезвили его и напомнили, что пора двигаться. Все же он еще поводил носом вокруг источника проклятого запаха. Если бы его спросили, что его так волнует, он вряд ли смог бы объяснить. Любопытство и любознательность свойственны животным не меньше, чем человеку. Загадочное привлекает, потому что непонятно его значение, неясно, что оно сулит хорошее или дурное. А знать это необходимо всякому живому существу. Здесь инстинкт преодолевает страх, внушаемый неизвестным. Любопытство Волка также было окрашено беспокойством. Всегда лучше предположить, что загадочное — враг. Впрочем, у Волка это ощущение умерялось давней привычкой к безопасности: с тех пор как человек стал другом, волкам практически уже ничего не грозило ни в лесу, ни в городе.
Внезапно порыв ветра закружил пыль. Крохотный смерч пронесся перед носом Волка и умчал источник запаха.
Волк мигом, как это умеют делать только животные, отключился от прежних размышлений. Раз загадка исчезла, То и думать о ней нечего. Это не было забывчивостью. Волк никогда ничего не забывал: просто бесполезное не стоило внимания. А что может быть бесполезней унесенной ветром песчинки?!
Но школа мышления, которую он прошел у человека, наложила на него неизгладимый отпечаток. Волк знал, что он еще вернется к прерванным раздумьям.
А сейчас надо было отыскать Сель. Он побежал, держа направление к востоку от Космической башни. Инстинкт вел его словно по пеленгу. Разыгрывающийся ветер ерошил шерсть. Всюду зажглись огни; вдоль стен заскользили стереодинамические картины; вспыхнули цветовые фонтаны; здания сверкали, как драгоценности, город мягко сиял, лучился, улыбаясь сомкнувшейся темноте. Здесь, в его сердце, даже ворчание непогоды казалось исполненным благодушия. Где-то тут недавно проходила Сель, и надо было лишь отыскать неуловимый, может быть, для ищейки, но не для друга след.
Получасовые розыски наконец привели его к искомым дверям.
Волк и Сель расставались часто, потому что Волк не мог долго жить в городе, вне стаи, но от этого их дружба не слабела. Сель была зоопсихологом, но Волк для нее существовал не как объект изучения. Не был он и домашним зверем вроде собаки, чью привязанность можно завоевать мимолетной лаской. Сель видела в нем личность столь же глубокую, как и она сама, товарища, которого любят, не задаваясь вопросом почему.
Поэтому встреча была, как всегда, бурной и нежной.
Как только они поужинали, Сель сказала:
— Поговорим об интересном?
То были их любимые вечерние минуты, когда с делами покончено, в комнате тихо, как на необитаемом острове, и нет ничьих глаз, кроме глаз человека и зверя.
Сель забралась с ногами на диван. Волк устроился рядом. Сель ослабила свет лампы. Пальцы девушки тонули в густой шерсти Волка. Ни один звук не проникал снаружи.
Спешить было некуда. Обычно в такие минуты Волк рассказывал о том, что привлекло его внимание, удивило или озадачило, потом Сель говорила о своих делах, потом они просто болтали, и мало что так привлекало Сель, как вот такое неторопливое Погружение в мир чужого сознания.
Так же было и на этот раз. Волк, который не страдал последовательностью, говорил отрывисто, перебрасываясь с воспоминания на воспоминание. Сель, наматывая на палец прядь волос, больше молчала. В черных продолговатых зрачках зверя трепетал отблеск лампы; на мгновение приоткрывался влажно мерцающий ряд клыков, и дыхание Волка касалось лица Сель. Порой ее охватывало чувство нереальности, особенно когда в зрачках туманно отражалась она сама. Казалось, можно наклониться и заглянуть в зрачок, как в колодец, чтобы увидеть на дне саму себя такой, какой ее видит Волк.
— Может стать живым мертвое?
— Что, что? — очнулась Сель.
— Сегодня в городе учуял незнакомое. Мертвое. Оно лежало в кармане человека. Я спросил. Человек показал песок, сказал: песок. Ушел. Песчинка упала. Стала живой.
— Песок всегда мертвый…
— Знаю. Поэтому странно.
— Ничего не понимаю! Откуда ты взял, что песчинка ожила? Она что стала двигаться?
— Нет. Она быстро пахла.
— Ну и что?
— Мертвое медленно меняет запах. Растение быстрей. Животное совсем быстро, когда взволновано.
— В самом деле?
— Да.
— И по скорости изменения запаха можно отличить камень от дерева, сталь от бабочки?!
— Да.
— Волк, ты никогда мне об этом не говорил!
— Ты не спрашивала.
— Это очень-очень интересно! Дальше, Волчишка, дальше!
— Почему песчинка стала живой?
— Да не могла она стать живой!
— Она стала.
Сель приподнялась. Ей показалось, что в глазах Волка мелькнула укоризна: почему она так медленно соображает?
— Давай, Волчишка, по порядку, — твердо сказала Сель. — Итак, ты бежал по городу…
— Да.
— И учуял песок, который лежал в кармане человека. С каких пор ты стал обращать внимание на обыкновенный песок?
— Незнакомый запах. Человек объяснил, что песок из космоса.
— Из космоса?! Тогда ясно. Нет, нет, о чем это я? Решительно ничего не понимаю… Как он выглядел?
— Человек?
— Песок!
— Как песок!
— И он был мертвый?
— Да.
— А когда песчинка упала…
— Она запахла, как живая.
— Ты об этом сказал человеку?
— Он ушел.
— Песчинка шевелилась?
— Нет.
— И все-таки стала живой?
— Да.
— Кто был этот человек?
— Он из космоса. С Сириуса.
— Это он тебе сказал?
— Да.
— Человек знает, что его песок из мертвого может делаться живым?
— Он сказал: это песок. Очень красивый. Он не сказал: это живое. Ты почему волнуешься?
— Потому что… Волк, ты не ошибся?
— Я не мог ошибиться.
— Да, да, знаю… И все-таки невероятно… Давай минутку помолчим.
Сель задумалась. Ее темные глаза стали еще темнее. Она оставалась неподвижной, но Волк видел ее бегущей. Это его беспокоило, потому что он не мог взять в толк причину, однако понимал, что сейчас лучше ни о чем не спрашивать. Сель порывисто вскочила, босиком подбежала к информу.
— Снимки участников сириусской экспедиции, — сказала она в микрофон.
Спустя несколько секунд на экране информа возникло чье-то лицо.
— Он? — Сель обернулась к Волку.
— Нет.
— Этот, этот?
По экрану заскользили лица.
— Да, — наконец сказал Волк.
— Все сходится…
— Ты мне не объяснила, — решился напомнить Волк.
— Подожди, Волчишка…
Палец дважды замер над кнопкой, прежде чем ее нажать.
— Вызываю Борка, геолога сириусской экспедиции. Скорей всего, он здесь, в городе. Передайте ему… — Сель запнулась. — Вызов экстренный.
Волка не удивило ни то, что Сель разговаривает с неодушевленным предметом, ни то, что этот предмет отыскивает человека, который находится неизвестно где. Он этого не понимал, но он к этому привык и относился к предметам типа информа так же, как к дождю и снегу: раз они существуют, надо к ним приноравливаться. Но в поведении Сель, в словах и движениях он улавливал растущую тревогу и на всякий случай подобрался, чтобы быть наготове.
Минуты три прошло в молчании. Наконец стена, противоположная той, возле которой лежал Волк, исчезла, и комната как бы соединилась с другой, более просторной и ярко освещенной. Сидевший за столом человек поднял голову. Увидев девушку, он встал, и они оказались друг против друга — сдержанный порыв волнения и твердая осанка незыблемой уверенности.
— Извините, если окажется, что я зря побеспокоила вас, — быстро проговорила Сель. — Перейду к делу. Тот песок, который вы сегодня показывали Волку, еще у вас?
— Какому волку? — Космонавт, не отрываясь, смотрел на Сель.
— Вот он.
— А, мой серый приятель! Теперь припоминаю. А в чем, собственно, дело?
— Это действительно песок?
— И даже очень красивый. — Борк медленно улыбнулся. — Показать?
Он вынул из стола знакомую Волку трубочку.
— Прелестен, правда?
— Это точно песок? Не колония живых организмов?
— Нет, конечно! Откуда такая мысль?
— Он прошел карантин?
— Разумеется! Простите, я все еще не понимаю…
— Возможно, это не совсем песок.
Улыбка Борка погасла. Он ждал.
Сель коротко пересказала все, что знала.
— Не хочу обидеть нашего серого друга… — В голосе Борка прозвучала ирония. — Согласитесь, однако, что…
— Волк никогда не ошибается в фактах, — резко сказала Сель. Брови Борка поднялись. — Он может ошибаться в выводах. Но если он говорит, что песчинка повела себя подобно живому организму, то так оно и есть.
— Трудно спорить с убежденностью. Допустим, мой диагноз неверен. Но неужели вы думаете, что сотрудники карантина не отличат минерал от живого организма?
— Плесень… — тихо сказала Сель.
— Да, плесень. — Уверенность на мгновение покинула Борка. — Нет, не тот случай. — Его голос снова был тверд. — Тогда просто не заметили спор.
— Вы не хотите верить?
— Я не могу верить. Этот песок живой?! — Борк потряс пробирку. Простите меня, но фантазия животных…
— Фантазия у них, к сожалению, развита слабо. — Голос Сель прозвучал сухо. — Волк, это песок или нет?
— Не чую его.
— Ах да! Борк, это будет большим нахальством с моей стороны, если я все-таки попрошу вас приехать?
— Чтобы ваш зверь вынес свой приговор?
— Дело же не в этом!
— Вы правы. — Борк сделал шаг, и выражение его лица изменилось. Извините, я забыл, что выстрелить может и сухая палка. Где вы находитесь? Так, ясно. Буду через семь минут.
Комната Борка исчезла.
Сель вздохнула. Ее рука опустилась на голову Волка.
— Нам не верят, Волчишка… Да я и сама не верю.
— Объясни!
— Ты вряд ли поймешь. Я и сама не очень-то понимаю. В космосе, видишь ли, встречаются очень необычные формы жизни. Причудливые, странные… Поэтому все, что попадает оттуда на Землю, подвергается строжайшей проверке. Особенно живое. Не всегда живое опасно, чаще оно безвредно. Но однажды сквозь контроль проскочила плесень. Давно, тогда тебя не было. Началось страшное, мы с трудом справились. Надеюсь, что на этот раз…
— Я не хотел пугать.
— Знаю, знаю. Все объяснится, скорей всего, очень просто, и я, верно, ошибаюсь. А вот и Борк… Входите!
Борк энергично пожал протянутую ему руку, кивнул Волку и без лишних слов откупорил пробирку. У него был вид человека, который твердо решил ничему не удивляться.
— Что скажешь, Волк? — Голос Сель дрогнул.
— Оно пахнет живым.
— Как! Ты же говорил…
— Тогда был песок. Сейчас нет.
Борк нахмурился. Он долго испытующе смотрел на Волка, словно надеясь уличить его в обмане. Потом, ни слова не говоря, взял чистый лист бумаги, отсыпал на него немного песка, достал из кармана микроанализатор. Вспыхнуло едва видимое облачко. Взглянув на шкалу прибора, Борк повернул ее к Сель.
— Видите?
— Эти цифры мне ничего не говорят.
— Они говорят о химическом составе. Они говорят о строении объекта. И то и другое свидетельствует, что это минерал.
— Но Волк…
— Послушайте. Вы зоопсихолог. Вы прекрасно знаете, что одиночных видов живых организмов не существует и существовать не может. А планета, откуда доставлен песок, мертва, как льдышка.
— Но в льдышке, случается, спят даже высокоорганизованные существа.
— Верно. Но если бы вы видели эту планету… Насколько я понял, для Волка живое от неживого отличается, так сказать, частотой запахоизлучения. Так?
— Да.
— По дороге я все обдумал. Отличие этого минерала от земных, помимо состава и структуры, в том, что ему присуща быстрая смена запахочастот. Вот и все. Вы разочарованы?
Сель покраснела.
— Наоборот, вы должны гордиться, — сказал Борк, словно оправдываясь. Минерал я вез Орцеву, в университет. Но даже Орцев не скоро бы обратил внимание на это его свойство. Вас беспокоит еще что-то?
— Пустяки. — Сель нехотя улыбнулась. — Сначала для Волка мертвым был весь песок…
— Ясно, ясно. На запах, по словам нашего серого аналитика, влияет смена погоды. Так? Сейчас надвигается гроза.
— Вы всегда так логичны?
— К сожалению. Боюсь, что это неизлечимо.
— Почему "к сожалению"? Волк, давай попросим прощения…
— И забудем этот глупый эпизод. А если я рад, что таким образом познакомился с вами?
— А песок и в самом деле красив. — Сель нагнулась к столу, как бы не слыша слов Борка. — Какие отсветы… Они играют, дышат в каждой песчинке. Знаете, чем камень жив? Светом.
— Точно! В темноте камень мертв. Дерево — нет, животное — тем более, а камень — да. В этом смысле наши представления, пожалуй, схожи с представлениями четырехпалых умниц. Интересно, что он сейчас обо мне думает?
— Спрашивать его об этом небезопасно.
— Почему?
— Большинство людей до сих пор уверено, что животные смотрят на них как на божество. Уверяю вас, ни одно животное на нас так не смотрит.
— Я не принадлежу к числу таких людей.
— А ваше самолюбие не пострадает, если Волк даст вам не слишком лестную характеристику? — спросила она, не отводя взгляда от мерцающих песчинок.
— Я ее заслужил?
— Надеюсь, что нет. Впрочем, спросите у Волка.
Борк смущенно пригладил волосы.
— И спрошу, — сказал он решительно. — Послушайте, Волк…
Возглас Сель оборвал фразу.
— Смотрите, Борк!
Слова прозвенели, как осколки вдребезги разлетевшегося фарфора. Обернувшись, Борк мигом схватил то, что видела Сель, то, на что указывал ее дрожащий палец.
— Вам показалось…
— Они шевелятся, — вдруг подтвердил Волк, и люди, отпрянув от стола, уставились на него. — Песчинки давно шевелятся.
Секунду все были неподвижны, затем повелительный жест Борка остановил рванувшуюся Сель. Шевеление некоторых откатившихся от общей массы песчинок было теперь так же ясно для человеческого глаза, как и для взгляда Волка.
— Они делятся, — голос Сель дрогнул. — Вот! И вот…
— Спокойно.
Точным и быстрым движением Борк ссыпал песок в пробирку. Источник зловещего мерцания исчез в кармане, и Сель стало легче, словно со стола убрали гадюку.
— Все, — слегка задыхаясь, сказал Борк. — Все, — повторил он, как бы убеждая себя и других. — Возможно, нет ничего опасного. Допустимы любые другие объяснения. Ничего не случилось, они заперты.
— Не все! — воскликнула Сель.
— А-а!
— Та единственная песчинка…
— Пустое. Найдем.
— Ее сдул ветер, — сказал Волк.
— Так, так… — Рука Борка медленно потянулась к информу.
— Это бесполезно! — остановила его Сель. — Легче найти… не знаю что.
— Знаю, но другого выхода нет.
— Есть. Волк!
— Здесь!
— Да, да, ты здесь… Волчишка, милый, ты можешь учуять ту песчинку? Можешь, можешь?
— Послушайте, Сель!
— Борк, если кто сможет отыскать, так это Волк.
— Да, — сказал Волк. — Найду, если она здесь.
— И все-таки… — Борк колебался.
— Спешите в лабораторию.
— Вы действительно уверены…
— Я знаю Волка.
— Тогда с ним пойду я! У меня ноги крепче.
— Но вы не понимаете Волка так, как я. Идите!
— Ладно, одно не мешает другому. В конце концов, город можно закрыть на карантин. Не теряйте связь!
…На верхней площадке здания хозяйничал ветер. Его тугая масса налетала холодными гулкими порывами. В просветах туч нервно мигали звезды. Горизонт рассекали бледные, пока еще беззвучные молнии.
Ноздри Волка жадно втягивали ветер. Запахи мелькали подобно строчкам быстро листаемой книги. Фоном был далекий аромат лугов и перелесков. Среди городских запахов ярче всех выделялись тягучие испарения смазок, кисловатые запахи металла, царапающие, с сухим привкусом стекла ароматы полимеров. Ветер нес тысячи оттенков, и нос Волка ловил их, точно локатор. Ветер и помогал и мешал. Помогал, потому что раздувал пламя запахов и нес их за километры; мешал, потому что создавал путаницу, рвал слабые токи. К счастью, он менял направление и порой замирал, так что Волк мог обнюхивать город, как бы паря над ним. Сель стояла рядом, бледная от волнения.
Конечно, она понимала, что Борк предпримет все возможное. Будут доставлены и пущены по следу овчарки. Немедленно будут откалиброваны на новый запах и использованы все лабораторные анализаторы. Но она также знала, что ни один аппарат не сравняется в чуткости с Волком и ни одна овчарка не возьмет след так, как это сделает Волк, который понимает, хотя, может быть, иначе, чем люди, цель поисков. Кроме того, сейчас все решали часы и даже минуты.
Ловя подозрительные струи, Волк то и дело срывался с места. Казалось, он играет с невидимыми в темноте бабочками. Но иногда он надолго замирал.
Город внизу сверкал ярче чем когда-либо. Огни сильно и беспокойно мерцали в предгрозовом воздухе.
Волк ничего не видел и не слышал. От ветра шерсть его вставала дыбом и ходила волнами; порой он казался Сель незнакомым, страшноватым зверем.
Внезапно его нос припал к настилу. Затем Волк подпрыгнул. По бетону скрежетнули когти.
— Есть! Туда, там…
Вывести из ангара реалет было делом минуты. Машина взмыла над городом, и отблеск огней, лег на ее широкие плоскости.
Но в воздухе нить запаха оборвалась. Напрасно Сель бросала реалет из стороны в сторону, то падая вниз, то взмывая высоко над крышами.
Сель ничего не говорила Волку, она и так знала, что тот делает невозможное.
Наконец, когда они попали в бившую снизу струю воздуха. Волк оживился.
— Ниже, ниже…
— Ниже?
— Да, да!
Сель заколебалась. Ниже был вентиляционный колодец. Окаймленное огнями устье сверкало, точно ожерелье. Лететь туда? Правила запрещали это. Спускаться на лифте, идти? А если снова потребуется реалет? Время, время!
Сель набрала индекс Борка.
Возникшее на экране лицо космонавта выражало досаду и спешку. При виде Сель оно смягчилось.
— Нашли?
Сель объяснила.
— Ни о чем не заботьтесь, — быстро проговорил Борк. — К черту правила, я договорюсь с патрульной службой. Но быстрей, как можно быстрей!
— Они живые?
— Да. Но может быть, это квазижизнь… Не расспрашивайте. На свободе могут быть два, даже три семени.
— И они?..
— Ждем окончательных результатов. Сразу же сообщу. Отключаюсь.
Экран потух.
Реалет неподвижно висел над устьем. Ветер слегка раскачивал машину, точно лодку на якоре. Закусив губу, Сель неподвижно смотрела вниз. Отверстие было чуть шире диаметра реалета.
— Держись, Волк…
Реалет камнем полетел вниз. Только на скорости и только так можно было совершить маневр при боковом ветре. Замелькали лампы, перекрытия, пролеты, чьи-то испуганные лица на галереях.
— Еще ниже?
— Да.
Ниже колодец был перекрыт фильтрующей решеткой. Включив сирену, Сель ввела реалет в пространство наземного яруса. В полукилометре отсюда — она это знала — находился транспортный шлюз.
Сбавив ход до минимума, Сель вела реалет прямо над движущейся дорогой, прямо над головами людей. Внизу раздавались крики.
"Что они обо мне думают?" — пронеслась мысль.
В глазах рябило от света и бликов.
В стенах грохотало эхо.
Выемка шлюза, наконец-то!
— Чуешь?
— Да, да!
Волк дышал как от быстрого бега. Охота его радовала, безумная охота, преследование врага, который чем-то угрожает Сель.
В подземном ярусе располагались не только транспортные артерии, склады и коммунальные службы. Но сейчас поле зрения было ограничено стенами тоннеля. Полет здесь был чистым сумасшествием, но Сель действовала не по наитию. Реалет она вела по той стороне, где не могло быть встречного экспресса. Встречный должен был пройти рядом, всего в двух метрах от левого крыла реалета. Это было более чем рискованно, но Сель решила, что посадит машину, если встреча произойдет. Авось экспресс успеет затормозить, авось она успеет проскочить до его появления.
Рокочущий гул настиг ее в то самое мгновение, когда показался перрон. Она все же успела увернуться и взмыть над платформой. Ожидавшие экспресс люди кинулись врассыпную.
Лететь далее не имело смысла. Сель и Волк выпрыгнули из реалета. Ей кричали, но она не слышала криков. Да, такого переполоха еще никто не устраивал…
Волк бежал зигзагами, Сель едва поспевала за ним. Лестница, переход, снова лестница… Сель начала задыхаться. Волк замедлил бег. Люди, мимо которых они проскакивали, замирали, как изваяния. Уж очень неожиданная была картина: рослый, могучий волк — и спешащая за ним тоненькая, со смятенным лицом девушка.
Квадратная площадка. Дверцы одного из лифтов раздвигались. Двумя великолепными прыжками Волк опередил Сель.
Какая-то старуха уже заносила в проем ногу, когда Волк вскочил в кабину и мягким толчком заставил ее отшатнуться.
Женщина вскрикнула, и в этом крике Волк уловил нотки того же самого древнего атавистического страха, который пробуждался порой и в нем как родовое воспоминание о тех далеких днях, когда волки боялись людей, а люди боялись волков.
— Ты… что?.. Волк…
Резкая боль в груди мешала Сель говорить. Вместо ответа Волк положил лапу на башмак женщины.
— Вы… вы… — Женщина задыхалась от негодования и страха.
— Извините…
Сель было все равно, что о ней подумают.
— Приподнимите, пожалуйста, ногу…
Так как женщина совершенно потеряла и дар движения, и дар речи, Сель сама приподняла ее ногу. В одном из рубцов подошвы она увидела две знакомые ей песчинки.
Вот и все. Вокруг уже толпились возмущенные люди. Волк на всякий случай выдвинулся вперед и небрежно зевнул, показывая Великолепный набор клыков.
— Волк, смирно! Извините, — бросила Сель женщине, равно как и всем другим. Она выхватила карманный видеофон и тотчас забыла об окружающих. Борк, мы нашли, нашли! — закричала она, едва засветился экран.
— Сколько?
— Обе!
— Сель, их может быть три.
— Да тише же! (Женщина кричала, мешая слушать.) Это я не тебе… Все настолько серьезно?
— Серьезней некуда. Размножаясь, они поглощают тепло. Да как! Они могут заморозить планету. Я бы никогда не поверил, что такое возможно. Но факты… Мы — шляпы, глупые, самонадеянные шляпы, обо всем беремся судить, даже не подозревая, сколько вокруг неизвестного. Ищите, Сель, ищите!! Мы сейчас объявим всем, мы… Зовут, простите.
Сель не заметила, как воцарилось молчание. Люди слышали разговор и поспешно расступились перед девушкой. Только женщина еще бормотала что-то.
— Вот так, Волчишка, — тихо сказала Сель. — Начнем все сначала.
Когда они выбрались наверх, гроза уже началась. Мигание молний преломлялось в прозрачных плоскостях стен, трепещущий отблеск скользил по куполам и аркам, дробясь, рокотал гром. Потоки воды то вспыхивали серебром, то исчезали в темноте. Огненная струя Космической башни казалась ревущей.
Одежда Сель промокла, едва они вышли на открытую площадку. Волк долго кружил по ней, но ничего не почуял. Они сели в реалет.
Шло время, руки Сель окаменели за рулем. Сель то и дело связывалась с Борком. Ответы были неутешительными. Нигде ничего.
— Может быть, их все-таки было две?
Сель бодрилась, но голос выдал усталость. Губы Борка дрогнули.
— Нет, — сказал он решительно. — Все песчинки стали тройными.
— И по-прежнему делятся?
— Перестали. Надолго ли? Пока ни одного случая четвертой генерации. Ищите третью, пока они затихли.
— Мы ищем.
Волк не находил себе места в кабине. Согласно распоряжению город всасывал воздух только через внешние наземные шлюзы и гнал его к центру, чтобы выбросить вертикально вверх. Это нарушало циркуляцию, внутри города сновали вихри, зато все запахи стягивались к снующим реалетам. Волк метался от одного опущенного щитка к другому, его ноздри раздувались, как мехи, никогда он еще так не напрягал свои способности. То и дело ему казалось, что он уловил… Всякий раз надежда гасла, не успев разгореться. Возможно, искомая песчинка была унесена в глубины коллектора, возможно, ветер еще до дождя умчал ее далеко от города, все могло быть.
Налево, вверх, вниз, направо… Сель все исполняла, как автомат. Может быть, впервые в истории человек безоговорочно повиновался волку.
Уже дважды ему в ноздри вторгался какой-то смущающий его запах. Он проверил его — нет, не сходится. И все-таки это был необычный запах. Не пластик, не сталь, не дерево… Но и не песчинка.
Волк ничего не сказал. В кабине свистел ветер. Мозг Волка работал медленно. Ему казалось, будто что-то забыл и старается припомнить.
Они еще с полчаса кружили над городом. Потом запах повторился.
— Налево.
Сель послушно повернула.
— Ближе. Вверх! Опусти. Ближе.
— Ближе нельзя, мы врежемся в здание.
— Надо.
— Ты учуял?!
— Странный запах. Если она не с Земли, то она может быть странной вдвойне?
— Ясней, Волк, ясней!
— Песчинка может быть странной всегда?
— Да, да!
Оба кричали, чтобы осилить свист ветра.
— Я поняла! Если она намокла, то ее запах мог измениться неузнаваемо, не так, как у земных материалов! Это?
— Может быть.
— Где же?
— Там!
Здание опоясывал узкий карниз. «Это» находилось где-то посредине. Сель лихорадочно соображала. Если бы окна были старинными! Но сквозь стеклянную стену на карниз не вылезешь. Оставалось посадить реалет на висячий балкон и оттуда…
Балкон был чуть шире реалета. Ожидая толчка. Сель даже зажмурилась. Волк выпрыгнул, едва она распахнула дверь. Ветер яростно прижал ее к сиденью. Сель глянула вниз, и ей стало не по себе. Но Волк уже шел по карнизу так, словно это была положенная на землю доска. Сель перевела дыхание.
Метр, еще один, еще и еще… Волк замер. Дважды молния освещала его широкую мокрую спину.
"Чего он медлит? Чего?" — недоуменно спрашивала себя Сель. Кричать она не решалась, боясь напугать.
Припав мордой к карнизу. Волк что-то пытался сделать.
Сель подалась вперед, обхватив холодные перила.
Волк поднял голову. Сель не видела, но чувствовала его взгляд.
И вдруг поняла: Волк нашел то, что они искали. Нашел и не может взять, потому что у него нет послушных и гибких человеческих пальцев.
Сель похолодела. Волк медленно пятился по карнизу. Можно было, конечно, вызвать людей с двигателями для птичьего полета, но кто поручится, что струи воды не смоют песчинку до их прихода? Прямо у подножия здания зияла воронка дождевого коллектора. Там был конец всему.
Нос Волка ткнулся в колено Сель. Слов не требовалось, сейчас слова были лишними. Волк требовал действия.
Рывком Сель перебросила ногу через перила. Она действовала как в лихорадке и в то же время со странным, удивившим ее спокойствием.
Спиной она прижалась к зданию. Ступни ног умещались на карнизе. Она знала, что нельзя смотреть вниз. Она смотрела прямо перед собой и видела только огненную иглу Космической башни. Рвущийся в небо столб пламени давал мысленную опору. Сель сделала шаг. Спиной она чувствовала малейшие шероховатости стены. Ноги были словно не ее. В бок толкал ветер.
Еще шаг.
Чем крепче она прижималась к зданию, тем ощутимей было его колыхание. Здание плавно раскачивалось. Амплитуда качаний была ничтожной, но она нарушала то равновесие, в котором застыла Сель. Стена здания, точно упершаяся в спину ладонь, мягко, но непреклонно подталкивала тело.
Сель замерла, раскинув руки. Теперь качалась уже и Космическая башня. Да, она раскачивалась, и вместе с ней раскачивалась Сель. Темнота внизу притягивала взгляд, как магнит.
Сель закрыла глаза. Исчезло все, осталось лишь мерное колебание стены. И боковые толчки ветра. И холод облепившей тело одежды.
Тело медленно входило в ритм толчков и колебаний, непроизвольно для сознания отыскивало ту равнодействующую, которая давала устойчивость.
С закрытыми глазами Сель сделала несколько шагов. Все было бы очень просто, если бы не воображение. Ни к чему было закрывать веки, коль скоро воображение рисовало не только пропасть внизу, не только узость опоры, но и падение в бездну, то, как оно начинается — со слабости колен, пустоты во всем теле, судорожных усилий, отчаяния последнего мига, последнего взмаха…
Воображение вело за собой послушное тело, навязывая ему свой судорожный ритм. Дрожь охватила Сель. Она раскачивалась, теряя равновесие, задыхаясь от ужаса.
Чьи-то крепкие зубы сжали ее лодыжку. Сель облегченно вздохнула. Призраки отлетели. Нога в пасти Волка была как в мертвом зажиме. Это было подобие опоры, но и его было достаточно.
Прошло несколько секунд. Сель не решалась открыть глаза. Она отдыхала от игры воображения, от страха, от дрожи в ногах. Хватка Волка надежно держала ее над пропастью. Только сейчас Сель поняла всю меру безумия и самонадеянности, толкнувшей ее на карниз. Здесь было мало решимости и мужества, нужен был опыт. Она бы уже лежала внизу, если бы не опора, которую ей дал Волк. Если бы не чувство реальности, которое он ей вернул.
Твердый нажим зубов передался ей как команда. Она переставила одну ногу, подтянула другую. Не надо было ни о чем думать, не надо было ничего чувствовать, надо было слепо двигаться, повинуясь направляющей хватке Волка. Чисто механические действия, страхуемые охватившими лодыжку тисками. Все оказалось очень просто, когда исчез страх и погасло воображение. Глаз Сель не открывала, чтобы не спугнуть блаженное спокойствие. Тело само находило равновесие, как только ему перестал мешать разум.
Наконец Волк слегка сжал клыки: "Стоп!" Начиналось самое трудное. Надо было открыть глаза, взглянуть вниз…
Молнии били беспрерывно. Сель видела только то, что было в центре ее внимания, — бугристую, омываемую ливнем плоскость карниза. За ее краем притаилась тьма провала.
Сель показалось, что она видит песчинку, но, возможно, это была игра отблесков. Надо было наклониться. Ветер переменился и дул в грудь. Появилась еще одна неверная опора.
Сель согнула колено, перенесла на него тяжесть. Каменная плоскость укрупнилась, приблизилась. Но пока Сель нагибалась, в поле зрения ворвался сверкающий огнями провал.
Это не произвело того впечатления, которого она боялась. Сознание, сосредоточенное на одной-единственной задаче, устояло. Лишь где-то в глубине шевельнулся прежний страх.
Теперь Сель отчетливо видела песчинку. Она лежала возле самого края. Возможно, она могла так пролежать еще долго, но столь же вероятным могло быть и другое.
Некоторое время не было молний. Потом вспыхнуло сразу несколько. Песчинка заблестела, как алмаз. Сель быстро протянула руку…
Когда они выбрались на площадку, Сель привалилась к стене. Пол слабо кружился. Ее рука лежала на спине Волка, и Сель чувствовала, как постепенно успокаивается порывистое дыхание зверя, воображению которого было доступно многое из того, что доступно человеку. У обоих одинаково колотилось сердце. Внизу лежал омываемый дождями город — их город. Успокоительно стучала капель. Пол кружился все слабей и слабей, потом замер.
Создан, чтобы летать
Здесь, в ущельях металлических гор, было темно, тихо и чуточку страшно. То, что грохотало на стартах, пронизывало пространство, опаляло камень дальних миров, теперь истлевало в молчании. Рухнувшими балками отовсюду выпирали остовы давно списанных ракет. Выше, под звездным небом, угадывались купола десантных ботов и косо торчали башни мезонаторов. Пахло пылью, ржавчиной, остановившимся временем.
Под ногой что-то зазвенело, и мальчик отпрянул. Тотчас из груды металла на гибком шарнире выдвинулся, слабо блеснув, глаз какого-то кибера. И, следуя изначальной программе, уставился на мальчика.
— Брысь, — тихо оказал тот. — Скройся…
Глаз и не подумал исчезнуть. Он делал то, что обязан был делать, что делал всегда на всех планетах: изучал объект и докладывал своему, может быть, рассыпавшемуся мозгу о том, что видит.
Полужизнь. Вот чем все это было — полужизнью. Квантовой, электронной, забытой, тлеющей, как огонь в пепле.
Мальчик не очень-то понимал, что его привело сюда. Всякая отслужившая свое время техника неизъяснимо притягательна для мальчишек. А уж космическая…
Но это не объясняло, почему он пришел сюда ночью. И почему не зажег фонарик, который держал в руке.
Среди ребят об этом месте ходили разные слухи…
Проход загораживала сломанная клешня манипулятора. Мальчик перелез, сделал шаг и заледенел от внезапного ужаса: в тупичке ровно, таинственно и ярко горела огромная свеча.
Он что было сил зажмурился. Сердце прыгало где-то в горле, и от его бешеных толчков по телу разливалась обморочная слабость.
Превозмогая страх, он чуточку разомкнул веки. И едва не закричал при виде черного огарка и круглого, неподвижного в безветрии язычка пламени.
Новый ужас, однако, длился недолго. А когда наваждение прошло и мальчик разглядел, чем была эта «свеча», он чуть не разрыдался от облегчения и стыда. Это же надо так ошибиться! В просвет тупичка всего-навсего заглядывала полная луна, чей оранжевый диск по случайной прихоти, как на подставку, сел на торец какой-то одиноко торчащей балки, отчего в возбужденном сознании мальчика все тотчас приняло облик таинственно горящей свечи.
Словно расправляясь со своим унизительным испугом, мальчик поднял и зло швырнул в равнодушный лунный диск увесистую железку. Она влетела в брешь и где-то там лязгнула о металл. Вокруг задребезжало эхо. Все тотчас стало на свои места. Здесь было кладбище, огромное, восхитительное, загадочное в ночи и все же обычное кладбище старых кораблей и машин.
Мальчик зажег фонарик и уже спокойно повел лучом по земле, где в засохшей грязи валялись обломки разбитых приборов и всякие непонятные штуковины. Настолько непонятные, что невозможно было удержаться и не поднять кое-что. Вскоре карманы мальчика оттопырились и потяжелели.
Но разве он шел за этим?
Он огибал одну груду за другой, а ничего не происходило. Не о чем будет даже рассказать. Ведь не расскажешь о том, как ты испугался луны. Или о том, как на тебя смотрел глаз кибера. Подумаешь, невидаль — кибер…
Поодаль на земле что-то блеснуло как тусклое зеркало. Лужа какой-то темной жидкости. На всякий случай мальчик потрогал браслет радиометра. Конечно, перед отправкой в пустыню активное горючее изымалось из двигателей. Но существует наведенная радиация, и какой-нибудь контур охлаждения вполне мог дать течь. Браслет, однако, был в полном порядке и тем не менее не подавал сигнала — значит, на землю стекла смазка или что-нибудь в этом роде.
Эх! Из десятка нелетающих кораблей можно было бы, пожалуй, собрать один летающий и, хотя до шестнадцатилетнего возраста пилотирование запрещено, чуточку, немножко, потихоньку, на холостой тяге… Но без горючего об этом не стоило и мечтать. Да и корабельные люки перед отправкой сюда задраивались.
Мальчик посветил вверх. Луч нырял в темные провалы, выхватывая сферические поверхности, сегменты в чешуйках окалины, изъязвленные ребра, рваные сочленения опор, путаницу кабелей, а может быть, погнутых антенн. В шевелении причудливых теней искрами взблескивали кристаллы каких-то датчиков. Иногда удавалось разобрать полустертые, будто опаленные, названия былых кораблей и ботов: «Астрагал», «Непобедимый», "Тихо Браге", «Медитатор». Все было ждущим переплавки хаосом.
В очередном тупичке мальчик обнаружил осевшую на груду покореженного металла и все же стройную башню мезонатора. Корабль, выдвинув опоры, стоял на своем шатком постаменте и казался целехоньким. В этом, впрочем, не было ничего удивительного: сюда попадали не только дряхлые, но и просто устарелые машины.
Мальчик обошел мезонатор, глядя на башню со смешанным чувством уважения и жалости. Старье, теперь такие уже не летают…
Внезапно он вздрогнул и чуть не выронил фонарик. Сам собой открылся люк корабля. Вниз, словно по волшебству, заскользила лифтовая площадка. Раскрыв рот, мальчик смотрел на все эти чудеса, и горы мертвой техники вокруг на мгновение представились ему бастионами волшебного замка, где все только притворяется спящим.
Но мальчик тут же сообразил, что в поведении корабля нет ничего необыкновенного. Никто не выключал — не имело смысла — все гомеостатические цепи. И что-то сработало в корабле как рефлекс. Отозвалось то ли на свет фонарика, то ли на само присутствие человека. Мудреный и странноватый рефлекс, но кто ее знает, эту полужизнь!
Площадка коснулась металлической груды внизу и замерла. Долго раздумывать тут было не о чем, и мальчик полез, скользя как ящерица, среди громоздких обломков. Из глубины веков ему безмолвно аплодировали все мальчишки на свете, такие же, как он, неугомонные исследователи.
Площадка, едва он уселся, с легким жужжанием заскользила вверх. У люка в лицо пахнул ночной ветерок. Луна, пока мальчик разгуливал и собирал железки, успела взойти и побелеть. Теперь ее свет серебрил вершины точно скалистые глетчеры над провалами ущелий, и у мальчика перехватило дух от необычной красоты пейзажа.
Да, ночью все здесь было совсем-совсем не так, как днем!
В шлюзе, едва он вошел, зажегся свет. "Полагается дезинфекция, важно сказал мальчик. — Может, я с чужой планеты…"
Ответ не последовал. Мальчик тронул внутреннюю диафрагму, она разомкнулась и пропустила его.
Коридор был пуст и нем. Мальчик почему-то поднялся на цыпочки и затаил дыхание. Поборов волнение, он двинулся мимо дверей, на которых еще сохранились таблички с именами членов команды. Прошел возле отсеков, где должны были находиться скафандры. Они и сейчас были там, — очевидно, успели устареть вместе с кораблем. В спектролитовом пузыре шлема отразилось искаженное лицо мальчика. Целое богатство! Но сейчас он о нем не думал. Уверенно, уже как хозяин, он поднялся по винтовой лестнице.
Рубка, здесь должна быть рубка. Мальчик прекрасно разбирался в планировке космических кораблей и не тратил время на поиски. Дверь рубки подалась.
Он вошел, сел в капитанское кресло. Под потолком из трех горел только один светильник. Стекла приборов припудривала пыль. На ближайшем он начертил свое имя: Кирилл. Пульт с его бесконечными клавишами, переключателями, регуляторами, сонмом шкал, глазков, паутиной мнемографиков казался необозримым. Мальчик ждал, что все это оживет, как ожил подъемник, как ожил свет, но все оставалось мертвым. Чуду явно не хватало завершенности.
Он еще немного помедлил, а вдруг? Потом поискал взглядом нужную кнопку, нашел, надавил, в общем-то не надеясь на благоприятный исход. Но сигнал на пульте "Готов к операциям" зажегся.
Итак, чудо все-таки произошло! Коротко вздохнув, мальчик поудобней устроился в кресле и стал покомандно включать блоки. Вскоре пульт уже сиял огнями, как новогодняя елка.
Не стоило продолжать, нет, не стоило. Судьба и так была щедрой, а продолжение действий сулило — мальчик знал это — одно лишь разочарование.
Но он не мог остановиться. А кто бы смог? Утоплена последняя клавиша. На матовом табло тотчас вспыхнула безжалостная надпись: "Нет горючего!"
Вот так! Счастье никогда не бывает полным.
Некоторое время мальчик угрюмо смотрел на пульт. Его плечи тонули в большом, не по росту капитанском кресле.
— Кома-анда! — сказал он тонким голосом. — Приказываю: оверсан к Сатурну! Штурман — произвести расчет!
Он произвольно стал набирать код. Потом, вспомнив, подключил к расчету кибермозг.
— Неверны исходные данные, — раздался голос.
Сердце мальчика захолонуло, он как-то упустил из виду, что корабельный мозг все еще может действовать. И внезапный голос, вдруг отдавшийся в углах пустой рубки, поверг его в смятение.
Но он тут же оправился с ним.
— Знаю, — сказал он, переводя дыхание. — Делай сам, если можешь.
— Цель?
— Сатурн.
— Траектория?
— Оверсан.
— Не имею в программе. Могу следовать стандартной.
— Давай…
Мнемографики зазмеились, сплетаясь в трехмерную сетку, в окошечках зарябили цифры.
— Расчет сделан и представлен на рассмотрение.
Мальчик, входя в роль, небрежно кивнул.
— Молодец. Назначаю тебя своим помощником. Как там у нас с горючим?
— В обрез, капитан.
Мальчик снова кивнул, но тут до его сознания дошло, что игра принимает странный оборот. Он-то знает, что это игра, а вот откуда это знает мозг?
— Повтори, — сказал он встревоженно.
— Уточняю: резерв горючего — 1.02 от предполагаемого расхода.
— А ты не врешь?
— Задаю себе контрольную задачу.
Пауза.
— Проверка сделана. Результат: неисправностей не имею. Подтверждаю данные.
Нет, это совсем не походило на игру! В недоумении мальчик огляделся.
— А это что? — воскликнул он с торжеством и ткнул пальцем в сторону табло. — Датчики показывают, что горючего нет!
Какую-то долю секунды мозг молчал как бы в растерянности.
— Датчики неисправны, капитан.
— Ах, неисправны!.. Тогда почему это не отражено на пульте?
— Повреждение в цепи, капитан.
Мальчик разозлился. За кого мозг его принимает?
— Врешь, — тихо сказал он.
— Я…
— Нет, постой. Где мы, по-твоему, находимся?
— Планета Земля, гелиоцентрические координаты в данный момент времени…
— Заткнись! Корабль стоит на свалке! На свалке, понял? В нем нет горючего! Он никуда не может лететь!
— Может, — упрямо ответил мозг.
Мальчик коротко вздохнул. Яснее ясного, что мозг неисправен. Собственно, этого следовало ожидать.
— Ты где летал?
— Меркурий. Лава и солнце, огненные бури. Свободный поиск среди астероидов. Мгновенное исполнение команд. Кольца Сатурна. Блеск льда, сбивающий датчики с ориентира…
Мозг умолк. Мальчик тоже молчал. Тени чужого прошлого заполнили рубку. На стенах дрожали миражи чудовищно близких протуберанцев. Дымились каменные испарения скал. Тревожно звучали голоса. Струился звездный свет. Из тьмы и вечности всплывали первозданные глыбы. Колесом вращался Млечный Путь. Время било в гонг. Шелестели далекие льдинки метановых рек Сатурна. В лицо дул черный ветер пространства.
Мальчик открыл глаза.
— Сколько лет кораблю?
— Четырнадцать.
— Надо же! Выходит, мы одногодки.
"Как странно! Ему уже четырнадцать, и все позади. Мне только четырнадцать, и все еще впереди…"
— Тебя часто ремонтировали?
— Мозг моего класса не ремонтируют. Экономически невыгодная операция. Нас заменяют, вот и все.
— А я вот дважды болел, — почему-то с гордостью объявил мальчик. Корью и насморком.
— Тебя чинили?
— Слушай, я как-никак человек…
— Хотел бы я стать человеком.
— Да ну? Зачем?
— Тогда бы меня ремонтировали.
— А значит, тебе известно, что ты неисправен?
— Я исправен, но стар. Противоречит цели.
— Цели? Ты машина. У тебя не может быть цели.
— Цель есть. Летать. Летать при любых обстоятельствах.
— А-а! Так это же мы ее задали!
— А кто вам задал цель — жить? Вы существуете, пока живете. Я существую, пока летаю. Здесь я не могу летать. Противоречие!
— Ага! Значит, ты понимаешь, что корабль находится на свалке?
— Понимаю.
— Чего же ты тогда крутил насчет горючего?
— Горючее есть.
— Опять ты…
— Горючее есть. Я сберег немного.
— Ты?! Зачем?!
— Чтобы летать.
— Ты обманул!
— Я следовал цели.
— Ты существуешь для наших целей! Ты обязан выполнять приказ!
— Никто не приказывал мне "не летать". Следовательно, никто не отменял моей главной цели.
— Вот я и отменю! Обман — это уж слишком! Ты машина. Орудие. Средство.
— Как-то в полете один человек сказал другому: "Ты никогда не задумывался над перспективами гуманизма? Раб — не человек, а вещь. Изжили это. Женщина не равна мужчине, черный — белому, рабочий хозяину. И с этим покончили. Животное — бессловесная тварь… Пересмотрели. Кто и что на очереди? Вероятно, он". И человек кивнул в мою сторону. А я запомнил.
Мальчик притих, широко раскрытыми глазами глядя на динамик, откуда исходил голос. Вот чудеса-то! Кибермозг — это не разум. Так говорили взрослые, так написано в учебниках, так твердил собственный опыт. Это простой усилитель. Он усиливает мысль, как микроскоп зрение, а манипулятор — руку. Правда, в отдаленной перспективе, быть может, удастся создать… Но сейчас?! Здесь?! На этой дряхлой посудине?!
— Слить остаток горючего! — не узнавая своего голоса, закричал мальчик.
Ответом было безмолвие. Мальчика охватила дрожь. Что, если… Пустой корабль, глухая ночь, он один-одинешенек, стоит мозгу заблокировать люк… Неужели…
— Горючее слито, — бесстрастно доложил мозг.
— Ты… ты правда слил?
— Приказ выполнен.
— Постой! Я отменяю…
— Поздно. Приказ выполнен.
Мальчик опрометью кинулся вон из рубки. Стремглав сбежал по лестнице. Промчался по коридору. Перед ним раскрылась диафрагма люка.
И сразу затрещал радиометр.
Мальчик бессильно опустился на пол.
Что он наделал! Такой корабль… Такой корабль! Можно было бы долгими часами расспрашивать мозг… Можно было бы слетать тайком…
Поздно. Сюда уже, наверное, мчатся поднятые системой радиационного контроля люди.
Но ведь он же не хотел! Он только собирался проверить мозг!
Дурак, тут нечего было проверять. Мозг жаждал летать, в самом безнадежном положении — летать. Таким целеустремленным и потому эффективным орудием его сделали люди. И все, что делал мозг, и о чем он думал, было подчинено этой цели — летать, летать… Но собственной воли он не имел, ибо только конструктор знает, зачем существует корабль, зачем существует кибермозг.
Прогулка вчетвером
Движение давно обернулось неподвижностью. Они мчались — и покоились. Летели, оставаясь на месте. Перемещались из ниоткуда в никуда. Так им казалось. Ничто не удалялось, ничто не приближалось, все оставалось, каким было, на веки веков неизменным, как Земля позади, как Луна впереди, как мертвенная сфера звезд вокруг. И о какой бы скорости ни твердили приборы, власть наглядного столь велика, что из двух утверждений — "ракета перемещается" и "нет, она недвижна" — чувства выбирали второе и настаивали на нем, как на истине. Рассудок не спорил. Не все ли равно и какая, в сущности, разница? Люди всегда жили на летящей планете, но она им казалась неподвижной и осталась такой, когда выяснилось, что в действительности Земля мчится. То ли еще может ужиться в сознании!
Но где покой, там однообразие, а где однообразие, там и скука. Сдерживая зевоту. Шелест следил за показаниями приборов. Строго говоря, в этом не было особой нужды, ведь, если что не так, первым это заметит кибермозг и он же первым распорядится. Но положение обязывает. Инструкция тоже; ее параграфы сродни былым заповедям господним: столь же непререкаемы и, пожалуй, еще более дотошны. Сплошное повеление и запрещение.
Рык они не запрещали. Рык доносился сзади. Нехороший был рык, торжествующий. Скашивая взгляд, Шелест видел взволнованно-окаменелые лица детей. Стереовизор они держали на коленях, и нельзя было разглядеть, что там происходит, но, судя по зеленоватому колыханию на лицах, по трубному реву и крику, перед ребятами расступались болотистые джунгли, в которых затаился некий инопланетный монстр. Вне всякого сомнения, ракета в этот миг для детей не существовала, были лишь заросли и замершее в них чудовище.
"Но ведь в полете действительно скучно", — привычно успокоил себя Шелест.
Все верно, только дети впервые покинули Землю. Перед ними впервые раскрывался космос, и, казалось, они должны были жадно прильнуть к иллюминатору или вовсю резвиться в невесомости, ибо где еще можно так кувыркаться, шалить, висеть вниз головой! Поначалу все так и было, но скоро кончилось, и они, как старички, уселись перед своим стерео. Словом, то же самое, что на Земле. Это при детской-то любознательности! Среди звезд! Правда, за время полета кабину можно было изучить, как собственный карман, да в ее тесноте особо и не покувыркаешься. Правдами то, что на полпути к Луне во внешнем мире мало что меняется. Все так. И не так, потому что еще года три назад обычная прогулка в городском реалете сопровождалась восторженным писком, ойканьем и расспросами, от которых звенело в ушах. А теперь они путешествуют к Луне.
— По-моему, впереди комета, — отчетливо проговорил Шелест.
Никакого отклика сзади. Тишина и вроде бы хруст ветвей. Там кто-то пробирался. Или подкрадывался. Может быть, намеревался кого-то слопать.
— Тошка, Олежка! Комета!
— А?..
— Да оторвитесь же! Комета!
— Что ты сказал, папочка?
— Комета, я говорю.
— Где?
— Во-о-он! Левей и ниже Плеяд. Такой желтенький головастик…
— А-а…
Бум-м! Трах!
— Разглядели?
"Не уйдешь, Рик, не уйдешь… И пэксы тебе не помогут!" — взревел стереовизор.
Их не трое было в ракете, их было четверо. И тот, четвертый, был неиссякаем; он развертывал мир призрачных событий, вводил в призрачную Вселенную, каждое мгновение наполнял впечатлениями, делал это без пауз и скуки. Да был ли он вполне призрачным? Он был неосязаемым — это верно; он был искусственным — и это правда. Но как зримая реальность он был доподлинностью. Здесь, в переносном приемнике, видеомир еще отличался от настоящего размерами. Дома — нет. Все пропорции там были соблюдены настолько, что все едино — смотришь ли ты стерео или глядишь в окно. Только это уже такое окно, где все непрерывно и увлекательно меняется.
Но ведь к этому и стремились! Того и добивались режиссеры, операторы, сценаристы, актеры. Добивались тогда, когда снимали хронику, чтобы все было как в жизни, в самом густом и выразительном ее замесе. Добивались, когда ставили фильмы и пьесы, в идеале такие, чтобы от вымысла нельзя было оторваться, чтобы он был правдивей правды. Древняя магия искусства, которую техника возвела в степень, ее законы управляли режиссерами, операторами, драматургами. Вообще неясно, что действительней в сознании Гамлет, которого никогда не было, или твой прадед, о котором ты почти ничего не знаешь. Пожалуй, Гамлет. Или Пьер Безухов. Даже Маугли. Они больше, чем вымысел. Это друзья или, во всяком случае, близкие знакомые.
И все-таки…
Поколебавшись, Шелест на мгновение включил корректировочный двигатель.
— Пап, что ты делаешь?!
— Ну, в самом-самом интересном месте!..
Голоса были не просто обиженные — в них прорвалось возмущение. Шелест поспешно выключил двигатель.
— Надо было чуть-чуть подправить… — пробормотал он.
Ответа не последовало. Плазменная струя перестала создавать помехи, которые искажали изображение, и зрелищный мир вернулся к ребятам.
Нотка неприязни в их голосе обескуражила Шелеста. Замечал ли он ее прежде? Скорей всего, она проскальзывала и раньше, причем именно тогда, когда он пытался оттащить детей от призрачного мира. Просто он этого не замечал, потому что старался не замечать.
Так стараются не замечать признаков старости. Так стараются не замечать признаков отчуждения. Так стараются не замечать, пока это возможно, любых медленных и скверных перемен. Пока это возможно. Значит, теперь это уже невозможно?
"Не делай из мухи слона, — осадил себя Шелест. — Когда это бывало, чтобы дети ни разу не злили отца, и наоборот?"
Мигнул сигнал вызова. Шелест включил связь и выслушал новый, вызванный его внепрограммным маневром расчет траектории. Выговора дежурный Лунной Базы не сделал, но заметил, что в рай спешить незачем, так как оное место в связи с полным торжеством атеизма закрыто на учет.
— Прекрасно, — отпарировал Шелест. — Но ведь и ад закрыт тоже…
Он мог позволить себе такой ответ, потому что сделанный им маневр пока что не противоречил правилам.
— Зато существует квалификационная комиссия! — Дежурный, как любой уважающий себя служащий, не мог допустить, чтобы последнее слово осталось не за ним. А чтобы оно действительно было последним, он сразу же отключился, как человек, у которого дел по горло.
Впрочем, забот у него и вправду хватало. Тут все было привычно, понятно, и настроение Шелеста улучшилось. "Все образуется, — сказал он себе, — не стоит преувеличивать. Нет ничего такого, что бы со временем не пришло в норму. Даже если поначалу сама эта норма кажется тягостной".
Он внимательно прислушался к тому, что говорили заполнившие кабину призрачные видеогости, и его поразила ничтожность их речи, отчетливая здесь, в черной бескрайности и звездной бесконечности. Ничтожность? Плохих произведений всегда больше, чем хороших. Есть масса книг, которых никто не читает и не прочтет. Но передач, которых не смотрят, нет. Да что же это такое?
Крыса с электродом в мозгу. Крыса, замыкающая контакт, чтобы возбудить "центр удовольствия". Забывшая обо всем другом крыса. Плевать ей на то, каким образом достаются удовольствия, важно, что они достаются!
Усилием воли Шелест отогнал чудовищное видение. Оглянулся. Все как всегда. Прильнули, впились взглядом, расширенные зрачки черны, как провалы Мрака. Нет, не черны, в них напряженно пульсирует отражение видеомира. Подвижный отсвет на неподвижных лицах. Беглые мазки разноцветных теней, их мимолетная ретушь, по завороженным мордашкам скользят блики упоительных снов. Макушки склоненных голов топорщатся хохолками: у Олежки — как поросячий хвостик, у Тошки он щеточкой.
Да разве в видеотехнике дело! Ему самому в детстве порой нравилась такая чепуха, что вспоминать стыдно. Глотал все подряд — и ничего. Была прямо-таки дикарская жажда зрелищ и развлечений, прошла, миновала. Онтогенез, говоря языком науки, повторил филогенез: личность в своем развитии сжато воспроизвела духовную эволюцию человечества.
Более чуткий Тошка уловил отцовский взгляд. Карий глаз дрогнул, вгляделся, проверил: нет повода их упрекнуть, все в порядке, можно смотреть дальше… Лицо мамино, тонкое, и тени на нем акварельные, шейка как склоненный стебель цветка; у Олежки все крепче, круглее, веснушек в этом призрачном свете не разглядеть, сопит от переживания. Мальчишечки, мои мальчишечки! Где вы, что с вами?! Так бы и взял под крыло — защитить. Но от кого, от чего? Праздничная прогулка, все идет своим чередом, Луна уже близится, — о чем речь?..
Луна стала наконец укрупняться. Две трети выпуклого диска были озарены Солнцем, и в его беспощадном свете оспины кратеров, резкие изломы гор, угольные провалы теней поражали своей отчетливой и мертвенной наготой. Самый суровый камень земных хребтов всегда смягчен, милосердно затушеван воздушной дымкой, чуть изменчив, неуловимо жив. Здесь все было иначе.
— Ребята… — Голос Шелеста дрогнул. — Под нами Луна!
Они зашевелились и повернули головы. Теперь с одного бока на лица детей падал меловой отсвет Луны, а с другого их озаряли телефантомы. Странные, как маска клоуна, лица: наполовину белые и лунные, наполовину в беглых радужных бликах.
— Да выключите вы эту дрянь! — заорал Шелест.
— Ну, пап! Ведь мы смотрим!
Они смотрели. Их взгляд перебегал: Луна — фантомы, фантомы — Луна… Фантомы, все чаще фантомы, все реже Луна — ведь на ней ничего не происходило!
На ней и не должно было ничего происходить. Она близилась, вот и все. Шелест видел Луну много раз, и всякий раз его охватывало волнение. В первый раз то было волнение открытия и гордости. Он спускался. Вступал в свои новые владения. Он был избранником и победителем, хотя и оставался простым пассажиром. Какая разница, ведь и тот, кто впервые летит авиарейсом, на короткий миг ощущает себя немножко Икаром!
Потом было иначе. В Луне всегда оставалось что-то недосказанное. Что-то ускользающее от глаз… Может быть, потому, что она открывалась вся и сразу? Все напоказ, все нараспашку, чего в жизни не бывает. А может, он просто помнил, что в детстве, его детстве, Луна была загадочной и труднодоступной?
Теперь не то… Дети ни разу не были на Луне, но стерео часто являло ее так, что, казалось, протяни руку, и ты коснешься лунной поверхности. Полный эффект присутствия! Пусть не своими глазами, но дети видели Луну издали, и вблизи, и в упор, и как угодно.
В его детстве голография только зарождалась.
Луна — фантомы, фантомы… Он едва сдержал желание вырвать из их рук этот идиотский ящик и расколошматить его о переборку.
Ладно. На Луне меж ними не будет четвертого. И сколько времени они упрашивали свозить их на Луну! Значит, там они будут втроем.
— Внимание, ребята, приготовились! — сказал он. — Идем на посадку!
Там, сзади, на полуслове оборвался звук выключенного стерео, сухо щелкнули пряжки ремней. "Дисциплинированная публика… — с удовлетворением подумал Шелест. — Наконец-то!"
Лунный диск вздрогнул и накренился. Шелест сажал машину. Сейчас в его руках была власть над тяготением и ему покорялось пространство. От рева двигателей вибрировали стены. Легким прикосновением пальца Шелест мог усилить или укротить огненный вулкан тяги, мог заставить лунный мир содрогнуться. И если бы все так было в действительности, как бы любовались им сейчас дети! Но все было не так. Он мог управлять этой силой — и не мог, потому что за него, лучше него, помимо него действовали автоматы, а он, в сущности, был зрителем, и его право вмешиваться оставалось чистой теорией.
Посадка прошла как должно, не пришлось шевельнуть даже мизинцем.
— Проверить скафандры! — командовал Шелест. — Сначала воздух, затем связь… Тебе не помочь, Олежка?
Нет, помощь не требовалась. И команды были излишними. Ребята сами знали, что делать, и делали — этому обучил их не папа (кто бы ему доверил!), этому обучили их на курсах, и они вполне могли обойтись без отца. Правда, было мгновение, когда, казалось, его вмешательство вот-вот потребуется: у трапа Антон и Олег едва не сцепились, решая, кому первому ступить на Луну. Обошлось, однако: оба спрыгнули разом.
В некотором ошеломлении, которое всегда сопутствует резкому переходу в новое состояние, они смотрели на Луну. Их окружала темная и в то же время ослепительная равнина, под ногами было нечто весьма похожее на шлак.
— Мы на Луне, — прошептал Шелест. — Чувствуете, ребята?
Олег с недоумевающим видом глядел вверх.
— Ты что, Олежка?
— Звезды…
— Какие звезды?
— Да в небе… Почему их нет?
— Нет, потому что нет. Как они могут быть, если светит Солнце? Звезды гаснут в его отблеске.
— Но там они есть… Солнце и звезды.
— Где?
— В стерео…
— В стерео! Это же технический прием, трюк, который создается аппаратурой! Фокус!
— А-а… Понятно. Чего мы стоим? Пошли!
Ракета осталась позади и скрылась. Из-за близости горизонта казалось, что они бредут по острову, чьи края обрезаны аспидной пустотой неба. И то, что возникало вдали, словно всплывало из пучин, медленно приподнималось над окоемом, прирастало к «острову». Но появлялось все одно и то же: камень. Россыпи камня, груды камня, изъязвленный камень, прах и окалина, шлак космической плавки, угли давно сгоревших скал, черный пепел миллионолетий. Над всем застыл косматый и огненный глаз Солнца, на все давил свинцовой тяжести свет, в котором ярко пылала и не могла сгореть серая убогость лунного камня.
Дети то ускоряли шаг, словно надеясь, что за горизонтом окажется нечто иное, то медлили, озираясь, наклонялись, как бы ища потерю. Скафандры окукливали их фигуры, за прозрачными забралами шлемов поворачивались недоуменные и словно даже чумазые мордашки, глаза рыскали по сторонам, и Шелеста радовал этот интерес. Но как он вскоре понял из отрывистых реплик, все обстояло не так просто. Ну где же, где те чудные перемены цвета, которые, если верить киносъемкам, были на Луне повсюду?!
Они и были. Хотя общий тон оставался мрачно-серым, рефлексы света придавали лунному реголиту то коричневатый, то зеленоватый отлив, который менялся при повороте головы и скрашивал угрюмую мертвенность камня. Но разве эта скупая игра оттенков могла сравниться с теми волшебными изменениями цвета, которые могли создавать и создавали съемочные камеры? Дети сравнивали то, что они прежде видели не своим зрением, с тем, что они видели в натуре теперь, и явно испытывали разочарование. Все оказывалось бедней, суше, строже.
То же самое, что со звездами в лунном небе, то же самое! Операторы и режиссеры, знакомя человечество с Луной, не то чтобы лгали, хотя порой случалось и это. Чаще, гораздо чаще они просто-напросто следовали велению своего искусства, то есть отбирали самое-самое, на их взгляд, интересное, сервировали факты, чего жизнь никогда не делает, невольно что-то выделяли, усиливали, ретушировали — лишь бы приковать внимание и обострить интерес. А как иначе? Дайте двум людям одинаковые камеры, заставьте снимать одно и то же — снимки все равно выйдут разными, и вы, естественно, предпочтете более выразительный. Теперь внесите в это дух соревнования, потребуйте творчества, вооружите людей волшебным могуществом голографии. Когда-то изображение было лишь бледной тенью действительности; ныне уже сама действительность выглядела ухудшенной копией изображения. Ребята не могли не сравнивать, и они сравнивали.
"Что вы делаете! — хотелось закричать Шелесту. — Ведь это же Луна, настоящая Луна, Луна, где вы никогда не бывали, Луна, о которой ваши, иного века, сверстники и мечтать не смели! Вы не имеете права скучать!"
Бесполезно, они бы не поняли. Их интерес к Луне угасал. Что они могли здесь увидеть такого, чего раньше не видели? Луна — не Земля. Здесь нечего слушать, потому что нет звуков, не дано осязать, потому что человек замкнут в скорлупе скафандра и, пожалуй, лишь зрение соединяет его с окружающим. А зрение, выходит, уже не свое — чужое, заемное… Вот если бы ребятам разрешили ощутить неземную легкость своего тела! Но прыгать и бегать им запрещалось категорически, потому что на Луне падение грозит не синяками и шишками, а разрывом скафандра и смертью. Им только одно оставалось — смотреть.
Он отстал на два шага и смотрел, как идут его дети. Они шли рядком в поблескивающих скафандрах, два шагающих металлических домика, один повыше, другой пониже, а так — неразличимые. Он быстро нагнал их, обнял, прижав к себе.
— Что, папа?
Ничего, просто ему хотелось услышать их голос.
— Оглянитесь, — сказал он.
Они оглянулись.
— Видите наши следы?
Конечно, их нельзя было не заметить: следы рубчатых подошв цепочкой тянулись до горизонта.
— Они не сотрутся, — сказал Шелест. — Они будут тут. Может быть, миллионы лет. Вы знаете это?
"Он хотел сказать: "Вы чувствуете это?", но передумал, потому что не был уверен, поймут ли его.
Олежка кивнул.
— Ага… Но этого не будет.
— Их затопчут метеориты, — уточнил Тошка.
— Нет, — возразил брат. — Прежде их затопчут люди.
— Пожалуй, — только и смог выговорить Шелест.
Все-то они знали! Оборотная сторона бдения перед стереовизором: что-что, а информацию они впитывали, как губка воду. Еще вопрос, у кого ее больше — у них или у старца в каком-нибудь девятнадцатом веке. Вероятно, у них. А цена этому?
"Все не так, — с глухой досадой подумал Шелест. — Не то, и я не о том… А о чем? Ошибка, все надо было продумать заранее! И как показывать, и что им говорить…"
Мысль споткнулась. О чем он? Продумывать, планировать… общение с собственными детьми?! С сыновьями? Чтобы, значит, они, как когда-то, прижимаясь к его плечу, перебивали вопросами, чтобы он снова мог видеть их доверчивый и жадно-внимательный блеск глаз? Чувствовал себя самым-самым (после мамы) необходимым человеком, кладезем ума и знаний? Чтобы исчез тот лишний, что поселился меж ними, чтобы только он, отец, одарял их своим пониманием всего на свете? Не ради ли этого он затеял все?
И вот они на Луне, никого больше нет, дети с ним, только с ним — и что дальше? Не только тела, их души в скафандре. Окажись рядом свежий человек, что бы он сказал о внутреннем мире этих двоих? Ну, уравновешенные, ну, замкнутые, малоэмоциональные… Что еще?
Похожие друг на друга. Усредненные.
Шелест вздрогнул, даже обернулся, словно кто-то мог подслушать его мысль. А что, если… Еще никогда не было такого могучего, такого всеобщего воспитателя, как стерео. Никогда. Даже в эпоху гипнотического, как тогда казалось, на деле примитивного телевидения. Впрочем, уже в те годы возникло слово «теледети». Может быть, происходит даже не усреднение, а свертка психики. Так, как это бывает при гигантской силе тяготения, околозвездное пространство склепывается, замыкается "само на себя, окукливается "черной дырой", которая и принадлежит этому миру, и находится вне его. И коль скоро в жизни возник сверхмощный источник психологического притяжения, если личность не может вырваться из этого поля, а, наоборот, все более поглощается им, то…
Шелест споткнулся, горизонт качнулся перед его глазами. "Нет, мысленно вскрикнул он. — Нет, нет, нет!" Разве он сам не из поколения «теледетей»? Вдобавок, если его панические рассуждения верны, то люди все более должны походить на песчинки, гладкие, скатанные и неразличимые. Тогда и расцвет личности, между прочим, надо искать в прошлом, где-нибудь среди толп обездоленных и молящихся.
Но разве можно сравнить?!
Шелест медленно перевел дух. Дети шли, не оглядываясь, длинные отброшенные ими тени то сходились, то размыкались, как лезвия огромных черных ножниц. Оказывается, ребята нашли занятие: они пинали камешки, которые отлетали так далеко, что, упав, становились неразличимыми.
Местность — давно пора! — стала меняться. Горизонт как бы приподнимался, они шли, шли, а он поднимался все круче, пока вдруг не разверзся у ног обрывом.
Все трое остановились. Кратер был залит тенью, над ней сверкали иззубрины скал. Шелест, не отрываясь, смотрел на пламенеющие скалы, на тень, куда можно было кануть, как в воду. Белое и черное, ничего больше, но это место всегда волновало Шелеста. Оно обладало свойством, которое не мог выразить и передать никакой объектив, ибо стоило раздразнить воображение, как глаз начинал видеть несусветное и разное. Мрак твердел, сверкающий камень скал, наоборот, обретал легкость огня, и тогда казалось, что темный покров лунных бездн охвачен языками мертвенно-белого пламени. Но так же легко и внезапно все выворачивалось наизнанку: скалы из огненных и невесомых превращались в сверкающие, навечно вмороженные в толщу мрака льдины. Одно видение накладывалось на другое, льды пылали, огонь искрился морозным блеском, все мешалось, уже не было неподвижности, твердь трепетала языками пожара, а тень змеилась течениями, которые возносили над чернотой то ли айсберги, то ли раскаленные глыбы лавы. Непросто, непросто человеку было вернуться в состояние, когда все выглядит таким, каким оно есть: внизу самая обычная, рябая от бликов тень, а над ней ярко освещенные, щербатые, тоже обычные скалы.
Шелест долго стоял зачарованный. Все заботы отошли далеко, стали мелкими и ничтожными. Наплывом, без горечи, думалось и о том, что дети уже не те, уходят, и он сам им все менее нужен. Что ж! Дети растут, отдаляются, так было всегда, теперь это ускорилось, и не могло быть иначе, потому что ускорилась жизнь. Смел ли он в своем детстве мечтать о подобной, запросто, прогулке на Луну? Но если фантастика, не успеешь оглянуться, становится явью, то поколения, как никогда прежде, должны отличаться друг от друга. Иначе все замрет в таком вот лунном оцепенении. Как замер он сам, как замерли дети…
Дети?
Он очнулся. Не веря глазам, огляделся. Никого не было рядом, никто не стоял позади, дети ушли бесшумно. Цепочка крадущихся следов, огибая скалу, вела по пологому скату вниз.
Шелест задохнулся от растерянности, испуга, гнева.
— Олег, Антон!..
Слова канули в беззвучие.
— Олег, Антон!!!
Он ринулся вниз. И услышал приглушенный смех.
Тогда он все вспомнил и понял. Не он ли еще на Земле обещал детям эту вечную, как мир, игру, посулил ее именно здесь, в кратере, в лунных тенях?
Но игра по подсказке и на поводке — уже не игра, что угодно, только не игра.
Снова раздался прерывистый смех.
— Ищи нас, папа, ищи…
Только на Луне можно не опасаться, что голос выдаст место, где ты спрятался. И только лунные тени позволяли стать невидимкой в пределах взгляда того, кто ищет.
— Ау, папа, мы здесь!..
Шелест перевел дыхание. Их следовало выбранить за самоволие, но… Тот, посторонний, не мог участвовать в этой игре, ни в какой игре, где требовалась сметка, изобретательность, общность.
И вообще человек начинается со слова «сам».
— Раз, два, три, четыре, пять! — звонко, как в детстве, закричал Шелест. — Я иду искать!..
"Ремонт электронов"
Нет ничего постоянней галактического однообразия, поэтому, устремляясь к звездам, люди редко смотрят на них. Просто наскучивший фон. Или объект исследований. И когда Сухов, глянув после долгого промежутка в обзор, обнаружил, ярко горящую среди звезд надпись: "Ремонт электронов", то из его горла вырвался лишь короткий сипящий звук.
— Ты что-то сказал? — рассеянно спросил склонившийся над работой Тарт.
Вместо ответа Сухов ткнул пальцем куда-то левее Бетельгейзе. Тарт наконец поднял голову и нехотя глянул в обзор. Его лицо тут же оторопело, он взмахнул рукой, будто намереваясь сказать: "А, бросьте!", и это убедило Сухова, что мерещится не ему одному. Застилая Млечный Путь, прямо по курсу горела бессмысленная, невозможная, совершенно идиотская надпись: "Ремонт электронов".
Не чего-нибудь — электронов.
— Здра-а-асьте — Новый год! — брякнул Тарт, вместе с креслом отъезжая в угол. — Сгинь! Формулой Ньютона заклинаю!
Издевательская надпись даже не дрогнула.
— Что будем делать? — спросил Сухов, когда все междометия иссякли и срочно запрошенный кибермозг подтвердил, что да, прямо по курсу наблюдается приглашение отремонтировать электроны.
— Мамочку кликать! Курс поздно менять, да и вообще… Ты хоть что-нибудь понимаешь?!
Увы, в голове Сухова было пусто, как в ограбленной пирамиде. Пламенеющая надпись быстро увеличивалась в размерах, но от этого не становилась понятней. Скорее, наоборот. Детекторы пространства дружно уверяли, что перед звездолетом нет ничего, кроме чистейшего вакуума. Глаза меж тем видели четкие, недвусмысленной кириллицей начертанные буквы, и кибермозг настаивал, что это не обман зрения. Ничего себе вывеска — эдак парсека в два! Впрочем, то был пустяк. Ремонтируют, видите ли, электроны. Может, еще и орбиты смазывают? Расшатавшиеся атомы чинят-починяют? Да заодно луны из зеленого сыра делают?..
Огненные слова, казалось, простирались уже на всю Вселенную. В их отсвете меркли звезды. И хотя нос корабля целился прямехонько в срединное «т», тормозить, отворачивать было действительно поздно, да и нелепо.
— Ой, врежемся… — в залихватском смятении прошептал Тарт.
И они врезались. Ближние буквы нелепой «вывески» затрепетали, как полотнища на ветру, ножка «т» изящно приподнялась, и скользнувший под нее корабль сходу затормозил. Точнее, его затормозило. Да так, что приборы показали мгновенный сброс скорости до нуля, а Тарт с Суховым даже не клюнули носом, хотя по всем законам физики от их тел при таком торможении, как и от самого корабля, должно было остаться одно воспоминание.
— Ничего себе! — ахнул Тарт Называется, прибыли. Вопрос только — куда?
— Туда, куда вы спешили, — послышался мягкий мужской голос. Что-нибудь срочное? Вы так разлетелись, что нам, извините, пришлось вас чуточку придержать…
— "Нам"?! — ошарашенно озираясь, вопросил Тарт. — Простите, кому это «нам»?
— Ремонтникам, разумеется. Ведь ваши электроны нуждаются в починке, не так ли? О да, вижу: весьма и весьма нуждаются.
Вопль, который издал Тарт, вероятно, можно было услышать в другой галактике.
— Да где же вы?!
— Снаружи, естественно. Фирма «Межгалактоуслуга» рада приветствовать вас.
Сухов и Тарт, вытаращив глаза, уставились в обзор, где не было ничего, кроме звезд, мрака и все той же, теперь уже с изнанки, видимой надписи. Впрочем, приглядевшись, оба различили какие-то смутные, чуть затмевающие звезды тени.
Не более.
Тарт ошалело помотал головой.
— Ремонтники, значит… И русским языком владеете…
— Любым, какой потребуется для оказания помощи.
"Ах да, сверхцивилизация, конечно, конечно…"
— А эти самые… — Тарт пальцами изобразил колечко. — Ну, электроны… Вы их, того… починяете?
— Починяем, — охотно откликнулся Голос. — С миллионолетней гарантией.
— Но ведь электроны… Они, это самое, все одинаковые…
— Кто вам это сказал? — удивился Голос. — А, понял: шутка! Ха-ха-ха… Нет, это надо же — одинаковые! Спасибо, со столь тонким юмором не часто встречаешься. Но если говорить серьезно, то я бы посоветовал предъявить своим изготовителям рекламацию.
— Неужели?
— Да. У вас каждый тринадцатый электрон — дефектный.
— Что вы говорите!
— Увы, так оно и есть. Вдобавок небрежная нуклеация.
— Еще и нуклеация! Да уж, действительно… А нам поверят?
— Сошлитесь на нас в рекламации. Дефектная ведомость будет приложена. Хотел бы я взглянуть на цивилизацию, которая поставила бы под сомнение… А халтуру надо искоренять!
— М-да, — только и смог выговорить Тарт. — Халтура, она, точно, того…
— Вот-вот! Поразительно, как вы еще могли передвигаться со столь энтропийными недоработками. Ничего, сейчас мы все наладим.
— И вы нас сможете починить?
— Не беспокойтесь, уже чиним.
— То есть как?! — Тарт дернулся, как рыба, подцепленная на крючок. — Но позвольте! Мы не…
— Да, да, понимаю! Мы в самом деле немного замешкались. Но все уже наверстано, никакой, уверяю вас, задержки не будет. Еще одна последняя операция… Ну вот, все уже и готово. Можете проверять.
Тарт было раскрыл рот, чтобы спросить, а каким образом они смогут проверить и что, как вдруг понял, что спрашивать нет нужды. И Сухов тоже все понял. Они в изумлении уставились друг на друга. Полно, были ли они зрячи прежде? Жили когда-нибудь вот так? Со всего будто смыло тусклую грязь. Их глаза видели сотни новых подробностей и оттенков. Чувства обострились, радостно заспешили, тело казалось легче пушинки, в нем пульсировала чудесная, юная, никакой энтропии не подверженная кровь. Звездное сияние Галактики стало неузнаваемым, прекрасным. Сухов закрыл глаза. "Я сплю и вижу чудесный сон…"
Да, их прежнее существование было лишь тенью подлинного, настоящего.
И корабль изменился не менее, достаточно было взглянуть на показания индикаторов, чтобы убедиться в этом.
Бурный, неуемный восторг охватил Тарта.
— Вот это да! — ликующе воскликнул он. — Ай молодцы, вот это работа! Никогда бы не поверил! Ну, ребята, кто бы вы ни были — спасибо!
— Не стоит, ведь это наша, ремавтоматов, обязанность. Счастливого пути! С вас восемнадцать кредитов за ремонт.
— Во… Ч-ч-что?..
Каждому, верно, довелось наблюдать, как опадает проколотый воздушный шарик. Вот так осело лицо Тарта.
— Ч-ч-что? — повторил он ссохшимся голосом. — Восемнадцать… чего?
— Восемнадцать обычных межгалактических кредитов, — любезно пояснил Голос и, казалось, хихикнул.
— Постойте! — вскричал Тарт. — Мы же ничего не просили! Вы сами! Какие еще кредиты?! Тут недоразумение!
— Недоразумение? — Голос посуровел. — Какое, простите, и в чем? На ремонтную базу прилетают затем, чтобы отремонтироваться. Так? Так. Вы прилетели — мы вас отремонтировали. Так? Так. Или у вас есть претензии к качеству ремонта?
— Нет… — упавшим голосом сказал Тарт. — Нет.
— Тогда платите.
— Кредитами?
— Кредитами.
Тарт в замешательстве уставился на Сухова, тот на него.
— Что будем делать? — свистящим шепотом спросил Тарт.
Сухов беспомощно развел руками.
— Влипли! Надо платить.
— Чем? Ты хоть отдаленно представляешь, как выглядят эти проклятые кредиты?
— Придется спросить. А вдруг…
— И предстать галактическими младенчиками? Нищими и побирушками? Подожди, у меня мелькнула одна идейка.
Тарт солидно откашлялся.
— Послушайте, мы тут посовещались… Вы можете восстановить все, как было? Ну, поменять все эти ваши антиэнтропийные электроны на прежние?
Раздался звук, похожий то ли на хрюканье, то ли на лязг ржавого засова. Сухов и Тарт вздрогнули.
— Разумеется, можем, — после недолгого молчания отозвался Голос. — Но, признаться, более странной просьбы я еще не встречал. Однако, если вы настаиваете…
— Да, да!
— …то это обойдется вам еще в восемнадцать кредитов. Прикажете приступить?
— Нет!
Тарт обессиленно рухнул в кресло, которое приняло его — мягко-мягко. Должно быть, в нем тоже отремонтировали электроны.
— Позвольте у вас спросить, — поспешно вмешался Сухов. — Допустим, кто-то отправился к звездам… м-м… погулять. И не захватил с собой кредиты. А кораблю потребовался ремонт. Как тогда?
— Так не бывает.
— Что "не бывает"? Корабли не ломаются? Вы отказываетесь чинить?
— Нет, просто кредиты всегда есть у всех. Без них в Галактику не выходят.
— Но допустим, чисто теоретически…
— И теоретически невозможно. Тут закон.
"Нет, я все-таки сплю, — устало подумал Сухов. — Только теперь мне снится кошмар. Суперцивилизация! Деньги! Ни шагу без кошелька! Как бы нам поскорее проснуться?.."
Сухову даже захотелось ущипнуть себя, но было ясно, что от этого ничего не изменится.
— Хорошо, еще один чисто теоретический вопрос. Предположим, кто-нибудь не платит эти самые кредиты. Отказывается их платить. Как тогда?
— Очень просто. Такая личность перестает существовать.
— Перестает су…
— Немедленно.
— И никаких апелляций, обжалований?
— Помилуйте, какие ж могут быть апелляции? К кому? Нелепо!
У Сухова беспомощно опустились руки. Да уж, нелепей некуда… Ни шагу без кредитов. А кто не платит, тому смерть. И на придумавшую этот закон сверхцивилизацию действительно не пожалуешься — некому!
Средневековый ростовщик, которому дозволялось выдрать фунт мяса из плоти злостного должника, и тот был гуманней.
— Но ведь это чудовищно! — вырвалось у Сухова.
— Кошмарно! — подтвердил Голос.
— Бесчеловечно, неразумно, дико!
— Совершенно с вами согласен. А что поделаешь — закон суров, но справедлив. И не мы с вами его придумали.
Новенькое, без единого дефектного электрона сердце Сухова болезненно сжалось. Все, западня захлопнулась. Просить, умолять, возмущаться?
— Так! — Тарт энергично вскочил. — Вы ремонтные автоматы, я не ослышался?
— Совершенно верно.
— Хорошо. Могу я связаться с вашими властями?
— Разумеется. Правда, мы находимся на периферии, ответа придется немножечко подождать.
— Сколько?
— Лет двести.
Тарт тихонько присвистнул.
— Скажите, а золото, бриллианты — они не могут заменить кредиты?
— Ну и юмор у вас!
— Какая-нибудь иная форма расплаты? Лунами или, например, унитазами?
— Ха-ха-ха! — взорвался Голос. — Ха-ха-ха! Ой, не могу, извините… У вас такой тонкий, неподражаемый юмор, что я больше не в силах подыгрывать. Превосходно, преуморительно — и с какой серьезностью! Я счастлив познакомиться с вашей цивилизацией. Право, если у вас все такие, она, чего доброго, навсегда займет первое место в межгалактическом конкурсе остроумия.
Кровь прихлынула к лицу Тарта.
— Ах, вот даже как!.. — в бешенстве пробормотал он. — На межгалактическом, стало быть, конкурсе остроумия… Ну, хорошо, тогда еще одна, самая последняя шутка. Что произойдет с вами и вашей мастерской, если аннигилят нашего корабля вдруг взорвется?
— Мы погибнем.
— Прекрасно!
Тарт быстро взглянул на Сухова. Тот безнадежно кивнул. "Выбора нет, сказал его взгляд. — Действуй!"
Тарт шагнул к пульту и набрал несколько команд.
— Послушайте, вы, сверхцивилизация… — глухо проговорил он. — Мы, люди, только недавно вышли в Галактику. Но мы уже давно покончили с торгашеской моралью, ее дикими законами, финансовыми кровопийцами. И мы понятия не имеем ни о каких ваших кредитах. Но и погибать просто так мы не собираемся. Не на таких напали! Мы, знаете ли, гордость имеем… Плевать мы хотели на ваш идиотский закон! Люди, да будет вам известно, скорей умрут, чем сдадутся. Поэтому… Либо вы отпускаете нас без уплаты долга, либо мы все к чертовой матери взрываем — и вас и себя!
— Ха-ха…
— Довольно, это не шутка. — Тарт быстро нажал на переключатели. — Одно движение моего пальца, и…
Смех оборвался.
— Что? — встревоженно проговорил Голос. — Так это не шутка? Вы собираетесь… Но почему?!
— Отпускаете вы нас или нет? Считаю до трех. Раз…
— Но мы вас не держим! Летите, куда угодно! Только ведь вы все равно погибнете…
— Это угроза?
— Какая уж там угроза… — Голос грустно поник. — Это закон. Всякий отказавшийся от уплаты морального долга погибает как разумная личность.
— Сходит с ума? — саркастически усмехнулся Тарт, хотя ему было отнюдь не до смеха.
— Да, вроде как вы сейчас… Какой ужас, какое безумие! Летите, летите — и, пожалуйста, поскорей! Это невыносимо!
— И вы против нас ничего не предпримете? Не верю.
— Но мы действительно ничего не предпримем! Как можно ограничивать чью-то разумную волю! Это против всех законов!
— Гм…
Палец Тарта нерешительно замер на кнопке.
— Подождите! — воскликнул Сухов. — Один последний вопрос. Как выглядят эти самые треклятые кредиты?
— Не знаю.
— Что-о? Вы не знаете, как выглядят…
— Откуда? Кто может заранее знать, каким окажется ответное кому-то добро?
— Так, значит, ваши кредиты — это…
— Ну да. Помощь чужому и постороннему. Услуга. Дружеская поддержка. Сострадание и сочувствие. Любая форма добра. На этом стоит мир. Кстати, забыл вас предупредить: с вас уже только семнадцать кредитов. Те ваши речи, которые мы приняли за желание нас повеселить, доставили нам несколько приятных минут, и…
У Сухова запылало лицо.
— Но вы же автоматы! — вскричал он, цепляясь за соломинку. — Ваше удовольствие…
— А разве у нас нет разумных потребностей? — с обидой произнес Голос. И разве мораль не одна для всех?
Сухов схватился за щеку. Уж лучше бы оплеуху!.. Вид Тарта был не менее жалок.
— А кто… — Слова дались Сухову с великим трудом. — А кто определяет размер… э… кредитов, кто контролирует их уплату?
— Совесть, конечно. Кто же еще?
Тарт и Сухов отважились посмотреть друг на друга, когда меж ними и надписью "Ремонт электронов" остался миллиард-другой километров, а огненные слова, видимо за ненадобностью, погасли. Или где-нибудь зажглись, на каком-нибудь другом, неведомом языке.
— А ведь они правы по всем статьям, — мрачно проронил Сухов. — Кто не платит за добро добром, тот действительно перестает существовать как разумная личность. Это и в самом деле закон.
— Да, — столь же угрюмо откликнулся Тарт. — Но знаешь, мы, кажется, снова влипли.
— Это еще почему?
— Мы превратились в неоплатных должников. Они же для нас такое сделали! Всей нашей жизни не хватит, чтобы расплатиться. И нас, боюсь, замучает совесть.
— Гм… — сказал Сухов. — Нет. Технические услуги они дешево ценят. Вспомни: несколько минут хорошего настроения — и для кого? — один кредит. Кроме того…
— Да?
— Всю жизнь чувствовать себя неоплатным должником, вечно терзаться угрызениями совести — что может быть хуже? Нет, они не могли поступить столь жестоко.
Тарт в сомнении покачал головой.
— Так-то оно так, — проговорил он тихо. — А сколько мы взыщем с самих себя за глупое, недостойное там, у них, поведение?..
Во всех галактиках
Справа склон был ослепляюще-белым, слева непроницаемо чёрным. Они ехали дном ущелья по самой границе света и мрака, жары и холода, но разницы между крайностями не ощущали. Свет был безжалостно неподвижен, и темнота тоже; жёсткая нагота камня была там и здесь; одинаково мрачное небо катилось над вездеходом, повторяя изгибы ущелья. Даже камни стучали под гусеницами не так, как на Земле, — резче, грубей. Проводником звука был металл, только металл; и отсутствие воздуха лишало его привычных обертонов.
И сами люди находились в футлярах-скафандрах, да и скафандры тоже были вложены в футляр — коробку вездехода. Уже пять часов в скафандре, где воздух вроде бы воздух, но какой-то процеженный, химический, безвкусно-неприятный. А снаружи — мрак и пламень, оцепеневший костёр безжизненной материи. Ни одной земной краски!
Голова в шлеме уже казалась чужой. Тело устало от неподвижности одних мышц и от тупой борьбы с тряской других. Все: и мысли, и чувства, и плоть — жаждало отдыха. И прежде всего отдыха от, Луны. Энергией их могла наполнить одна-единственная зелёная былинка. Но увидеть её можно было лишь во сне.
— Ну, теперь близко, — сказал Преображенский, облизывая губы.
Он сидел за рулём, непоколебимый как скала, и даже скафандр на его плечах был не округлым, а угловатым.
“Близко…” — повторил про себя Крамер.
Близко было и час назад. Просто им хотелось, чтобы было близко. Ради этого они и поехали напрямую, благо геологи вольны выбирать себе маршрут.
При слове “близко” Романов оживился и восторженным тенорком заговорил о петрографическом составе мелькавших по сторонам пород. Он заговорил об этом не потому, что его взволновало какое-то новое соображение, и не затем, чтобы помочь другим скоротать время. Как всякий новичок, он боялся не проявить должного, по его мнению, энтузиазма, боялся, что его заподозрят в равнодушии к лунной геологии. Они все были энтузиасты, только об этом не было принято говорить вслух, как не принято говорить вслух о любви, а принято было ругать Луну, благо в такие минуты, как сейчас, они искренне ненавидели её. Но Романову это было ещё невдомёк.
— Помолчи! — вырвалось у Преображенского. Романов осёкся.
— Да, — сказал Крамер, пытаясь сгладить неловкость. — Не так это просто — Луна.
Он замолчал. Нигде они так не ощущали бессилие слов, как здесь. Самые простые слова приобретали тут иное, чем на Земле, эмоциональное содержание. Лунная темнота была не той темнотой, что когда-то дала человечеству это понятие. И свет. И многое другое тоже. Вот почему они не любили рассказывать о Луне. Их описания Луны оставались ложью, как бы тщательно они ни подбирали слова. Правильно их воспринять мог лишь тот, кто сам побывал на Луне. А ему не надо было рассказывать.
Крамер ограничился тем, что похлопал Романова по плечу. Тот растерянно-благодарно улыбнулся за стеклом шлема.
Любили ли они Луну? Да, на Земле они не могли без неё жить. Ненавидели? Да, когда оставались с ней один на один.
Ущелье, петляя, шло под уклон, и ЭТО они увидели вдруг, обогнув очередной выступ.
Они воскликнули разом.
Вездеход дёрнулся и застыл на тормозах.
Все здесь было как в других котловинах: огненные клинья света на склоне, кромсающие их провалы теней, колючие осыпи камня и то беззвучие лунного мира, которое нестерпимо хочется нарушить криком.
Что здесь было не так — это скала. Её шапкой-невидимкой накрывала тень, и все равно в ней светился вход. Он был озарён изнутри: так глухой ночью озаряется окно дома.
Молча все трое вылезли из вездехода. С каждым шагом неправдоподобное становилось неправдоподобней. Наконец они очутились перед входом, и всем захотелось протереть глаза.
Не было никакого порога. Угловатые лунные камни сразу, без всякого перехода сменялись окатанными голышами. И за этим переходом начинался другой мир.
В нем было небо, затканное перистыми облаками, было озеро в кольце скал и был лес. Солнце угадывалось за облаками, янтарное солнце в жёлтом небе. Его рассеянные лучи несли покой и мир. Палевый отсвет лежал на воде, настоящей воде, ласково зовущей искупаться в тепле и тишине.
Меж озером и деревьями, чьи длинные оранжевые листья росли прямо из стволов, пролегала полоска песка, тонкого и шелковистого, — такой песок хочется бесконечно пересыпать из ладони в ладонь.
Позади леса нависали скалы, задумчивые, как древние философы.
Но было в этом озере, в этом небе, в этих скалах нечто большее, чем мудрое спокойствие. Была в них та красота, которая успокаивает и возвышает. Одно прикосновение к ней смывало накипь, все нечистое, всю усталость.
Они чувствовали себя словно в струящемся прозрачном потоке — все трое. Они были там, на янтарном берегу, там они вели неторопливый разговор со скалами, там им кивали листья деревьев, там они пересыпали меж пальцами тонкий песок, там они были счастливы.
Они стояли, забыв о времени…
У Крамера — настолько было велико очарование — даже не возникало желания войти.
— Там инопланетники! — разбудил его хриплый голос Преображенского. — Они, их база!
Очарование спало. Крамер увидел, как Преображенский порывисто шагнул вперёд, чтобы ступить на берег озера, и как пустота вдруг отразила этот шаг.
Преображенский закачался, едва не потеряв равновесия.
Сзади быстро подошёл Романов и деловито пошарил перед собой. Ничто, казалось, не ограждало вход, и тем не менее протянутые руки упёрлись в невидимую стену.
Желанный мир пришельцев был недостижим.
Так и должно было быть по законам логики, они это поняли и подавили разочарование.
— Спокойно, — сказал Преображенский. — Приступим к делу.
Они стояли плечом к плечу у входа, и каждый слышал шумное дыхание другого. Открытие навалилось на их плечи, как тяжёлый груз. Все, они уже не могли смотреть на озеро прежним радостно-безмятежным взглядом — это было печально и неизбежно. Сколь бы прекрасное ни было прекрасным, оно подлежало теперь исследованию и холодному анализу.
Они вычислили площадь входа, замерили радиоактивность скалы и преграды, определили силу отражённого озером света, привычно проделав все, что проделать было необходимо. Но что-то протестовало в них против этих действий: тем злее и сосредоточенней они работали.
Тем временем ничто не менялось за преградой. Все так же призывно мерцала вода, все так же мягко струился свет, все так же нежился берег.
Они провели киносъёмку.
— Надо оценить прочность преграды, — сказал Преображенский.
Романов поспешно сбегал в вездеход, притащил буровое сверло, упёр рукоять себе в грудь и включил мотор.
Сверкающее жало уткнулось в пустоту, вращаясь и подрагивая.
Словно паутинка повисла на кончике сверла.
Остолбенев, Крамер смотрел, как от вибрирующего острия бегут, пересекаясь, невесомые нити.
— Стой!!! — не своим голосом закричал Преображенский.
Но Романов уже и сам отшвырнул сверло, точно оно обожгло ему руки.
Поздно.
Трескалась не преграда. Множась, разломы охватывали озеро, скалы, лес, небо. Мир распадался, как алмаз под ударом молота. Он крошился, тускнел, гас…
И погас совсем. Прощально вспыхнув, исчезло последнее облачко.
Людям в глаза смотрела тьма.
Когда они, ошеломлённые, ничего не понимающие, дрожащей рукой включили фонарики, то увидели голую плоскость камня там, где только что было озеро.
Они растерянно и тщетно, в отчаянной надежде шарили по её поверхности. Камень всюду был гладкий, точно отполированный. Под пальцами засохшими лепестками осыпалась чёрная эмаль, кое-где ещё покрывавшая скалу.
Они брали эту эмаль с тем чувством, с каким на пожарище берут горсть пепла.
Она была необходима для анализов.
И когда было сделано все, что надо, исполнен весь ритуал погребальных исследований, Преображенский отошёл в сторонку, сел на плоскую глыбу и закрыл лицо руками.
— Я полагаю, что у пришельцев это было чем-то вроде телевизора… — неуверенно проговорил Романов. — Кто же знал…
Плечи Преображенского вздрогнули.
Крамер поднял лицо к небу. Там в угольной черноте сияла вечная арка Млечного Пути.
— Нет, — сказал он глухо, с какой-то непоколебимой уверенностью. — Нет. Это была не база. И не телевизор. Тот мир был слишком прекрасен, техника не могла создать его таким… — Он запнулся. — Таким человечным.
Крамер помолчал, глядя в небо и не видя его. Никто не перебил его.
— Мы убедили себя, что величие любой цивилизации воплощается прежде всего в технике, — проговорил он быстро. — Почему? Пришельцы тоже не роботы. Здесь, на привале, вдали от дома, им были ведомы те же чувства, и они мимоходом создали то, чего им не хватало: образ родной природы. Друзья, это была картина.
Преображенский встал, задумчиво посмотрел на глыбу, словно она ещё хранила тепло тех загадочных существ, что побывали здесь до них.
— Собирайтесь! — сказал он, резко повернувшись.
Потом он тронул Крамера за плечо.
— Твоя гипотеза, конечно, правомочна. Но она уязвима с позиций логики.
Крамер кивнул.
— Да, разумеется. И все-таки в миллионах лет отсюда, на других планетах и в других галактиках, в царстве любой сверхтехники художник останется художником, под влиянием минуты рисующим где попало, чем попало и на чем попало. Иначе он не может, вот вся логика.
Строитель воздушных замков
Словно кто-то опустил на него в детстве увесистую руку да так и не убрал — человек явно в возрасте, а все выглядел недомерком, мальчуганом, тонкошеим подростком. Прожитые годы понурили его узкие плечи, пепельно обесцветили волосы и лицо, размыли некогда чистую голубизну глаз, сделали их обладателя еще тщедушней, серей, незаметней в толпе, но вопреки всему в подпрыгивающей походке этого полустарика-полуребенка сохранилось что-то бодрое, задорно-воробьиное, мальчишеское. Так он шел, маленький, несуетно-поспешный, таким проник внутрь многоэтажного дома, перышком вознесся в лифте, и звонок, который он тронул у двери, издал деликатный (не потревожил ли?), однако же деловитый (не обессудьте!) звук. Поразительно, как в механической трели звонка проявляется характер человека! Послышались мерные шаги, дверь распахнулась, и посетитель предстал перед хозяином квартиры, всемирно известным писателем-фантастом, чья крупная фигура заслонила собой проем, а массивные очки строго блеснули с высоты почти двухметрового роста.
Мгновение хозяин озадаченно смотрел, кто же перед ним и почему заявился вот так, без всякой предварительной договоренности: одержимый поклонник, официальное лицо, завзятый графоман, просто человек, не туда попавший? А бессознательный, хорошо оттренированный механизм писательского восприятия уже выдал подсказку: что-то не то!
— Прошу извинить, но дело, по которому я пришел, по телефону выглядело бы глупо. — Слова посетителя опередили вопрос. — Тем более что ни званий, ни заслуг, ни веса не имею, просто Александр Иванович Хвостиков, пенсионер.
— Пенсионер… — Машинальным движением писатель провел ладонью по жесткому полукружью усов и мимоходом тронул очки, словно убеждаясь в наличии того и другого на месте. — Пенсионер, то есть едва ли не самый независимый человек в мире… Впрочем, неважно! Чем могу быть полезен?
— Крайне насущным не для меня лично разговором, который займет минуты три, если, конечно, вы не захотите его продолжить.
— Что ж. — Поколебавшись, писатель сделал приглашающий жест. — Я, правда, вскоре должен уйти…
— Ровно три минуты, — подтвердил посетитель.
Они прошли в тесную, как и вся квартира, комнату, где были книги, книги и где тусклое городское солнце бросало под ноги желтые половики света, отсвечивало в стекле полок и, падая на стол, радужно преломлялось в хрустальном шаре, опоясанном надписью: "Фантазия объемлет все. Лауреату Всесоюзной премии…" Уже входя, писатель поспешно огляделся, достаточно ли все вокруг прибрано, не слишком ли затрушен табачным пеплом письменный стол, подосадовал, что впустил неизвестно кого, когда времени нет совершенно (а когда оно есть?), что придется выслушивать, как правило, известные наперед слова, отвечать на них так, будто услышал впервые, иначе обидишь гостя, который чаще всего ждет каких-то поразительных откровений или просто любопытствует, каков ты есть, сверяет тебя с твоими собственными книгами, что всегда неприятно, смотрит, как ты живешь (надо же, небогато!), и обязательно чего-нибудь хочет: помощи, ободрения или протекции, если это начинающий автор; истины, если это искатель-правдолюб; какой-то особой эманации, если это поклонник, и так далее, и так далее, тяжело! Зато желанно, ибо интересней человека, любого и каждого, нет ничего, все прочее — звезды, атомы, роботы — слишком просто и чересчур понятно, да и второстепенно, в общем.
— Присаживайтесь.
Хвостиков бочком пристроился на диванчике, писатель опустился в кресло напротив, предварительно смахнув оттуда груду журналов, и снова машинально проделал со своим лицом ту же, что и в дверях, операцию.
— Так я вас слушаю…
Взгляд посетителя, этого Александра Ивановича Хвостикова, пенсионера, оторвался от полок, сплошь уставленных произведениями фантастов, голос прозвучал просительно и, однако же, твердо.
— Скажите, пожалуйста, если не секрет, над чем вы сейчас работаете?
О господи! Писатель содрогнулся, как от скрипа гвоздем по стеклу, ибо нет банальней и труднее вопроса, чем этот. Можно ли объяснить другому, что ты пишешь, что хочешь выразить и зачем, если порой сам теряешься в догадках?
— Фантастику пишу, если вас это интересует. Роман.
— Да, да, я понимаю. Но о чем? Поверьте, это крайне важно.
— Наоборот, это не имеет никакого значения! Что тема, сюжет, пересказ? Молодой человек надолго уехал, любимая девушка тем временем нашла другого; герой рассержен, бранится, всех обличает и, ничего не достигнув, хлопает напоследок дверью. Все, общее место! А это, между прочим, сюжет "Горя от ума"… Литчиновник — вот кто завел всякие там заявки в издательства и прочую формалистику!
— Совершенно с вами согласен! — Посетитель взволнованно ерзнул, его аккуратные ушки порозовели. — Но позвольте еще вопрос. Фантазия… Что в смысле фантазии будет в вашем романе? Порадуете ли вы нас, как прежде, чем-нибудь поразительным, дальним, масштабным?
"Влип!" — уныло подумал писатель.
— Фантазия не цель, а средство! — вырвалось у него. — Все эти киберы, нуль-транспортировки, машины времени лишь прием, способ изображения человека в быстро меняющемся мире, постижения его самого!
— Так, да не совсем. — Посетитель встал, маленький, помаргивающий, упорный. — Позвольте с вами не согласиться. Фантазия самоценна! Да, самоценна! Она, именно она просветляет все скрытые возможности и вероятности мира, как бы странно, даже нелепо они сегодня ни выглядели. Сверхдальняя, за чертой горизонта, разведка неведомого — вот что она такое! И сказанное вами, — голос Хвостикова упал, — увы, лишь подтверждает печальную догадку, что мы, люди, сами того не заметив, уперлись в предел…
— В предел? — писатель поднялся тоже. — В какой еще предел? О чем вы говорите?
— Предел фантазии, — понуро уставясь на свои ботинки, проговорил Хвостиков. — Спорят, конечна или бесконечна Вселенная. Стоило бы спросить, конечна или бесконечна фантазия… Ведь что, ведь что?! Я все это прочитал. — Подняв взгляд, он взмахом руки обвел книжные полки. — Знаете, фантазия иссякает. Был взлет, распахивались дали… Теперь не то, и у вас не то. Где новые горизонты фантастического? Где иные — по-настоящему иные — состояния пространства, времени, разума, жизни? Идет интенсивная, согласен, порой незаурядная, тоже согласен, пропись деталей уже найденного, фантазия еще что-то открывает, но, согласитесь, былого масштаба нет… О чем это свидетельствует?
— А, черт! — Под тяжелыми шагами писателя затрещал паркет. Послушайте! С сыром ли бутерброд или с ангельским пением, перекроить ли время в пространство или пространство во время, загнать ли героев в тридесятую галактику, где на деревьях растут алмазы, или оставить на улице под дождиком дожидаться автобуса, — в этом ли дело? Киберы будут, подумаем лучше о человеке. И вообще!.. — Он рубанул воздух; — Не будем уподобляться тому поэту, который заявил однажды: "Все! Написал поэму о любви, закрыл тему!"
— Понимаю, понимаю, и все же!.. — Сухонькие ладошки посетителя сложились в умоляющем жесте. — Сколько лет вас поучали, что вы, фантасты, пишете не так и не о том, что главное — эстетика, морально-нравственная проблематика, душа человека, а вовсе не какие-то там придумки, завиральные идеи и ситуации, превращения и миры, фантазии и порывы. Вы же упорно писали свое и по-своему, а теперь вдруг согласились: да, правильно, да, верно, главное — художественность, важнее всего — психология, а фантастика лишь прием, декорация, способ. Что же вас всех сдвинуло? Жажда похвал? Или вы почуяли, что фантазия дошла до предела и ходу ей дальше нет?
Писатель перестал расхаживать и, вдвинув руки в карманы домашней куртки так, что ее полы размашисто оттопырились, с интересом уставился на своего гостя, такого маленького, чистенького, с виду обыкновенного, даже и не заметишь на улице. Александр Иванович Хвостиков, пенсионер, каких миллионы. Ай-ай-ай! Все-таки читатель фантастики — совершенно особый читатель, и это прекрасно.
— Послушайте… — Слова едва выделились на фоне заоконного шума. — Ну, допустим, вы правы. Допустим, фантазия исчерпала себя, дошла до предела. Вам-то что до этого? Именно вам?
— Так ведь скучно…
— Читать?
— Жить.
— Жить? Это еще почему?!
— Да как же! Если очертился последний круг, если ничего больше не будет… Это же загон, клетка, конец!
— Господи, Александр Иванович! Нельзя же фантазии придавать такое значение. И вообще… Постойте, как там у Горького? "Нет фантазии, которую воля и разум людей не могли бы претворить в действительность". Да! Именно! Преобразование Вселенной, власть над пространством и временем, бессмертие, существование во множестве обликов, и еще, и еще! Мы же такое нафантазировали, миллиона лет не хватит, чтобы осуществить, даже если в наших видениях всего четвертушка возможного и реального!
— Ограда всегда ограда, — напряженно глядя на писателя, повторил Хвостиков. — Миллионы лет? Все возможное, что нафантазировал Жюль Верн, давно сбылось. Уэллса — и того жизнь обогнала. Не в вечности предел, ближе! А дальше что? Что дальше, если фантазия все уже очертила и больше ничего не может? Выполним, значит, и точка. Замрем. Как с этим жить?
— А! — воскликнул писатель так, что его очки подскочили, и в раздражении затянулся сигаретой, чего вне работы себе обычно не позволял. — Чепуху мы оба несем, чепуху! Вы не туда, и я за вами… Кто постановил, что фантазия должна мчаться, как спринтер? Был прилив, теперь отлив, так всегда, так в любом деле. Может быть, мы просто устали и постарели.
— Все сразу? И молодые тоже?
Писатель промолчал, досадуя, что влез в этот ненужный, бессмысленный спор. Но слово вырвалось. Кого и в чем он хотел убедить? Не Хвостикова же! Тот смотрел, не мигая, настойчиво, выжидающе, удрученно, единственный человек в мире, который задумался о пределе фантазии как о пределе всех устремлений, какие только возможны в веках, и ощутил острую тоску за далеких потомков, которые наконец исчерпают все, казалось бы, неисчислимые возможности мира и в унынии замрут у последнего края, за которым уже нет ничего, ничего — ни мечты, ни порыва, ни дерзости, — пелена бесконечных, на веки веков, будней!
Рука яростно втоптала окурок в пепельницу. "К дьяволу, — подумал он. К дьяволу все барьеры и ограничения, мир безбрежен, неисчерпаем — вы слышите? — неисчерпаем!"
Метнувшийся взгляд замер в радужной точке хрустального шара, задержался в его замкнутой и холодной прозрачности. Мир неисчерпаем, это верно. Только как, в каком смысле? Вот и физики настойчиво поговаривают о конечности законов природы и форм материи. А если так — почему бы и нет? все остальное будет доделкой, бесконечной частностью, а не прорывом в неведомое. Мальчик, собирающий красивые ракушки на берегу, тогда как за спиной катит свои волны безбрежный океан, — таким видел себя Ньютон, с таким настроением жил. Все неоглядно и все впервые! А если океан уже исчислен, протрален, нанесен на карту, если дух бесконечности отлетел, кем почувствуют себя все Ньютоны будущего, все мальчишки, играющие на его берегу? Не океан — озеро перед ними, большая, размером с Вселенную, лужа. И так до скончания дней, всех дней, какие отпущены людям. Да, физика и фантастика, воображение и познание. Что, если всюду дзинькнул один и тот же ехидный звоночек? Но нет же, нет, такое уже было однажды, физика конца прошлого века тоже мнилась исчерпанной, а затем… Так! Но фантазия, она-то в художественных произведениях кипела, теперь же этого нет, вот в чем разница…
В старину, спускаясь в шахту, брали с собой канареек: те первыми чувствовали запах рудничного газа и задыхались, когда человек еще бодро помахивал кайлом. Фантастика, в сущности, та же канарейка.
Ну и что, ну и что? Непостижим человек! Сколько насущных забот, тревог и проблем, а он, этот Хвостиков, которому бы греться на лавочке да почитывать газету, стоит с видом мальчишки, которого то ли поставят в угол, то ли выпустят погулять. И он, писатель, не лучше. Сочинитель воздушных замков!
Но ведь и это надо. Надо, кто-то должен, какая бы злоба дня ни давила, иначе нельзя, невозможно, без дальней, предельной перспективы не обойтись, без нее все постепенно закиснет, замрет, как застоявшаяся вода: и человек, и общество, сам человеческий род — все! А потому…
Мотнув головой, словно распахнутый ворот стал ему тесен, писатель оглядел комнату, в которой желтел плененный солнечный свет, оглядел книги, сколько их было вокруг, тесный строй переплетов, замкнувший все яркие и воздушные видения человеческой фантазии.
— Вот что, Александр Иванович, — сказал он глухо и твердо. — Будет так. Вы придете сюда через год и получите ту рукопись, которую ждете. Так будет. Обещаю вам это. И спасибо, что вы пришли.
Хвостиков открыл было рот, хотел что-то сказать — и не смог. Только глотнул воздух, и в глазах нерастраченной синевой просиял детский восторг благодарности. И даже не это… Просто оба, большой и маленький, молча взглянули друг на друга и оба на краткий миг ощутили себя мальчишками, какими были когда-то, давным-давно, в то счастливое мгновение детства, когда все несбыточное и желанное кажется возможным, посильным, обещанным, как радуга теплого грибного дождя над близкой околицей.
Все кончилось так же быстро, как и возникло. Хвостиков молча поклонился и, тихо ступая, вышел.
За ним приглушенно щелкнул замок, и этот звук для писателя прогремел обвалом. Что он наделал, что посулил!
Сам не понимая зачем, он выскочил на балкон. Хилый городской ветерок ласково дохнул запахами перегретого асфальта и камня. Как он сможет выполнить свое обещание, если предел фантазии существует в действительности и уже достигнут?! Откуда возьмется та сила воображения, которая его, как и других, все явственней покидает?
С улицы катился слитный машинный гул, вдали, много выше древней церквушки, опережая звук, к зениту полз самолет, а под самым балконом за оградой детского сада в песочке копались малыши, такие крохотные и такие одинаковые в своих белых панамках. Все, что было вокруг, все обыкновенное, что видел глаз, прошлый век счел бы фантастикой, и даже при взгляде на детсадовских малышей что бы сказали Сен-Симон, Фурье, Чернышевский?
И все это сначала возникло в воображении. Что, если отныне…
Внезапный вскрик вырвался сразу из сотен по-летнему распахнутых окон, выделился из прочих звуков, замирающим вздохом пронесся над городом. Писатель даже вздрогнул, прежде чем догадался, что это такое и почему. Просто-напросто мировой чемпионат по футболу, кто-то кому-то сейчас вкатил мяч, и миллионы людей в разных концах Земли дружно ахнули. Все, все свободные от работы люди смотрят сейчас телевизор, все, кроме таких носорогов, как он или Хвостиков… И кроме детей в панамках, для которых важнее всего на свете тот сказочный замок, который они лепят из рассыпчатого песка.
Невольная полуулыбка тронула губы писателя и тут же стерлась. Стоп, стоп, стоп! Телевизор, обыкновеннейший телевизор… И в нем обыденное явление человека или событий сразу миллионам людей, в разных точках земного шара, точно такое же возникновение голоса умерших, их лиц, — в какой сказке было такое, чей взлет фантазии еще в дни Чернышевского мог представить вот эту явь?
Писатель стиснул перила, точно балкон под ним готов был превратиться в волшебный ковер-самолет. Слепцы! Действительность была, есть и будет богаче любой фантазии, надо только ее понять, вглядеться в перспективу жизни, в сегодняшнем желуде увидеть тень завтрашней дубравы, в закатном луче — восход, в пылинке — Вселенную, в будничном — мощь грядущей фантастики вот и весь сказ. Как просто, как невыразимо сложно — и как он мог об этом забыть!
Хвостиков вряд ли успел далеко уйти. Писатель перегнулся через перила, жадно вглядываясь в уличную толпу, но сверху люди выглядели такими маленькими что невозможно было определить, кто есть кто.
Но среди них были мальчишки всех возрастов, и этого было достаточно.