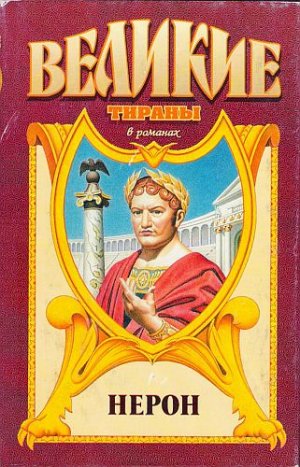
Нерон. Биографическая статья
НЕРОН (Claudius Tiberius Germanicus Nero) — римский император (54—68), сын Кнея Домиция Агенобарба и дочери Германика, Агриппины младшей; сначала назывался Люций Домиций и получил свое позднейшее имя после усыновления императором Клавдием, который женился на его матери.
Нерон унаследовал властолюбие от матери, наклонность к жестокости — от отца, который однажды собственноручно убил вольноотпущенника за отказ напиться допьяна, нарочно задавил ребенка на улице и за противоречие выколол глаз всаднику.
Наследственные пороки Нерона смягчались его любовью к поэзии и искусству и некоторое время обуздывались воспитанием: мать сдерживала его властолюбие, а стоический философ Сенека, ловкий придворный и искусный актер, красноречивыми фразами о добродетели сумел произвести впечатление на склонного к театральности Нерона и, вместе с префектом преторьянцев, вольноотпущенником Афранием Бурром, долго руководил его политикой.
За это время Нерон твердо держался традиций Августа: старался возвысить нравственно и материально сенат, для чего была усилена строгость законов против вольноотпущенников, стремившихся проникнуть в знать, и против рабов, для ограждения рабовладельцев от их покушений; квесторы были освобождены от разорительной обязанности устраивать на свой счет игры; бедные сенаторы получали из казны обильную поддержку; у трибунов была отнята интерцессия; суд за оскорбление величества бездействовал, награда за донос была низведена до 1/4 прежней суммы.
Экономическая и финансовая политика Нерона за эту эпоху имела в виду государственное благо, хотя и была неудачна по результатам: отмена пошлины на привозной хлеб окончательно подорвала среднее и мелкое землевладение; попытки колонизовать опустелые земли ветеранами не имели успеха; план заменить все налоги поземельным и налогом на наследство разбился о противодействие сената, хотя бережливость и улучшения во взимании налогов обогатили фиск. По отношению к провинциям Нерон также идет по стопам Августа: их правители подчинены строгому контролю, их население облегчено от некоторых повинностей. Внешняя политика за эту эпоху удачна: Свет. Паулин усмирил опасное восстание в Британии; Домиц. Корбулон восстановил римское влияние в Армении и в Парей, утраченное при Клавдии.
Стоицизм вскоре, однако, оказался бессильным противодействовать развращающему влиянию среды, в которой жил Нерон. Чтобы устранить опасных конкурентов, Сенека и Бурр стали потакать порокам императора. Они содействовали его охлаждению к жене, Октавии, не имевшей на него влияния, и привлекли на свою сторону фаворитку Нерона Акту, что вызвало раздражение Агриппины и испортило отношения Нерона с матерью. Воспользовавшись этим, руководители Нерона добились удаления Палласа, главной опоры Агриппины, а когда она пригрозила противопоставить Нерону сына Клавдия, юного Британика, то император, с помощью Локусты, отравил своего сводного брата.
Когда Акту сменила честолюбивая красавица Поппея Сабина, жена Отона (впоследствии императора), то под ее влиянием Нерон решился на матереубийство. После неудачных попыток отравить и утопить Агриппину к ней подослали убийцу, а потом за ее смерть казнили невинного человека. Убийство матери (59 г.) окончательно убило совесть Нерона. Начались безумные и свирепые оргии; любовь Нерона к искусству превратилась в скандальное увлечение актерством; император сначала наездничал в цирке, потом построил особый театр, где актерами являлись сенаторы, самые бесстыдные роли исполняли наиболее знатные матроны, а Нерон выступал певцом и музыкантом; затем были учреждены Neronia — подражание Олимпийским играм, с участием императора. Когда в 62 г. умер Бурр, Сенека утратил влияние на Нерона и был осужден на казнь, от которой избавился самоубийством.
С этих пор оргии сменились жестокостями: сначала погибла Октавия, потом и сама Сабина. Правительственная деятельность Нерона с 62 г. и до самой смерти сводится к казням и вымогательству денег для безумных трат.
Страшный пожар Рима в 64 г. повлек за собою не только казни невинных людей, но и чудовищные затеи Нерона: он строил себе «Золотой дом», хотел продолжить римские стены до Остии или довести море до Рима и т. п. Чтобы добыть денег, Нерон делал принудительные займы, портил монету, разграблял храмовые сокровища, похищал золотые статуи, задерживал солдатское жалованье, поощрял взяточничество и даже грабеж магистратов, делясь с ними добычей или отнимая награбленное, и производил конфискации в самых широких размерах. Удобным поводом для конфискации послужило раскрытие заговора Пизона; для этой же цели выдумывали мнимые заговоры, причем Нерон старался истреблять особенно популярных начальников в армии и в провинции.
Постыдное артистическое путешествие по Греции в 66—67 гг. довершило общее негодование против императора. В 68 г. в Галлии восстал Юлий Виндекс, затем Гадьба возмутил испанские легионы, наконец, императору изменили преторьянцы; покинутый всеми, последний представитель династии Августа бежал из Рима и после долгих колебаний покончил жизнь самоубийством.
См: Schiller H. Geschichte des rômischen Kaiserreichs unter der Regierung des N. (Б., 1872).
Часть первая.
ГРЕЧЕСКИЙ КЛИНОК
Глава первая
Луций Анней Сенека, сенатор, не любил быстрой езды. Он не любил ее в молодости, а сейчас, в шестьдесят пять лет, тем более. Старый возница хорошо знал эту его особенность и всю дорогу находился в напряжении, время от времени тревожно оглядываясь назад, где за тонкими занавесками дремал хозяин. Шесть всадников охраны тоже дремали в седлах под равномерный топот копыт и глухое бряцанье доспехов.
Сенатор открыл глаза, ленивым движением руки отодвинул занавеску — справа потянулась оливковая роща, начинались его владения. Из четырех его вилл в окрестностях Рима эта была самой дальней. Дорога утомила его, и сейчас он подумал, что так же его утомила жизнь. Больше, чем он имел, иметь уже было нельзя по сути, он стал богаче императора и обладал не меньшей властью. Но в последние годы все суетное его интересовало мало: здоровье заметно пошатнулось, и все мысли были не о богатстве и власти, а о смерти. Считая себя приверженцем учения стоиков, он не боялся смерти, но почему-то постоянно думал о ней и не умел заставить себя не думать. Порой у него возникало желание покончить с жизнью самому, а не ждать смерти — не смерть, а думы о ней отравляли его существование. Не жизнь, а именно существование, потому что жизнь давно прошла, и он ясно понимал это. Впрочем, смерть и без того стояла слишком близко — император смотрел на него косо, слушал невнимательно, что было явным признаком надвигающейся немилости.
Он хорошо знал императора Нерона, бывшего своего ученика, и не строил иллюзий — все это закончится гибелью, вот только когда и как? Он не очень страшился будущего, но очень хотел закончить последнее свое сочинение «О едином Боге». В преддверии скорой немилости и близкой гибели в этом был свой резон. Он изложил главные идеи сочинения в последнем письме к Павлу, которое отправил накануне, и теперь тревожился, что послание могут перехватить. Если это случится, то у императора будет веская причина расправиться с ним, хотя, конечно, для расправы всегда найдется достаточно причин. «Сегодня решающий разговор с Никием, я должен убедить его согласиться»,— сжав тонкие губы, подумал Сенека, когда повозка уже въезжала в ворота виллы.
Она остановилась у главного входа, слуги бросились помочь ему, но он брезгливым жестом остановил их и вышел сам, разминая затекшие ноги, обутые в мягкие сандалии. На приветствие управляющего он только коротко кивнул и, переваливаясь с боку на бок, медленно вошел в дом.
В триклинии навязчиво пахло розами, и, хотя он любил их запах, сейчас Сенека недовольно поморщился и оглянулся на управляющего — тот бесшумно вошел за ним и теперь стоял чуть согнувшись, преданно глядя на хозяина. Сенека хотел сказать ему о навязчивости запаха, но вместо этого раздраженно спросил:
— Где он?
Старый управляющий с недоумением и страхом поднял седые брови, и хозяин разозлился еще больше:
— Ты стареешь, Теренций, ты стал плохо меня понимать. Я спрашиваю о Никии.
— Он у себя,— быстро отозвался управляющий.
— Он у меня,— недобро усмехнулся Сенека, не в силах подавить раздражение.
— Да, хозяин,— низко склонив голову, отвечал управляющий.
Сенеке стало жаль его. Он посмотрел на увеличившуюся плешь Теренция, его седые редкие волосы и подумал, что сам, наверное, выглядит значительно хуже, тем более что Теренций был лет на десять моложе его.
— Никто не спрашивал о нем? — произнес он уже спокойно, в своей обычной манере, чуть отстраненно.
— Нет, хозяин,— ответил Теренций, подняв голову и глядя на сенатора уже без прежнего страха.— Он выходит на прогулку только по ночам, когда я запираю слуг.
— Хорошо,— кивнул Сенека,— проведешь его ко мне, когда стемнеет. Тогда же подашь ужин, я не голоден,— добавил он отвернувшись и, стараясь шагать твердо, прошел в соседнюю комнату, которая служила ему кабинетом.
Там он скинул плащ, опустился на ложе и закрыл глаза. Так пролежал до темноты, не столько размышляя, сколько предаваясь видениям, наплывшим на него. Все они были страшными: какие-то чудища с людскими головами, люди с головами животных, одутловатое лицо императора, смотрящее на него пустыми глазами, с выпяченной вперед нижней губой, неестественно красной. «От крови, что ли?» — подумал он и, вздрогнув, открыл глаза.
Бесшумно вошел слуга, неся два светильника, поставил их на стол и так же бесшумно вышел, словно не заметив лежащего. Так было заведено у сенатора: с наступлением темноты вносить светильники, не окликая хозяина, не беспокоя его. Слуга сделал все как обычно, но сейчас сенатор подозрительно смотрел ему вослед. То, что в доме живет Никий, знал только управляющий Теренций, и никто из слуг не должен был об этом догадываться, а тем более видеть гостя. На Теренция, конечно, можно было положиться, он был предан и аккуратен — но ведь всегда могло произойти какое-нибудь глупое недоразумение и нарушить весь его план, а с ним... разрушить все. Этот его план был опасной игрой, более того, смертельно опасной, и потому весь последний месяц со дня, как Никий поселился на вилле, тревога не покидала сенатора ни днем, ни ночью.
Он тяжело вздохнул, встал, провел по лицу ладонями, и тут же раздался тихий стук в дверь. Прежде чем ответить, он перешел к столу и опустился в кресло, вытянув ноги; потом, придав лицу спокойное выражение, перевел взгляд на дверь:
— Входи.
Тихо ступая, в комнату вошел юноша лет восемнадцати, стройный и красивый, одетый в короткую белую тунику и сандалии с ремнями почти до колен — на греческий манер. Кротко улыбнувшись, он поклонился сенатору.
— Ты здоров? — спросил Сенека, тоже улыбнувшись.— Я рад тебя видеть здоровым и бодрым.
— Ты приехал за мной? — в свою очередь спросил юноша, и лицо его выразило надежду, но, правда, тщательно скрываемую, едва заметную.
— Вчера я отправил твоему учителю Павлу письмо,— не отвечая на вопрос, сказал сенатор.— Поверь, если его перехватят, меня ждут большие неприятности. И тебя, может быть, тоже,— добавил он после некоторого молчания.— Римский сенатор, переписывающийся с вождем назареев, врагом Рима...— Он чуть развел руки в стороны.— Нетрудно догадаться, как к этому отнесутся на Палатине.
— Назареи не враги Рима, а Павел не вождь,— тихо, но твердо произнес юноша.
Сенатор сделал удивленное лицо, указал глазами на кресло напротив и, лишь когда юноша сел, проговорил:
— Может быть, ты и прав, но император думает иначе, и вряд ли кто-нибудь сумеет убедить его в обратном. Он человек...— Сенека прервался, подбирая точное определение, а юноша неожиданно произнес:
— Он не человек.
Сенатор усмехнулся и невольно посмотрел на дверь. Сказал, понизив голос:
— Ты слишком смел, Никий. Это опасно. И не только для тебя.
— Неужели сенатор боится?
Тень недовольства пробежала по лицу сенатора, он крепко сжал рукой поручень кресла, и губы его дрогнули.
— Прости,— сказал Никий,— я не хотел тебя обидеть. Я только хотел сказать, что такой человек, как ты, не может бояться.
— Ты имеешь в виду мое положение в Риме? — Тонкие губы сенатора, раздвинувшись в гримасе, сделались еще тоньше.
— Нет,— спокойно отвечал Никий, словно бы не замечая состояния собеседника,— я говорю о мощи твоего разума, величии твоей души и чести, которая...
— Оставь мою честь в покое,— перебил его сенатор,— эту часть моего существа я потерял давным-давно. И ты это знаешь, я ничего от тебя не скрывал. Я отдал честь за все то богатство, которое имею, и даже если я потеряю богатство и саму жизнь, я все равно не верну чести.
— Я хотел сказать,— начал было Никий, впервые с начала беседы смутившись от слов сенатора, но тот не дал ему говорить.
— Кроме того,— сказал он,— понятие чести у римского сенатора несколько отличается от оного у назарея, коим являешься ты, и в этом смысле нам трудно договориться.
— Учитель говорит, что понятие чести одно для всех,— осторожно заметил Никий.
— Твой учитель,— сдерживая досаду, проговорил сенатор,— частное лицо, а я государственный чиновник, воспитатель императора и его приближенный. Легко говорить о чести, не имея ничего, не управляя ничем, не завися ни от кого.
— Мы все зависим от Бога,— твердо произнес Никий, и глаза его блеснули,— и бедные и богатые. Учитель служит одному только Богу...
— И управляет...— вставил сенатор.
— Он учит, а не управляет,— чуть понизив голос, сказал Никий.
— Хорошо, хорошо,— чувствуя, что разговор приобретает совсем не тот характер, который бы ему хотелось, примирительно проговорил сенатор.— Я не желал обидеть ни тебя, ни Павла, знаешь, как я к нему отношусь. Я очень высоко ставлю его как философа.
— Он не философ.
— Ну, как пророка, если тебе так больше нравится.
— Он учитель,— твердо произнес Никий и сжал губы.
— Пусть будет так,— почти смиренно заметил сенатор,— я не оспариваю это. Скорее я думаю так же. Но я хотел поговорить с тобой о другом.— Он сделал паузу и, пристально посмотрев на Никия, сказал: Пилишь ли, я получил письмо от учителя.
Никий спокойно смотрел на него, и в глазах его не было вопроса.
— Ты понимаешь, о чем я говорю? — спросил сенатор чуть нетерпеливо.
— Да,— кивнул Никий.
— Почему же ты не спросишь, о чем это письмо?
— Оно послано тебе.
«Резонно»,— про себя подумал Сенека, а вслух сказал:
— Письмо касается тебя.
— Я слушаю.
— Видишь ли,— после некоторой паузы проговорил сенатор,— учитель хочет, чтобы ты остался в Риме.
— В Риме? — переспросил Никий, и лицо его выразило крайнюю степень огорчения,— Но ведь учитель ждет меня, он сам сказал...
— Это было давно,— перебил его сенатор, пряча глаза,— Сейчас он считает, что тебе необходимо остаться в Риме.
— Но я не хочу оставаться! — воскликнул Никий с такой досадой и горечью, что Сенека подумал: «Сколь он еще молод!» И тут же, изобразив на лице граничащее со страхом удивление, произнес:
— Неужели ты можешь?.. Неужели ты можешь ослушаться учителя?!
— Нет,— спустя несколько мгновений, не поднимая головы, глухо ответил Никий и добавил, все же вскинув на сенатора осторожный взгляд: — Ты можешь показать мне это письмо?
— Нет,— в свою очередь проговорил сенатор и вздохнул,— не могу, я его уничтожил.
— Уничтожил?! — вскричал Никий, делая страшные глаза.— Письмо учителя?
— Да, письмо учителя,— холодно кивнул сенатор.— У меня были на то веские причины.
Аннею Сенеке, сенатору, фактическому правителю Рима, писателю и философу, было неприятно отчитываться перед мальчишкой, но дело требовало того, и он, смирив себя, четко и подробно объяснил Никию, что могло бы быть, попади его письмо и письмо Павла в чужие руки. Больше всего он упирал на то, что в этом случае Павел подвергся бы смертельной опасности. И он закончил удрученно:
— Ты же знаешь, как поступает император с назареями.
Лицо Никия вспыхнуло, и сенатор, предупреждая его восклицание, сказал:
— Я знаю, что тебе неведом страх и ты готов умереть за то, во что веришь. Но дело не столько в тебе самом, сколько в Павле. Думаю, его гибель сейчас была бы большой потерей для всех...— Он хотел сказать лишь «для всех нас», но, чтобы усилить впечатление, добавил: — Потерей для всех нас и для меня в том числе.
Некоторое время Никий смотрел на него недоверчиво и наконец спросил, с трудом произнося слова:
— Так хочет учитель?
— Так хочет учитель,— подтвердил сенатор спокойно и веско.
— Я готов,— неожиданно твердо выговорил Никий.— Скажи, что мне нужно делать.
— Ждать,— сказал Сенека как можно спокойнее, скрывая вспыхнувшую внутри радость.— Ждать и быть готовым войти к императору в любую минуту. Я дам тебе знать когда. Теперь иди и будь осторожен, никто не должен видеть тебя.
Никий встал, почтительно поклонился сенатору и молча пошел к двери. Тут сенатор окликнул его:
— Ты ведь грек, Никий?
— Мой отец был греком,— уклончиво ответил тот.
— Значит — греческий клинок,— едва слышно выговорил сенатор и чуть улыбнулся.
— Я не понимаю тебя,— сказал Никий.
— Потом все объясню, будь терпелив,— проговорил сенатор и жестом руки показал, что беседа закончена.
Едва Никий ушел, он вытянул ноги, сложил руки на груди и долго смотрел куда-то в стену. Лицо его было похоже на маску.
Глава вторая
Анней Луций Сенека умел принимать жизнь такой, какой она была, и не строить иллюзий. За долгие годы своей жизни он научился отделять реальное от поэтического и никогда не смешивал две эти половины своего существования. Он пережил трех императоров, намеревался пережить четвертого и меньше всего хотел закончить свою жизнь в тюрьме или в изгнании. Он получил от жизни все, что только может получить человек его звания, ума и талантов. Но при этом ясно понимал, что ум и таланты сами по себе значат мало и их опрометчивое проявление скорее опасно, чем полезно, для человека, а зачастую даже и смертельно опасно. Умение жить он ставил выше, чем умение думать, по крайней мере, ясно сознавал, что без умения жить может не быть возможности думать.
При императоре Клавдии, этом ничтожестве, он уже побывал в изгнании и больше не желал испытывать судьбу. То, что называлось отвагой, принципами, борьбой и все подобные определения, которые он именовал трескучими, он презирал, считая их уделом людей поверхностных и неумных. Он знал, что поэтическая часть жизни напрямую зависит от ее реальной части, и поэтому строго следовал законам реализма. Если эти законы требовали быть льстивым, он льстил, если требовали быть нечестным и вероломным, он был нечестен и вероломен, и дух его при этом не терзался сомнениями.
Зато в другой половине жизни — поэтической — он был самим собой: честным, мудрым, справедливым. Поэтическая сторона жизни допускала эти проявления, а в своей жизни он привык не выходить за рамки допустимого, и те рамки свободы, которые ставила поэзия, казались ему вполне достаточными. То есть чтобы вполне проявить себя, ему этой свободы хватало.
Единственный раз он нарушил установления своей жизни, когда вступил в переписку с главой назареев Павлом, которого иные именовали апостолом или посланцем. Свои философские взгляды он называл учением, и они были не просто отличиы от государственных и религиозных установлений Рима, но были для них враждебны и опасны. То есть, в сущности, Павел был настоящим врагом Рима, более опасным, чем это представлялось вначале. Он проповедовал, что нет ни римлян, ни иудеев, ни любых других народов, а есть лишь люди, равные друг другу настолько, что они должны чувствовать себя братьями. Такое положение было противно здравому смыслу и совершенно искажало реальность, которую Сенека привык признавать. Все это могло показаться наивным и даже смешным, если бы воздействие подобных взглядов не было столь серьезным. Не только рабы и бедняки, но и состоятельные люди и даже ученые исповедовали веру в какого-то единого Бога, который делает всех людей равными и потому счастливыми. Этого Сенека понять не мог. Как можно говорить о равенстве! Его нет и никогда не будет, потому что всякий человек отличен от другого: трус никогда не станет смельчаком, а глупый — мудрецом. При каких-то условиях раб может стать господином, но в этом случае он уже не будет равным с рабами.
Нет, Сенека не мог ни понять, ни принять проповедуемого Павлом равенства. Но все же что-то в идеях Павла занимало его. Нечто такое, чего нельзя было постичь разумом. И он, привыкший верить только в то, что можно постичь разумом, мучился от своего непонимания и, главное, от того, что слова Павла проникали в него, жили в нем и тревожили его дух. Порой ему даже хотелось бросить все — Рим, свое богатство, положение, свою поэзию, отправиться к Павлу и жить его жизнью. Такое странное желание походило на приступы неведомой болезни, что проявляется совершенно неожиданно, и в эти минуты ты перестаешь быть самим собой. Потом это проходит, кажется, что болезнь ушла окончательно, но вдруг она проявляется снова, и всякий раз такие приступы делаются все сильнее и мучительнее.
Впервые о Павле он услышал несколько лет назад от родственника жены Клавдия Руфа. Тот был по делам в Александрии и там попал на проповедь Павла. Этот бродячий философ так его заинтересовал, что он задержался в городе, только чтобы еще раз послушать его.
Если бы о Павле ему рассказал кто-нибудь другой, а не Клавдий Руф, он просто отмахнулся бы и не стал слушать. Но Клавдия Сенека уважал, считал его человеком острого ума и глубоких познаний. Восторженность, с которой он говорил о Павле, была необычной. Настолько, что в первые минуты Сенеке показалось, будто Клавдий не вполне здоров. Он прямо сказал ему об этом. Клавдий не обиделся, посмотрел на Сенеку с сожалением и неожиданно сказал:
— Ты сам почувствуешь когда-нибудь, как сильно это забирает.
Сенека, не терпевший неопределенности, сердито потребовал от Клавдия объяснить свои слова. Но тот, словно не замечая резкости собеседника, сказал, что ничего объяснить не может.
— Почему ты не можешь объяснить? — с искренним удивлением спросил Сенека.
— Не сердись,— отвечал тот с недоуменным выражением на лице,— но я не знаю.
Сенека молча ушел в свой кабинет и даже не вышел проводить Клавдия, чем рассердил жену, и вынужден был выслушивать потом ее продолжительную речь про демонстрацию неуважения к ее родственникам. Он возразил, мол, дело здесь не в неуважении, но так как жена, не слушая его, только повысила голос, вздохнул и смиренно дождался окончания ее упреков.
Всю ту ночь он спал плохо, а утром сам отправился к Клавдию. Не понимал зачем, но уж во всяком случае не для извинений. Тот встретил его без удивления и, будто угадав, для чего приехал родственник, снова заговорил о Павле, упомянув между прочим, что тот человек весьма образованный и произведения Сенеки ему конечно же известны. Он так это сказал, будто имел личную беседу с этим Павлом. Подозрения Сенеки усилились, когда Клавдий заявил, что Павел не какой-нибудь иудейский ортодокс, но ученый весьма широких взглядов.
И еще долго рассказывал Клавдий о Павле, словно не мог остановиться, а Сенека слушал, и ему хотелось, чтобы Клавдий продолжал как можно дольше.
Следующие несколько дней Сенека заставлял себя не думать о Павле, но чем больше заставлял, тем больше думал. Наконец, не выдержав, он пригласил Клавдия к себе и, когда тот приехал, прямо попросил свести его с этим иудейским философом.
— Он не иудейский философ,— осторожно поправил его Клавдий.— Иудейские власти тоже считают его врагом.
— Как и римляне! — сердясь скорее на самого себя, чем на Клавдия, воскликнул Сенека.
— Да, это правда,— кивнул Клавдий.
Тогда Сенека сказал, хотя и не собирался этого говорить:
— Значит, ты имеешь сношения с врагами Рима?! — А так как Клавдий молчал, он продолжил: — Имеешь сношения с врагами Рима, не думая о моем положении, уже не говоря о себе самом. Да знаешь ли ты, что будет со всеми нами, если шпионы Нерона дознаются о твоих связях? Все мы будем молить богов, чтобы они даровали нам легкую смерть, но легкой смерти не будет. Ты понимаешь, понимаешь это?!
При последних словах его настиг приступ кашля, и он долго сидел согнувшись, содрогаясь всем телом, с каплями пота на лбу и со слезами на глазах. Наконец он сумел выговорить придушенно и жалко:
— Ты понимаешь, понимаешь это?!
— Понимаю,— необычайно спокойно отвечал Клавдий.
— И ты...— начал было Сенека, но кашель снова прервал его речь, и он не сумел продолжать.
Как же ему хотелось, чтобы Клавдий испугался, сказал бы ему, что никаких сношений он с этим Павлом никогда не имел, признался бы, что и видел его только издалека и все, что он рассказывал Сенеке, было пересказом чужих слов.
А еще лучше, если бы Клавдий признался, что все это придумал, и повинился бы перед Сенекой за свою ложь. Сенека милостиво простил бы его, улыбнувшись и потрепав по плечу, и на этом бы все закончилось.
Сенека смотрел на Клавдия снизу вверх, прижимая платок к губам, и бледное его лицо с красными ободками век словно молило о пощаде. Но Клавдий то ли не понял этого, то ли не захотел понять. Он сказал, глядя на Сенеку в упор:
— Я сведу тебя с Павлом. Несколько дней назад я получил от него послание. Кстати, он спрашивает о тебе.
Признание Клавдия было равноценно государственной измене. В других обстоятельствах Сенека не оставил бы этого без последствий, и родство его жены с Клавдием Руфом не имело бы никакого значения. Да он просто не позволил бы Клавдию так разговаривать с собой, да и тот не посмел бы. Но сейчас Сенека только слабо махнул рукой, показывая, что не в силах продолжать беседу, и Клавдий, вежливо поклонившись, ушел.
Это только кажется, что человек, прожив долгую жизнь и стоя перед неизбежностью смерти, становится смелее и земные блага, почет и власть не играют для него той роли, что играли прежде. Заблуждается тот, кто думает так. Кто думает так, тот еще молод. Годами или умом — значения не имеет. Почет, богатство, власть дают стоящему на пороге смерти ощущение полноты жизни именно потому, что дней осталось так мало — меньше, чем богатства, меньше, чем почета, и меньше, чем власти.
Сенека боялся, что у него все это могут отобрать и тогда он останется один на один с малым количеством дней своей жизни. За почетом, богатством и славой не видно, что осталась такая жалкая горстка дней, и никто, никто добровольно не хочет увидеть эту горстку.
Он не понимал, как мог решиться на столь опасное дело — сношение с врагом Рима. Он — осторожный дипломат и хитрый царедворец. Во всем виновата, наверное, поэтическая часть его существа. Это она желала опасного и неизведанного, и он не умел противиться ей. Но слишком дорого могло стоить ему это предприятие, и он, начав его, неизменно жалел о сделанном.
Клавдий свел его с Павлом, хотя Сенека и не подтвердил своего желания после их последней встречи. Клавдий просто принес и положил перед ним на стол послание Павла. Сенека сделал вид, что ничего не видит, а Клавдий, поговорив короткое время о чем-то совершенно не значащем, распрощался и вышел.
Он долго не решался прочитать послание и в первое мгновение, притронувшись к нему, тут же отдернул руку. Наконец все-таки развернул и стал читать.
Этот Павел, как видно, был человеком ловким. Не теряя достоинства, как равный равному, он писал о том, сколь великим представляется ему ум и талант Сенеки. Легко вставлял цитаты из его трагедий и философских трактатов. Создавалось впечатление, что он изучил их глубоко и знает едва ли не наизусть. Собственно, все его первое послание состояло из дифирамбов. И только в самом конце была фраза, в которой сосредоточивалась вся суть письма: «Ошибается тот, кто полагается на один только разум. Он велик и могуч, когда дело касается жизни, но он беспомощен, когда тщится понять, что же там, за чертой смерти. Разум не может взглянуть на жизнь оттуда, из-за черты смерти, для этого необходим другой инструмент. Взгляд же на жизнь из жизни, то есть взгляд разума, представляется мне односторонним».
Это последнее как бы перечеркивало все, что было написано до, и выходило, что великий ум Сенеки (как его характеризовал Павел) не может правильно оценить жизнь в силу его односторонности. Сначала это раздражило Сенеку, потом заставило думать. Он уже знал, что не сможет не ответить: что бы он ни говорил, но принципиальность и любопытство философа оказывались сильнее разумности богача и царедворца. И он несколько ночей подряд составлял послание в защиту разума, а написав и отослав (Клавдий сам пришел за письмом), понял, что вряд ли что-либо сумел доказать — и Павлу, и самому себе. И он ждал ответного послания с таким нетерпением, какого не испытывал, наверное, за все годы своей долгой и богатой событиями жизни.
Павел ответил довольно быстро — не прошло и трех месяцев, Сенека же быстро написал и отправил ответ. Так началась их переписка, продолжавшаяся уже несколько лет и ставшая теперь едва ли не главным делом существования Сенеки. Более того, ему порой казалось, что прежде он не жил или жил как-то не по-настоящему и только сейчас открылась для него настоящая жизнь. И вот что странно: чем больше он напрягал свой разум, тем более глубокие мысли приходили ему в голову, чем яснее он чувствовал немощь своего ума, его невозможность проникнуть во что-то такое, что было неизвестно ему, но было известно Павлу, и потому превосходство последнего выглядело очевидным и время от времени болезненным для Сенеки. И это признание превосходства Павла над ним и одновременно с этим болезненность от признания заставляли Сенеку испытывать и радость, и печаль. Радость от того, что в мире существует великий ум, и печаль от того, что этот ум принадлежит не ему, Сенеке, писателю и философу, фактическому правителю Рима.
С некоторых пор Клавдий Руф очень тревожил Сенеку. Для переправки писем Павлу и доставки ответов Сенека больше не прибегал к услугам Клавдия, легко найдя собственные каналы — возможностей для этого было много. Но Клавдий знал то, чего ему не следовало знать, а в последнее время, когда положение Сенеки при дворе императора серьезно пошатнулось, такое знание стало опасным. Встречались они редко, Сенека избегал Клавдия, но когда все-таки встречались, последний не выказывал ни в словах, ни в поведении ничего такого, что могло бы вызвать подозрения Сенеки. Более того, Клавдий вел себя так, будто ни о чем таком осведомлен не был, и ни прямо, ни косвенно никогда не затрагивал опасную тему. Но именно это и настораживало. Много раз Сенека думал, что делать с Клавдием, но всякий раз откладывал решение, тем более что решение здесь могло быть только одно, а Сенека не желал крови. Он понимал, что ждать опасно, но все-таки ждал. Неизвестно почему. Впрочем, может быть, он уже и не был прежним Сенекой.
Но однажды жена сказала, что Клавдий Руф сообщил об освобождающемся месте претора в одной из северных провинций. Сенека строго и испытующе посмотрел на жену, а та сказала, сделав злое лицо:
— Да, ты должен это сделать.
«Я вынужден это сделать»,— произнес он про себя, когда жена ушла, и недобро усмехнулся.
Ничего особенного в просьбе Клавдия Руфа не было — через кого же еще устраиваться на теплые места, если не через высокопоставленных родственников? Все так — не будь этой тайны Сенеки. Клавдий сам подписал себе приговор, и тут уж ничего нельзя было поделать. У него оставался выбор: он мог не говорить Сенеке о Павле, мог не приносить письмо последнего, но он сделал это и теперь должен отвечать жизнью. Но у дела могла быть еще и другая сторона: вдруг все это придумали с Павлом нарочно, чтобы уловить Сенеку, держать его в руках?
Так это было, не совсем так или совсем не так — теперь уже не могло иметь никакого значения. Сенека не хотел жертвовать почетом, богатством и властью ради какого-то Клавдия Руфа, родственника своей жены, которую он не любил. Более того, она ему опротивела—и как человек, и как женщина,— и все, что могло причинить ей хоть какую-то неприятность, было приятно Сенеке. Смерть же Клавдия Руфа не нанесет большого урона человечеству, потому что, в сущности, он был посредственностью. Уважение же, которое он испытывал к Клавдию прежде, прошло, а следовательно, рассуждать больше не о чем и не в чем сомневаться.
Устроить Клавдия на освободившееся место не составило для Сенеки никакого труда — да и должность была не столь значительной. Клавдию было предписано срочно отправиться к месту новой службы. Перед отъездом он приехал поблагодарить родственника и попрощаться. Он выглядел довольным и гордым, даже осанка его сделалась величественной. Произнеся приличествующие случаю слова благодарности, Клавдий спросил, какими же новыми философскими трудами вскоре порадует Сенека Рим. При этом он загадочно улыбнулся, словно спрашивал не о философии, а об интимных похождениях Сенеки. Последний сдержанно отвечал, что государственная служба отнимает у него слишком много сил и времени, так что философии придется подождать.
— Это большая потеря для Рима,— участливо произнес Клавдий.
— Одна из многих потерь,— странно ответил Сенека.
Клавдий попросил объяснить, что тот имеет в виду, но Сенека, потрепав родственника по плечу, сказал с улыбкой:
— Ты скоро узнаешь об этом, мой Клавдий, будь терпелив.
Поздним вечером того же дня в кабинет Сенеки вошел плотно закутанный в плащ человек. Он молча поклонился хозяину до самой земли и остался стоять, не разгибаясь. Так же, не разгибаясь, а лишь выпростав из-под плаща руку, он принял тугой мешочек, поданный ему Сенекой.
— Тебе все понятно? — спросил Сенека, презрительно глядя на склонившегося перед ним гостя.
— Да, хозяин,— глухо проговорил тот,— нападавшие будут убиты уже через час после нападения. Верь мне, я все сделаю сам.
— Если сделаешь все чисто, получишь еще,— сказал Сенека, отойдя к столу и повернувшись к гостю спиной.— А если нет, то лучше тебе не возвращаться. Ты понимаешь меня?
— Да, хозяин,— едва слышно произнес тот.
— Тебя выведут через задние ворота. Иди,— холодно проговорил Сенека и нетерпеливо махнул рукой, хотя гость не мог видеть этого жеста.
Через три дня жена с бледным лицом вбежала к Сенеке и сообщила, что Клавдий Руф убит. Какие-то люди напали на полпути к месту назначения. Сенека уже знал о случившемся, но испуганно посмотрел на Жену и, обхватив руками голову, произнес:
— Это моя вина! Лучше бы ему не покидать Рима.
Глава третья
Вольноотпущеннику Аннея Луция Сенеки Теренцию было пятьдесят три года, но он чувствовал себя глубоким стариком. Он не считал, что жизнь его сложилась счастливо, но, с другой стороны, не мог особенно сетовать на судьбу. Его господин, Анней Сенека, все-таки был из лучших, если иметь в виду его отношение к слугам. То, что при всех, в сущности, императорах он оставался неизменно близок ко двору, а при последнем, Нероне, фактически правил Римом, совсем не означало, что он должен был оказаться человеком добросердечным и справедливым. Скорее наоборот — близость ко двору делала господ наиболее безжалостными. Теренций прожил долгую жизнь и понимал больше, чем другие. Он понимал, что чем ближе человек ко двору, тем более он ощущает себя зависимым от императора — если не совсем рабом, то все-таки и не свободным. И потому его жестокость в отношении к собственным рабам вполне понятна.
Анней Сенека был другим. Конечно, он умел жить, и то огромное богатство, которое он нажил, тот почет, которым был окружен, та власть, которую он имел, как раз являлись следствием этого умения. Но он был еще и писателем, еще и философом, и это многое определяло в его поведении. Порой он призывал Теренция к себе и читал ему отрывки из какого-нибудь нового сочинения (что происходило обычно ночью, потому что хозяин любил работать по ночам). И не только читал, но и спрашивал Теренция, что тот думает по поводу прочитанного. Теренций не был глупцом и вполне понимал, что хозяин спрашивает не для того, чтобы получить ответ. Он и не отвечал, а просто смотрел на хозяина преданными глазами и несмело улыбался.
— Именно так, Теренций, ты совершенно прав,— говорил тогда хозяин и либо отправлял Теренция спать, либо читал ему еще один отрывок.
То, что хозяин будил его среди ночи, не сердило Теренция. Напротив, в этом выражалось особенное отношение к нему хозяина, а это всегда нужно ценить.
Теренций умел читать и писать, но научился этому не так давно и не слишком хорошо преуспел в этих занятиях. Он плохо понимал смысл того, что читал ему хозяин, но все-таки понимал достаточно, чтобы уяснить слова о справедливости и доброте одного человека к другому и всех людей друг к другу. Правда, может быть, это и не вполне относилось к рабам и даже к вольноотпущенникам, но все-таки, наверное, как-нибудь относилось, потому что, хотя хозяин и бывал строг, он не доходил до жестокостей, а наказывал всегда справедливо. Правильнее сказать, почти всегда справедливо, потому что порой — довольно редко — у хозяина бывало плохое настроение, и тогда он позволял себе становиться несправедливым.
Но все это мелочи, о которых можно было бы и не упоминать, тем более сыну раба. А вольноотпущенником Теренций был уже давно, несколько лет, с того времени, когда хозяин вернулся из ссылки, еще при прежнем императоре Клавдии.
Теренций считал себя преданным хозяину душой и телом, и хозяин тоже так считал, что радовало Теренция. Теперь он был управляющим большого имения хозяина, но не кичился, как некоторые, своим положением и в отношении слуг, ему подчиненных, был, подобно хозяину, строг, но справедлив. В глубине души он все равно считал себя рабом Аннея Сенеки, и это обстоятельство нисколько его не угнетало. Он считал, что каждый должен знать свое место, потому что главное — это спокойная жизнь, уверенность в завтрашнем дне, а не сомнительная гордость, которой страдали многие из вольноотпущенников.
Вообще теперешнее время было не такое, как прежде, многое перемешалось, и прежние установления нарушаются тут и там. Некоторые вольноотпущенники стремятся сами стать господами, и это выходит у них успешно, что очень не нравится Теренцию. Есть и такие, что считают себя чуть ли не патрициями, а последние — что особенно Теренцию неприятно — признают это чудовищное равенство.
Одного такого Теренций видел не раз в доме хозяина. Это был некто Палант, очень значительная фигура в Риме. Еще при императоре Клавдии он ведал государственной казной и, говорили, неслыханно обогатился. Теперь, при дворе императора Нерона, он поднялся, кажется, еще выше благодаря своей связи с матерью императора Агриппиной. Этому грязному слуху Теренций не верил. Кажется, он не поверил бы в это, даже если бы своими глазами увидел их вместе, потому что не могла мать императора лечь в постель с сыном раба. Так что, скорее всего, это просто слухи, которые, может быть, распускает сам Палант от своей неразумной гордыни.
Но как бы там ни было, держится этот Палант вызывающе. Как-то раз Теренций видел, как он подъехал к дому хозяина в разукрашенных коврами и парчою носилках, словно какой-нибудь восточный царек. И сам был обвешан драгоценностями, как глупая наложница какого-нибудь влиятельного сенатора. Но самое унизительное состояло в том, что хозяин встретил его у порога и, как равного взяв под руку, провел в дом. Он вел себя невежливо, громко смеялся, гримасничал и смотрел на слуг, как на мебель. И это он, сын раба! Хозяин проводил его до порога и стоял, глядя вослед, пока носилки не исчезли из вида. Но Теренций хорошо знал Аннея Сенеку и видел, какая презрительная гримаса лежала в эти минуты на лице хозяина.
— Смотри, Теренций,— проговорил он и насмешливо и грустно одновременно,— смотри, какие люди скоро будут править Римом.
Теренций только угрюмо вздохнул — ему не понравилась эта шутка хозяина.
Но, может быть, то была вовсе не шутка, потому что некоторое время спустя Теренций почувствовал, что власти хозяина в Риме приходит конец. Он не мог бы этого объяснить, не сумел бы привести каких-то особенных фактов, но он чувствовал этот конец так же хорошо, как чувствовал любую смену настроений хозяина. За себя Теренций не боялся, он был готов разделить с хозяином любую судьбу, но становилось обидно, что какие-то выскочки, разряженные подобно девкам, могут занять место хозяина, единственного человека, которого Теренций по-настоящему любил. Впрочем, человеку же надо кого-нибудь любить, а ни жены, ни детей у Теренция не было.
О том, что хозяин ведет тайную переписку с кем-то, Теренций хорошо знал, потому что сам отправлял гонцов с письмами хозяина и сам приносил ему ответы неизвестного адресата. Разумеется, Теренций никогда не пытался узнать, кто этот адресат. Ничего в тайных действиях хозяина не было необычного, и прежде такое случалось не раз, но с некоторых пор Теренций стал испытывать беспокойство, которое все возрастало и томило его все больше. Ночами он просыпался и подолгу со страхом смотрел в потолок и уже не мог уснуть до самого рассвета. Да и сам хозяин казался ему подавленным, таким он не видел его даже перед изгнанием. Он стал заметно сдавать, сутулился, ступал нетвердо, говорил не так ясно и четко, как всегда, а иной раз просто путался в словах. Теренций жалел хозяина, но чем он мог ему помочь! Он готов был отдать жизнь ради хозяина, но кому могла понадобиться его никчемная, ничего не стоящая жизнь. И Теренций только скорбел украдкой, тосковал ночами и скоро сам превратился в старика. Мысли о скорой смерти посещали его все чаще и не только не страшили его, но были ему приятны.
Появление Никия на вилле Теренций впрямую связал с тайной перепиской. Этот красивый юноша сразу же не понравился Теренцию, хотя он был вежлив и прост в обращении и не смотрел на Теренция как на слугу. Но Теренций почему-то решил, что этот юноша принесет хозяину несчастье. Он был в этом почти уверен, хотя и не смог бы объяснить почему. Но никто, конечно, ни о чем таком Теренция не спрашивал, и, несмотря на неприязнь, он служил Никию так, как служил самому хозяину: исполнял все его просьбы, оберегал от чужого глаза. Впрочем, просьб у Никия оказалось немного — он был неприхотлив в еде и одежде, спокойно сносил неудобства своей тайной жизни на вилле. Он выходил на прогулку только ночами и гулял лишь в тех местах, на которые указывал ему Теренций как на самые безопасные. С рассвета же до вечера юноша находился в тайном помещении без окон и все это время сидел за столом при горящих светильниках, обложившись книгами.
При всем подозрительном отношении к этому Никию, неизвестно зачем живущему на вилле хозяина, Теренций не мог не восхищаться его ученостью. Юноше было не больше восемнадцати лет, а он сидел с книгами, будто умудренный жизнью старец, для которого не доступны уже никакие радости существования, кроме чтения этих самых книг.
Теренций сам приносил ему еду, ждал, пока он поест, чтобы сразу унести посуду. И вот однажды, ожидая, он рассматривал ворох свитков, разложенных на столе, и, заметив, что некоторые написаны на незнакомом ему языке, вопросительно взглянул на Никия. Он не смел спрашивать, потому что, во-первых, Никий был гость хозяина, а во-вторых, потому что чувствовал в юноше породу. Теренций всегда чувствовал это очень хорошо и никогда не ошибался — этот Никий был хорошего рода.
Никий сам начал разговор. Оторвавшись от еды, спросил с неизменной улыбкой:
— Ты хотел спросить меня об этих свитках, Теренций? Спрашивай, не стесняйся.
— Я только подумал,— смущенно отвечал Теренций, злясь на собственное смущение,— как такой молодой человек знает столько языков, читает на них и пишет!
— Их не так много,— просто отозвался Никий,— Вот это написано по-гречески, а вот то,— он потянулся через стол и дотронулся до бумаги пальцами,— на еврейском. А вот это латынь — ты, наверное, и сам уже прочитал.
Теренций кивнул, ему были приятны слова Никия, тем более что он уже разобрал несколько слов по-ла-тыни. Показав рукой на дальний свиток, Теренций сказал удивленно:
— На еврейском, значит...
Не посмел прямо спросить Никия, какого он рода и из каких мест, но Никий, угадав вопрос, ответил:
— Мой отец был грек, Теренций. А на еврейском я читаю потому, что в их свитках много мудрости.
Теренцию не понравился его ответ, он считал всех евреев врагами Рима. Он помнил, что при императоре Гае евреи не хотели подчиняться Риму, и их восстания переросли тогда в настоящую войну. Положим, император Гай и сам был человеком вздорным, все римские граждане считали себя его врагами, но все-таки он представлял Рим, а противиться Риму — преступление.
И Теренций сказал осторожно:
— Ты говоришь, что в их свитках много мудрости, но ведь они враги Рима, а враги Рима не могут быть мудрыми, потому что Рим превыше всего, и если они не понимают этого...
— ...то они не мудры, ты думаешь? — досказал за него Никий и рассмеялся.
В первую минуту смех этот показался Теренцию обидным, и он угрюмо опустил голову, глядя на пол. Но Никий, тронув старика за рукав, сказал почти ласково:
— Я не хотел тебя обидеть, Теренций, меня просто рассмешили твои слова.
— Разве я сказал неправду и евреи не враги Рима?! — осмелев от ласкового тона Никия, спросил Теренций все еще с обидой в голосе.
— Нет, по-своему ты прав,— уже без смеха отвечал Никий.— Я смеялся лишь потому, что ты различаешь евреев, греков, римлян, тогда как нет ни евреев, ни римлян, а есть просто люди. Они могут быть и врагами, и друзьями того же Рима, но как люди, а не как евреи или греки. Ты ведь и сам, наверное, не римлянин?
Теренций был галлом, но он очень не любил, когда ему напоминали об этом.
— Я слуга своего господина,— произнес он не без гордости и зачем-то добавил (наверное, потому, что в лице Никия все еще видел насмешку): — Слуга Аннея Луция Сенеки.
— Это мне известно,— сказал Никий.— Но все мы слуги одного господина — и рабы, и свободные, и даже император. Мы все слуги единого Бога, а перед ним все люди равны, и все — только люди.
— Ты имеешь в виду Юпитера? — спросил Теренций, хотя понял, что Никий говорит о другом.
Губы Никия раздвинулись в улыбке, хотя глаза смотрели серьезно.
— Ты знаешь, что я говорю не о Юпитере,— сказал он,— Я говорю о едином Боге для всех: и для евреев, и для римлян, и для греков, и для галлов тоже. Ты ведь галл, Теренций?
— Я...— почему-то растерялся Теренций,— я...
— Ты слуга Аннея Луция Сенеки,— усмехнулся Никий.
Кровь бросилась в голову Теренцию. Он легко бы стерпел оскорбления в свой адрес, в конце концов, жизнь слуги и раба приучила его терпеть. Но в ту минуту ему показалось, что оскорблен его господин, единственный человек, которого он любил. И кем оскорблен? Этим мальчишкой, неизвестно откуда явившимся и неизвестно что из себя представляющим. Теренций забылся и, забывшись, воскликнул:
— Да, я слуга Аннея Луция Сенеки, а ты... ты, я вижу, иудей! Это они, враги Рима, твердят о каком-то там едином Боге!
— О единственном для них,— удивительно спокойно поправил его Никий,— а я говорил о едином для всех, это другое.
Этот спокойный тон и ровный голос подействовали на Теренция сильнее, чем крик. Он понял, что совершил непоправимое — он, раб, возразил господину, да еще в таком тоне.
Испуг оказался так велик, что Теренций, побледнев, замер на месте, не в силах произнести ни одного слова в свое оправдание. Никий пристально смотрел на него, и много повидавший за свою жизнь господин Теренций ясно почувствовал властность этого взгляда, особенную властность господина перед лицом раба.
— Успокойся, Теренций,— сдержанно произнес Никий.— Ты многого еще не знаешь. Иди к себе.
Теренция била дрожь. Он низко склонился перед Никием и, не разгибаясь, спиной вышел в дверь, чувствуя на себе, казалось, прожигающий его взгляд.
Несколько последующих дней Теренций все не мог прийти в себя, со страхом ожидая последствий своего проступка. Дважды в эти дни виллу посещал его господин, Анней Луций Сенека, и Теренций с ужасом думал, что же он сможет ответить, когда тот, строго на него посмотрев, спросит: «Я слышал, ты стал забываться, мой Теренций. С чего бы это, ответь?» Он ждал каких-то подобных слов с таким трепетом, что несколько раз ответил хозяину невпопад, и тот спросил:
— Что с тобой? Ты не болен?
— Нет, хозяин,— выдавил из себя Теренций.— Прости.
Сенека сердито на него глянул, прищурив глаза, но ни о чем так и не спросил, отпустив Теренция нетерпеливым жестом.
Выходило, что Никий ничего хозяину не сказал, а ведь они оба раза подолгу беседовали. Теперь, входя в комнату Никия, он прятал глаза, а если все-таки смотрел, то смотрел виновато. Никий же вел себя как и всегда, разговаривал с Теренцием просто и вежливо. И это было странно, этого Теренций понять был не в силах.
По ночам, когда Никий выходил на прогулку, Теренций неизменно его сопровождал, предварительно заперев всех слуг в доме и проверив, не шляется ли кто-нибудь вблизи виллы. Во время прогулки они никогда не разговаривали, Теренций старался ступать бесшумно и держался поодаль, боясь нарушить сосредоточенность Никия: тот обычно находился в задумчивости, ступал медленно и, кажется, ничего не замечал вокруг. Он не уходил далеко от виллы, и прогулка продолжалась не больше часа.
Однажды во время ужина Никий спросил, какое сегодня число, а когда Теренций ответил, странно добавил:
— Ты уверен?
Теренций вежливо улыбнулся, и повторил еще раз, на что Никий сказал озабоченно:
— Ладно, можешь идти.
Ничего особенного в его словах не было, да и озабоченность не казалась необычной, но Теренция отчего-то охватила тревога, и он никак не мог с нею справиться. Тревога оставалась в нем и когда он поздно вечером пришел за Никием и вывел его во двор. Выйдя за ворота, Никий несколько раз украдкой оглянулся и наконец, подозвав Теренция жестом, сказал:
— Подожди меня у дома, сегодня мне хочется побыть одному.
Теренций молча поклонился и медленно вернулся к дому, а Никий быстрым шагом направился в сторону оливковой рощи и скоро скрылся в темноте.
Потоптавшись некоторое время на месте и поглядывая в ту сторону, куда ушел Никий, Теренций, осторожно ступая и прислушиваясь едва ли не после каждого шага, последовал за ним. Он чувствовал сомнение, но не мог не идти. Его господин не приказывал ему следить за гостем, но приказывал оберегать его от посторонних взглядов. Он никогда и не посмел бы следить за Никием, но как он мог уберечь его от посторонних взглядов, если не знал точно, где Никий. Еще Теренцием двигало любопытство, а оно одинаково у всех — и у господина, и у раба.
Подойдя к оливковой роще, он остановился. Полная луна освещала дорогу и дом за спиной мертвенным светом, но в гуще деревьев оставалось темно, как в яме. Теренций поежился, почему-то представив себя сброшенным в сырую яму, мертвым, окровавленным. Он сделал еще несколько неровных шагов вперед и ухватился за ствол дерева. Ноги были ватными, а кровь тяжело стучала в висках. Он бы вернулся к дому сейчас же, если бы мог. Но силы покинули его, он только прижался к стволу всем телом, чтобы не упасть.
И тут он услышал голоса — тихие, осторожные. Они раздавались где-то совсем близко. Один голос принадлежал Никию, другой был незнаком. Говорили по-гречески. Теренций знал на этом языке всего несколько слов, и из того, что говорил незнакомец, понял два: «сделай» и «учитель». Из слов Никия понял только одно: «хорошо».
Голоса смолкли внезапно. Теренций стоял замерев, боясь дышать и, чувствуя, что действительно не может продохнуть, широко раскрыл рот. Он услышал удаляющиеся шаги — треснула ветка, потом еще раз. Один из двоих уходил. Наконец все стихло. И тут Теренций снова услышал шаги — совсем близко, человек шел прямо на него. Он еще плотнее вжался в дерево, словно пытаясь слиться с ним. Справа мелькнула тень, он узнал Никия. Тот прошел мимо, вышел из рощи и вдруг остановился. Теренций не поворачивал головы: он стоял, упершись лбом в ствол дерева и закрыв глаза.
— Кто здесь? — Голос Никия за спиной прозвучал негромко, но резко.
Теренций не отвечал — мурашки бегали по спине, и она вдруг стала как из камня, он перестал ее чувствовать.
— Выходи! — с угрозой выговорил Никий и тут же спросил: — Это ты, Теренций?
Теренций не в силах был ответить, из его горла вырвался какой-то нечленораздельный звук, похожий на клекот.
Никий быстро подошел и, ухватившись за плечо Теренция, с силой потянул того на себя. Теренций испуганно разжал руки, сделал неловкий шаг назад, неправильно поставил ногу, вскрикнул от боли и едва не упал. Никий поддержал его и, развернув лицом, сказал:
— Ты напугал меня. Что ты здесь делаешь?
— Я... я хотел...— заикаясь, выговорил Теренций и не мог продолжать, увидев, как блеснул отсвет лунного огня в глазах Никия.
— Я же приказал тебе ждать у дома,— сдерживая напряжение и стараясь говорить спокойно, произнес Никий.— Зачем ты пришел? Ты следил за мной?
— Нет,— помотал головой Теренций,— я думал... думал, что ты можешь заблудиться... в темноте.
— Заблудиться? — усмехнулся Никий и, сделав паузу, сказал почти весело: — Ты правильно сделал, Теренций, мне и в самом деле не знакомы эти места. Почему же ты не окликнул меня?
— Не знаю... я испугался.
— Чего же ты испугался? — Теренций снова почувствовал напряжение в голосе Никия и, запнувшись на первом слоге, ответил:
— Те...темноты.
Глава четвертая
Анней Луций Сенека был человеком разумным и, как разумный человек, оценивал властителя с точки зрения собственных выгод. Ненависть или любовь к императору не были ему присущи. Император не человек, а высшая точка власти, нельзя любить или ненавидеть эту точку, а следует принимать ее как данность, но лучше все-таки находиться вблизи этой данности, чем вдали от нее.
Единственный раз он попытался увидеть в императоре человека, когда Агриппина, жена императора Клавдия (при котором Сенека несколько лет прожил в изгнании), вернув философа из ссылки, поручила ему воспитывать своего сына Нерона. Нерону было тогда двенадцать лет, незадолго до этого Клавдий его усыновил, и при тогдашнем положении дел при дворе будущее его императорство рисовалось весьма отчетливо.
Тогда-то Сенека и впал в иллюзию, единственный раз за всю жизнь. Судьба давала ему великолепный шанс — сделать будущего императора таким, каким хочет он, Сенека, и остаться при Нероне вечно незаменимым. Но иллюзия рассеялась довольно быстро — едва приступив к делу, он понял, что не может внушить мальчику ничего из того, что хотел: Нерон был уже заражен бациллой власти и ей невозможно оказалось противостоять. Уже в следующую ночь после того, как он стал воспитателем Нерона, Сенека увидел во сне, будто воспитывает Калигулу. Видение было таким ясным, что, пробудившись, он некоторое время озирался по сторонам и не мог понять, где находится.
Внешне его воспитанник Нерон ничем не отличался от других мальчиков из патрицианских семей: изнеженный, капризный, требовательный, коварный. При этом любил искусство — занимался ваянием, стихосложением, но более всего предпочитал театр. Можно сказать, что с самого детства театр был его главной страстью. Настоящего таланта Сенека у него не находил, но способности к актерству всегда и во всем были у него бесспорно. Иной раз Сенека ловил себя на том, что не знает настоящего Нерона, а постоянно видит перед собой разные персонажи из посредственных драм. Чтобы сделать приятное учителю, Нерон время от времени выучивал отрывки из собственных трагедий Сенеки и читал их, громко завывая и размахивая руками. Сенека одобрительно кивал, но эти минуты были для него самыми неприятными — ему становилось стыдно. Не за Нерона, а за себя самого. Он не мог бы объяснить определенно причину стыда, по крайней мере не в его сочинениях было дело. Но стыд оказывался столь велик, что в эти дни он старался поменьше встречаться с кем-либо и, если позволяли обстоятельства, запирался у себя в кабинете и не допускал к себе даже домашних. И при этом давал себе слово больше никогда не писать трагедий.
Впрочем, в то время он редко имел возможность побыть в одиночестве. Почти весь день он отдавал Нерону, а еще... его матери, Агриппине.
Агриппина была по-своему удивительной женщиной — стремление властвовать оказалось ее главной страстью. Это и неудивительно, все-таки она была сестрой
Калигулы и женой Домиция, человека гнуснейшего во всякую пору его жизни. Перечень его преступлений занял бы много места, достаточно сказать хотя бы, что он забавы ради давил прохожих на улице, когда ехал верхом, и колол железным прутом проходящих (на свое несчастье) мимо — когда ехал на носилках. Примечательно, что при рождении Нерона кто-то, поздравив его, спросил, сын родился или дочь, и Домиций ответил так: «У меня и Агриппины ничего не может родиться, кроме ужаса для человечества». То, что он развратничал направо и налево, жил со своей сестрой Лепи-дой,— не самые страшные его деяния.
Агриппина в этом смысле мало чем отличалась от мужа, и трудно сказать, кто из них был более беспутен. О том, что она жила со своим братом, императором Гаем Калигулой, знал весь Рим. Но кого это могло удивить, если Калигула поочередно жил со всеми тремя своими сестрами, а младшую, Друзиллу, объявил своей законной (незаконной, разумеется) женой. Агриппина дошла до еще большей низости — стала жить с вольноотпущенником Палантом, ведавшим государственной казной при Клавдии.
Сам по себе придворный разврат был в порядке вещей, стороннему наблюдателю могло бы показаться, что двор занимается исключительно этим и что разврат есть чуть ли не суть власти. Это было и так, и не так, и Сенека, как опытный придворный, хорошо разбирался в сути и смысле подобной жизни. Разврат при дворе, собственно, можно было разделить на две неравные части. Маленькая часть — это разврат сам по себе, из любви к разврату. А большая часть — это разврат для достижения целей, то есть, правильнее сказать, разврат становился инструментом для достижения целей. А цель была одна — подобраться поближе к власти и пользоваться дарованными ею благами.
Агриппина же поставила себе более высокую цель — самой добиться власти. В силу того, что она родилась женщиной, Агриппина не могла сама претендовать на верховную власть, и она делала все, чтобы верховная власть досталась сыну. Ради этого она была готова на все, Сенека хорошо знал это. Еще при рождении Нерона астролог предсказал ей, что сын ее будет царствовать, но убьет свою мать. Она ответила: «Пусть убьет, лишь бы царствовал!»
После смерти ее брата Гая Калигулы, когда жалкий Клавдий волею судеб сделался императором, Агриппина поняла, что наступил ее час. Она добилась того, чтобы Клавдий изгнал жену и женился на ней, своей племяннице. Она заставила Клавдия усыновить ее сына Нерона. И это при том, что собственный сын Клавдия Британик, что было понятно каждому, оставался на вторых ролях.
В последние десятилетия в Риме судьба, смещающая одного императора и ставящая другого, выступала в лице солдат личной императорской гвардии — преторианцев. Командир преторианцев, Афраний Бурр, сделался любовником Агриппины. В результате этого Клавдия отравили, а императором провозгласили сына Агриппины Нерона. Потом Агриппина, указывая Сенеке на Афрания Бурра, шепнула: «Глупо дожидаться милости судьбы, когда так просто можно уложить ее к себе в постель!» И она рассмеялась громким смехом блудницы.
Незадолго до смерти Клавдия настала очередь Сенеки. Агриппина была умелой любовницей — в какие-то минуты Сенека чувствовал, что она по-настоящему любит его и ощущает к нему истинную страсть. Трудно было представить, что она делает «дело». В этом смысле у нее оказался особый дар: она вступала в любовную связь для достижения цели, но умела сделать страсть настоящей, и любовник оставался предан ей еще долгие годы.
То же самое произошло с Сенекой. Он все прекрасно понимал, но не мог выкинуть из сердца Агриппину и после того, как связь их прервалась. Ему казалось, что он вошел в нее и не может покинуть. И сможет покинуть лишь тогда, когда она сама захочет отпустить его.
Он и Афраний Бурр встали у трона молодого императора, а Агриппина... Да что там говорить, она управляла всем. Однажды, выходя из спальни Агриппины, он столкнулся с Афранием Бурром. Тот улыбнулся и сказал, подражая последним словам императора Юлия:
— И ты, Анней?
Сенека смутился лишь на мгновение и ответил, тоже с улыбкой:
— И ты, Бурр?
— Надеюсь, Анней,— сказал Бурр, указывая на свою искалеченную руку,— мы никогда не превратимся в такое.
Левая рука Афрания Бурра была изуродована в одном из сражений парфянской войны, и злые языки говорили, что покой императора охраняет калека.
В свою очередь, указывая на дверь, откуда он только что вышел, Сенека сказал с притворным вздохом:
— К сожалению, мой Афраний, самая нужная для удержания власти часть тела (я имею в виду не голову и не руки) слабеет быстрее остального, так что мы зависим от природы, а не от самих себя.
С Афранием Бурром у них никогда не было дружбы, но они вполне понимали друг друга и держались вместе. Вообще-то Сенека был чужд ревности, но порой в присутствии Агриппины и Бурра невольно представлял их в постели, потом никак не мог отвязаться от этих видений, и ему делалось больно.
Как-то он спросил Агриппину:
— Скажи, ты еще хоть сколько-нибудь любишь меня?
Спросил словно бы в шутку, но с внутренним трепетом и, глядя на нее, ждал ответа.
Она посмотрела в ответ с удивлением, сказала, едва шевеля своими чувственными губами — с возрастом она казалась еще чувственнее:
— О, Анней, всегда и навеки!
Он знал цену этим словам, но ему все равно было приятно. Она провела пальцем по его подбородку, и он, сам не зная зачем, вдруг спросил:
— А Бурр? Тоже всегда и навеки?
Она не смутилась, ее вообще трудно было смутить. Ответила с присущей ей обезоруживающей простотой:
— Нет, Анней, меня всегда раздражала его культя, ч постоянно натыкалась на нее в самые ответственные моменты.
Но, как бы там ни было, положение Сенеки при молодом императоре в первые годы правления казалось почти незыблемым. Он и сам стал верить в это: их тройственный союз — его, Агриппины и Бурра — это такая крепость, которую невозможно ни взять, ни разрушить. Порой ему представлялось, что они единый организм, хотя это звучит двусмысленно. Молодой император не внушал никаких опасений — он жил своей жизнью и, кажется, вовсе не интересовался государственными делами и прочностью своей власти. Облачившись в одежду простолюдина, он с друзьями шатался по притонам, и не было ни одной грязной дыры, где бы они не побывали. Они развлекались с блудницами, затевали драки на ночных улицах Рима — били сами, бывали биты — короче говоря, ничего особенного, обычные утехи молодых людей, переполненных дурной энергией.
Казалось, что молодость, перебесившись, отдаст свои права спокойной зрелости. Но год шел за годом, и не только ничто не менялось к лучшему, но порок неумолимо затягивал Нерона, пока «он сам не сделался воплощением всех пороков.
Мать женила его на Октавии, желая утихомирить, но это не помогло: Октавия ему быстро надоела, а на упреки матери он отвечал, что с нее достаточно и звания супруги римского императора. В год женитьбы он увлекся вольноотпущенницей Актой и так к ней привязался, что решил развестись с Октавией. Он даже пытался подкупить нескольких сенаторов, чтобы они засвидетельствовали прилюдно, что Акта царского рода. С большим трудом Агриппине и Сенеке удалось уговорить его отказаться от этого безумного плана.
Еще не расставшись с Актой, он увлекся мальчиком Спором, сделал его евнухом и объявил, что желает жениться на нем. Мать пришла к Нерону и потребовала, чтобы он положил конец этому позору. Выйдя из себя, она обзывала его всякими поносными словами — ее крик был слышен во многих покоях дворца. Во время этой сцены Сенека сидел за ширмой у двери и подглядывал в щель тяжелых гардин. Сначала Нерон слушал молча и, казалось, чувствовал себя виноватым. Впрочем, он стоял спиной к матери, и Сенека не мог видеть его лица. Агриппина же, взмахивая руками, осыпала его все новыми и новыми оскорблениями. И вдруг, когда она выкрикнула, что он гнусный выродок, он медленно к ней обернулся. Лучше было бы не видеть такого его лица — оно стало страшным. Агриппина запнулась на полуслове, и воздетые над головой руки медленно опустились.
— Я император Рима! — произнес он в наступившей тишине, с каменным лицом, даже, кажется, не пошевелив губами.— Я император Рима,— повторил он, чуть возвысив голос, и вдруг спросил, подняв руку и указывая на Агриппину пальцем: — А ты кто, женщина?
— Я твоя мать! — заявила Агриппина, гордо вскинув голову, но Сенеке почудилось, что в голосе ее не было достаточной уверенности.
Словно в подтверждение этому Нерон спросил:
— Ты уверена?! — И добавил, так как она промолчала: — Я не уверен. Уйди!
И тут случилось невероятное: не сводя глаз с сына, Агриппина стала отступать и, ткнувшись спиной в дверь, вышла. Губы Нерона раздвинулись в нехорошей улыбке, и в единое мгновение Сенека понял, что Агриппина обречена. Он замер.
Глава пятая
Тогда же Сенека почувствовал, что это начало конца. Трудно было предположить, может ли его что-то спасти или не может. Агриппина имела власть над Нероном только до тех пор, пока он ей это позволял. Настало время, когда он не позволил, и возвращения к прежнему положению быть не могло. Это обстоятельство Сенека осознавал вполне, и строить иллюзии на сей счет было и бессмысленно, и опасно. Вопрос состоял в том, что же делать теперь ему самому.
Он не впервые в жизни вставал на сторону сильного и не считал это предательством. Более всего в жизни он доверял не чувствам, а здравому смыслу, следовательно, и сейчас ему необходимо было поступить здраво.
Нерон победил, и он встанет на сторону Нерона. Пока еще он имеет влияние на императора. Другое дело, сколь долго он будет иметь это влияние и насколько оно окажется сильным.
Встать на сторону Нерона значило выступить против Агриппины. Но он не хотел выступать против нее: не потому, что до сих пор еще любил, а потому, что понимал: после нее настанет его очередь — Нерон пойдет до конца, и Сенеке вряд ли удастся выйти из игры. Значит, чем дольше продержится Агриппина, тем дольше продержится и сам Сенека. По крайней мере, это выигрыш во времени. Правда, говорить о выигрыше во времени, когда тебе шестьдесят пять лет, несколько опрометчиво, но все же.
В последнее время, после того памятного разговора матери с сыном, Сенека избегал встреч с Агриппиной. Он видел, что так же поступает и Афраний Бурр. Значит, все правильно и Бурр мыслит в том же направлении, что и он, Сенека.
Однажды Нерон позвал его к себе и, глядя в окно и стоя спиной к Сенеке — при важном разговоре он всегда старался избегать глаз собеседника,— сказал:
— Тебе известно, мой Луций, что мать готовит против меня заговор? Или ты скажешь, что тебе ничего не известно?
Спросил он это почти будничным голосом, почти лениво, но Сенека понял — от ответа зависит его собственная судьба и выговорил как можно спокойнее:
— Да, император, мне это хорошо известно.
Нерон не ожидал ничего подобного. Сенека видел,
как дрогнули его плечи. Медленно повернувшись и прищурившись (Нерон был близорук), он недоуменно посмотрел на собеседника и произнес с запинкой:
— В-о-т как? Почему же ты не предупредил меня?
— Я посчитал, что еще не время беспокоить тебя этим,— с поклоном сказал Сенека.— Пока это только разговоры, и мне не хотелось раньше времени бросать тень на мать императора.
— Бросать тень на мать императора,— недовольно проговорил Нерон и поманил Сенеку ленивым движением руки.— Встань к свету, я хочу лучше видеть тебя.
Сенека подошел. Нерон, приблизившись к нему, внимательно, словно тот был статуей, смотрел на его лицо. И вдруг, отступив на шаг и театрально подняв правую руку, прочитал по-гречески из своего любимого Гомера:
Некоторое время он оставался в этой позе, красуясь перед единственным зрителем, и Сенека счел за лучшее изобразить на лице некое подобие восторга. Нерон милостиво улыбнулся и опустил руку.
— Ну как? — спросил он.
— У меня нет слов! — Сенека развел руки в стороны и чуть склонил голову набок.
— Я спрашиваю о другом,— уточнил Нерон, опустив глаза.
— Прости, если я не сумел понять,— быстро сказал Сенека,— но твоя декламация...— Он сделал паузу, как бы подбирая лучшее определение, а на самом деле ожидая, чтобы Нерон перебил его.
Так и случилось. Нерон сделал протестующий жест и проговорил, не поднимая глаз:
— Оставим это. Ты понял, что я имел в виду, сказав: «Двух расторопнейших самых товарищей наших я выбрал»?
— Я не смею,— поклонился Сенека.
— Говори! — подняв наконец глаза и величественно откинув голову, приказал император.
— Я не смею думать,— повторил Сенека,— что ты имел в виду меня и...
— И кого еще?
— Афрания Бурра,— сказал Сенека на выдохе, словно ему трудно было произнести это имя.
Нерон снова с прищуром посмотрел на него и, чуть помедлив, кивнул:
— Ты правильно меня понял, мой Луций. Я считаю тебя и Афрания своими первыми друзьями. Но тебя, конечно, наипервейшим,— добавил он, подняв вверх указательный палец.— Ты знаешь, я всегда был примерным сыном и никто не мог бы упрекнуть меня в непочтительности к матери. Разве это не так?
— Это так, император,— с медленным кивком подтвердил Сенека,— Никто не может упрекнуть.
— Вот видишь, ты сам говоришь,— сказал Нерон так, будто это Сенека уверил его, что он всегда почитал мать и что упрекать его не в чем.— Но сейчас я не принадлежу себе и не могу быть просто сыном.
— Ты принадлежишь Риму,— заметил Сенека, но тут же подумал, что его слова прозвучали двусмысленно, и добавил: — И Рим принадлежит тебе.
Нерон удовлетворенно кивнул и вдруг сказал совсем другим тоном, хитро подмигнув собеседнику:
— Знаешь, иногда мне хочется изнасиловать Рим как непорочную весталку. Или ты считаешь, что мой Рим скорее площадная девка, чем весталка?
— Я полагаю, что твой Рим многолик,— уклончиво ответил Сенека.
— Может быть,— задумчиво проговорил Нерон, словно решая про себя, на кого же больше похож его Рим.— Но вернемся к моей матери. Значит, ты считаешь, что она готовит заговор? Но в этом случае я не могу вести себя как почтительный сын. Ведь я император, а власть императора священна. Ты думаешь иначе?
— Власть императора священна,— повторил Сенека, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже,— и никто не вправе посягнуть на нее.
— Ты имеешь в виду и мою мать? — быстро проговорил Нерон, пригнувшись к собеседнику и заглядывая в его глаза снизу вверх.
— И ее тоже! — веско кивнул Сенека.
— Хорошо.— Нерон отошел к столу и, опершись на его край, продолжил: — Посоветуйся с Афранием, что тут можно сделать, а потом вместе приходите ко мне. И еще. Попытайся поговорить с матерью, может быть, ты ей сумеешь внушить...
Он не договорил, как видно, не зная (или не желая говорить об этом открыто), что должен внушить матери Сенека. Но последний сказал:
— Я все понял, император,— и, повинуясь милостивому, но твердому жесту Нерона, вышел.
Никогда еще до этого Нерон не разговаривал с ним так, как сейчас: впервые он говорил с Сенекой не как с учителем, а как с придворным. «Что ж,— подумал Сенека,— когда-то же это должно было случиться».
У дверей он столкнулся с Актой. Дочь раба, несостоявшаяся супруга императора, она все еще имела влияние на Нерона, хотя и не такое сильное, как прежде. Но держалась она высокомерно и едва взглянула на Сенеку. Последний дружески ей улыбнулся — никто не знает, какую силу при дворе сможет еще взять эта распутница.
— Приветствую тебя, великолепная Акта,— сказал он с поклоном.
Она едва заметно повела в его сторону глазами и, покачивая пышными плечами, прошла мимо, не удостоив его ответом.
«Или Рим выродился окончательно, или мне пора на покой,— угрюмо подумал Сенека,— раз эта девка имеет смелость не замечать меня, как какого-нибудь простолюдина. Надо бежать отсюда как можно скорее».
Но он знал, что бежать ему некуда. Такие люди, как он, не могут уйти на покой.
— Значит, или гибель, или изгнание,— произнес он вслух.— Или...
При последнем слове он настороженно посмотрел по сторонам и, усмехнувшись чему-то своему, быстро зашагал вдоль галереи дворца.
В тот же день, не переговорив с Афранием Бурром, он отправился на виллу, где прятал Никия. Всю дорогу он размышлял о пришедшей ему в голову идее. Она была опасна, очень опасна, по-настоящему и смертельно опасна. Но разве у него есть выбор? Не сама смерть страшила его, но ожидание смерти. Это ожидание для него еще унизительней, чем презрение этой беспутной девки, жалкой вольноотпущенницы, встреченной им у дверей комнаты императора. Нет, он не будет ждать, он начнет действовать. Власть императора, может быть, и священна, но разве священен сам император?! Кто из предшественников Нерона умер своей смертью? Один только Божественный Август. А остальные? Тиберия придушили подушкой, Калигулу закололи у входа в цирк, Клавдия отравили грибами. Чем же Нерон лучше их и почему его должна ждать более счастливая судьба?
Нет, он, Анней Луций Сенека, не станет участвовать в заговорах, не будет нанимать убийц, не будет подмешивать яд в пищу. Нет, он подарит Нерону меч — не боевой меч, а игрушку для забавы. Пусть только Нерон не расстается с ним, пусть держит все время при себе, пусть забавляется сколько душе угодно. Ему не нужно знать, что эта безобидная с виду игрушка станет орудием смерти, если он позволит себе посягнуть на свободу и жизнь его, Сенеки. Если не будет посягать, то проживет долго, а если позволит себе что-то — умрет.
Никий — вот его меч: подарок праведного Павла он превратил в смертельное оружие.
Он ни о чем подобном не думал, когда Павел прислал ему Никия. Павел писал, что вера в единого Бога распространяется не осознанием ее праведности и истинности (то есть в большей степени не осознанием), а самою этой истинностью — рано или поздно она завоюет весь мир. Сенека отвечал ему, что может согласиться с тем, что вера превыше разума, но настаивал, что без разума вера мертва. Без разума она становится лишь мертвой доктриной, и лишь разум, осознав ее, веры, истинность может ввести ее в обиход человеческого существования.
Павел настаивал на своем, Сенека возражал, и тогда в одном из писем Павел предложил Сенеке разрешить их спор жизнью. Он писал, что готов прислать ему одного из своих многочисленных учеников, молодого человека именем Никий. Пусть Сенека пообщается с ним сколько угодно долго и пусть почувствует, как вера в истину сама войдет в него. Именно сама по себе, своею собственной силой, потому что ведь смешно даже предположить, что какой-то восемнадцатилетний юнец, сколь бы он ни был умен и образован, просто так сможет переубедить такого глубокого философа и блестящего писателя, как Анней Луций Сенека. Пусть последний сам убедится в силе истинной веры.
Предложение Павла понравилось Сенеке. «Собственно, почему бы и нет»,— подумал он и написал Павлу, что с благодарностью примет у себя его посланца и с удовольствием с ним пообщается.
Он, разумеется, не верил в возможность чудесного проникновения этой самой новой веры в его существо, а убедить его в чем-либо мальчишке, конечно, не удастся. Тут не о чем было и говорить. Но посмотреть на ученика Павла любопытно, тем более что его учитель уверяет, будто мальчишка умен и образован.
Правда, при дальнейшем размышлении Сенека пришел к выводу, что у Павла есть еще одна цель кроме разрешения их неразрешимого спора, и эта вторая цель, по всей видимости, главная. Очевидно, в планы Павла входило хоть каким-нибудь образом повлиять на отношение Рима к назареям или христианам, как еще они себя иногда называли в память некоего Иисуса Спасителя, лет шестьдесят или семьдесят тому назад распятого римлянами в Иудее. В самом деле, гонения на христиан принимали порой недопустимо жестокие формы. Правда, Сенека считал, что их деятельность, их проповеди все же вредят Риму и для них было бы разумно пересмотреть кое-какие свои постулаты. Но все равно, жестокость расправ с назареями была излишней. Он и сам возмущался этим, к тому же считал, что такие действия бессмысленны и опасны в свете антиримских настроений в колониях. Применение силы тут только разжигало страсти, и об этом он несколько раз говорил Нерону. Но последний не желал прислушиваться к подобным советам, тем более что христиане были удобным материалом для выплеска зверства, присущего Нерону. Гонения на христиан в этом случае оказывались не просто проявлением зверства и гнуснейших пороков самого императора, а защитой Рима от опасных врагов.
Сенека полагал, что, посылая к нему Никия, Павел хотел иметь возможность хотя бы смягчать такие гонения. Кто же еще, кроме Аннея Луция Сенеки, учителя Нерона, фактического правителя Рима, мог здесь помочь?
Тут Павел не ошибался, но он упустил время. Оттуда, из колоний, не могло быть видно, как потускнела звезда влияния и власти Сенеки. Еще полгода назад Павел вполне мог на него рассчитывать, но теперь...
Впрочем, эти планы Павла представлялись Сенеке все-таки домыслами, и он отдавал себе отчет в том, что вполне может заблуждаться на его счет. Но, как бы там ни было, он с радостью принял Никия, и мальчишка ему понравился. Он думал, что тот станет переманивать его в свою веру, открыто или исподволь подводить разговоры к этому вопросу. Но он ошибся — Никий ничего такого не говорил и, более того, словно бы сам избегал разговоров о вере и этике назареев. Но мальчишка был интересный. Да, собственно, мальчишкой его могли назвать только по годам, тогда как ум его оказался уже вполне зрелым, а знания довольно обширны, хотя и не очень глубоки. Сенека с интересом беседовал с ним — его суждения бывали порой свежи и необычны. Временами старый философ чувствовал этого юношу равным себе. По крайней мере, равным себе собеседником.
Одно только не нравилось сенатору — какая-то почти болезненная преданность Павлу, или, как неизменно называл его Никий, учителю. Не сама эта преданность раздражала Сенеку, а очевидная зависимость Никия от учителя. Говоря о вещах, к учителю не относящихся, он изъяснялся совершенно свободно, мыслил остроумно и живо, и Сенеке было приятно следить за ходом его рассуждений. Но если хоть что-нибудь касалось учителя, а тем более его проповедей — тут Никий делался совершенно невыносим: упорно повторял положения, высказанные Павлом, и ни за что не желал посмотреть на них критически. Мало того, если Сенека начинал рассуждать о своих разногласиях с Павлом — а он всегда делал это осторожно, с очевидным уважением к далекому проповеднику, — то Никий замыкался, смотрел себе под ноги, и порой сенатору казалось, что он его просто не слышит. Порой Сенека относился к этому снисходительно, но бывали минуты, когда он раздражался и не умел себя сдержать.
— Ты раб Павла, а не его ученик! — однажды вскричал он в сердцах.
Никий медленно поднял голову, пристально посмотрел на сенатора, и последний с удивлением заметил в его взгляде снисходительность, а не злость. Никий с жалостью посмотрел на Сенеку и тихо ответил:
— Человек не может быть ничьим рабом, потому что он раб одного только Бога.
— Что значит «не может»? — воскликнул Сенека, все еще не в силах успокоиться.— Пойдем, я покажу тебе своих рабов. Спроси у них сам: рабы они или нет!
— Они рабы Господа,— упрямо отвечал Никий.
— А я, я сам? Я тоже, по-твоему, чей-то раб?
— Да, но не ведаешь об этом.— Голос Никия прозвучал так спокойно, что Сенека в первую минуту растерялся.
— Я, Анней Луций Сенека,— хрипло выговорил он, ткнув себя пальцем в грудь,— не ведаю, что я чей-то раб? Уж не твоего ли Павла?! — добавил он, совершенно потеряв самообладание.
— Не Павла,— покачал головой Никий,— а Господа.
Впрочем, это был единственный раз, когда Сенека
вышел из себя. Тогда, чуть только Никий ушел, он уверял себя, что больше не хочет видеть мальчишку и немедленно отправит его обратно. Но, успокоившись, стал думать, что не стоит принимать скоропалительных решений: нужно смирять чувства и думать о собственной выгоде. Он сам пошел к Никию и сказал, что не нужно на него обижаться — он уже старик и выдержка порой отказывает ему.
Никий посмотрел на него своим светлым взглядом и ответил, что сенатор не нанес ему никакой обиды.
— Это меня радует,— произнес Сенека рассеянно, уже думая о своем.
Глава шестая
Актер Салюстий всем был обязан Сенеке. Последний привез его из Александрии несколько лет назад, выкупив у прежнего хозяина. Тщеславие стареющего философа было тому причиной.
Титиний Капитон, его прежний хозяин, оказался большим любителем театра, хотя и на особый, провинциальный лад. Он собрал целую труппу актеров из собственных рабов и вольноотпущенников. Сенека приехал в Александрию по делу об откупах и был принят в доме Титиния Капитона, как император. Во время обеда несколько актеров разыграли перед собравшимися целый акт из трагедии Сенеки «Медея». Медею играл Салюстий и очень позабавил гостя. Он так завывал, так заламывал руки, что Сенека едва удержался от смеха (гости и Титиний Капитон отнеслись к представлению очень серьезно). По окончании Сенека поблагодарил хозяина за доставленное удовольствие, вежливо добавив, что таких актеров, как этот Салюстий, не во всякое время отыщешь в Риме. Хозяин был польщен, подозвал Салюстия и приказал ему исполнить что-нибудь еще. Салюстий прочитал монолог из трагедии Сенеки «Эдип» — глаза его сверкали, а выражение лица было зверским. Сенека похвалил актера еще раз и вступил с ним в разговор, единственно потехи ради. И тут Салюстий удивил стареющего философа по-настоящему. Он прочитал наизусть большой отрывок из его «Писем на моральные темы». Причем читал он это так, как читал бы монолог из трагедии: сверкая глазами и заламывая руки. Наверное, это было смешно, но в этот раз Сенека смотрел на чтеца с искренним удивлением. Но самое удивительное состояло в том, что и Титиний Капитон удивился не меньше: он смотрел то на чтеца, то на Сенеку, ничего не понимая.
Когда Салюстий закончил, Сенека не знал, что сказать и как вести себя: с одной стороны, это кривляние можно было принять за откровенную насмешку, но с другой... Дело в том, что Сенека оказался польщен. Как бы там ни было, но здесь, вдалеке от Рима, актер читает его философское произведение как трагедию! Он был польщен и тронут, но, конечно же, не подал вида, повернулся к гостям с улыбкой (те в ответ настороженно улыбались) и сказал:
— Никогда еще не слышал столь скучное сочинение в столь блестящем исполнении.— И он широким жестом указал на чтеца.
Салюстий нисколько не смутился, поклонился сенатору и гостям и, широко шагая и гордо держа голову, покинул сцену.
Обескураженный Титиний Капитон не сразу пришел в себя и стал было смущенно извиняться перед Сенекой, говоря, что ему ничего заранее не было известно. Но Сенека остановил его и сказал, что все это очень занятно и откровенно его позабавило, а потом добавил, обращаясь уже ко всем:
— Никогда не думал, что мои скучные сочинения известны еще кому-либо, кроме моих ближайших друзей и клиентов. Первые вынуждены читать их по дружбе, вторые — потому, что зависят от меня. Но, честно сказать, я не завидую ни тем, ни другим.
Титиний Капитон, а вслед за ним и гости стали наперебой убеждать сенатора, что он один из самых блестящих умов своего времени и что лучшего писателя не было в Риме испокон веку.
Сенека прекрасно понимал, какова цена всем этим восхвалениям, но все равно ему было приятно. Лесть, разумеется, ниже правды, но у нее есть одно неоспоримое преимущество: она всегда и всем приятна. Кто бы что ни говорил.
Несколько дней спустя, уже перед самым возвращением в Рим, Сенека спросил Капитона, не может ли он продать ему этого самого чтеца. Спросил как бы между прочим, как о какой-нибудь безделице. И добавил скучающе:
— Путь до Рима утомителен. Надеюсь, твой Салюстий развлечет меня.
Титиний Капитон посмотрел на него с удивлением, и Сенека невольно смутился:
— Впрочем,— сказал он,— если тебе, мой Титиний, это как-нибудь затруднительно...
— О нет, что ты! — воскликнул Титиний Капитон, всплеснув руками.— Прости, что я не догадался сам предложить тебе его. Позволь мне сделать тебе такой подарок — я буду испытывать счастье до конца моих дней.
И Титиний Капитон еще долго распространялся о том, какая это для него честь и как он счастлив сделать для сенатора хоть что-нибудь приятное.
Сенека возразил, что не может принять такой подарок, а Капитон настаивал, чтобы он принял. После высокопарно-вежливых пререканий Сенека наконец назвал цену (довольно высокую, тем более что мог получить Салюстия даром). Титиний Капитон замахал руками, восклицая, что не хочет ничего и слышать о цене, но по характерному блеску его глаз Сенека понял, что цена его не очень устроила и он хочет взять больше. Сам сенатор был скуповат, а кроме того, опытен в денежных делах и никогда не бросал деньги на ветер. Слово за слово, и они с Титинием Капитоном стали отчаянно торговаться. В какую-то минуту Сенека понял, что ничего добиться не сможет, и, махнув рукой и сказав, что не желает больше говорить на эту тему, с сердитым лицом пошел к двери. В его действиях были чувства, но был и расчет, и он оказался вполне оправданным.
— О нет, не уходи! — вскричал Титиний Капитон, когда гость был уже у двери.— О нет,— повторил он совершенно трагическим тоном и тихо добавил: — Я согласен.
Последнее он произнес жалобно, но твердо.
— Хорошо,— бросил Сенека, не обернувшись,— я пришлю деньги, а ты пришли мне Салюстия.
И только отсчитав деньги и передав их посыльному, он вполне осознал, что проклятый Титиний надул его и Салюстий обошелся ему слишком дорого — на эти деньги можно было купить полдюжины таких же актеров. И когда Салюстий явился к нему и, пав перед ним ниц, стал высокопарно благодарить, сенатор с досадой посмотрел на него и ничего не ответил.
Впрочем, дорогой Салюстий несколько утомил сенатора. Он без конца пытался читать отрывки трагедий
и, кажется, мог заниматься этим без устали с утра до вечера. Он в буквальном смысле был болен театром.
Сенека, сам не зная зачем (скорее всего от усталости), сказал, похлопав Салюстия по плечу:
— Ты мне нравишься, я сделаю тебя управляющим одного из моих поместий.
— Управляющим? — переспросил актер, и голос его дрогнул.
Сенека сделал вид, что удивлен:
— Не сомневайся, это богатое поместье. Любой из твоих собратьев был бы на вершине счастья, предложи я ему нечто подобное.
— Но как же так, мой господин!..— простонал Салюстий, и на глазах его выступили слезы.— Если ты хочешь, я прочитаю что-нибудь из твоей «Медеи» или...— Он не договорил и вдруг разрыдался, утирая глаза ладонями и тряся головой.
Сенека опять по-настоящему удивился: горе Салюстия было неподдельным. Такая приверженность своему призванию вызвала у сенатора нечто похожее на уважение. Кроме того, ему просто стало жалко актера.
— Успокойся,— улыбнулся он,— ты будешь играть, я пошутил.
Но Салюстий еще долго не мог успокоиться и смотрел на сенатора жалобно, как побитая собака.
Салюстий стал жить в доме сенатора и время от времени забавлял его гостей своими представлениями. Он умел играть сразу за нескольких актеров и даже за хор. Он потрясал руками, делал страшное лицо, стонал — и все это совершенно серьезно, с полным перевоплощением,— так что сенатору иногда казалось, что он от избытка чувств может замертво упасть на сцене. Представлял он серьезно, но бесталанно, и чем более серьезно он играл, тем это выходило смешнее и тем самым забавляло гостей сенатора. Если в гости приходил поэт, Салюстий читал что-нибудь из сочинений поэта, а если философ, то из сочинений философа. И при этом ни разу он не обратил читаемое в шутку.
Однажды к Сенеке пришел Нерон, и хозяин решил угостить императора Салюстием. По приказу Сенеки тот выучил несколько отрывков из трагедий императора. Правда, все, что сочинял Нерон, было в отрывках, он так и не мог довести ни одной своей вещи до конца.
Салюстий вышел, как-то особенно серьезно и проникновенно поклонился Нерону и стал читать. Присутствовавшие при этом приготовились смеяться и только ожидали знака, поглядывая на императора. Но тот слушал актера совершенно серьезно, чуть прищурившись, что было у него знаком особого внимания. И никто из гостей не позволил себе даже улыбнуться. Сидя рядом с императором, Сенека с ужасом думал о совершенной ошибке и ее возможных последствиях, которые могли стать для него крайне неприятными. Он, столь опытный царедворец, позволил этому фигляру читать стихотворения императора, да еще в присутствии других. Сенека в смятении искал выход из этого положения, но ничего не сумел придумать. А тут Салюстий закончил, и в зале наступила мертвая тишина — казалось, все присутствующие замерли и перестали дышать. Сенека почувствовал, как холодок пробежал по его спине, а со лба скатилась и попала в глаз едкая капля пота.
Молчание продолжалось слишком долго: актер склонился перед императором, а тот смотрел на него неподвижно. Вдруг Нерон медленно повернул голову и внимательно, словно видел впервые, посмотрел на Сенеку, сказав:
— Не думал я, мой Луций, что ты так долго будешь прятать от меня такое сокровище.
Сенека не сразу понял смысл сказанного, но, почувствовав укоризну в голосе императора, виновато наклонил голову.
— Подойди ко мне,— приказал император Салюстию.
Тот подошел с таким проникновенно-серьезным лицом, что в другое время сенатор не смог бы удержать-ся от смеха. Но сейчас он настороженно смотрел то на императора, то на Салюстия.
— Ты мне нравишься,— проговорил Нерон, благосклонно глядя на Салюстия, внимательно смотревшего ответ.— Но там, где «о Гектор, вскричала в слезах темноокая дева», не нужно кричать, а нужно сделать рукой вот такой жест (император поднялся и поднял руку), а потом склонить голову (император склонил голову). Ты понял?
— О император! — вскричал Салюстий.— Я только сейчас понял, как же это нужно играть!
— Это хорошо, что ты понимаешь,— сдержанно проговорил Нерон и добавил, прищурившись: — Ты можешь прочитать мне что-нибудь из Гомера?
— Нет, император,— горестно помотал головой Салюстий,— не могу.
— Но как же!..— вмешался Сенека,— Ты прошлый раз читал несколько отрывков.
— Почему же ты не можешь? — вкрадчиво спросил Нерон и сердито нахмурил брови.
— Потому что я понял, о император, что ничего не умею. После того как ты показал мне, как...— Он не закончил, опустил голову и всхлипнул.
— Вот оно что! — произнес Нерон и, взяв Салюстия за подбородок, поднял его голову.
Когда актер посмотрел на Нерона, в глазах его стояли слезы.
— Хорошо,— милостиво ответил Нерон,— я дам тебе несколько уроков.— И, обернувшись к Сенеке, добавил: — Надеюсь, ты разрешишь ему прийти ко мне, мой Луций. Обещаю, что расставание с ним будет недолгим.
Сенека почтительно склонился перед императором.
Салюстий не вернулся в дом своего хозяина. Нерон больше уже не отпускал его от себя. Однажды Нерон сказал Сенеке:
— Я думаю, что актер не может быть рабом. Способность представлять есть способность свободного человека, или, лучше сказать, благородного. Если покопаться в родословной любого талантливого актера, то обязательно найдешь там благородную кровь. Или ты не согласен со мной?
Сенека сразу же понял, куда клонил Нерон, но ответил так:
— Мне трудно судить о том, благороден ли актер, если он считается рабом. Не каждый может проникнуть в родословную — такой способностью обладают только великие актеры. В тебе Рим приобрел императора, но потерял актера, и я не уверен, что приобретение Рима важнее его потери.
Комплимент вышел несколько двусмысленным и неуклюжим, но Сенека этого не страшился, он хорошо знал своего бывшего воспитанника — талант актера он ставил превыше всего на свете.
— Думаю, ты прав,— задумчиво отвечал Нерон, словно не вполне понимая, что слова Сенеки относятся к нему.— Иной раз я чувствую, как что-то разрывает меня изнутри. Ты не замечал во мне этого?
— Замечал, император,— сокрушенно покачал головой Сенека.— С самого твоего детства в тебе боролись два великих предназначения. Если бы не благо Рима, которое для меня священно, я бы и сам сожалел, что победило твое второе предназначение.
— Так ты думаешь,— со сдержанной радостью спросил Нерон,— что моим первым предназначением была поэзия?
Сенека не ответил, а лишь скорбно уронил голову.
На следующий же день после этого разговора Салюстий стал вольноотпущенником. «Я не удивлюсь, если он станет гражданином Рима, а потом и сенатором,— подумал Сенека, составив нужные бумаги.— Хотя что же удивляться, Римом давно уже правят лицедеи».
Салюстий стал человеком, бывшим при императоре едва ли не все время дня и ночи. На пирах он сидел за императором, в театре — возле. Сказав нечто остроумное или оценив игру актеров, император поворачивался к Салюстию и спрашивал:
— Как тебе это?
И Салюстий глубокомысленно кивал. Еще Нерон любил, чтобы Салюстий слушал его чтение, а иногда они вдвоем разыгрывали какой-нибудь отрывок. Император поправлял чтение Салюстия, а тот восторгался талантом Нерона, и порой в лице его был восторг, а порой в глазах слезы.
Салюстий был значительно умнее, чем могло показаться вначале. Император часто менял любимцев именно потому, что они зарывались — смотрели на окружающих с холодным превосходством, а то и с откровенным презрением, вмешивались в государственные дела, откровенно воровали. Короче, делали все, что делает человек, потерявший чувство меры и мнящий себя значительно выше, чем он есть на самом деле.
У Салюстия же хватило ума не поддаться подобным соблазнам. Он остался почтителен с окружающими, вежливо улыбался, если к нему обращались, и вообще старался быть в тени. Особенное почтение он выказывал в отношении Сенеки и даже несколько раз назвал его «хозяин». Когда Сенека заметил, что называть так его не нужно и что он давно уже не его хозяин, Салюстий приставил ладонь к груди и выговорил чуть дрогнувшим голосом:
— Так я чувствую здесь.— И добавил едва слышно, почти умоляюще: — Ты не оставишь меня, хозя... сенатор?
— Не оставлю, Салюстий, будь покоен,— пристально глядя в глаза актеру (пока тот не увел взгляд в сторону), ответил Сенека.
Он не верил в настоящую человеческую преданность, тем более в преданность раба. Человек может быть предан из выгоды, а не из любви. В такого рода преданности Сенека не только не находил ничего дурного, но считал эту преданность наиболее верной. Если хочешь, чтобы человек был тебе предан, веди себя в отношении его так, чтобы ему это было выгодно. И в отношении Салюстия Сенека вел себя именно таким образом. Он не раз с совершенно серьезным лицом говорил окружающим о замечательных душевных качествах своего вольноотпущенника и о его выдающемся таланте, зная, что его мнение обязательно дойдет и до Салюстия, и до императора. Если кто-нибудь при этом делал понимающее лицо (понимаю, сенатор, тебе нужно говорить именно так), с этим человеком он становился холоден и официален. Он словно чувствовал, что Салюстий ему обязательно понадобится для какого-то важного предприятия, и предчувствие его не подвело. Когда он стал думать, как приставить Никия к императору, то вспомнил о Салюстии — лучшей кандидатуры ему не найти.
Конечно, тут невозможно было говорить о непременном успехе, в этом плане имелись свои подводные камни, но время поджимало, и Сенека все же решился рискнуть. Собственно, ничего другого ему не оставалось.
Самое неприятное заключалось в том, что Салюстия так или иначе приходилось посвятить в свой план, пусть и частично. Неприятно иметь человека, от которого ты зависишь, тем более если этот человек не живет рядом и ты не можешь за ним наблюдать постоянно. «В конце концов,— приняв окончательное решение, сказал себе Сенека,— Салюстий, как и все, смертен, а смерть, как известно, может настигнуть человека совершенно внезапно». При этом он усмехнулся и щелчком пальца сбил пылинку с края стола.
Глава седьмая
Сначала Сенека окончательно переговорил с Никием. Он не стал заходить издалека и, лишь только Никий пришел к нему, спросил:
— Ты помнишь, как говорил мне, что император Нерон не человек, а чудовище?
— Я не сказал, что он чудовище,— поправил его Никий,— я просто сказал, что он не человек.
— Но разве ты не считаешь его чудовищем?
— Считаю,— после короткого молчания чуть настороженно выговорил Никий.
— Очень хорошо,— сказал Сенека и, пристально глядя на Никия, продолжил: — Я хотел сказать тебе, что тоже так считаю.
Никий не отвечал, хотя взгляда не уводил, и Сенека спросил:
— Что ты об этом думаешь?
— Я думаю,— спокойно отозвался Никий,— что каждый человек рано или поздно должен понять это.
— Очень хорошо,— повторил Сенека,— Теперь я хочу спросить тебя: как надо поступать с чудовищем?
— Ты говоришь об императоре? — в свою очередь спросил Никий, и Сенеке показалось, что губы его раздвинулись в чуть заметной улыбке.
— Ты меня правильно понял, я говорю об императоре,— почему-то почувствовав раздражение и стараясь подавить его, ответил Сенека,— Я повторяю вопрос: как надо поступать с чудовищем?
— Римскому сенатору это должно быть лучше известно, чем мне,— уклончиво ответил Никий.
«А он не так прост, как кажется»,— подумал Сенека и сказал:
— Римский сенатор считает, что чудовище должно убить. Скажи, разве назареи считают иначе?
— Я не могу отвечать за всех.
— Отвечай только за себя,— проговорил Сенека.
— Спаситель говорил, что нельзя убивать,— помолчав и наконец уведя взгляд в сторону, произнес Никий; голос его при этом звучал не очень уверенно.
Сенека хорошо понял причину этой неуверенности и тут же спросил с улыбкой:
— Но разве он имел в виду чудовище? Как я понимаю, он говорил о людях. Или ты признаешь, что император Нерон все-таки человек, хотя и дурной?
— Я...— произнес Никий и запнулся (Сенека с волнением ждал ответа, зная, что это главный пункт всего их разговора).— Я... не знаю,— наконец выговорил он и посмотрел на сенатора виновато.
— Нет, Никий, ты знаешь,— голос сенатора прозвучал как никогда твердо,— ты знаешь, что он не человек. Он истребил тысячи твоих братьев и истребит, если его не остановить, еще многие тысячи. Ты знаешь, и я знаю, что он не просто убивает их, но истребляет, причем получая удовольствие от вида смерти, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Или я не прав, мой Никий?
Не поднимая глаз, Никий едва заметно кивнул.
— Вот видишь,— сказал Сенека,— мы думаем с тобой одинаково. Разве ты не убьешь змею, которая жалит ребенка? Разве ты не убьешь зверя, напавшего на женщину? И разве мы не убиваем взбесившуюся собаку?
— Я не знаю, что отвечать, сенатор,— вздохнул Никий.— И я... ты чего-то ждешь от меня?
— Да, Никий, я хочу, чтобы ты поразил чудовище,— шагнув к юноше и глядя на него сверху вниз, сказал Сенека.
— Я? — испуганно проговорил Никий.— Убить? Но ведь я не убийца.
— Именно поэтому я и разговариваю с тобой. Убийца убивает из мести, или за деньги, или для того, чтобы получить власть и привилегии. Так император Гай Калигула задушил Тиберия, так преторианцы убили его самого. За это же мать Нерона, Агриппина, отравила Клавдия. Деньги, власть и привилегии — вот причины, побуждающие убийц убивать. Но разве тот, кто, защищая женщину, старика или ребенка, убивает насильника, разве того можно назвать убийцей! А если можно спасти тысячи стариков, женщин и детей?.. Твоих братьев, Никий. Твоих ни в чем не повинных братьев!
— Спаситель учил...— начал было Никий дрожащим голосом, но Сенека его перебил:
— Знаю, ты скажешь, что человеку нужно дать шанс раскаяться, я правильно тебя понял?
— Да.
— Нерон не человек, а чудовище, но я согласен, ему тоже надо дать такой шанс. Если бы ты имел возможность дать ему такой шанс, ты бы дал?
— Да.
— Хорошо, давай сделаем это, ты согласен?
— Это... может... может сделать только Бог,— запинаясь, произнес Никий.
— Но разве твой Бог не может подсказать человеку, что ему делать? Скажи, может или нет?
Никий вздохнул и, посмотрев на сенатора снизу вверх, ответил:
— Может. Но для этого человек должен быть... должен быть таким, как учитель. Я еще молод и не достоин того, чтобы Бог разговаривал со мной.
— Говоря об учителе, ты имел в виду Павла?
— Да,— с удивлением кивнул Никий.
Сенека отступил и опустился в кресло напротив.
— Я уже говорил тебе о письме. Павел написал мне, что ты должен быть при Нероне, и просил меня помочь.
— При этом...
— При этом чудовище,— досказал за него Сенека,— Учитель считает, что если он все-таки человек, то у него есть шанс и ты поможешь ему воплотиться. Но если он все-таки чудовище и если Бог подаст Павлу знак, то ты должен поступить так, как должно поступать с чудовищем. Я ясно говорю? Ты понимаешь меня?
— Я понимаю,— неуверенно проговорил Никий,— но неужели учитель...
— Ты сомневаешься в учителе? — Сенека удивленно поднял брови.
— Нет, нет,— быстро и испуганно выговорил Никий,— но я хотел бы...
— Ты же знаешь, почему я уничтожил письмо,— нетерпеливо сказал Сенека.— То, что я мог погибнуть, если бы оно попало в чужие руки, не самое страшное — я старик, и моя смерть и без того близка. Но мог погибнуть ты, и тогда...— он прервался, прокашлялся, взявшись рукой за горло, и с трудом закончил,— и тогда у чудовища не будет шанса.
Никий долго молчал. Сенека его не торопил. Никогда он не думал, что его так взволнует этот разговор — пальцы дрожали, а дышать стало тяжело. Он старался дышать ровнее и придерживал одну руку другой.
Наконец Никий произнес:
— Хорошо, я сделаю то, чего хочет учитель.
Сенека не в силах был отвечать и только слабо улыбнулся Никию, превозмогая острую боль в левом боку.
Оставшись один, Сенека подумал с горечью, что все его теперешние усилия, быть может, совершенно бесполезны. Неужели все только ради того, чтобы продлить собственное благополучие? Но глупо продлевать благополучие, когда не можешь продлить жизнь. Неизвестно, сколько еще лет жизни отпустят ему боги — а может, уже и не стоит считать жизнь годами! Что ему по-настоящему нужно от жизни, он уже не смог бы сказать, а затеял он все это лишь потому, что не может сидеть сложа руки и теперь обманывает себя, прикрывая своим трепыханием страх перед смертью.
В этом смысле он завидовал Никию. И не потому только, что тот молод и перед ним целая жизнь, а главным образом потому, что у него есть цель. Истинная или ложная — это другое дело, но, во-первых, она есть, а во-вторых, представляется благородной. А что у него? Мельтешение царедворца? Страх богача?
Сенека вздохнул и подумал, что он более несвободен, чем сам представляет это. Но делать нечего, сейчас нужно не рассуждать, а действовать дальше. После разговора с Никием на очереди был разговор с Салю-стием.
Встретив Салюстия во дворце, сенатор с улыбкой сказал ему:
— Зайди ко мне, когда у тебя будет время, мой Салюстий. Мне прислали из Греции несколько свитков трагедий Софокла и Еврипида. Не могу сказать точно, подделка это или нет, но там есть интересные места.
— Когда ты прикажешь прийти к тебе? — с поклоном ответил Салюстий, и в выражении его лица не было ничего такого, что говорило бы, будто он понимает: сенатор зовет его к себе не просто смотреть какие-то свитки.
— Я не приказываю, а приглашаю,— поправил его Сенека.— Приказать тебе может лишь император. Но если ты спрашиваешь о времени, я отвечу: например, завтра с утра. Это тебя устроит? — И он добавил, кивнув головой в сторону покоев Нерона: — Ведь император любит подольше поспать. К часу его пробуждения ты уже будешь на месте.
— Как прикажешь, сенатор,— снова поклонившись, сказал Салюстий.
Еще с вечера Сенека приказал слугам привести к себе Салюстия, лишь только он явится. Ложился сенатор обычно рано, но в тот день долго не мог уснуть. На сердце было неспокойно, и он уже жалел, что ввязал актера в это дело. Впрочем, еще не поздно все отменить, просто показать ему свитки трагедий (ему их и в самом деле недавно прислали из Греции, и он был совершенно уверен, что это подделка) и отпустить с миром. В конце концов, такое общение с человеком, столь приближенным к императору, и само по себе часто оказывается полезным. Но Сенека знал, что ничего отменить не может, он чувствовал, что уже не принадлежит самому себе. Словно какая-то неведомая сила заставляла совершать те или иные действия, и он не в состоянии был противиться. Он вспомнил о Павле. Вроде бы Павел был тут ни при чем, но все равно Сенека ощущал, что все это каким-то образом связано с Павлом, и ему представлялось, будто Павел находится в центре всего.
«Да не может же быть, чтобы я, Анней Луций Сенека, оказался втянут в неведомые мне игры каким-то провинциальным проповедником! Нет, такого быть не может!» — так он говорил себе, твердо и неоспоримо. Но в глубине души не верил ни в твердость, ни в неоспоримость. И Павел представлялся ему в виде паука в центре неведомой паутины, а он, Сенека, запутывался где-то с краю. Он бился, кричал, но не мог освободиться.
Проснулся он в холодном поту и долго сидел на постели, настороженно прислушиваясь к звукам, доносившимся с улицы: уже рассвело и Рим оживал постепенно. Он позвал слугу, оделся и пошел в свой кабинет. Короткое время спустя ему доложили, что пришел Салюстий.
Он встретил его сидя за столом, ответил на подобострастное приветствие пришедшего коротким кивком и указал на кресло с другой стороны стола. Салюстий подошел, но не сел, как видно ожидая повторного приглашения. Но его не последовало. Сенека внимательно рассматривал Салюстия и молчал, а тот стоял, вежливо потупив взор.
У хозяина почему-то мелькнула мысль, что этот жалкий вольноотпущенник когда-нибудь погубит его. Он вспомнил, как отчаянно торговался с Титинием Капитоном, прежним хозяином актера, и ему представилось, что та сумма, которую он заплатил за Салюстия, есть цена его собственной жизни. Мысль была совершенно нелепа, но сцена торга почему-то неотступно стояла перед глазами. Он помотал головой, отгоняя навязчивое видение, и, поудобнее усевшись в кресле, взглянул на Салюстия с прищуром, подражая императору Нерону. Салюстий поднял глаза, но тут же снова опустил, а Сенека начал так:
— Слышал я, мой Салюстий, что ты тяжело заболел, что время от времени у тебя пропадает голос и ты не можешь читать для императора тогда, когда он хочет.
Он подождал, возразит ли что-либо Салюстий, но тот молчал, и сенатор продолжил:
— Меня очень беспокоит твоя болезнь, и я чувствую себя виноватым перед императором: ты ему очень нужен, и мне не хотелось бы его огорчать. Мне говорили, ты обращался к римским врачам, но никто из них не может тебе сколько-нибудь помочь. Это так? Мне правильно передавали, мой Салюстий?
Салюстий поднял глаза, несколько мгновений смотрел на хозяина неподвижно, потом произнес, кивнув:
— Как будет угодно сенатору.
— Мне угодно благополучие Рима, и тебе это известно, мой Салюстий. А благополучие Рима зависит от настроения императора, а ты умеешь это настроение поднимать. Ты согласен со мной?
— Я думаю, сенатору это лучше известно, чем мне,— осторожно повторил Салюстий.
— Я спросил тебя прямо, и мне хотелось бы получить столь же прямой ответ. Я повторяю вопрос: ты согласен, что благополучие Рима зависит от настроения императора, а ты умеешь поднимать ему настроение?
— Да, согласен,— быстро кивнул Салюстий, отвечая тоном обвиняемого на суде.
— Мне это очень нравится, я рад, что ты согласен,— благосклонно проговорил Сенека и указал Салю-стию на кресло.— Ты можешь сесть.
Салюстий сел на самый край, глядя чуть в сторону от глаз сенатора, всем своим видом выказывая полную свою зависимость от последнего.
Сенека был несколько смущен — поведение актера оказалось слишком уж неожиданным. Обычно вольноотпущенник, приближенный к императору, стоит по высокомерию дюжины сенаторов-провинциалов, а по наглости — так целой когорты преторианцев. Салюстий пробыл уже довольно долго при дворе, чтобы вести себя подобным образом, он, наверное, понимал, что влияние Сенеки на императора Нерона не столь уж значительно теперь. Он не дурак, следовательно, хитрец. Само по себе это обстоятельство не было опасно для Сенеки, но лишь в том случае, если Салюстий не представляет кого-то, кто неизвестен Сенеке, и если этот неизвестный (а скорее всего, группа неизвестных) не имеет целью свалить сенатора. Интриги — вещь для двора обычная, но заговор... А ведь мог быть и заговор.
У сенатора опять мелькнула мысль оставить свое предприятие и ничего не говорить актеру. Но лишь только он подумал об этом, как вспомнил Павла и, сам уже не желая того, продолжил:
— Итак, Салюстий,— сказал он, пристально глядя на актера,— меня очень беспокоит твоя болезнь. Я вижу тут два пути: либо надо излечить тебя, либо...— он сделал паузу, дождался, пока актер поднял на него взгляд, и только тогда закончил: — либо заменить. У меня есть на примете несколько кандидатур, и я уверен, что кто-то из них может понравиться императору. Что ты думаешь по этому поводу, мой Салюстий? Ведь, как я слышал, римские врачи сказали тебе, будто твоя болезнь неизлечима. Это так? Говори.
— О сенатор,— жалобно пробормотал Салюстий, прижимая руки к груди,— я всем тебе обязан, и без тебя я ничего не смог бы сделать в своем искусстве. О сенатор, не лишай меня этого. Ты как скала возвышаешься в этой жизни, а я — как малая песчинка. Будь снисходителен, позволь мне... позволь мне...
Он все не мог выговорить, что же должен был позволить ему сенатор, и тот строго спросил:
— Позволить что?
— Позволь мне остаться! — протянув руку к сенатору типично актерским жестом, вскричал Салюстий так громко, что Сенека поморщился.
— Я все не пойму, мой Салюстий, чего же ты просишь у меня? Остаться в Риме? Но никто не мешает тебе остаться. И не я, а император может решить по-другому. Если же ты хочешь, чтобы я тебе чем-то помог, так и скажи, не стесняйся, я постараюсь сделать все, что в моих силах. Ну же, Салюстий, смелее!
— Я хочу,— слабым голосом выговорил Салюстий, и на глаза его навернулись слезы,— чтобы ты помог мне излечиться. Ты не представляешь, как меня мучает моя болезнь.
— Болезнь? — удивленно посмотрел на него сенатор.— Но я и не знал, что ты болен. Говорили кое-что, но мне казалось, что это пустые слухи, исходящие от римских бездельников. Не верю, что ты болен, мой Салюстий, вид у тебя вполне цветущий.
— Нет, нет,— замахал руками актер,— я болен, я очень болен, я даже могу умереть. Но не смерть мне страшна, а то, что я могу огорчить моего императора и...
— И еще кого? Договаривай же, Салюстий,— Сенека подался вперед и снова прищурил глаза.
— Тебя,— проговорил тот с поклоном,— еще я боюсь огорчить тебя.
— Мне лестно, мой Салюстий,— снова откидываясь на спинку кресла, сказал Сенека,— ты ставишь меня вслед за нашим императором, хотя я этого и не достоин. И я готов помочь тебе, во-первых, потому, что люблю тебя, во-вторых, потому, что за тебя ответствен.
— Ты великий человек, сенатор! — воскликнул Салюстий и встал.— Я не могу сидеть в присутствии столь великого человека. Помоги мне, молю тебя, а я буду всю жизнь просить богов, чтобы они даровали тебе долгую жизнь.
— И счастливую,— со смешком заметил сенатор.
— И счастливую,— как эхо повторил Салюстий, воздев руки кверху и запрокинув голову, словно теперь же и собирался просить богов о продлении жизни сенатора.
— Успокойся, мой Салюстий, и садись,— снова указал актеру на кресло Сенека (тот присел и посмотрел на сенатора умоляющими глазами, в которых все еще стояли слезы).— Я старик, и боги скоро призовут меня, так что просить их долго не придется. Мне жаль тебя, и я тебе помогу. Говоришь, теряешь голос?
— Да, сенатор, совершенно теряю голос.
— И римские врачи не могут помочь?
— Нет, не могут.
Некоторое время сенатор молчал, как бы находясь в глубоком раздумье, потом поднял голову и сказал:
— Вот что, Салюстий...— и долгим взглядом посмотрел на актера.
Тот быстро вставил:
— Я с трепетом слушаю твой приговор!
— Вот что, Салюстий,— повторил сенатор,— ничто не излечивает человека так, как воздух родины. Ты родился в Александрии, и только она может излечить тебя. Ведь ты родился в Александрии?
— Да,— едва слышно произнес Салюстий,— но неужели ты хочешь отправить меня...
Он не договорил, но лицо его приняло самое трагичное выражение, так что сенатор невольно подумал: «Присутствуй Нерон при нашем разговоре, ему бы понравилось такое лицо».
— Нет,— успокоил Сенека актера,— я не собираюсь отправлять тебя в Александрию, хотя это было бы лучше всего, я хочу, чтобы Александрия погостила у тебя в Риме. Как думаешь, Салюстий?
Актер осторожно кивнул.
— Помнится, ты как-то говорил мне... Кажется, по дороге из Александрии,— продолжил сенатор, внимательно глядя на Салюстия,— о юноше, который лечит потерю голоса тухлыми перепелиными яйцами.
— Тухлыми перепелиными яйцами? — переспросил Салюстий, не в силах скрыть недоумение.
— Ну да,— кивнул Сенека,— именно тухлыми перепелиными яйцами. Кажется, он намазывает эту гадость на грудь, втирает, оставляет на некоторое время, а потом смазывает мочой ослицы.
— Мочой ослицы,— выговорил Салюстий, широко раскрыв глаза.
— Я еще тогда посмеялся,— как ни в чем не бывало продолжил Сенека,— а ты уверял меня, что сам видел вылеченных им людей. Ты так рассказывал об этом удивительном юноше, что я поверил. Еще этот способ лечения, как ты мне говорил, возвращает мужскую силу, а при дворе императора Нерона эта проблема всегда остается насущной. Так или нет?
Салюстий испуганно кивнул и с трудом проглотил слюну.
— Я не понимаю тебя, мой Салюстий,— неожиданно заявил сенатор, разведя руки в стороны.
— Чего не понимает сенатор? — осторожно осведомился актер.
— Не понимаю, зачем ты вызвал этого юношу. Его, кажется, зовут Никий, он грек. Так вот, не понимаю, зачем ты вызвал этого юношу в Рим, а сам не прибегаешь к его помощи. Скажу тебе, Салюстий, это неразумно. Не воспользоваться им неразумно, хотя его лечение, я понимаю, не из приятных. Что поделаешь, здоровье превыше удовольствия.
— Но я...— начал было Салюстий, но сенатор не дал ему говорить.
— Ты должен, Салюстий, это твой единственный шанс, ради благополучия императора можно пойти на все. Или ты не согласен с этим? Скажи открыто, не бойся.
— Согласен,— пролепетал вконец обескураженный Салюстий и снова сглотнул.
— За чем же дело стало! Раз уж ты пригласил Никия, то пусть он и вылечит тебя. Он обязательно вылечит, в этом у меня нет никаких сомнений. Или сомневаешься ты сам?
— Нет, нет, не сомневаюсь,— быстро пробормотал актер.
— Это разумно,— заметил сенатор,— А когда он вылечит тебя, ты скажешь о его удивительном даре императору, а если он пожелает увидеть его, то приведешь юношу к Нерону. Императору это может быть интересно, тем более что он сам время от времени подвержен потере голоса. Ты красноречив и артистичен, и ты, как никто, сумеешь раскрыть перед императором замечательные способности твоего земляка. Как его зовут? Кажется, Никий, я не ошибаюсь?
— Никий,— нетвердо повторил Салюстий и тут же повторил уже тверже и осмысленнее: — Да, сенатор, моего земляка зовут Никий.
— Вот и все.— Сенатор сделал жест рукой, показывая, что беседа окончена.— Не буду тебя задерживать, ведь ты должен приготовиться к приходу Никия. Как ты сказал? Он должен прийти к тебе сегодня после захода солнца? Я правильно понял?
— После захода солнца,— согласно повторил актер.
— Тогда поспеши. Прощай.
Салюстий поднялся с трудом, и, когда согнулся в поклоне, сенатор заметил, как дрожат его руки. Актер повернулся и неровными шагами пошел к двери. У самого выхода сенатор его остановил.
— Удивительно. Лечит тухлыми перепелиными яйцами, втирая их в грудь, а смывает мочой...— Он замолчал на несколько мгновений, потом сказал, подняв указательный палец.— Прости, мой Салюстий, я оговорился — не мочой, а молоком ослицы. Я старею, Салюстий, и забываю порой только что сказанное. Значит, тухлые перепелиные яйца и молоко ослицы. Правильно, теперь я ничего не перепутал?
— Нет, сенатор,— жалобно выговорил Салюстий,— тухлые яйца и молоко ослицы.
— Да-а,— протянул сенатор,— в мире много удивительного. Ну ладно, иди.
Но лишь только Салюстий повернулся, как он снова остановил его:
— Забыл тебе сказать. Ты понимаешь, что никому не нужно говорить о том, о чем ты мне поведал. «Хранящий молчание хранит и себя самого»,— продекламировал он, пристально и строго глядя на актера.— Ты же хочешь сохранить себя, Салюстий?
Актер испуганно кивнул.
— Я не ошибся в тебе,— заключил Сенека уже совершенно зловещим тоном,— и надеюсь, ты не разочаруешь меня никогда.
— О сенатор! — воскликнул Салюстий и хотел было продолжать, но под странным взглядом хозяина прервался и замолчал.
— Ты не можешь говорить,— со скорбью напомнил сенатор,— ты совсем потерял голос, всякий произнесенный звук, вернее, только попытка произнесения, доставляет тебе боль. Это так, скажи?
Салюстий хотел было ответить, но только открыл рот — и тут же его закрыл.
— Поспеши, Салюстий,— усмехнулся сенатор,— да хранят тебя боги.
Актер, толкнув дверь спиной, беззвучно вышел, а Сенека вернулся к столу и, опершись о него обеими руками, уставился в одну точку. Лицо его было неподвижно и бледно.
Глава восьмая
В то же самое утро Никий сказал Теренцию, управляющему на вилле сенатора, что ему необходимо отлучиться.
— Отлучиться? — переспросил Теренций, не понимая.— Что значит «отлучиться»?
— Ты не добавил «мой господин»,— с улыбкой вместо ответа заметил Никий.— С тех пор как хозяин назначил тебя моим слугой, ты должен обращаться ко мне «мой господин».
— Прости, мой господин,— чуть побледнев, нерешительно проговорил Теренций,— но я думал...
— Не думай, не надо, я пошутил,— весело сказал Никий и потрепал Теренция по плечу.— Хотя, конечно, на людях лучше всего соблюдать правила. Кстати,— чуть озабоченно спросил он,— когда мы выезжаем?
— Когда стемнеет,— с поклоном отвечал Теренций.— Я уже все приготовил.
— Но Анней Луций сказал, чтобы я был в доме этого Салюстия уже с наступлением темноты. Или я неправильно его понял?
— Ты правильно его понял, мой господин,— глухо отозвался Теренций, глядя в сторону (когда он произнес «мой господин», Никий поморщился, но не прервал старика).— Но когда хозяин уже сел в повозку, он сказал мне, что лучше отправиться с наступлением темноты, а прибыть в Рим ночью. Он не хочет, чтобы кто-нибудь из слуг заметил, как мы уезжаем.
— Хорошо,— кивнул Никий и, помолчав немного, сказал: — Значит, у нас еще есть время, а мне нужно...— Он пристально посмотрел на Теренция.— Мне нужно сделать одно дело. Но ты считаешь, мне нельзя отлучаться?
— Тебя могут увидеть слуги, мой господин,— с озабоченным лицом ответил Теренций.
— Говоришь, слуги...— медленно выговорил Никий, думая о своем, и вдруг, как бы решившись, махнул рукой.— Тогда я попрошу сделать это тебя. Ты знаешь таверну «Хромая Венера»? Это недалеко отсюда.
Теренций кивнул, но, судя по виду, был недоволен.
— Очень хорошо,— вдруг с властными нотками в голосе продолжил Никий.— Спросишь там Симона из Эдессы и передашь ему записку. Я сейчас напишу.
Он сел к столу, написал на клочке пергамента несколько слов и, свернув его в трубочку, подал Теренцию.
— Ты запомнил, Симон из Эдессы? Кстати, какой дорогой мы поедем в Рим?
— Сначала проселками, мой господин, а у Геркулесова холма свернем на Аппиеву дорогу.
— Это и скажешь Симону, да растолкуй ему получше, он не местный, ты меня понял?
— Понял, мой господин, только...
— Перестань повторять «мой господин», ведь рядом нет никого,— недовольно перебил его Никий.— Ну, что тебе неясно?
— Мне все ясно, мой... Мне все ясно, но хозяин...
— Что хозяин? — вплотную придвинувшись к Теренцию, быстро переспросил Никий.
— Хозяин не говорил мне... не говорил мне ни о чем таком,— с трудом выговорил Теренций, и кожа на его лице стала еще бледнее.
— Ты хочешь сказать, что хозяин не приказывал тебе ходить в таверну «Хромая Венера» и передавать мою записку Симону из Эдессы. Ты это имеешь в виду, я правильно понял?
— Да,— едва слышно отозвался Теренций.
Никий усмехнулся, но взгляд его был строг.
— Но разве он не приказал тебе быть у меня слугой?! И разве слуга не должен исполнять все наказы господина?!
— Да, мой господин, но только...
— Хорошо, Теренций, я скажу тебе все, что думаю по этому поводу. Если хозяин приказал тебе шпионить за мной, то тогда (Теренций сделал протестующий жест, но Никий продолжил с нажимом), тогда ты должен будешь докладывать ему обо всем, что вызовет твое подозрение. Если это так, то делай, как приказал хозяин. Но, с другой стороны, он не приказывал тебе не слушать меня и не выполнять моих поручений. Или приказывал? Отвечай!
— Нет, нет, ничего такого он мне не говорил!
— Вот и замечательно, мой Теренций. Если он ничего такого не говорил, то тебе не в чем сомневаться. Так что отнеси эту записку Симону из Эдессы и поскорее возвращайся.
Теренций поклонился и молча пошел к двери. Когда он уже взялся за ручку, Никий его остановил:
— Вот еще что, Теренций. Я хотел тебе сказать, что не делаю ничего, что пошло бы во вред твоему хозяину. Понимаешь — никогда ничего не сделаю такого, что будет ему во вред. Ты веришь мне? Скажи, веришь?
— Верю,— широко раскрыв глаза и с самым серьезным выражением лица кивнул Теренций.
— Тогда иди,— ласково проговорил Никий.
Поздно вечером Теренций вывел Никия из дома потайным ходом. Они прошли сквозь цепкие заросли высоких кустов и спустились в овраг, на дне которого было слышно журчание ручейка.
— Осторожнее,— предупредил шедший впереди Теренций.— Переступи вот здесь, ручей узкий.
Никий приподнял капюшон длинного плаща, посмотрел по сторонам.
— Куда мы идем?
— К лошадям. Здесь нас никто не заметит, мой господин,— шепотом ответил Теренций.— Я привязал лошадей в роще.
— А если их украли, мой Теренций? — коротко усмехнулся Никий.— Тогда нам придется добираться до Рима пешком, а до него, как я понимаю, путь не близкий.
— Надеюсь, не украли,— серьезно ответил Теренций, выбираясь из оврага и тяжело дыша.— Но если такое случится, то я пойду за другими, а ты подождешь меня там.
Когда они достигли рощи, Теренций остановился и прислушался. Никий, сдвинув капюшон, прислушался тоже. Некоторое время спустя он уловил характерное фырканье.
— Здесь,— выдохнул Теренций и пошел по тропинке между деревьями, едва заметной в темноте.
Едва Никий взялся за поводья, Теренций подошел к стремени, помогая ему сесть, а потом кряхтя взобрался на лошадь. Его дыхание стало прерывистым, когда он предупреждал Никия:
— Осторожнее, мой господин, здесь могут быть острые ветки, береги глаза.
Они тронули лошадей и благополучно выехали из рощи. Покачиваясь в седле и глядя в спину Теренция, Никий вдруг подумал, что быть «господином» все-таки очень приятно. Впрочем, тут же, вспомнив строгое лицо своего учителя Павла, он устыдился этой мысли и, чтобы совершенно отогнать ее, стал проговаривать про себя некоторые из его поучений. Но спина Теренция перед ним почему-то мешала сосредоточиться, и Никий закрыл глаза.
Через некоторое время они достигли места, которое Теренций называл Геркулесовым холмом (хотя никакого возвышения Никий не заметил), и свернули на Аппиеву дорогу. Ехали шагом. Сначала лошади шли,-понуро опустив головы, но вдруг насторожились, зафыркали. Впереди мелькнула тень, лошадь Теренция кинулась в сторону, тут же остановилась, пытаясь встать на дыбы. Теренций испуганно вскрикнул и попытался вытащить висевший у пояса меч. Но это ему не удалось: Никий увидел, как какой-то человек, одной рукой сжав поводья и почти повиснув на них, другой рукой ухватился меч Теренция.
— Симон! — резко окликнул незнакомца Никий.
— А, это ты, Никий, — отозвался тот на чудовищной латыни,— я тебя не узнал.
— Я тебя тоже,— произнес Никий по-арамейски и легко спрыгнул с седла,— Ты похож на настоящего разбойника.
— В этом проклятом Риме все разбойники,— сказал незнакомец, отпустив лошадь Теренция и подойдя к Никию.— Вчера у меня забрали почти все деньги.
— Ладно, я дам тебе немного. Отойдем в сторону.— Никий поманил незнакомца за собой. Уже из темноты он крикнул Теренцию: — Придержи лошадь, Теренций, я скоро.
Теренций недовольно кивнул, слез с седла, взял лошадь своего господина под уздцы, косясь туда, куда ушли его господин и этот человек. Он был напуган, сердце колотилось в груди, а ноги держали плохо.
Никогда он не думал, что на старости лет придется испытывать такие страхи: ночная дорога, выскочивший из темноты незнакомец...
Он прислушивался к непонятной речи невдалеке — голоса звучали все возбужденней — и ему казалось, что он участвует в чем-то нехорошем и это, конечно же, совсем не понравится его настоящему хозяину, Аннею Луцию Сенеке, Никия он не считал настоящим хозяином, хотя Сенека приказал служить Никию так же, как он служил ему. Никий теперь скорее нравился ему, чем не нравился, но просто он еще не стал настоящим господином, а уж настоящих господ Теренций на своем веку видел много. Никий не был строг и обращался с Теренцием уважительно, не как со слугой, а как с равным себе. Все это так, но разве Теренций был ему равен и разве мог быть! Нет, не мог, а следовательно, предпочитал бы остаться на своем месте, быть слугой и видеть в Никии господина.
И еще ему очень не нравилась эта тайная встреча Никия. Теренций растерялся, он не знал, как ему теперь поступать. С одной стороны, надо все рассказать Аннею Луцию Сенеке, своему настоящему хозяину,— в конце концов, в этом он видел свой долг перед хозяином. Но с другой — Сенека не приказывал ему следить за Никием, и, если Теренций станет докладывать ему, он может и рассердиться.
Да, Теренций оказался в трудном положении, он находился в сомнениях. Кроме того, его обуял страх: кто его знает, как может поступить этот страшный незнакомец! Представить себе, что лежишь тут с перерезанным горлом... Нет, лучше ничего такого не представлять.
Теренций дотронулся до кожаного кошеля, притороченного к седлу его лошади,— в кошеле были все их деньги. Никий сам передал ему этот кошель, но Теренций знал, что там не его деньги, а деньги Сенеки. И его охватил ужас от одной только мысли о том, что деньги его настоящего господина могут вот так просто пропасть.
Между тем голоса вдруг стихли, а через несколько мгновений раздался звук приближающихся шагов. Луна вышла из облаков, и Теренций увидел Никия. Тот шел опустив голову, то ли чем-то недовольный, то ли в задумчивости. Незнакомец, тот самый, которого Теренций нашел в таверне «Хромая Венера», был Симоном из Эдессы — теперь он его узнал,— держался чуть поодаль.
— А, Теренций.— Никий поднял голову и словно бы не сразу узнал своего слугу.— Ты вот что,— он протянул руку и показал на седельную сумку Теренция,— развяжи кошель и дай мне несколько монет.
— Сколько? — жалобно спросил Теренций, взявшись за кошель рукой, но не развязывая тесемок.
— Я же сказал, несколько,— недовольно отозвался Никий.— Ну, дай пять или шесть.
— Пять или шесть, пять или шесть,— шептал Теренций горестно, и его дрожащие пальцы все никак не могли справиться с тесемками.
Наконец он их развязал, засунул руку внутрь и на ощупь отсчитал четыре монеты.
— Побыстрее, Теренций, у нас нет времени! — поторапливал его Никий.
Теренций вынужден был все-таки вытянуть руку из кошеля, но, протягивая деньги Никию, он не сразу разжал кулак. Никий взял монеты и, знаком подозвав стоящего в стороне Симона из Эдессы, передал их ему.
— Тут только четыре,— усмехнулся проклятый Симон, встряхнув монеты на ладони.
— Ты слышал, Теренций? — Голос Никия был строг.
Теренций вздохнул, достал из кошеля еще одну монету и подал незнакомцу. Тот небрежно спрятал деньги под одежду. Так небрежно, будто то были морские камушки или какая-нибудь мелочь, а ведь для такого оборванца это целое состояние — он, наверное, никогда в своей глупой жизни не держал столько в руках. И Теренций снова вздохнул.
Никий еще что-то сказал Симону, тот угрюмо кивнул и отвернулся.
Когда они отъезжали, Теренций несколько раз оглянулся: Симон из Эдессы стоял посередине дороги и смотрел им вслед. Теренцию стало не по себе, ему все казалось, что проклятый Симон вдруг догонит их и... Он опять оглянулся, хотя не хотел этого делать, и — встретил насмешливый взгляд Никия.
— Скажи мне, Теренций.— Голос юноши звучал слишком серьезно для того, чтобы быть естественным.— Неужели ты можешь убить человека?
— Почему ты спрашиваешь об этом, мой господин? — в свою очередь удивленно спросил Теренций.
— Как же, я сам видел, как ты схватился за меч. Неужели ударил бы, успей ты его вытянуть?
Теренций вспомнил ненавистное лицо проклятого Симона из Эдессы, то, как он встряхивал их монеты на ладони, и твердо ответил:
— Смог бы, мой господин! — И добавил, спустя несколько мгновений, уже другим, как бы извиняющимся тоном.— Ты не предупредил меня о его появлении, а моя обязанность защищать тебя во что бы то ни стало.
Никий не ответил, а только неопределенно покачал головой.
Глава девятая
Исполняя пожелание Нерона, Сенека отправился к его матери, Агриппине. Теперь она жила в своем доме, сын не только лишил ее покоев во дворце и отобрал телохранителей-германцев, но и приказал не пускать во дворец. Правда, последним приказом она настойчиво пренебрегала и могла появиться в жилище императора в любое время дня и ночи, и ни стража, ни слуги, ни сам командир преторианской гвардии Афраний Бурр не посмели бы ее остановить.
Как-то Сенека напрямую спросил Афрания Бурра, почему он не исполняет приказ императора. Тот повел головой и, пристально посмотрев на сенатора, ответил:
— Пока еще это только семейное дело.
Сенека не счел нужным спрашивать, когда же это перестанет быть только семейным делом. Впрочем, Афраний Бурр вряд ли смог бы ему ответить, даже если бы захотел: невозможно предугадать переплетение всех обстоятельств дворцовых интриг, тем более в семье самого императора. И Сенека дружески улыбнулся командиру преторианцев:
— Ты, как всегда, прав, мой Афраний, я думаю точно так же.
Теперь, идя за управляющим по галерее дома Агриппины, Сенека думал, что все равно придется вмешаться в семейное, как выразился Афраний, дело императора, и главная опасность тут заключается в том, чтобы не стать первым. Вмешаешься первым, первым будешь уничтожен, когда придет время, а в таких случаях оно не заставляет себя ждать.
Агриппина встретила сенатора в центре просторной залы, стены которой были украшены искусной мозаикой. Она стояла, одетая в прозрачную столу с золотой каймой, и лучи солнца, идущие из окон, сходились на ее все еще стройной и гибкой фигуре. Агриппина всегда умела подать себя и показать в лучшем виде все свои прелести. Сенека поймал себя на том, что любуется ею, как великолепной статуей известного мастера, тем более что стояла она недвижимо.
Сенека еще у входа произнес обычное приветствие, подняв правую руку, а когда подошел, то почтительно склонился перед матерью императора. Не поднимая головы, он думал о том, что теперь уже невозможно было не заметить: лицо Агриппины не молодо, и самые искусные и драгоценные притирания не могут этого скрыть. Почему-то он подумал об этом с грустью.
— Встань, мой Луций,— величественно и высокопарно произнесла Агриппина, так, будто он стоял перед ней на коленях. (Эта умная, трезвая и волевая женщина имела одну неприятную слабость — иногда выражалась высокопарно до приторности.)
Сенека Поднял голову и с почтением посмотрел на нее, не спеша что-либо говорить — в сложившихся обстоятельствах разумнее было выждать.
Агриппина вдруг положила руку на талию и, грациозно изогнувшись (Сенека снова с грустью подумал, что годы берут свое и Агриппина уже не та), спросила:
— Скажи, как ты меня находишь?
— Я подтверждаю то, что знают все: ты всегда прекрасна,— улыбнулся Сенека.
— Я спрашиваю тебя не как придворного льстеца, а как мужчину,— пояснила она раздраженно.— Ты можешь сказать мне правду?!
— Не гневайся на меня, Агриппина, я ее уже сказал.
Агриппина недовольно фыркнула, резко развернулась и, подойдя к мягкому креслу у большого окна, села.
— Иди же, Луций, чего ты ждешь,— резко проговорила она, указывая на кресло напротив.
Сенека совершенно не ожидал такого начала разговора и не мог понять, к чему она клонит. Но долгая жизнь при дворе научила его невозмутимости — он подошел и медленно опустился в кресло, продолжая улыбаться. Агриппина, чуть приподняв край столы — будто нечаянно,— выставила вперед свои все еще красивые ноги. Зная, что она ничего не делает просто так (это относилось даже и к чувствам), он произнес сладким голосом, переводя взгляд с ее ног на лицо и обратно:
— Как же ты прекрасна, Агриппина!
Выражение удовольствия мелькнуло на ее лице и исчезло — оно снова стало озабоченным.
— Ты находишь? — спросила она по-деловому.
— Дорогая Агриппина, мы знаем друг друга много лет, и я до сих пор...— Он прервался, словно у него перехватило дыхание, и совершенно в восточном духе, с поклоном приложив ладонь к груди, продолжил: — Я до сих пор чувствую к тебе... Но ты это знаешь сама: кто хоть раз видел тебя, тот не может...
— Оставь,— поморщилась она,— ты всегда был льстецом. Мне не нужны твои славословия, тем более сейчас, когда я нахожусь в таком...— она неожиданно всхлипнула,— в таком затруднении. Ты знаешь, что меня выгнали из дворца как надоевшую девку! Ты знаешь, что меня лишили моих германцев, и теперь любой, ты слышишь меня, любой может оскорбить и даже убить мать императора! И наконец, ты знаешь, что мой неблагодарный сын приказал не пускать меня во дворец! Меня! Ты понимаешь, что это значит?!
Сенека прекрасно понимал, что это значит, но сейчас его беспокоило то обстоятельство, что Агриппина говорит слишком громко, и он невольно повел глазами по сторонам.
— И ты! — усмехнулась она презрительно.— И ты уже стал опасаться! Где твое былое мужество, мой Луций!
Сенатор грустно вздохнул:
— В мои годы это качество кажется обременительным, дорогая Агриппина. Мужество присуще зрелым мужам, а я старик.
— Ты не изменился, Луций,— проговорила она недовольно, глядя в сторону.— Никогда не поймешь, где ты настоящий, а где льстивый и трусливый царедворец.
— Вот видишь,— с чуть заметной обидой сказал Сенека,— ты сама признаешь, что я трус, как же можно требовать от меня мужества? Кроме того, я не понимаю, что мне нужно делать. Скажи, и, быть может, я сумею собрать остатки прежних сил, хотя их осталось так мало.
— Это у тебя мало сил? — усмехнулась она, но уже не презрительно, а скорее интимно, как если бы они разговаривали лежа в постели.— Да ты еще способен завалить какую-нибудь пышнотелую девку, а то и не одну! Не смеши меня, Луций, мне сейчас не до смеха.
Этот грубый комплимент был приятен старому философу: Агриппина, как никто, умела говорить грубости, доставлявшие удовольствие.
— Ты, как всегда, преувеличиваешь возможности,— усмехнулся Сенека ей в тон.
— Ничего я не преувеличиваю,— проговорила она, нетерпеливо поводя плечами,— Но я пригласила тебя не для того, чтобы говорить комплименты, у меня к тебе важное дело,— Она понизила голос, подалась вперед и пристально посмотрела на сенатора.— Дело государственной важности, хотя оно и может показаться тебе странным.
«Наконец-то»,— подумал Сенека, а вслух сказал, тоже подавшись вперед:
— Я внимательно слушаю тебя.
— Прежде всего скажи: на чьей ты стороне?
— Мне не хотелось бы отделять сына от матери,— уклончиво выговорил он.
— Ну ладно.— Она махнула рукой, словно отметая предыдущий вопрос.— Вот что я хотела тебе сообщить: я решила соблазнить Нерона.
— Соблазнить? — не понимая, поморщился Сенека.— Чем соблазнить?
— Собой,— досадуя на его непонимание, ответила она.— Соблазнить собой, как это делают женщины.
— Нерона? Твоего сына?
— Тебя это удивляет? Говори!
— Для меня это несколько неожиданно.— Сенека чуть развел руки в стороны.— Но посуди сама...
— Не надо объяснений,— прервала его Агриппина.— Только я не понимаю, что тебя здесь смущает? Кроме того, что он мой сын, он еще и мужчина. Причем в первую очередь мужчина. К тому же, как всем известно, падкий на женщин. Правда, не только на женщин, но это сейчас не важно. Он мужчина, падкий на женщин, я — женщина, что же тут странного? Мне кажется, все это вполне естественно. Я потому и спрашивала тебя, как ты меня находишь, мне надо знать, могу ли я возбудить страсть.
— Ты можешь возбудить страсть, моя Агриппина,— все еще не совсем придя в себя от ее слов, проговорил Сенека.— Ты, как никто, скажу это тебе без лести, можешь возбуждать страсть, и возраст мужчины и его положение тут ничего не значат, но...
— Что «но»?
— Но он твой сын, Агриппина, ты представляешь, что будут говорить в Риме!
— В Риме? — усмехнулась она с крайней степенью презрения.— В этой помойке, которая по недоразумению все еще именуется Рим? Или ты все еще называешь эту помойку Великим Римом?
— Я думаю, что ты не вполне справедлива,— осторожно заметил Сенека.— Хотя, конечно, и я не отрицаю, что в Риме не все ладно.
— Не все ладно! Не все ладно! — Она схватилась за подлокотники кресла с такой силой, что у нее побелели пальцы.— Презренные рабы правят Римом! Какой-то мелкий жулик Палант разъезжает по городу, как восточный царь. Жалкий вольноотпущенник мнит себя выше римского патриция!
«Ты сама лежала в постели с этим самым Палантом, и тогда он не казался тебе очень уж жалким. И тогда ты не считала себя униженной — жена императора Клавдия и мать Наследника!» — хотелось воскликнуть Сенеке, но, разумеется, он промолчал.
— И ты называешь такое положение нормальным! Ты говоришь, что в Риме просто не все ладно! — все более распаляясь и уже почти крича, продолжала Агриппина.— Называй это как хочешь, а для меня Рим — помойка, и больше ничего.
Она откинулась в кресле, тяжело дыша, ее пышная грудь вздымалась при каждом вдохе, и Сенека невольно отметил, что она и в самом деле все еще соблазнительна, и в гневе даже больше, чем в любви.
Некоторое время они молчали. Агриппина сидела в кресле, а Сенека рассматривал морщины на ее шее и думал о том, что все в этом мире имеет свой предел, а молодость уходит быстрее всего, хотя с этим не хочется соглашаться, особенно женщинам.
Но Агриппина была женщиной сильной, она умела брать себя в руки. Когда их взгляды снова встретились, лицо ее было спокойным и сосредоточенным.
— Прости, Луций,— она грустно улыбнулась,— порой я не умею сдержать себя.
Сенека выразил на лице понимание, но ничего не сказал.
— Так вот, я хочу спросить тебя.— Она снова подалась вперед и заговорила шепотом.— Что ты думаешь о моем плане? Или ты считаешь, что я не сумею?..
— Что не сумеешь?
— Соблазнить Нерона,— поморщилась она.— Ты считаешь, я уже слишком стара для этого?
— Конечно нет,— не сумев скрыть досаду, ответил Сенека.— Но я тебе уже говорил, Рим не примет этого. Ты можешь называть его как угодно, но он не примет такого положения, когда император живет с собственной матерью. Он не примет этого и не потерпит такого императора, потому что подобное положение подрывает все устои — семьи, государственности, чего угодно. Ты не выиграешь, Агриппина, а Нерон проиграет — вспомни, это же твой сын, ты сама отдала столько сил, чтобы он стал императором!
— Ты говоришь, что Рим не примет,— с угрозой в голосе (угроза относилась к Риму, конечно, а не к собеседнику) выговорила она.— А разве твой Рим отверг моего брата Гая, когда император Гай Калигула жил со своей сестрой Друзиллой и даже женился на ней! Или твой Рим отверг меня, когда я вышла замуж за собственного дядю, императора Клавдия! Почему же твой Рим не примет, если я стану жить с сыном? Чем это хуже, чем жить с сестрой?
— Хуже, Агриппина, и ты прекрасно понимаешь это,— твердо и ласково одновременно сказал Сенека.— Кроме того, тебе известно, чем кончил твой брат, император Гай!
— Все они кончают плохо,— отмахнулась Агриппина,— но разве в этом суть? Ты думаешь, я делаю это для себя, ты думаешь, что я испугалась, когда он выгнал меня из дворца и отнял моих германцев? Ты знаешь, я ничего не боюсь и на все готова.
— Знаю,— кивнул Сенека и невольно вспомнил отравленного Агриппиной императора Клавдия.
— Я хочу спасти Рим, вот что мне надо,— подняв правую руку, словно во время клятвы, высокопарно произнесла она.— Я хочу быть возлюбленной сына: возлюбленной женщиной, если не получается любящей матерью. Ты знаешь, в этом не моя вина — ведь я столько сделала для сына. Когда я добьюсь от Нерона того, чего желаю — любви, я вышвырну из дворца всех этих палантов, всех этих презренных вольноотпущенников, всех этих пьяниц и развратников, казнокрадов и льстецов. Да что там дворец — я очищу от них Рим так же, как очищают дом от отбросов и грязи! И тогда Рим перестанет быть смердящей помойкой и не посмеет осудить меня. Ты понял мою цель, Луций? Я призываю тебя помочь мне.
Сенека смотрел на нее, испытывая сожаление. Он думал о том, что же делается с женщиной, когда ее обуревает страсть к власти столь же сильная, как и страсть к мужчине. «Она не хочет спасти Рим, она хочет его изнасиловать»,— сказал он про себя и еще подумал о том, что ему пора на покой. Уехать на дальнюю виллу, жить там тихо и беззаботно, размышлять о высоком и вечном и так же тихо, почти незаметно принять смерть. Он уже стар, чтобы снова ввязываться в эту борьбу. Да и незачем. Чего он хочет от жизни? Покоя и только покоя.
Но, думая так, он знал, что может лишь желать покоя, но не может его обрести. «Не дадут, не позволят»,— вздохнул сенатор.
— Ты вздыхаешь! Ты не хочешь помочь мне спасти Рим? — с напряжением в голосе спросила Агриппина.
— Нет, нет,— быстро ответил он, все еще не отойдя от своих размышлений,— Но я...
— Но что, что? — Она потянулась и больно ухватила его за запястье.
— Я не очень понимаю, Агриппина, что я должен делать,— устало выговорил он, с трудом высвобождая руку из ее цепких и сильных пальцев.
— Во-первых, я хочу, чтобы ты удалил из дворца эту мерзкую Акту,— горячо проговорила Агриппина, блестя глазами.— У меня не должно быть соперницы. Убери ее под любым предлогом. Поговори с Афранием Бурром, сделайте что-нибудь. Ты меня понимаешь?
— Да,— расслабленно кивнул он.
— Во-вторых, скоро состоится суд над этим гнусным Палантом, я выдвинула против него обвинения, их нельзя опровергнуть, он будет осужден. Будь на моей стороне. И в-третьих...— Это последнее она произнесла совсем другим тоном, тоном прежней Агриппины, женщины, которую он любил когда-то.— В-третьих, не мешай, прошу тебя!
Он не ответил, он только кивнул: это могло означать и то, что он лишь слышит ее и понимает, и то, что он сделает так, как она хочет. Но сенатор и сам не знал, что означает его кивок, ему сейчас хотелось одного — покоя.
И даже на улице ему казалось, что взгляд Агриппины все еще достигает его, проходя сквозь стены.
Глава десятая
— Мне все надоело, Марк,— проговорил Нерон и протяжно зевнул.— Поверь, я несчастнейший из смертных.
— Ты бессмертен, Нерон, и знаешь это,— отвечал Марк Сальвий Отон, поудобнее усаживаясь в кресле.
Было уже около полудня, император только что проснулся, но не вставал. Лежал на боку, подперев рукою голову, волосы его были спутаны и торчали во все стороны, а лицо бледно. Марк Отон сидел в кресле напротив, вытянув ноги и время от времени незаметно вздыхая, будто ему не хватало воздуха. После вчерашних ночных похождений с императором в самых грязных тавернах Рима он чувствовал себя разбитым. Император прислал за ним, лишь только проснулся. Ему не хватило всего нескольких часов сна, мысленно он сердился на Нерона, но внешне выглядел спокойным.
— Ты спал сегодня со своей женой, Марк? — спросил Нерон, слабо усмехнувшись.
— Нет,— усмехаясь так же, как и император, отвечал Отон,— Поппея закрылась у себя в комнате. Она не любит, когда я возвращаюсь такой.
— Не хочет тебе отдаваться или ты не хочешь ее?
— И то, и другое,— пожал плечами Отон и добавил, прямо глядя на Нерона: — Между нами говоря, сил у меня к утру оставалось немного.
— Надо было взять ее силой. Мне кажется, это самое приятное для мужчины — чувствовать себя охотником. Или ты думаешь по-другому? Может, ты не можешь справиться с ней? А, Марк? Признавайся.
— Я могу,— ответил тот,— но мне не хочется так поступать.
— Почему? — спросил император и снова зевнул.
— Не знаю. Поппея дает наслаждение, когда захочет сама. Она сама как охотник, с нею иногда чувствуешь себя затравленным зверем. В этом особое, ни с чем не сравнимое наслаждение, поверь мне.
— Так, значит, она сама насилует тебя? — оживляясь, спросил Нерон и сел на постели.
Отон улыбнулся лукаво и виновато одновременно.
— Расскажи.— Нерон потянулся и тронул друга за колено,— Она что, прямо-таки набрасывается на тфя? А? Рвет одежду, душит... Ну, говори!
— Она даже связывает меня,— не поднимая глаз, сказал Отон.— Иногда так распаляется, что, мне кажется, может убить всерьез.
— И ты боишься? Боишься по-настоящему? — Нерон пододвинулся ближе и спустил ноги на пол.— Неужели ты так чувствуешь по-настоящему? Или все-таки притворяешься? Скажи!
— Нет, нет,— Отон отрицательно помахал рукой,— не притворяюсь. Если бы ты видел, как она это делает, ты не спрашивал бы. Наверное, и со стороны это выглядит страшно.
— Выглядит страшно,— произнес Нерон, думая о чем-то своем, и опять повторил: — Выглядит страшно.
— Да, поверь мне! — горячо подтвердил Отон.— Со стороны это выглядит еще страшнее!
— Откуда ты это можешь знать? — глядя на друга исподлобья, медленно выговорил Нерон.
— Но я же!..— начал было тот, но Нерон не дал ему договорить:
— Ты не можешь знать того, если сам не видел со стороны. Или ты видел? Ну, отвечай! Может быть, ты заставлял ее так же набрасываться на другого? Так или нет?
— Нет, конечно,— нервно усмехнулся Отон.— Но это легко представить.
— Не думаю,— со странной интонацией то ли угрозы, то ли недоверия проговорил Нерон,— Но я хочу проверить, прав ты или нет. Ты понимаешь меня?
— Не совсем, о император! — пробормотал Отон почти жалобно и привстав в кресле.
— Сядь,— резко бросил Нерон и, сделав паузу, взглянул на того с прищуром.— Я желаю вот что: устрой все так, чтобы я мог посмотреть на это, как ты выражаешься, со стороны. У тебя какие-то сомнения? Ты не хочешь?
— Хочу, но...— под пристальным взглядом императора он не сумел договорить.
Нерон удивленно поднял брови, одну выше другой (это движение на его лице никогда не предвещало ничего хорошего; друзья называли между собой такую императорскую мимику «улыбкой Нерона»).
— Ты возражаешь мне? — Нерон едва пошевелил губами.— Ты отказываешься сделать то, чего хочет император?
— Нет,— быстро и с видимым волнением ответил Отон.— Прости мою глупость, но я просто не очень понял, чего именно ты хочешь. Скажи, я все сделаю!
— Ты все прекрасно понял.— Нерон встал (Отон встал тоже).
Некоторое время они стояли вплотную друг к другу. Отон ощущал нечистое дыхание императора — смесь выпитого и съеденного вчерашней ночью — и сам старался дышать в сторону. От неудобной позы — он старался не касаться императора коленями — у него дрожали ноги. Нерон медленно поднял руку и, положив ее на плечо Отона, с силой надавил.
— Садись, мой Отон,— проговорил он с улыбкой, хотя холодный взгляд его голубых глаз никоим образом ей не соответствовал.— Я пошутил. Но, честное слово, я не понимаю, почему можно смотреть, когда ты занимаешься любовью с продажной девкой, и нельзя, когда ты то же самое делаешь с женой?
— Как тебе будет угодно,— опустившись в кресло под давлением императорской руки, но сидя неестественно прямо, с поклоном сказал Отон.
— Я спрашиваю, что думаешь ты.
— Думаю, что ты... что ты прав,— с дрожью в голосе произнес Отон.
— Значит, ты покажешь мне...
— Да.
— Ты настоящий друг, Марк,— сказал Нерон, подходя к окну и выглядывая наружу.— Ты не можешь представить, как мне скучно. Октавия мне надоела, она холодна как лед и больше не возбуждает меня. Акта... Нет, Акта все еще хороша, но и она, как и все женщины, видит во мне императора, а я хочу... Ты знаешь, чего я больше всего хочу?
— Не... знаю.
— Больше всего я хочу, чтобы женщина причинила мне боль, не услаждала бы меня, а сама хотела бы наслаждаться. Но со мной это невозможно — все они хотят дать наслаждение, чтобы получить от меня что-то взамен. Все женщины продажные. Разве не так? Разве твоя Поппея не продажная?
— Нет, не продажная,— неожиданно твердо выговорил Отон.
— Вот как! — повернулся к нему Нерон.— Это интересно. Ты не ошибаешься?
— Нет.— Отон встал, держась за спинку кресла,— Она другая, она лучшая из женщин, она свободная женщина.
— Свободных женщин не бывает,— возразил Нерон, глядя на друга с любопытством.
— А она свободна.
— Ты должен рассказать о ней подробнее,— велел Нерон, скрестив руки на груди.— Мне необходимо знать все, все детали. Ты понимаешь, что я имею в виду?
— Да,— кивнул Отон.
— Тогда начинай.— Нерон показал глазами на кресло.— Садись, так тебе будет удобнее.
Отон снова опустился в кресло.
— Ну,— поторопил его Нерон, но друг не успел начать свой рассказ: открылась дверь, и на пороге появился слуга.
Нерон поморщился:
— Что там еще? Я же просил не тревожить меня.
— Афраний Бурр,— доложил слуга.
— Ну что, что Афраний Бурр? — нетерпеливо бросил Нерон.— Искалечил и вторую свою руку? Ну, что ты молчишь как рыба!
— Афраний Бурр,— невозмутимо повторил слуга,— просит императора срочно принять его.
— Просит императора срочно принять его,— с издевкой повторил Нерон.— А где ты видишь императора? — Он развел руки в стороны и, переглянувшись с Отоном, снова обратился к слуге: — Здесь нет императора. Пойди и скажи, что ты не нашел меня.
— Я говорил, но он...
— Что он, что?!
— Он говорит, что дело особой важности.
— Ладно,— сердито бросил Нерон, делая нетерпеливое движение рукой,— зови.— И, снова посмотрев на Отона, поднял брови, одну выше другой, что в данном случае должно было, по-видимому, означать нечто вроде «сам можешь убедиться, как я несчастлив».
Афраний Бурр вошел широким шагом военного. Он поднял правую руку и проговорил громко:
— Приветствую тебя, император! — при этом сделал вид, что не замечает сидящего в кресле Отона.
Он не любил этих так называемых близких друзей Нерона, все они казались ему изнеженными выскочками, жалким подобием мужчин. Аннею Сенеке он говорил о них так: «Эти слизняки пролезут в любую щель кладки дворца, для этого им не нужно намазывать тело жиром, они состоят из него».
— Что тебе, Афраний? — недовольно спросил Нерон.— Что за спешка в такой ранний час?
— Твоя мать, Агриппина, уже во дворце,— сказал Афраний, холодно глядя на императора.
В первое мгновение Нерон не сумел скрыть испуга и даже сделал движение, словно собирался бежать. Тем величественнее он произнес, когда сумел взять себя в руки:
— Я же отдал приказ не допускать эту женщину во дворец. Или кто-то посмел ослушаться моего приказа?
Губы Афрания Бурра презрительно дрогнули.
— С утра я был на учениях и поздно вернулся. Солдаты же не посмели остановить эту женщину.
— Почему? — выпятив нижнюю губу, спросил Нерон.— Разве ты не передал им мой приказ? Или твои преторианцы уже не вполне подчиняются своему Командиру?
— Твои преторианцы,— отозвался Афраний, делая ударение на первом слове,— просто не посмели остановить мать императора. Что делать, император,— добавил он, пожимая плечами,— но в них с детства воспитывали почтение к родителям. Вот если бы ты объявил, что отказываешься от матери, то тогда...
— Отказываюсь от матери? — поморщившись, переспросил Нерон.— Но как можно отказаться от матери? Ты говоришь глупости, Афраний.
— Я говорю о том, что может заставить солдат исполнить твой приказ,— холодно пояснил Афраний.
— А я полагал,— усмехнувшись, вмешался Отон,— что доблестный Афраний одним только взглядом заставляет повиноваться.
— Что ты на это скажешь, Афраний? — в свою очередь усмехнулся Нерон.— Я тоже думал, что командир моих преторианцев может все.
— Командир твоих преторианцев,— сказал Афраний с поклоном, все так же делая вид, что разговаривает с императором наедине,— не политик и не умеет давать ценных советов. Я всего лишь солдат, но даже мне понятно, что случится, если мать императора будут задерживать силой. Для солдат император пример во всем, тем более в отношениях с собственной матерью. Они скорее примут убийство, чем непочитание.
Нерон отвернулся к окну и некоторое время молчал.
— Ты думаешь, примут? — наконец сказал он, не поворачивая головы.
— Прости, император,— отозвался Афраний,— я не понял, о чем ты спрашиваешь.
Нерон медленно развернулся, потом долго смотрел на Афрания своим холодным взглядом.
— Ладно, поговорим об этом после. Потом. Пусть ее пропустят, но попроси ее подождать, я должен привести себя в порядок. Я примерный сын и не хочу предстать перед матерью в таком виде.
Афраний поклонился и вышел.
— Что ты думаешь об этом, мой Марк? — обратился Нерон к другу.
— Думаю, что Афраний много на себя берет,— отвечал тот, словно Нерон спрашивал его именно об этом.— Эти старики думают, что у нас республика: они не могут жить без советов.
- 97 -
— А разве у нас не республика? — опять усмехнулся Нерон.— Ты забываешь, что я всего-навсего верховный понтифик, меня не именуют даже отцом нации, как императора Юлия.
— Но ты и не отец нации,— сказал Отон.
— Что? — нахмурился Нерон, и тут же лицо его исказила гримаса гнева.— Ты считаешь, я менее достоин называться отцом нации, чем император Юлий?
— Император Юлий был всего лишь отцом нации, а ты ее господин,— сказал Отон, встав и поклонившись Нерону.— Ты господин, а мы твои слуги. Разве слуги могут давать своему господину какое-то звание! И разве ты примешь его от слуг!
— М-да,— неопределенно выговорил Нерон и еще раз внимательно посмотрел на Отона.— Значит, ты тоже мой слуга?
— Я? — удивился Отон, правда, несколько чрезмерно.— Как и все в Риме.
— Хорошо,— Губы Нерона скривила странная улыбка.— Но, кажется, мы называем друг друга друзьями. Как же быть с этим? Слуга не может быть другом.
— Слуга не может быть другом,— согласился Отон.— Но господин может его так называть для... Для поощрения.
— Выходит, что ты мне не друг.
Отон не нашелся с ответом — стоял, растерянно глядя на императора.
— Ладно,— презрительно бросил Нерон и указал на дверь.— Пойди и скажи, что я хочу одеваться.
У самой двери он окликнул Отона. Проговорил без улыбки:
— Ты приведешь сюда Поппею, твою жену. Я хочу, чтобы ты посмотрел на нее со стороны. Но не говори ей, что она тоже моя служанка. Ты меня понял?
— Да, император,— поклонился Отон.
Глава одиннадцатая
Уже третий день Никий жил в доме Салюстия. Теренций с удивлением видел, как менялся его новый хозяин. С Салюстием он держался высокомерно, порой даже грубо, да и с Теренцием обращался уже без прежней вежливости. Салюстий, конечно, всего лишь актер, сын раба, еще только недавно ставший вольноотпущенником. Таких людей Теренций тоже презирал, можно даже сказать, ненавидел. Но Салюстий входил в круг лиц, близких к императору Нерону, и даже его хозяин, Анней Сенека, держался с ним осторожно, хотя и с известной долей пренебрежения. Такие люди, как Салюстий, всегда казались Теренцию наиболее опасными: нет ничего несноснее раба, ставшего любимчиком господина, особенно когда этот господин — сам император Рима. К тому же Теренций считал его бездарным актером. Сам он, правда, ничего в театре не смыслил и внутренне считал театральное действо глупой забавой. Но актерское мастерство было почитаемо в Риме, тут уж ничего не поделаешь. Теренций не раз слышал, как сам Анней ЛуЦий Сенека, его господин, в разговорах с друзьями называл Салюстия жалким комедиантом. Он еще добавлял: «Впрочем, не более жалкий, чем наш великий комедиант». Теренций понимал, о ком идет речь и кого Сенека называл большим комедиантом. Ему делалось страшно от этих слов хозяина, и он убеждал себя, что ничего подобного не слышал, тем более что не его дело прислушиваться к разговорам господ.
Но как он ни уверял себя, будто ничего не слышал и ничего не понял, временами, размышляя об этом, говорил себе, что все это добром не кончится. Вот и поездка с Никием к проклятому Салюстию беспокоила Теренция. Но что поделаешь, не ему обсуждать действия господ, какими бы они ни были. Но все же он считал, что Никий ведет себя неосторожно — от этого Салюстия можно ожидать все что угодно, а то, что
Салюстий смиренно сносит высокомерие и даже грубость Никия, Теренция обмануть не могло,— он слишком молод и еще не понимает, что здесь не Александрия, а Рим.
Наутро после их приезда в Рим Никий велел Терен цию купить две дюжины перепелиных яиц и кувшин ослиного молока. Теренций был слишком опытным слугой, чтобы не только не спросить, зачем все это понадобилось хозяину, но даже не подать виду, что удивлен. Он только заметил, что ослиное молоко вряд ли можно достать сразу в таком количестве.
— Это почему? — недовольно нахмурился Никий.
— Ослица дает значительно меньше молока, чем корова или коза, мой господин,— ответил Теренций и добавил, как бы извиняясь: — К тому же в Риме не принято доить ослиц.
— В Риме много чего не принято,— усмехнулся Никий как-то очень странно (даже зловеще, как показалось Теренцию).— Принеси столько, сколько сможешь найти. Главное, не жалей денег.
«Ему легко говорить «не жалей денег»,— ворчал Теренций, выходя из дома,— когда деньги не его, а нашего хозяина. За что боги прогневались на меня и не дали дожить остаток дней спокойно?»
Перепелиные яйца он купил легко и в нужном количестве, а ослиного молока совсем немного, да и то отчаянно торгуясь и дрожащей рукой отсчитывая монеты. Когда он принес все это Никию, тот приказал держать молоко в холоде, чтобы не прокисло, а яйца положить на солнце, чтобы скорее протухли. Здесь Теренций все же не сумел справиться с лицом, и Никий холодно осведомился:
— Тебе что-то не ясно?
— Ясно, мой господин,— чуть дрожащим голосом отвечал Теренций,— но я хотел спросить...
— Что ты хотел спросить?
— В какой степени яйца должны протухнуть — только слегка или...
— Не знаю, как у вас в Риме, а у нас в Александрии тухлые яйца считаются просто тухлыми, без всякого «слегка». У тебя еще есть вопросы? — Никий помолчал, пристально и строго глядя на Теренция, и наконец медленно выговорил: — Запомни на будущее: тебе придется понимать меня с полуслова и не задавать глупых вопросов. Я не люблю наказывать нерадивых слуг, но сделаю это не колеблясь, если придется. Хорошо это запомни и впредь будь сообразительней. Надеюсь, ты хорошо меня понял?
— Да, мой господин,— испуганно ответил Теренций.
— Тогда иди и делай, как я сказал.
Теренций ушел и впервые за все время общения с Никием ощутил в отношении его некий род уважения, словно он уже стал ему настоящим господином.
Слугам Салюстия Теренций сказал (об этом строго-настрого еще на вилле предупредил его Анней Луций Сенека), что они с Никием прибыли из Александрии, что Никий врач и приехал по специальному приглашению Салюстия. Расспрашивающие недоверчиво поводили головами, говоря, что врач слишком молод, и интересовались насмешливо: «Что, в Риме уже перевелись собственные врачи?» Но Теренций быстро угомонил насмешников — он имел большой опыт обращения с этим народом. Он строго заметил, что не дело слуг вмешиваться в дела господ и если их хозяин Салюстий пригласил такого врача, то ему виднее и что человек, бывающий у императора, наверное, сумеет разобраться, какой врач ему нужен. Еще он добавил назидательно:
— Не знаю, как у вас в Риме, а у нас в Александрии господа легко укорачивают длинные языки, не прибегая к помощи врача.
Слуги недобро посмотрели на Теренция, но глупые расспросы прекратили. После этого разговора, если Теренций что-то спрашивал по хозяйству, ему отвечали угрюмо и неохотно, но Теренцию это было безразлич-но — близкое общение со слугами всегда казалось ему унизительным.
Чтобы яйца быстрее протухли, Теренций проколол каждое иглой и присыпал землей. Из разговора слуг он узнал, что их хозяин Салюстий серьезно болен — он теряет голос. Еще он услышал, что за Салюстием присылали от императора, тот был во дворце, но вскоре вернулся, бледный и раздосадованный. Со слугами актер разговаривал знаками и очень сердился, когда его не сразу понимали. Впрочем, на помощь неизменно приходил Никий, который, казалось, ни на минуту не покидал актера и даже спал в соседнем помещении с открытой дверью. Теренций понимал, что за всеми этими действиями что-то кроется, но, конечно, не мог понять что. Впрочем, он не очень и любопытствовал.
Однажды утром Никий, узнав, что яйца готовы, приказал принести их и молоко ослицы в спальню Салюстия. Когда Теренций вошел, Никий и актер о чем-то возбужденно разговаривали сердитыми голосами.
Салюстий неприязненно посмотрел на вошедшего Теренция, а Никий приказал ему подойти и приготовить яйца, при этом указав на миску, стоявшую на столе.
— Зачем это нужно? — воскликнул Салюстий (Теренций вздрогнул от неожиданности — голос актера звучал почти жалобно).— Если тебе нужно попробовать, то используй его.— И Салюстий указал на Теренция.
— Делай, что говорю,— повелительно произнес Никий и продолжил с улыбкой: — Теренция я мог бы лечить и в Александрии, для чего же ты заставил меня проделать столь длинный путь?
— Я заставил?! — побагровев, закричал Салюстий.— Это я заставил?
— Не кричи так громко, мой дорогой Салюстий. Твоим слугам совсем не нужно знать, что ты обманываешь императора Нерона, прикидываясь больным. Или тебя не страшит немилость?
Салюстий отвернулся и ничего не ответил.
— Ложись,— приказал Никий, указывая на постель,— и постарайся молчать. Помни, что голос должен вернуться к тебе не сразу.
Никий сам помог актеру скинуть тунику и уложил на спину. Между тем Теренций разбил яйца и вылил содержимое в чашку — запах тухлых яиц распространился по комнате. Салюстий поморщился.
— Какая гадость! — И прикрыл руками свою волосатую грудь.
— Чтобы быть здоровым, нужно потерпеть,— философски заметил Никий и велел Теренцию поднести чашку.
Теренций, стараясь не дышать, подал чашку Никию. Но тот только заглянул в нее и сказал с гримасой омерзения, указывая пальцем на грудь актера:
— Сделай это сам, Теренций, ты ведь делал это не раз, помогая мне.
Теренций подошел к постели. Салюстий, приподнявшись на локтях, проговорил гневным шепотом, широко раскрыв глаза:
— Не смей прикасаться ко мне, раб!
— Делай, что я сказал, Теренций.— Никий встал у окна спальни.
Теренций был в нерешительности.
— Я не желаю, чтобы этот презренный раб...— начал было Салюстий, но Никий не дал ему договорить.
— Если ты не уймешься, то сам завтра станешь рабом. Клянусь Аполлоном, я тебе это устрою! Ты понял? Или мне повторить еще раз?!
Салюстий, замерев, пристально на него посмотрел и вдруг рухнул на спину, откинув голову и уронив правую руку, будто с ним случился удар.
— Приступай, Теренций, и, пожалуйста, не мешкай, я не собираюсь полдня вдыхать эту гадость. Втирай ему в грудь, и как можно тщательнее. Делай же, делай!
Последнее Никий произнес в крайнем раздражении, чего никак не ожидал от него Теренций. Так же стараясь не дышать, он опустил пальцы в чашку и, зачерпнув скользкое, дурно пахнущее снадобье, быстрым движением вытер руку о грудь Салюстия. Актер застонал сквозь зубы, но глаз не открыл. Процедура проходила с трудом, мешала главным образом буйная растительность на груди актера. При каждом прикосновении пальцев Теренция Салюстий вздрагивал, словно снадобье обжигало его, и стонал протяжнее. Наконец чашка опустела, Теренций, повернувшись, вопросительно посмотрел на Никия, тот подошел. От груди актера шел нестерпимый смрад, волосы слиплись, кое-где стояли торчком. Салюстий приоткрыл один глаз, посмотрел на Никия, потом, приподняв голову, на свою грудь.
— О-о! — горестно простонал он и снова уронил голову на ложе.
— Теперь это,— улыбаясь одними глазами, сказал Никий и сам протянул Теренцию кувшин с ослиным молоком.
Вторая часть процедуры заняла совсем мало времени: Теренций просто вылил молоко на грудь Салюстия и растер его ладонью.
— О боги! Долго еще мне страдать? — Актер жалобно посмотрел на Никия.
— Потерпи, лекарство должно впитаться как следует. Я скоро вернусь, мы закончим. Пойдем со мной, Теренций.
Теренций, держа выпачканную руку перед собой ладонью вверх, последовал за Никием. Но они успели дойти только до двери. Актер вдруг протяжно и громко взвыл, схватился за грудь, покарябал ее ногтями, словно хотел сорвать засохшее снадобье, как панцирь, затем вскочил и закричал:
— А-а, а-а! О боги, боги!
При этом сдернул с ложа простыню и попытался вытереть грудь. Теренцию показалось, что запах в комнате сделался еще нестерпимее. Актер бегал из угла в угол, крича во все горло — то призывал на помощь богов, то просто выл, как раненый зверь. Голос его стал столь громким, что Теренцию сделалось не по себе. Он посмотрел на Никия. Тот глядел на актера с улыбкой удовлетворения, почти нежно. Когда, устав наконец от беготни и воя, актер упал на пол и затих, Никий произнес;
— Вот видишь, Салюстий, ты не ошибся, вызвав меня из Александрии, а я недаром проделал этот долгий и трудный путь. Ты еще сам не осознаешь, как силен стал твой голос и как быстры движения. Думаю, твои крики и топот слышали на соседней улице. С такими данными, поверь мне, ты станешь первым актером Рима.
В эту минуту скрипнула дверь, и чья-то голова показалась в проеме — круглая, с большим мясистым носом и маленькими глазками.
— Ты кто? — обернулся к нему Никий.
— Парид,— ответила, моргая, голова.
— Что тебе нужно, Парид? — насмешливо спросил Никий и поднял правую руку, как делают актеры на сцене.
— Мне? — переспросил тот, кто назвался Парадом (вслед за головой появилось все остальное: человек маленького роста с большой головой, крикливо разодетый).— Я хотел видеть Салюстия.— Он посмотрел туда, где на полу лежал несчастный Салюстий. Тот поднял голову, затравленно глядя на вошедшего.
— О-о! — простонал Салюстий и снова уронил голову на пол, она ударилась о доски с глухим стуком.
— Ты пришел вовремя,— сказал Никий, обращаясь к Париду.— Мое лечение помогло, болезнь покинула нашего прекрасного Салюстия. Теперь Рим будет восхищен его мастерством, как никогда. А я лишь скромный провинциальный врач и, сделав свое дело, могу собираться в обратный путь. Позволь мне уйти, Салюстий,— добавил он с поклоном в сторону все так же неподвижно лежащего на полу актера, затем, кивнув Париду, вышел в дверь.
Теренций поспешил за ним.
Вечером того же дня, уже лежа в постели, Никий спросил Теренция:
— Послушай, Теренций, ты мог бы сделать с императором то же самое, что сделал сегодня с Салюстием?
— Не знаю, мой господин,— осторожно ответил Теренций.
— Знаешь, на Палатине все запахи ощущаются значительно острее, так что вони, я полагаю, будет больше,— заметил Никий со странной улыбкой, глядя в потолок.
Когда Теренций, вернувшись к себе, лег в постель, его била дрожь. Он никак не мог согреться, хотя ночь была душной.
Глава двенадцатая
— Скажи, Афраний,— горячим шепотом выговорила Агриппина и схватила Афрания Бурра за руку у запястья. Он почувствовал, как сильны и цепки ее пальцы.— Скажи, как ты думаешь, я потеряла все?!
Афраний Бурр аккуратно высвободил руку, потер то место, где остались следы пальцев, и поднял на Агриппину свой бесстрастный взгляд.
— Я тебя не понимаю. Что может потерять мать императора Рима?
— Сына! — сквозь зубы проговорила она.— Я говорю о Нероне.
— Да хранят боги его драгоценную жизнь! — произнес он и незаметно повел глазами по сторонам.— Надеюсь, я никогда не увижу, как ты потеряешь сына.
. — Зато он может потерять меня.
— И этого я надеюсь не увидеть и буду молить богов...
— Ты изменился, Афраний,— перебила она его и отвернулась.
Агриппина и Афраний Бурр стояли за одной из колонн галереи, ведущей в покои императора. Когда
Агриппина отвернулась, он быстро посмотрел по сторонам и отступил на шаг.
— Ты тоже покидаешь меня,— сказала она, все еще глядя в сторону.— Все покинули меня, все те, кого я приблизила к трону. А ведь мы любили друг друга, Афраний. Любили! Или ты все забыл?
Он не ответил. Он с грустью подумал, что эта женщина, любившая многих и не любившая никого, умела влюблять в себя каждого. И он, Афраний Бурр, не стал исключением.
— Он сказал, что примет меня? — спросила она холодно и бесстрастно.
— Лишь только приведет себя в порядок,— ответил он и, вопреки собственному желанию, добавил с нежностью, едва слышно: — Годы не изменили тебя, ты так же хороша, Агриппина.
Она медленно повернула к нему голову, осмотрела его лицо — от волос до подбородка — так, будто хотела найти в знакомых чертах что-то очень нужное ей, ответ на незаданный вопрос.
— Я постараюсь доказать это делом, Афраний.— Она улыбнулась одними губами.
— Не понимаю тебя.
— Я и сама не понимаю...— Агриппина вздохнула.— Не красота уходит с годами, а желание пользоваться ею.
— Пользоваться ею? — переспросил он, поморщившись и подавшись вперед.
Она резко выставила руку ладонью вперед:
— Не надо, Афраний. Иди. Не нужно, чтобы нас видели вместе.
Он помедлил, потом не спеша повернулся и, тяжело шагая, придерживая здоровой рукой искалеченную, пошел вдоль галереи.
— Встань вот здесь, за статуей.— Нерон указал на статую в самом дальнем углу комнаты.— Я не хочу оставаться с ней наедине.
— Но я...— Отон был в нерешительности, на лице отразилась тревога.
— Ты отказываешься? — холодно, с глухой угрозой спросил Нерон.
— О нет, император,— поспешно ответил Отон,— но я думал, что твой разговор с матерью...
Он снова не договорил, и Нерон нетерпеливо бросил:
— Договаривай.
— Я думал, что такой разговор... что разговор императора с матерью не для чужих ушей.
— С каких это пор ты стал мне чужим?
— Но я хотел сказать...
— Иди.— Нерон снова указал на статую.— И помни, что жизнь твоего императора сегодня может быть в твоих руках.
— Прости, я не очень тебя понимаю.
Нерон недобро улыбнулся:
— Ты ведь слуга императора, Марк, ты сам мне сказал об этом.
— Да, это так.— Отон кивнул, но не вполне твердо.
— Тогда ты должен знать, что делают со слугами, не понимающими волю своего господина.
— Прости.— Отон виновато улыбнулся.
— Иди,— приказал Нерон,— и будь настороже. Моя мать иногда превращается в львицу. Ты должен знать, что тебе делать, если она выпустит когти.
Отон, неслышно ступая, отошел и спрятался за статую. Нерон повернулся к двери и велел пригласить Агриппину.
Чуть только она вошла, он шагнул к ней, расставив руки в стороны и ласково улыбаясь.
— Твой сын приветствует тебя! — произнес он Громко и обнял мать так стремительно, будто больше всего боялся, что она станет рассматривать его лицо.
Продолжая обнимать, он повел Агриппину к окну, усадил, сел рядом, едва не касаясь ее коленями.
— Видишь, как я рад,— сказал он, держа ее руку в своей.— У тебя примерный сын.
Агриппина, улыбаясь чуть напряженно, смотрела на него.
— Скажи, хорошо ли ты чувствуешь себя? — быстро спросил Нерон.— Может быть, душный воздух Рима стал для тебя тяжел? Мне кажется, тебе надо пожить где-нибудь у моря подальше от всей этой суеты. Подумай, я мог бы навещать тебя там.
— Да,— сказала Агриппина, продолжая улыбаться,— мой врач тоже говорит мне, что воздух Рима стал мне вреден.
— Вот видишь,— радостно подхватил Нерон.— Тебе нужны тишина и покой.
— Скорее морской воздух, потому что в моем доме теперь и без того очень тихо и покойно теперь, когда ты изволил убрать моих германцев. Они так громко топали и бряцали железом, что у меня целыми днями болела голова. Спасибо, ты заботливый сын.
Нерон опустил глаза, его лицо выразило недовольство.
— Я просто хотел поменять твою охрану,— глухо проговорил он.— У меня есть сведения, что эти германцы не слишком надежны. Я пришлю тебе манипулу преторианцев. Надеюсь, ты не возражаешь?
— Кто посмеет возразить императору Рима,— сказала она, усмехнувшись.— Но, пользуясь привилегией, которую мне дает звание твоей матери, я прошу тебя не делать этого.
— Почему же? — удивленно поднял глаза Нерон.— Я прикажу Афранию Бурру выбрать лучших.
— Преторианцы охраняют императора Рима. Если они встанут у моего дома, люди скажут, что я под домашним арестом.
— Кто посмеет сказать такое! — вскричал Нерон.— Ты — моя мать, и все, чем я владею...
— Успокойся,— Агриппина положила руку на колено Нерона,— я пришла говорить не об этом.
— Не об этом? — Нерон попытался убрать колено, но Агриппина удержала его.
— Я пришла сказать тебе,— странно на него глядя, проговорила она,— что больше не хочу быть твоей матерью.
— Не хочешь быть моей матерью? Прости, я не понимаю тебя.
— Я объясню,— ласково сказала она и, склонившись, заглянула ему в лицо.— Не удивляйся тому, что я скажу. Я долго мучилась, не решаясь заговорить. Не представляешь, сколько бессонных ночей я провела в страданиях и слезах. Вспомни, последнее время я была с тобой так неласкова. Я вызвала твой гнев, я сама виновата и признаю это. Мне и сейчас трудно сказать тебе то, что я хочу сказать. Я люблю тебя.
Нерон смотрел на нее, ожидая продолжения, но она молчала, глядя на него с какой-то незнакомой нежностью.
Он неопределенно улыбнулся:
— Говори, я внимательно слушаю тебя.
— Я уже сказала.— Агриппина стыдливо опустила глаза.— Я тебя люблю.
— Ну да.— Нерон был в некотором недоумении.— Я тоже тебя люблю.
— Ты меня не понял.— Она вскинула свои длинные ресницы, глаза ее блестели.— Я люблю тебя не как сына. Я... я влюблена в тебя.
В выражении его лица мелькнул испуг. Он напряженно улыбнулся и с трудом сглотнул.
— Ты говоришь это как-то... в каком-то другом смысле? — пробормотал он, то уводя взгляд, то снова возвращая его.
— Послушай меня, Нерон.— Она резко подалась вперед и цепко схватила сына за плечи (по-видимому, сделала ему больно, потому что в первое мгновение он поморщился и дернул плечами).— Послушай меня, я не могу без тебя жить. Ты каждую ночь приходишь ко мне и... О боги, что происходит в эти ночи!
— Что? — выговорил он, кажется, случайно.
— Я расскажу тебе,— горячо продолжала она,— я больше не в силах держать это в себе. Разве я думала когда-нибудь, что встречу мужчину, который прекраснее всех мужчин на свете, который способен дать женщине такое наслаждение, что ей просто хочется умереть! Не отталкивай меня, я не виновата, что ты лучший из мужчин, ты прекраснее Аполлона, мужественнее Геракла, а когда я вижу тебя на сцене... О Нерон, когда я вижу тебя на сцене, мне кажется, что я схожу с ума! Ты великий актер, Нерон, никто не скажет тебе это так, как говорю я, потому что никто не умеет так чувствовать.
Нерон был не столько удивлен, сколько озадачен. За похвалу его актерского мастерства он мог простить многое. Но он никогда не думал о матери как о женщине, хотя чтил ее красоту. Его извращенное сознание готово было на любой поступок, и сожительство с матерью не представлялось ему чем-то особенно невозможным. «Почему бы и нет?» — подумал он, скользнув взглядом по ее округлым плечам, пышной груди и крепким бедрам. Но он знал свою мать и все еще боялся ее, ведь она способна на все на все что угодно. Для достижения своих целей она пойдет на любое преступление. Он вздрогнул при мысли о том, что она может убить его, и покосился в ту сторону, где за статуей стоял Отон.
В той же стороне находилось и его ложе, и Агриппина расценила взгляд сына по-своему. Она порывисто обняла его и припала губами к его губам. Поцелуй был долгим. Когда она оторвалась, у Нерона перехватило дыхание.
— Я хотел... хотел...— прерывисто выговорил он, но она закрыла ему рот ладонью.
— Не надо, не надо, не говори ничего — я хочу, хочу, хочу тебя!
Нерон сделал непроизвольное движение рукой и коснулся груди Агриппины, впрочем тут же отдернув руку.
— О Нерон! — простонала она, закатывая глаза, схватила его ладонь и, встав с дивана, потянула за собой в направлении ложа.
Отчего-то он не нашел сил противиться ей и пошел следом, неровно ступая, как во сне. Лишь только он коснулся бедром края ложа, как она толкнула его туда и упала сверху, осыпая поцелуями его лицо и шею и резким движением сильных рук пытаясь сорвать одежду. Он ощутил неожиданный прилив вожделения, обхватил ее трепещущее тело и прижал к себе.
— Да, да,— горячо шептала она.— Ты только мой, мой, я сделаю для тебя все! Никто не сможет сделать с тобой то, что сделаю я! О Нерон!
Лучше бы она этого не говорила. Его вожделение уже готово было превратиться в настоящую страсть, но он еще не успел потерять способности к соображению. Ее обещание сделать с ним то, чего никто другой сделать не сможет,— эта фраза решила все. Он вспомнил о ее муже, императоре Клавдии, и ощутил на губах вкус белых грибов — того самого блюда, которым она отравила мужа.
Нерон испуганно дернулся и сбросил Агриппину с себя. Она не успела вновь схватить его — он стремительно соскочил с ложа.
— Нерон! Нерон! О боги! — взвыла Агриппина, протягивая к нему руки.— Ты отталкиваешь меня, ты не желаешь!.. О боги, я не перенесу этого!
— Нет, нет,— торопливо проговорил он.— Ты не поняла меня.
— Не поняла?! — Она приподнялась на локтях и, вытянув ногу, достала ею колено Нерона.
— Да... нет...— бормотал он, поправляя одежду и приглаживая волосы.— Успокойся. Я только хочу сказать, что сейчас не время.
— Не время?
— Да. Я хочу сказать, что мы должны быть осторожными.— Нерон уже пришел в себя и говорил отчетливо. Он отступил от ложа на шаг, опасаясь, что она как-нибудь извернется и снова схватит его.
— Осторожными? — переспросила Агриппина своим обычным голосом, в котором уже не было и тени недавней страсти.
— Конечно, осторожными.— Нерон вздохнул.— Никто не должен знать, что мы... Ты понимаешь, никто не должен этого знать.
— Но ты хочешь меня? Ты любишь меня? Скажи! — Агриппина подвинулась к краю и спустила ноги на пол.
— Да, да! — проговорил он как можно убедительнее, но все же отступил еще на шаг.— Конечно, я люблю тебя. Я не думал, что так... но теперь, теперь понял... Постой.— Он сделал предостерегающий жест, потому что она собиралась встать.— Лучше я приду к тебе. Завтра. Даже сегодня вечером. Ты отправишь слуг, и никто не сможет нам помещать. А потом мы уедем куда-нибудь вместе. Например, к морю, в Байи.
— В Байи? — переспросила она, недоверчиво на него глядя.— Но ты не обманываешь меня, Нерон?
Он пожал плечами и сделал удивленное лицо:
— Нет, ты же видишь!
— Значит, ты придешь сегодня вечером?
— Ну да,— кивнул он.
— И мы будем вместе?
— Да, да!
— И ты будешь любить меня?
— Я буду любить тебя.— Нерон не без напряжения улыбнулся.
Она встала, подошла к нему, протянула руки:
— Тогда поцелуй меня.
Он пригнулся и коснулся губами ее губ.
— Не так, не так! — горячо прошептала она, вытянув вперед губы и закрыв глаза.
Несколько мгновений помедлив, он обхватил ее за плечи и прижался губами к ее губам.
Этот поцелуй был продолжительнее первого. Наконец Нерон оторвал ее от себя:
— Теперь иди и жди меня дома.
— Сегодня вечером?
— Да. Я же сказал,— ответил он, с трудом подавив раздражение.
— Если ты не придешь, я умру.— Она пристально на него глядела.
Он вздохнул нетерпеливо:
— Приду. Только сейчас...— он указал рукой в сторону двери.— Сейчас тебе лучше уйти.
— Хорошо,— кивнула она.— Прощай!
Агриппина одернула платье, поправила прическу и, твердо ступая и держа голову прямо, вышла.
Нерон расслабленно опустился на край ложа.
— Марк! — позвал он.— Подойди ко мне.
Отон вышел из-за статуи и осторожно двинулся к Нерону. Лицо его было бледным, а глаза лихорадочно блестели.
— Ты помнишь...— начал было Нерон, но спазм сдавил ему горло, и он не договорил.
Отон с тревогой на лице пригнулся к нему:
— Я слушаю... император.
Нерон поднял голову, посмотрел так, словно только что увидел.
— А-а,— протянул он,— это ты?
— Слушаю тебя,— осторожно произнес Отон.
— Пойди и скажи Афранию, чтобы он ни в коем случае не пускал мою мать во дворец. Ты понял меня? Она не должна появляться здесь ни при каких обстоятельствах.
— Я приведу Афрания сюда.
— Нет! — воскликнул Нерон сердито.— Ты передашь ему мое желание и добавишь, что я не хочу видеть его... пока. Иди.
Отон поклонился и пошел к двери.
— Вот еще что,— окликнул его Нерон.— Приведешь мне вечером твою жену Поппею.— Он чуть помедлил и договорил с усмешкой: — Я все же хочу посмотреть на нее со стороны.
Когда Нерон остался один, он подошел к ложу и, наклонившись к тому самому месту, где только что сидела Агриппина, понюхал простыню.
Глава тринадцатая
Поппея не была красавицей, по крайней мере не числилась в первых красавицах Рима. Она и сама не считала себя красавицей. Впрочем, ее это не очень заботило, потому что она умела хорошо чувствовать мужчин. Это чувствование оказалось таким же даром природы, каким бывает красота, и даже значительно более ценным. Поппея не смогла бы объяснить даже себе самой, как она покоряет мужчин, она просто делала это. Все известные приемы обольщения казались ей глупостью, и она не понимала, почему мужчины все-таки им поддаются. Вообще-то она не уважала мужчин и ни к одному из них не испытывала настоящей страсти. Главным образом потому, что видела — все они хотят от нее одного — удовольствия. Но она принимала как данность, как закон неба, тот факт, что мужчины правят миром и без их помощи ничего стоящего добиться в этой жизни нельзя. Мужчины хотели от женщины удовольствия, и она давала им его, и тут не нужны лишние приемы, а всего только стоит дать понять и почувствовать мужчине, что и сама она испытывает от связи с ним удовольствие. И нечто большее, чем удовольствие,— радость.
Любого мужчину — умного или глупого, патриция или плебея — можно было взять этим, потому что каждый из них желал видеть себя самым-самым: самым сильным, самым страстным, самым великим. За это мужчина мог дать женщине все, что имел, и сделать все, на что оказывался способен. Беда была лишь в том, что Поппея хотела слишком многого, более того, что ей могли предложить.
Родители выдали ее замуж за Марка Отона, и она считала это хорошей партией, хотя не любила мужа. Впрочем, как и всех других мужчин, которых знала. Из них Марк оказался все-таки самым лучшим. Во-первых, он был хорошего рода, хотя и этрусского, а не римского, во-вторых, был богат, в-третьих, всегда оставался своим человеком при дворе, а при последнем принципате считался другом императора Нерона. Да и сам он был человеком неплохим: ровного характера, достаточной смелости и достаточного ума. Правда, достаточным его ум оказался только для других людей, а для Поппеи его явно не хватило.
Дело в том, что Марк Отон не хотел становиться императором, а Поппея больше всего на свете желала быть женой императора. Она с сожалением думала о том, что родилась римлянкой. Родись она, к примеру, в Египте, она бы имела шанс стать царицей, подобно Клеопатре. Но в Риме такое невозможно — грубые мужчины видели в женщине лишь способ получить удовольствие и ничего более, а значит, самое большее, на что могла рассчитывать женщина, это стать женой или любовницей императора. Не самая высокая ступень, но, по крайней мере, близкая к высокой.
Она заговорила об этом с Отоном уже через несколько недель после замужества. Сказала, что готова сделать все, чтобы он стал императором. Он рассмеялся (ведь мужчина считает любую женщину глупей себя), сказал:
— А ты не хочешь, чтобы я стал богом или хотя бы полубогом, например как Геракл?
— Богом стать нельзя,— отвечала она серьезно, не обращая внимания на его насмешливый тон,— им нужно родиться. А императором можно сделаться, стать.
— Но разве это не судьба? — спросил он уже без насмешки.
— Судьба,— подтвердила она.
Он улыбнулся, развел руки в стороны:
— Значит, у меня другая судьба.
— У человека та судьба, которую он выберет и с которой сумеет управиться.
— Значит, ты не веришь в предназначение, данное каждому из нас богами?
Поппея пристально на него посмотрела, прежде чем ответить:
— Боги благоприятствуют лучшим и любят сильных. Я хочу, Марк, чтобы ты стал сильным.
На его лице выразилось недовольство. Он встал и, шагнув к двери, не глядя на нее, сказал:
— Запомни, я не желаю слышать такое. Никогда.
И он вышел, сердито топая.
— Значит, мне придется думать об этом самой,— произнесла она вполголоса и странно усмехнулась.
И она в самом деле думала об этом — каждый день и каждую ночь. Даже тогда, когда муж сжимал ее в объятиях, нашептывая то нежные, то стыдные слова. И когда она отвечала ему страстным шепотом и движением тела — и тогда она думала об этом. Но тот их разговор о ее мечте был первым и последним. Несколько раз, особенно наутро после бурных ночей, когда они лежали расслабленные и удовлетворенные (Марк, разумеется, совершенно удовлетворенный), касаясь друг друга телами, он спрашивал ее:
— Скажи мне, Поппея, ты счастлива со мной?
— Я счастлива с тобой, Марк,— отвечала она.
— И ты больше ничего не хочешь от меня? Не хочешь, чтобы я стал... кем-то другим?
— Нет. Мне так хорошо с тобой.
Она не лгала, ей было хорошо с ним. Обыкновенная женщина и не могла желать лучшего. Но Поппея не считала себя обыкновенной женщиной — только чуть-чуть, только когда бывала с Марком.
Когда Марк Отон вошел в число друзей нового императора, а потом стал считаться его самым близким другом, она поняла, что наступил ее час. Она стала еще нежнее, еще внимательнее к мужу, доставляла ему ночами самые изысканные и необыкновенные удовольствия. Короче, сделалась самой лучшей женой, которую только можно вообразить.
Марк в самом деле был от нее без ума. И это при том, что его дружба с императором Нероном требовала от него вещей, несовместимых с понятием примерного мужа. Бесконечные пиры, ночные кутежи в обществе самых развратных и самых гнусных женщин, путешествия по грязным притонам Рима и... снова кутежи и пиры.
Поппея не ревновала, ей было чуждо это глупое чувство. Она улыбалась Марку, в каком бы виде он ни являлся домой. Она не делала брезгливого лица, когда он обнимал ее, обдавая запахом вина и продажных женщин. И в такие минуты шептала, что любит его, что счастлива с ним и что лучше ее Марка нет мужчины на свете.
О Марк, глупый Марк! Она добилась того, к чему стремилась: он стал восхвалять ее в кругу своих друзей (он сам признавался ей в этом), превозносить замечательные достоинства ее души и тела. Она не знала только, говорил ли он о ней с императором Нероном, хотя, конечно, его разговоры о ней с другими вряд ли могли не дойти до императора. Но он должен был когда-нибудь заговорить с ним самим, и она ждала, ждала этого, нетерпеливо ждала, хотя внешне ничего нельзя было заметить.
В тот день он вернулся домой засветло (что случалось крайне редко), и весь вид его был потерянным и угрюмым. Она, как обычно, встретила его ласково, сказала, что так скучала без него, думала, не вынесет разлуки. Он ничего не отвечал и прятал глаза, только вздыхал виновато.
— Что с тобой, мой Марк? — спросила она, нежно гладя его щеку и стараясь заглянуть в глаза.— Ну, посмотри же, посмотри на меня. Что-нибудь случилось? Расскажи, не бойся, ты же знаешь, я всегда с тобой, все для тебя сделаю. Так что же случилось? Скажи.
— Нерон хочет видеть тебя,— глухо выговорил он, глядя в сторону.
Сердце Поппеи радостно дрогнуло, все внутри нее замерло, и несколько мгновений она не могла что-либо произнести.
— Нерон хочет видеть тебя,— повторил Марк, чуть возвысив голос.
Поппея уже сумела взять себя в руки и наивно спросила:
— Хочет видеть меня? Зачем?
Он тяжело вздохнул и впервые за все время разговора посмотрел на нее:
— Разве ты не понимаешь, для чего Нерону нужна женщина?
Она заморгала глазами, улыбнулась ему еще ласковее, еще наивнее:
— Но я ведь не женщина, Марк, я твоя жена.
Он недобро усмехнулся, так, будто это она была виновата во всем:
— Он сказал, что хочет видеть тебя сегодня вечером. Ты понимаешь, сегодня вечером!
— Сегодня вечером,— повторила она, кивнув.— Я понимаю, Марк.
Он вдруг порывисто обнял ее, прижался щекой к ее щеке и заплакал.
— Что ты, Марк, что ты! Успокойся, я прошу тебя. Что ты, ведь я с тобой.
Она нежно гладила его по затылку, как ребенка, а он, содрогаясь всем телом, говорил сквозь слезы:
— Ты уже не со мной, Поппея, ты с ним, я знаю.
Она невольно вздрогнула — в какое-то мгновение ей показалось, что он действительно знает все. Этого не могло быть, но она почувствовала так и прерывисто вздохнула.
— Он отберет тебя у меня! — плача, продолжал он.— Единственное, что я всегда так боялся потерять. О боги, за что вы так ужасно наказываете меня?
Он долго не мог успокоиться: всхлипывал, утирал слезы ладонью. Наконец спросил, глядя на нее с надеждой и болью одновременно:
— Что же теперь делать?!
Она пожала плечами, улыбнулась ему успокоительно, сказала просто, как о чем-то совсем не значащем:
— Ты отведешь меня к императору, вот и все.
— Я... отведу... тебя? — Отон остался стоять с открытым ртом, и челюсть его заметно дрожала.
— Не надо так волноваться, мой Марк.— Поппея дотронулась до его подбородка,— Ты же знаешь, придворная жизнь налагает на человека определенные обязательства. Возьми себя в руки — ты удивляешься так, будто впервые узнаешь о чем-то подобном. Сейчас вопрос не в том, сделает Нерон то, чего ты боишься, или нет — скорее всего сделает,— вопрос в другом: что нужно предпринять, чтобы все это стало наиболее выгодно для нас.
— Выгодно для нас?! — вскричал Отон.— Ты хочешь отдаться этому...
— Замолчи! — жестко прервала его Поппея.— Не произноси то, чего не следует произносить вслух. Я не хочу отдаваться императору, ты вынуждаешь меня сделать это.
— Я?! — со страхом выговорил Отон.
— Ты.— Она ткнула в его сторону указательным пальцем.— Разве не ты водишь с ним дружбу, разве не ты шатаешься с ним по грязным притонам, веселишься в обществе гнуснейших женщин? Я уже не помню, когда мы спали ночью в одной постели.
— Но я!..— возмутился Отон, делая страшное лицо.
Она снова не дала ему договорить, остановила решительным жестом руки:
— Перестань! Разве я хоть раз упрекнула тебя? Разве я хоть чем-нибудь показала, что мне не нравится твой образ жизни? Будь честен, скажи!
Отон отрицательно помотал головой.
— Вот видишь,— продолжала Поппея,— тебе не в чем упрекнуть меня. Зачем же упрекать в том, в чем я перед тобой не провинилась?
— О прости, прости, Поппея! — Отон протянул к ней руки, но она уклонилась от объятий.
— Нет, Марк, сейчас нужно думать о деле, у нас так мало времени. Мы ничего не можем предотвратить...
— Можем, можем, Поппея! — горячо воскликнул он.— Мы можем бежать, я увезу тебя!
— Куда? — Она устало вздохнула.— Куда мы можем бежать?! Ты предлагаешь мне нечто худшее, чем изгнание. Потерять все, что имеем, влачить жалкое существование, всякую минуту бояться, что нас настигнут и схватят. Очнись, Отон, что ты говоришь! Я пойду за тобой повсюду, но разве ты родился на свет для такой жизни? Я отдам ему свое тело, но разве я отдам ему свою любовь — нашу любовь? Что поделать, Марк, не мы придумали такую жизнь. Помнишь, я говорила тебе: ты должен стать императором? Так стань же им!
— Что ты такое говоришь! Я не понимаю!
— Я не просто отдам ему свое тело, я отдам его ради тебя, ради нас!
— Ради нас,— расслабленно повторил он.
— Да, ради нас! — твердо выговорила Поппея.— Он дорого заплатит за свои мерзкие желания, ты станешь первым в Риме, а потом...
Она замолчала, не договорив, и он спросил, подавшись, вперед:
— Что потом?
Она усмехнулась, прямо глядя в его глаза:
— Есть много способов, чтобы один заменил другого. Никто не вечен, ты знаешь, и к императорам это относится так же, как и к любому другому. Вспомни Калигулу или Клавдия. Чем Нерон лучше их? Он много пьет, много ест. Представь себе, что он выпьет или съест что-нибудь такое, что...
— Молчи! — испуганно прошептал Отон.— Что ты такое говоришь?
Она удивилась:
— А что такое? Только то, что известно всем. Чем Нерон лучше тебя: ты древнего рода, умен и молод.
— Наш род идет от этрусков, мы не римляне.
— И это все, что тебя останавливает? Ты, отпрыск древнего рода, сомневаешься в себе в то время, когда жалкие проходимцы, вольноотпущенники и плебеи правят Римом!
Некоторое время они молчали. Наконец Отон сказал, с надеждой глядя на жену:
— Мне страшно, Поппея.
Она прижала его голову к своей пышной груди, прикрыв ладонью глаза, прошептала в самое ухо:
— Вот так тебе будет не страшно. Доверься мне, Марк, и ни о чем не думай. Я скажу, что делать, когда наступит твой час.
Он ничего не ответил, только порывисто вздохнул и еще плотнее прижался к ней.
Глава четырнадцатая
— Я недоволен тобой, Салюстий,— проговорил Нерон и покосился на стоявшего с правой стороны от его кресла Аннея Сенеку.— Я сочувствую твоей болезни и сам видел, что ты потерял голос, но ты не явился на мой зов, когда я посылал за тобой. Что скажешь в свое оправдание?
В просторной зале, где Нерон обычно упражнялся в актерском мастерстве, их было четверо. Нерон сидел в кресле с высокой спинкой, развалясь и положив ноги на мягкую скамейку. С правой стороны стоял
Сенека, с левой — Афраний Бурр. Актер Салюстий находился перед императором, и лицо его выглядело виноватым.
— Ты молчишь, Салюстий,— недовольно сказал Нерон.— Как видно, тебе нечего сказать.
— Я так страдаю, император.— Салюстий прижал руки к груди и низко наклонил голову.— Я вызвал твое недовольство.
— Оставь свои восточные ужимки, ты не в Александрии. Ты страдаешь? По тебе этого не скажешь, вид вполне цветущий. Скажи, Анней,— обратился он к Сенеке,— разве я не прав?
— Да, вид у него цветущий,— с улыбкой подтвердил Сенека.
— Вот видишь,— сказал Нерон.— Что ты ответишь на это?
— Я отвечаю,— проговорил Салюстий значительно смелее, почувствовав, что гроза прошла,— что лучше мне умереть, чем огорчить своего императора.
— Но ты, я вижу, избежал смерти,— усмехнулся Нерон.
— Да, император,— поклонился Салюстий,— но только потому, что своей смертью мог огорчить тебя еще больше.
— Ты слишком смел,— сказал Нерон и, кивнув в сторону Афрания Бурра, добавил: — Тебе не кажется, Афраний?
Афраний Бурр, стоявший у кресла с каменным лицом, лишь неопределенно повел головой.
— Ладно, Салюстий,— Нерон нахмурился (молчание Афрания Бурра, как видно, не понравилось ему),— рассказывай, если тебе есть что рассказать.
— Я не мог показаться тебе на глаза,— быстро проговорил Салюстий,— потому что у меня совсем пропал голос. Поверь, мне сделалось страшно. Я послал за врачом в Александрию и ожидал его с большим нетерпением. (Салюстий мельком взглянул на Сенеку. Тот смотрел на него прямо и спокойно.) Это была моя последняя надежда. Я решил, если он не поможет мне, брошусь в Тибр.
— Перестань,— поморщился Нерон.— Какая Александрия, при чем здесь Тибр? Что, в Риме уже перевелись врачи? Ну, отвечай!
— Никто не смог помочь мне,— ощутив, что перемена настроения императора не в его пользу, жалобно произнес актер.
— Ты мог бы сказать, я прислал бы тебе врача. Или ты считаешь, что мой врач тоже для тебя не годится?
— О нет, нет! — воздев руки к потолку, воскликнул Салюстий.
— Тогда что же?
— Я не решился.
— Посмотри на него, Анней,— снова повернулся к Сенеке Нерон.— Этот скромник, видите ли, не решился! Я не узнаю тебя, Салюстий. Ну ладно, рассказывай дальше. Что там с тобой произошло?
— Чудесное выздоровление.
— Чудесное выздоровление?
— Да, император.— Салюстий снова прижал обе руки к груди, но под недовольным взглядом Нерона быстро опустил их.— Я и сам не ожидал. Но он приехал и вылечил меня в один день.
— Ты лжешь, Салюстий, этого не может быть,— сказал Нерон.
— Разве мог бы я лгать тебе? В это невозможно поверить, но вот я перед тобой. Я не в силах был выговорить двух слов, а сейчас? Вот смотри.— Салюстий отступил на шаг, поднял правую руку и, придав лицу совершенно зверское выражение, продекламировал, громко завывая:
— Хватит, хватит,— остановил его Нерон,— от твоего крика мы сами сейчас заплачем.
— Я только хотел показать тебе, каким сильным стал мой голос,— виновато отвечал Салюстий.
— Да-а,— протянул Нерон, спустив ноги со скамеечки и подавшись вперед, словно желая получше рассмотреть Салюстия,— ты ревешь, как труба. Как же вылечил тебя твой врач?
— Он делает снадобье,— осторожно начал Салюстий, мельком взглянув на Сенеку.
— Снадобье? Какое снадобье? — еще подавшись вперед, прищурился Нерон.
— Я не могу сказать.
— Что? Это почему же?
— Оно такое... такое...— с запинкой выговорил Салюстий.— Это очень странное снадобье,
— Говори,— Нерон нетерпеливо потряс рукой.
— Тухлые перепелиные яйца и ослиное молоко,— выпалил Салюстий и сделал такое лицо, будто сам только что эти тухлые яйца съел.
Несколько мгновений Нерон смотрел неподвижно и вдруг захохотал, откинувшись на спинку кресла и оттолкнув ногой скамеечку. Она перевернулась, скользнула по гладкому полу и остановилась возле Салюстия. Он поднял скамеечку, поднес ее к вздрагивающим ногам Нерона и аккуратно поставил — осторожно, втянув голову в плечи, словно опасался, что император может пнуть его.
Нерон смеялся долго и весело. Сенека чуть улыбался, мельком поглядывая на Салюстия. Афраний Бурр по-прежнему стоял с каменным лицом, глядя прямо перед собой.
— Ты меня рассмешил, Салюстий,— вытирая ладонью выступившие на глазах слезы, сказал Нерон.— Я удивляюсь, как ты еще жив после такого замечательного лечения. Значит, ваши александрийские врачи лечат отравой? Скажи честно, Салюстий, это, наверное, очень вкусное снадобье?
— Я не знаю,— пожал плечами актер.
— Как это не знаешь, ведь ты съел его!
— Он втирал его в грудь,— сказал Салюстий, виновато улыбаясь.
— Ах, в грудь,— несколько разочарованно проговорил Нерон и, в единое мгновенье сделавшись серьезным (такие резкие перемены настроения были ему присущи), спросил: — И кто он такой, этот твой врач?
— Его зовут Никий,— с поклоном ответил Салюстий,— он грек.
— Грек? — удивился Нерон (так, как если бы актер сказал, что его врач — лошадь или корова).— Ты сказал — грек?
Император Нерон был неравнодушен к Греции, все греческое казалось ему лучше римского: поэты, художники и, главное, публика в театре. Он любил говорить: «Только греки умеют ценить прекрасное». И при этом добавлял неизменно: «Только там понимают мое искусство, грубый Рим не дорос до меня».
— Да, он грек,— кивнул Салюстий.— И при этом из хорошей семьи. Его отец был претором в Александрии, еще при императоре Гае.
— Вот как,— покачал головой Нерон.— И что же, он молод?
— Очень молод. Ему едва исполнилось двадцать лет.
— Ты меня удивляешь, Салюстий, столь молодых врачей не бывает. Совсем мальчишка. Ты говоришь, двадцать лет?
— Двадцать. Но он искусен не только во врачевании. Он хорошо знаком с греческими и римскими поэтами. Мне трудно судить, но, кажется, он очень образован.
— Образован, говоришь,— задумчиво произнес Нерон,— и хорошего рода. И что, красив или уродлив? Эти ученые как будто специально рождаются с неприятными лицами.— Он махнул рукой в сторону Сенеки.— Это к тебе не относится, мой Анней.
Сенека кивнул понимающе, а Салюстий сказал:
— Он очень красив. Я не слишком разбираюсь в науках, может быть, он не столь учен, как мне показалось, но он очень красив.
— Хорошо,— Нерон милостиво (впервые за все время разговора) посмотрел на Салюстия.— Приведи его ко мне, я хочу посмотреть на него.
— Ты не будешь разочарован, император,— радостно выпалил Салюстий, делая шаг вперед,— его красота...
— Я разберусь в этом сам,— перебил Нерон и, отмахнувшись рукой от Салюстия, добавил: — Мне сейчас не до тебя, иди, сегодня декламировать не будем.
Когда Салюстий ушел, император повернулся к Сенеке:
— Как ты думаешь, Анней, этот прохвост Салюстий говорит правду?
— Что ты имеешь в виду? — склонился к нему Сенека.
— Я подумал, зачем такому красивому и ученому юноше, да еще из хорошей семьи, ехать в такую даль, чтобы лечить какого-то Салюстия? Тебе не кажется это странным?
— Нет, не кажется,— сказал Сенека.
— Это почему? — удивленно посмотрел на него Нерон.
— Потому что Александрия не Рим...
— Это я и без тебя знаю,— нетерпеливо перебил его Нерон.— Ты не отвечаешь на мой вопрос.
— Потому что Александрия не Рим,— повторил Сенека.— И если какой-то актер, бывший раб, принимаем при твоем дворе и облагодетельствован тобой, то оттуда он видится значительной особой, равной какому-нибудь влиятельному сенатору.
— Ты так полагаешь? — прищурился Нерон.— Ну ладно, это я выясню сам. Сейчас я хотел говорить с тобой не об этом. Тебе и Афранию я всегда доверял больше других. Мне нужен ваш совет.
— Мы слушаем тебя,— с поклоном сказал Сенека.
— Садитесь вон туда,— Нерон указал на два кресла, стоявшие рядом,— мне нужно видеть ваши лица.
Сенека и Афраний Бурр сели.
— Дело, по которому я позвал вас, очень деликатное, можно сказать, семейное, но я хочу доверить его вам.
— Мы слушаем тебя,— повторил Сенека.
— Это касается...— не очень твердо начал Нерон, исподлобья глядя на сидящих, но, вздохнув, договорил: — касается моей матери, Агриппины.
Сенека невольно вздрогнул. Нерон пристально смотрел на него, его близорукие глаза казались подернутыми серой дымкой.
— Скажите мне,— прервал молчание Нерон,— что делать сыну, если мать посягает на его жизнь, к тому же если этот сын — император Рима? Что ты скажешь, Анней?
— Скажу, что в это трудно поверить,— осторожно проговорил Сенека.
— А что думает наш доблестный Афраний? — с недоброй улыбкой, переведя взгляд на Афрания Бурра, спросил Нерон.
— Думаю, что благополучие Рима важнее сыновних чувств,— спокойно и уверенно выговорил тот.
— Замечательный ответ, Афраний,— чуть удивленно заметил Нерон.— Признаться, не ожидал. Значит, ты считаешь, что с Агри... что с ней нужно поступать так же, как с любым другим заговорщиком? Я правильно тебя понял?
— Ты правильно меня понял,— кивнул Афраний.
— Но, наверное, ты, как и Анней,— вкрадчиво проговорил Нерон,— считаешь, что в это трудно поверить и что сначала нужно иметь неопровержимые доказательства, а уж потом...— Он не договорил, выжидательно глядя на Афрания.
— Нет,— отрицательно покачал головой Афраний,— я так не считаю. Ты всегда был примерным сыном, не я один, весь римский народ знает это. А примерный сын никогда не позволит себе ложные подозрения. Подозрения примерного сына есть лучшее доказательство, и я не понимаю, какие нужны еще.
«Ловок,— подумал Сенека, неприязненно косясь на Афрания,— но не умен, потому что конец Агриппины есть начало нашего с ним конца».
— Ты замечательно сказал, Афраний,— усмехнулся Нерон,— я сам не думал об этом. Но ты прав, хотя мне тяжело сознавать такое. А ты, Анней,— обратился он к Сенеке,— ты все-таки думаешь иначе?
— Нет, император,— сказал Сенека,— тем более что я сам говорил недавно, что такой заговор существует. Я только хочу, чтобы были соблюдены...
Он замялся, и Нерон нетерпеливо махнул рукой:
— Ну что, говори же.
— Чтобы были соблюдены приличия,— вздохнув, закончил Сенека.
Нерон удивился:
— Какие приличия? Я не понимаю тебя.
— Я не думаю,— пожал плечами Сенека,— что с матерью императора можно поступить, как с обычным заговорщиком. Народ этого не поймет.
Нерон смотрел то на Сенеку, то на Афрания Бурра, и лицо его казалось растерянным.
— Что же делать? — едва слышно выговорил он.
— Скажи, Афраний,— обратился Сенека к Бурру,— ты сможешь отдать преторианцам такой приказ?
— Какой приказ? — осторожно переспросил Бурр, будто не понимая точного смысла вопроса.
В свою очередь, Сенеке тоже не хотелось говорить напрямую.
— Я хотел сказать... я хотел сказать...— дважды повторил он, глядя на Нерона.
— Приказ убить ее,— произнес Нерон глухо, опустив глаза.
— Но я не могу отдать такого приказа,— сказал Афраний.
— Не можешь?! — Нерон поднял на него глаза, в них блеснул гнев.
— Преторианцы хорошо помнят отца Агриппины, Германика, твоего деда, император,— спокойно глядя на Нерона, пояснил Афраний.— Они не будут расправляться с его дочерью. Хуже того, если я отдам такой приказ, может произойти возмущение.
— Проклятый Германик! — сквозь зубы выговорил Нерон так, будто его дед не умер давным-давно, а был сейчас во всем виноват.— Скажи, Анней, что же теперь делать?
— Я полагаю,— после недолгого раздумья ответил Сенека,— что это семейное дело нужно и решать посемейному.
— Что значит по-семейному? — нетерпеливо бросил Нерон.— Говори яснее.
— Это значит — тихо. В конце концов, с матерью императора может случиться несчастье.
— Какое несчастье, Анней? Я же просил тебя говорить яснее.
— Ну...— Сенека посмотрел на Афрания Бурра (тот глядел в сторону), поднял взгляд к потолку, прищурился, будто желая прочесть там ответ, и наконец выговорил: — Агриппина может отправиться куда-нибудь, например в Байи, морским путем, а морское путешествие всегда сопряжено с опасностью.
— Это слишком долго, Анней,— возразил Нерон.— Только подготовка займет кучу времени. К тому же нужно уговорить Агриппину ехать, а она может не захотеть — разве ты не знаешь, какой у нее строптивый нрав? Уже не говоря о том, что она может что-нибудь заподозрить. К чему такие сложности?
— Такой план имеет много преимуществ,— рассудительно продолжил Сенека.— Император, оплакивающий безвременно ушедшую мать, вызывает уважение и сострадание. Зачем же плодить в народе подозрения, лучше обернуть их в любовь.
— Ты тоже так считаешь? — сказал Нерон, обращаясь к Бурру.
— Да, император,— кивнул Афраний.— Сенатор прав, в таком деле лучше не торопиться.
— Лучше не торопиться! — с досадой повторил Нерон.— Пока она... есть, я не могу сохранять спокойствие!
— Зато ты сохранишь власть,— поклонился Сенека.
Нерон недовольно взглянул на него.
— Хорошо, идите, я подумаю,— выговорил он, глядя мимо их глаз и вялым жестом руки показывая, что разговор окончен.
Афраний Бурр произнес, когда они вышли за дверь:
— Ты думаешь, он решится?
— Я думаю, мы погибли,— вздохнул Сенека.
Глава пятнадцатая
Когда Симон из Эдессы въехал в Фарсал, уже стемнело. Звезды на небе горели ярко, ночь была душной. Обогнув базарную площадь, он слез с лошади и взял ее под уздцы. Справа у дверей кабака несколько римских солдат горланили песни. Осторожно, словно боясь, что его услышат, он постучал кулаком в ворота низенького дома. Ему ответил остервенелый лай собак. Он постучал еще раз и еще. Наконец с той стороны ворот испуганный голос спросил:
— Кто?
— Это я, Симон,— оглянувшись по сторонам, а затем вплотную приблизив лицо к дереву ворот, ответил Симон.
— Это ты, Симон? — некоторое время спустя переспросил голос.
— Да, да,— с досадой отозвался тот,— открывай же!
Ворота приоткрылись, и показалась голова человека с длинной бородой и всклокоченными волосами. Он поднял фонарь и вгляделся в лицо гостя.
— Ты? Мы так рано не ждали тебя.
— Я только что приехал. Ты позволишь мне войти?
— Да, входи.— Хозяин пропустил Симона внутрь и похлопал по боку лошади ладонью, словно торопя ее. Лишь только лошадь вошла во двор, он быстро закрыл ворота и задвинул щеколду.
— Не представляешь, как я устал,— сказал Симон, улыбаясь хозяину.— А здесь еще такая духота.
— Значит, воздух в Риме свежее? — со странным выражением на лице поинтересовался хозяин и, предваряя ответ гостя, добавил, беря лошадь за повод: — Потом, после. Войди в дом, я сейчас.
Он повел лошадь через двор, а Симон, открыв скрипучую дверь, ступил в темноту прихожей. Нащупал лавку справа и сел, вытянув ноги.
Вернулся хозяин с фонарем. Трепещущий язычок пламени осветил убогое жилище. Хозяин поставил фонарь на пол у ног Симона, сам присел на корточки рядом.
— Ты голоден? — спросил хозяин.
— Нет, но я очень устал,— вздохнул Симон.
— Забудь об усталости,— сказал хозяин и, почему-то оглянувшись по сторонам, добавил: — Учитель ждет тебя.
— Утром я буду у него.— Симон, пригнувшись, стал расстегивать ремни сандалий.
— Ты пойдешь к нему сейчас,— тронув гостя за руку, велел хозяин.
— Сейчас? — Симон поднял голову, недовольно поморщился.— Он, наверное, уже спит, а я едва волочу ноги. Я пойду к нему утром.
— Ты пойдешь к нему сейчас,— упрямо проговорил хозяин.— Он ждет тебя.
Ждет? Меня? — Симон чуть подался вперед.— Он не мог знать, что я вернусь так скоро. , • ,
— Но он предполагал это,— почему-то вздохнул хозяин.— Ты должен идти сейчас, завтра может быть поздно.
— Поздно?
— Да, поздно,— кивнул хозяин.
— Я не понимаю тебя,— помотал головой Симон.
— Отряд преторианцев Нерона прибыл сюда несколько дней назад,— хозяин понизил голос и мельком взглянул в сторону двери.—Они ищут Павла.— Он вздохнул.— И они найдут его.
— Что ты говоришь! — вскричал Симон и сделал движение, словно собирался встать.
— Тише! — испуганно прошептал хозяин и, положив руку на плечо гостя, заставил его успокоиться.— Они рыщут повсюду. Мы переправили учителя в катакомбы за городом, больше некуда было, но это ненадежное убежище.
— Значит, надо найти надежное! — гневно сказал Симон, но уже значительно тише.— У вас что, мало людей здесь?
— Никого почти не осталось, всех взяли,— отвечал хозяин, проведя ладонями по лицу.— Они выставили заставы на всех дорогах.
— Странно,— пожал плечами Симон,— я ничего не заметил. Нет, меня проверяли, конечно, но я думал... Я думал, что все как обычно, они не говорили ни о чем таком.
— Слава Господу,— хозяин сложил руки на груди,— что ты сумел пройти. Учитель так ждет тебя. Он велел привести тебя к нему, лишь только ты прибудешь.
— Но его надо вывезти из города,— стукнув кулаком по колену, твердо произнес Симон.
— Это трудно,— после непродолжительной паузы заметил хозяин,— и у нас почти не осталось людей.
— А ты?
— Меня уже ищут. Я успел отправить семью. Но дело не в этом...
— А в чем, в чем?
Хозяин опустил голову вниз, потом поднял глаза, исподлобья посмотрел на Симона:
— Учитель Павел не хочет бежать.
— Не хочет? Почему?
Хозяин невесело усмехнулся:
— Я не могу заставить его: он учитель, а не я.
— Но ты же понимаешь,— Симон потряс руками перед самым лицом хозяина,— что если они возьмут его, то мы... то все наше дело...
— Я не могу заставить его,— с жесткостью в голосе повторил хозяин.— Он знает то, чего не знаем мы. Ни ты, ни я, ни кто другой не может указывать ему, что делать и как поступать. Он сказал мне вчера, что сам выйдет и сдастся центуриону преторианцев.
— Сдастся! — с гримасой боли и гнева на лице вскричал Симон.— И ты говоришь об этом так спокойно?!
— Не кричи,— устало проговорил хозяин,— нас могут услышать. Что же до меня, то я знаю одно: учитель видит истину, а я вижу туман. Так как же я могу, я, видящий туман, указывать тому, кто видит свет? Но я, недостойный, все же пытался уговорить учителя. Как и ты, я сказал ему о нашем деле и о всех нас.
— И что, что он ответил?! — нетерпеливо схватив хозяина за руку, воскликнул Симон.
— Он сказал, что Господь хочет этого и что наша вера будет крепче, если он пострадает за нее. Он сказал, что может пострадать лишь за веру, а не за всех людей на земле, как Иисус.
— Значит...— начал было Симон, но хозяин не дал ему говорить:
— Вставай,— сказал он и кряхтя поднялся.— Учитель позволил отправить себя в катакомбы только потому, что ждет тебя и хочет с тобой поговорить, прежде чем...
Он не закончил, поднял фонарь и пошел к двери, слабым жестом руки приглашая Симона следовать за собой.
Симон пошел один. Хозяин сказал, что не будет его сопровождать, опасается шпионов центуриона Флака, прибывшего с преторианцами из Рима.
— Вместе мы можем не дойти, иди один,— сказал он на прощание, выведя Симона потайным ходом на пустырь.
Впрочем, Симону оказался не нужен провожатый, ему хорошо были известны окрестности Фарсала и расположение катакомб. Шел он осторожно, дважды, встречая римских солдат, притворялся пьяным. Когда достиг места, где начинались катакомбы, почувствовал крайнюю усталость и голод. Он опустился на землю и несколько минут лежал недвижимо, глядя на мерцающие над головой звезды и чутко прислушиваясь к шорохам вокруг. Было тихо, и ночь, казалось, не таила опасности. Он с трудом поднялся и шагнул в темноту. Холм справа закрывал полнеба. Едва он достиг его подножья, как чей-то голос окликнул его шепотом:
— Эй!
Он успел только повернуться на звук, как несколько рук крепко схватили его и повалили на землю.
— Этот из них! — сказал над ним дребезжащий мужской голос, и тут же чье-то колено больно вдавилось в его спину.
— Подожди! — Другой голос с властными нотками остановил первого и, обращаясь к Симону, спросил: — Ты кто?
— Симон,— сдавленно выговорил лежащий и добавил уже не без гнева: — Симон из Эдессы.
— Симон? — переспросил властный голос, и Симон только теперь узнал его — он принадлежал Иосифу, одному из близких к учителю Павлу людей.
— Это ты, Иосиф? — Симон сделал попытку пошевелиться.— Скажи им...
Не успел он договорить, как Иосиф сурово бросил в темноту:
— Отпустите его, это Симон. Мы не ждали тебя так рано,«- объяснил он, обнимая его за плечи.— Пойдем, пойдем, учитель уже несколько раз спрашивал о тебе.
Симон последовал за Иосифом, остальные словно растворились в темноте.
— Пригнись, здесь низко,— предупредил Иосиф, нащупав руку Симона.
Они вошли в узкий туннель, от стен пахло сыростью, земля была усыпана мелкими обломками камней, скрипевших под ногами. Вскоре они увидели свет. Иосиф пропустил Симона вперед:
— Он там. Он ждет тебя.
Пройдя еще несколько шагов, Симон оказался в пещере. Свет факела, воткнутого в стену, освещал сидевшего в углу на камне человека. Другой камень служил ему столом, на его широкой поверхности лежало несколько свитков и принадлежности для письма. Человек был одет в темный плащ и сйдел неподвижно, низко опустив голову. Услышав шаги Симона, он медленно распрямился, спросил, напряженно вглядываясь:
— Иосиф?
— Нет, учитель,— ответил Симон чуть прерывающимся от волнения голосом,— Это я, Симон, Симон из Эдессы. Я только что приехал, и мне сказали...
— Я ждал тебя,— перебил его Павел.— У нас совсем мало времени, садись и рассказывай.— И он указал куда-то вправо.
Симон не увидел, на что он мог сесть, и, подойдя к указанному Павлом месту, опустился прямо на землю, обхватив колени руками.
— Рассказывай,— повторил Павел, пристально на него глядя.— Говори тихо, нас никто не должен слышать.
Учитель не любил долгих предисловий и несущественных подробностей, и Симон, зная это, сразу же стал говорить о последней встрече с Никием по дороге в Рим.
Когда он закончил, Павел без паузы спросил:
— Значит, он уверен, что его представят Нерону?
— Он сказал, что совершенно в этом уверен,— горячо прошептал Симон, словно представление Нерону было собственной его заслугой.— Этот Сенека, он разговаривал с одним актером по имени Салюстий, который...
— Знаю,— остановил его Павел.— Это не важно. Слушай меня внимательно: тебе нужно ехать в Рим.
— В Рим? — невольно воскликнул Симон.— Но я же...
— В Рим,— повторил Павел сурово, и Симон быстро и послушно кивнул.— Ты найдешь Никия и передашь ему то, что я тебе скажу,— продолжал Павел.— Ты должен точно понять то, что я скажу, и правильно передать мои слова Никию. Это очень важно, не удивляйся. Если ты что-нибудь не поймешь, спроси, я объясню. Но знать об этом должны только двое и больше никто, ни единый человек, ни здесь, ни в Риме. Ты понял меня? — Симон кивнул.— Ты хорошо меня понял?
— Да, учитель,— убежденно ответил Симон.
— Хорошо,— медленно произнес Павел.— Я всегда доверял тебе, Симон, и ты ни разу не подвел меня. Не подведи и теперь, от этого многое зависит. Очень многое, тебе надо это себе уяснить.
— Я понял, учитель.
— Тогда слушай. Завтра же утром я выйду к римлянам, и, думаю, они уже не выпустят меня.— Он движением головы остановил протесты Симона и продолжил: — У меня больше не будет возможности пообщаться с Никием — ты заменишь меня. Я послал Никия в Рим, чтобы он остался при Нероне и прекратил жизнь этого чудовища, когда других средств остановить его злодеяния уже не найдется. Но обстоятельства изменились, и Никий больше не должен посягать на жизнь императора Рима, напротив, ему надо всячески оберегать ее — как если бы он оберегал мою жизнь.
Лицо Симона вытянулось от удивления, он смотрел на Павла широко раскрытыми глазами.
— Он должен оберегать жизнь Нерона так же, как оберегал бы мою,— повторил Павел и, чуть подавшись вперед, спросил: — Тебе что-нибудь не понятно, Симон?
— Мне? — И Симон, растерявшись, утвердительно кивнул.— Да... Я не знаю, учитель.
Последнее он произнес уже откровенно жалобно. Павел неожиданно улыбнулся. Правда, его улыбка, особенно в колеблющемся свете факела, показалась Симону странной: она одинаково могла означать и сочувствие, и насмешку. Симон не понял того, что сказал учитель, он не понимал, почему Никий должен оберегать жизнь Нерона. И разве можно сравнивать это чудовище с их любимым учителем? Если бы ему кто-либо сказал такое, он бы знал, что ответить, и говорившему пришлось бы горько пожалеть о своих словах.
Но сейчас Симон растерялся. Он не книжник, хотя умеет читать и писать,— может быть, учитель имел в виду что-нибудь другое, и слова его нужно воспринимать как притчу? Среди их братьев есть книжники, и, наверное, они лучше поймут учителя.
— Я сказал то, что сказал,— проговорил Павел, продолжая улыбаться, и, словно прочитав мысли Симона, пояснил: — Нерон — чудовище, он погубил столько наших братьев и, наверное, погубит еще многих. Чудовище должно быть предано смерти, хотя наш Учитель заповедовал «не убий». Но он сказал и другое: «Не мир Я принес вам, но меч». Пойми, Симон, сейчас дело не в Нероне — он лишь орудие дьявола,— а в том, что на смену старому миру приходит новый. На смену миру, где есть рабы и господа, где каждый подобен волку в стае волков, где человек погряз в своеволии и разврате,— на смену этому страшному миру приходит наш, где нет господ и рабов, где человек брат человеку, где нет своеволия, а есть исполнение заповедей Господа нашего Иисуса. Это ты понимаешь, Симон?
— Да, учитель,— горячо отозвался Симон,— я понимаю это.
— Тогда слушай дальше и попытайся понять меня. Наш мир, мир Иисуса, победит этот страшный мир, в том не может быть никаких сомнений. Но старый мир еще силен, а нас еще не так много, и мы не можем победить его силой оружия... Ты что-то хочешь сказать? — внимательно вглядевшись в лицо Симона, остановился Павел.— Говори.
— Но ты всегда учил,— осторожно выговорил Симон,— что мы победим верой.
— Мы и победим верой,— сказал Павел, уверенно кивнув.— Но надо сделать так, чтобы старый мир уничтожил сам себя, и как можно скорее. Такие, как Нерон, уничтожат его быстрее, чем десять тысяч воинов. Его мерзкая жизнь нужна нам для этого, и мы будем оберегать ее. Он расправляется с лучшими, оставляя возле себя таких же, как он сам, и они помогают ему уничтожать их мир, потому что они способны лишь на уничтожение. Такие, как Анней Сенека (я посылаю тебя к нему),— лучшие этого страшного мира. Если таких, как он, будет много, то их мир может продержаться еще очень долго, а значит, погибнут сотни или даже тысячи наших братьев. Если ж их будет мало или не будет совсем, то Нерон и такие, как он, быстро уничтожат все своим развратом, своей алчностью, своим безумием, потому что всякий, предающийся порокам, безумец. Пойми, Симон, в тех обстоятельствах, в которых мы живем, все лучшие — наши враги. Такие, как Сенека, замедляют разрушение старого мира, а такие, как Нерон, убыстряют его. Пусть Никий бережет Нерона и не бережет таких, как Сенека. Чем быстрее Нерон уничтожит лучших, тем быстрее разрушится их мир. Ты понял меня, Симон?
Симон только кивнул, он не мог говорить. Он понял слова учителя и теперь знал, как уничтожить этот мир. Их учитель велик — никто из живущих на земле не сказал бы ему такого. Он смотрел на Павла, как на Бога, не боясь богохульства.
— Ты понял меня, Симон? — повторил Павел, и Симон все-таки ответил:
— Да.
— И ты сможешь передать это Никию?
— Да, учитель, смогу,— уверенно сказал Симон.
— Скажи ему еще, чтобы он не останавливался ни перед чем и не жалел никого. Пусть он будет орудием разрушения, я благословляю его на это. Поезжай в Рим теперь же и живи рядом с Никием, помогай ему во всем и слушайся его так же, как ты слушаешься меня. Он значительно моложе тебя, но я велю подчиняться ему беспрекословно. Ты сделаешь так, как я велю?
— Сделаю, учитель.
— Хорошо.— Павел прижался к стене, откинул голову и закрыл глаза.
Некоторое время он сидел так, казалось погрузившись в раздумья. Симон затаил дыхание, боясь потревожить учителя. В наступившей тишине слышалось лишь слабое потрескивание факела.
Наконец Павел открыл глаза, посмотрел на Симона невидящим взором и, лишь несколько мгновений спустя произнес:
— А-а, это ты?
Симону так хотелось спросить учителя, почему же он оставляет всех их и сдается римлянам и как их братья — и здесь, и в Риме, и в Эдессе, и во всем мире тоже — как их братья будут без него. Ему хотелось спросить, но он не посмел. Между тем Павел произнес, как-то особенно пристально на него глядя:
— Я уйду, и меня долго не будет с вами. Может быть, не будет уже никогда.
— О учитель!..— не в силах сдерживать свои чувства, вскричал Симон.
— Не будет уже никогда,— твердо повторил учитель.— Не возражай, Симон, у нас уже нет времени. Слушай меня внимательно. Ты знаешь, что Петр и Иаков великие учителя.— Он дождался, пока Симон кивнул, и продолжил: — Они великие учителя, и никто не посмеет оспаривать это. Но помни, если, когда меня не будет с вами, кто-нибудь придет к тебе от них и спро-сит о Никии, или спросит о том, о чем я тебе сейчас сказал, ты...— он сделал паузу, подняв правую руку вверх,— ты не должен ни о чем говорить. Повторяю, Петр и Иаков великие учителя, но ты не расскажешь им о Никии — ни им, ни посланным от них,— не расскажешь ни о Никии, ни о нашем с тобой разговоре. Ты понял меня, Симон?
Симон смотрел на учителя со страхом, он ничего не понимал. Петр и Иаков тоже были великими учителями, и они видели самого Иисуса. Как же можно скрыть что-либо от учителя, который видел Иисуса?
— Ты сомневаешься, Симон?
— Нет, нет, но я...— горячо начал было он, но, сбившись, едва слышно досказал:— ...но я не понимаю.
— Это тебе не нужно понимать,— жестко, почти с угрозой выговорил Павел, сердито глядя на Симона.— Сделай так, как я сказал. Ты сделаешь?
— Да, учитель,— не в силах побороть нахлынувшего на него страха, кивнул Симон.
— Тогда иди и будь тверд. Прощай, Симон, я буду молиться за тебя!
И Павел опустил голову и прикрыл лицо ладонями. Симон подождал немного, думая, не скажет ли учитель еще что-то, но учитель словно забыл о нем.
Симон поднялся и, нетвердо ступая затекшими от долгого сидения в неудобной позе ногами, покинул пещеру.
У выхода его окликнул Иосиф.
— Не возвращайся за лошадью, это опасно. Я приготовил для тебя другую. Ты найдешь там все, что тебе понадобится в пути. Иди, он проводит тебя.— И Иосиф указал в темноту.
Симон не видел своего провожатого, а лишь слышал звук его осторожных шагов впереди. Они шли долго. Провожатый оставил Симона в роще на другом конце города, знаком приказав ждать, а сам ушел.
Симон чувствовал какое-то странное расслабление, все происшедшее — пещера, Иосиф, разговор с учите-лем — сейчас казалось ему сном. В голове он чувствовал тяжесть, а в ушах звон. Он сел на землю, прислонился к дереву и неожиданно, едва ли не в первую же минуту, заснул.
Его разбудил странный звук, он вскрикнул в страхе, увидев, как на него надвигается что-то огромное. Вскрикнул, и в то же мгновенье чья-то рука тронула его за плечо. Скользя ногами по земле, он вскочил и тут же услышал рядом с собой лошадиный топот и фырканье.
— Это ты? — сказал он, почувствовав человека рядом.
Его провожатый сунул ему в руку поводья и сейчас же исчез в темноте. Ни слова, ни звука, лишь треснула ветка под ногой, но уже вдалеке. Симон ощупал лошадь, к седлу были привязаны две туго набитые кожаные сумки. Лошадь нетерпеливо перебирала ногами.
Когда Симон вышел из рощи, на небе уже погасли звезды. Спящий город в белесой дымке утра лежал перед ним. Он постоял так некоторое время, глядя на неясные очертания домов, потом вскочил в седло и направил лошадь в противоположную от города сторону.
Глава шестнадцатая
Когда Никий и Салюстий подошли ко входу в покои императора, последний оглянулся и посмотрел на Никия страшными глазами.
— Ты что, Салюстий? — произнес Никий с усмешкой, но взгляд его остался напряженным.
Салюстий не ответил, только вздохнул и дрожащей рукой взялся за ручку двери.
Никий испытывал настоящий страх и не умел побороть его. Когда Салюстий сказал, что Нерон хочет его видеть и что он проводит его к императору, Никий не чувствовал ничего, кроме любопытства. Павел предупреждал его еще в Фарсале, что ему надо будет побороть свой страх перед властителем Рима и что следует приготовиться к этой борьбе. Никий ответил, что готов, и не понимал беспокойства учителя на этот счет. Нерон представлялся ему ничтожеством (разговоры об этом среди братьев возымели свое действие), а то, что его называли чудовищем, казалось ему вторичным, скорее образом, чем сутью. Но сейчас, когда они вошли во дворец, когда он увидел рослых преторианцев с каменными лицами и роскошь жилища императора — массивность уходящих вверх мраморных колонн, величие фресок на стенах, ощутил гулкость шагов в пространствах залов,— он вдруг испугался, почувствовал себя маленьким, ничтожным, неизвестно почему оказавшимся здесь. Страх уже не отпускал его, хотелось бежать отсюда, и он несколько раз порывался просить шедшего впереди Салюстия вернуться, а один раз едва не отстал, оставшись за колонной и не имея сил двигаться дальше.
Вот оно, страшное величие Рима — Никий понял, оно сосредоточено именно здесь. Разве может что-либо противостоять этому! Он вспомнил учителя и братьев. Он любил учителя больше жизни, знал, что тот обладает истиной, никогда не сомневался во всепобеждающей силе их веры, но сейчас... со страхом оглядываясь кругом, он не мог представить себе, что все это можно победить. Разве убогая комнатка в Фарсале, где он в последний раз разговаривал с учителем, может сравниться с этим дворцом, в котором даже воздух кажется высеченным из мрамора?
— Иди же, что с тобой? — тревожно прозвучал голос Салюстия у самого его уха.
Он очнулся, увидел перед собой открытую дверь и, не чувствуя ног, подгоняемый толчком Салюстия в спину, переступил порог.
У противоположной стены в кресле сидел человек. Полный, с чуть одутловатым лицом и брезгливым изгибом губ. Он с прищуром смотрел на Никия.
— Подойди! — сдавленно прошептал Салюстий, а сидевший в кресле человек поманил его ленивым движением руки и произнес по-гречески:
— Подойди сюда, не бойся. Это и есть твой врач? — Нерон глянул за спину Никия.— Он не кажется мне смелым.
— Его зовут Никий, Император,— быстро проговорил Салюстий и снова толкнул Никия в бок,— Поклонись!
Никий склонился перед императором, глядя на его ноги в сандалиях с выпирающим большим пальцем, и ему показалось, что он уже не сумеет разогнуться.
— Иди, Салюстий, ты мне сегодня не нужен,— сказал Нерон, и Никий услышал за спиной удаляющиеся шаги.
Он заставил-таки себя распрямиться и теперь смотрел на императора, не в силах отвести взгляд.
Нерон усмехнулся, снова спросил по-гречески:
— Тебя зовут Никий? Никий из Александрии?
— Да, император,— выдавил Никий и снова склонился перед Нероном.
— Салюстий говорил мне, ты великий врач,— продолжил Нерон,— но мне кажется, ты еще слишком молод, чтобы называться великим. Ты полагаешь, что я не прав?
— Нет... да... Я не знаю, император,— с трудом выговорил Никий.
— Тогда скажи: кто научил тебя лечить грудь тухлыми перепелиными яйцами и, кажется... кажется, ослиным молоком? Это так, я не ошибаюсь? Странное лекарство, словно насмешка. Что ты ответишь на это? Говори, не бойся.
— Я изучал медицину в Александрии, моем родном городе,— уже смелее произнес Никий.— Там несколько хороших врачей, но я учился у Децима Планта. Он считался известным у нас врачом и умер в прошлом году.
— Децим Плант,— повторил Нерон и помедлил, словно пытаясь припомнить.— Не знаю такого имени. И что, он восстанавливал утерянный голос?
— Да, император. Все актеры Александрии лечились у него.
— Это интересно,— проговорил Нерон, внимательно вглядываясь в лицо Никия.— Но о лечении ты мне расскажешь потом. Скажи мне вот что: для чего ты приехал в Рим? Не поверю, что тебя вызвал Салюстий. Не поверю, чтобы ты, столь красивый молодой человек из хорошей, как мне говорили, семьи... Ведь отец твой был претором в Александрии? — Никий почтительно кивнул.— Так вот,— продолжал Нерон,— не поверю, чтобы ты бросился на зов этого жалкого фигляра Салюстия. Может быть, у тебя есть какая-нибудь другая причина? Может быть, тебя кто-то послал сюда? — Последнее Нерон выговорил едва ли не с угрозой, чуть подавшись вперед и склонив голову набок.— Говори правду, Никий, потому что я умею читать мысли,— добавил он.
— Тебя...— выговорил Никий.—Я хотел видеть тебя.
— Меня? — переспросил Нерон и выпятил нижнюю губу.— И для чего же ты хотел меня видеть?
— Я думал, что смогу понравиться тебе, император. И тогда...— Он замялся, чуть дернув плечами.
— И тогда...— повторил за ним Нерон, поощрительно кивнув.— Договаривай.
— И тогда ты оставишь меня при себе, и я уже не буду жить в провинции.
Нерон удивленно поднял брови и, откинувшись на спинку кресла, оглядел Никия с ног до головы. :
— Оставлю тебя при себе? — медленно проговорил он и похлопал ладонью по подлокотнику.— Почему ты думал, что я оставлю тебя при себе?
— Потому что я люблю тебя,— выпалил Никий и покраснел.
— Любишь? Меня? — Нерон ткнул пальцем в сторону Никия, потом прикоснулся кончиком пальца к своей груди.— Как своего императора, я полагаю?
— Нет.— Твердо и убежденно выговорил Никий.
Нерон смотрел на него едва ли не со страхом, как на сумасшедшего, он даже еще больше вдавился в кресло и поджал ноги.
— Ты сказал, что любишь меня не как императора,— произнес Нерон не очень решительно.— Но ты понимаешь, что это даже не смелость. То, что ты сказал, есть безумие. Никто в империи не посмеет сказать такое, тем более мне самому.
— Прости, если я сказал лишнее,— отвечал Никий так же твердо и уже без малейшей тени стеснения или опаски,— но я всего лишь провинциал и плохо знаю правила придворного этикета..,
— Хорошо, хорошо,— перебил его Нерон и указал на кресло (но Никий остался стоять),— все говорят, когда это им нужно, что не знают Придворных правил. Вы, провинциалы, хитрее, чем представляетесь. Скажи мне прямо: как же ты полюбил меня, ни разу не видя?
— Я видел тебя в Неаполе, император, когда ты выступал там на сцене, а до этого я видел твои изображения.
— И ты влюбился в мои изображения? — недоверчиво хмыкнул Нерон.
— Да,— просто кивнул Никий,— это так.
— Ты не похож на идиота, Никий, а разговариваешь, как идиот,— заметил Нерон.— Мне кажется, ты притворяешься или хитришь. Скажи, может быть, тебя все-таки подослали? Чтобы убить меня, например. Ведь я знаю, обо мне говорят как о чудовище.
Говоря это, Нерон пристально вглядывался в лицо Никия, отыскивая в нем следы неуверенности или страха. Но лицо молодого человека было спокойным, едва заметная улыбка блуждала на его губах. Он даже слегка кивал в тают словам императора, как будто соглашаясь с ними.
— Я не доверяю людям, которых не знаю и которые попали ко мне вот так вот, случайно.— Лицо Нерона делалось все жестче и жестче.— Ты провинциал и можешь не знать, что здесь, в Риме, при дворе императора, используют множество способов, чтобы проверить человека и заставить его открыть правду. Скажу тебе по секрету, иногда мне доставляет удовольствие быть чудовищем. Так ты скажешь мне правду? Ну, говори.
— Я уже сказал ее,— пожал плечами Никий.— Правда в том, что я люблю тебя.
— Ты любишь мужчин? — поинтересовался Нерон, лукаво приподняв брови, одну выше другой.
— Нет, если ты спрашиваешь о плотской любви. Я, правда, любил отца, но не так сильно, как тебя. К тому же, он рано умер, я был еще мальчиком и не умел чувствовать так, как теперь.
Некоторое время Нерон молчал, погрузившись в раздумья. Время от времени он поднимал на стоявшего перед ним Никия блуждающий взгляд, хмурился собственным мыслям, шевелил губами, то ли произнося что-то беззвучно, то ли силясь произнести.
Никий смотрел на Нерона, сейчас не чувствуя ни страха, ни смущения. Он и сам не мог понять, вследствие чего произошла с ним такая перемена,— а ведь только что, лишь вступив во дворец, он в страхе хотел бежать отсюда. Но самым странным было не это, а то, что Нерон нравился ему и, когда он говорил, что любит его, он почти не лгал. Он знал, что император Рима — чудовище, но, стоя перед ним и глядя в его лицо, не чувствовал этого. Император показался ему одиноким и несчастным, и, пока Нерон молчал, Никий думал о том, что ему хочется стать другом императора.
Нерон, словно угадав его мысли, сказал:
— Знаешь, Никий, я хочу, чтобы ты стал мне другом. Ты понимаешь, почему я так говорю?
И Никий ответил:
— Да.
Нерон даже не пытался скрыть удивления.
— Почему же? — выговорил он едва ли не с трепетом, будто в ответе Никия мог содержаться приговор.
— Потому что ты одинок,— просто ответил Никий.— Несчастен и одинок.
— Со мной никто так не говорил;— сказал Нерон.— Даже когда я был ребенком. Даже моя мать.
Никий улыбнулся, просто и открыто:
— Но ты не знал меня, когда был ребенком. Если бы знал, то услышал это тогда же.
Нерон опустил взгляд и, нетерпеливо помахав рукой, пробормотал в смятении:
— Иди, иди... я решу потом... сейчас не знаю...
Никий низко поклонился императору и пошел к двери. Но он не успел сделать и двух шагов, как Нерон приказал ему:
— Стой.— И когда Никий хотел повернуться, добавил отрывисто: — Не оборачивайся.
Никий замер, чувствуя спиной пристальный взгляд императора.
— Ты будешь жить здесь,— глухо сказал Нерон.— Я распоряжусь.
Он замолчал, и Никий не мог решить — уходить ему или оставаться на месте. Он остался стоять и услышал, как Нерон выговорил, словно бы про себя:
— Так встречаешься с собственной смертью.
Никий не мог вспомнить, как он оказался за дверью,— словно бы он не вышел, а его вынесла оттуда страшная неведомая сила. Он огляделся — неподвижные взгляды стоявших на часах у дверей преторианцев, казалось, сгущали воздух дворца. Он взялся обеими руками за горло, словно ему трудно стало дышать, и, пошатываясь, пошел прочь.
Уже на лестнице его догнал центурион гвардейцев и знаком попросил вернуться. Провел его по галереям и залам, потом, толкнув одну из дверей, сказал:
— Здесь.
Глядя вослед удаляющемуся тяжелым шагом центуриону, Никий подумал, что самостоятельно никогда не сможет найти выход из дворца.
Часть вторая.
РИМСКИЙ МЕЧ
Глава первая
Симон из Эдессы чувствовал себя скверно с самого утра. С трудом разлепил глаза, ощущая тяжесть в груди и нехороший вкус во рту. Только поднялся, пришла хозяйка дома, где он жил, и стала просить деньги, которые он ей задолжал за квартиру. Отсчитав несколько монет, он сказал, что остальное постарается отдать через несколько дней — сейчас торговля идет плохо, но ему обещали привезти хороший товар. Хозяйка, недоверчиво на него глядя, спросила: «Когда обещали?» Он ответил, что должны были привезти еще вчера, но, по-видимому, задержались в пути — дороги сейчас небезопасны.
Сказав, что это в последний раз и что она не собирается держать его даром, хозяйка наконец ушла. Только Симон пришел в свою лавку, состоявшую из навеса и стола, и разложил товар, как какой-то болван задел стол повозкой и едва его не опрокинул. А потом еще ругался отчаянно, будто Симон сам виноват, кричал разные поносные слова и, обращаясь к собравшейся толпе и указывая на Симона грязным пальцем, призывал выгнать всех этих пришельцев из Рима — от них, мол, всякая зараза и беды. Симон был рад, когда он убрался, и уже не думал о возмещении убытков.
Вообще-то Симон чувствовал себя в Риме неуютно и скучал по жизни в Фарсале. Здесь он был чужаком, и последний плебей в ветхой и грязной тунике смотрел на него косок Он скучал по братьям и особенно по Павлу. Христианская община в Риме была, но очень маленькая и слишком тайная, Симон не искал с ее членами встречи — так наказал учитель. Изо дня в день он занимался мелочной торговлей, а в свободное время не знал, куда себя деть.
Когда он возвратился сюда во второй раз после разговора с учителем Павлом, он думал, что будет часто видеться и говорить с Никием. Правда, ни он, ни Никий не испытывали друг к другу особой приязни: Никий всегда смотрел на Симона свысока, а Симон считал его выскочкой и не очень доверял. Но учитель любил Никия, и Симону пришлось с этим считаться, потому что сам он, не имевший ни семьи, ни родных, больше всего на свете любил Павла. Ради него он готов был полюбить и Никия и, возвращаясь в Рим, старался думать о нем хорошо. Кроме того, это был единственный человек, с которым он мог бы общаться, говорить об учителе и братьях.
Но Никия ему удалось увидеть всего только раз, еще тогда, когда тот жил у Салюстия. Симон пересказал Никию разговор с учителем Павлом, стараясь передать всю важность его слов, говорил об ответственности, которую последний возлагал на Никия.
Никий молча выслушал, не задал ни одного вопроса. Когда Симон закончил, он только кивнул и, не попрощавшись, быстро ушел. Симон был обижен и обескуражен. Нет, сам он готов был стерпеть что угодно. Ему обидно стало, что Никий не задал ни одного вопроса об учителе: не спросил о его здоровье, не сделал испуганного лица, когда Симон сказал, что учитель решил сдаться римлянам. А обескуражен он оказался потому, что не был уверен: правильно понял Никий его слова или нет. У Никия был такой вид, словно он все хорошо знает и слова учителя к этому знанию ничего добавить не могут. Слушал он лениво, даже сонно, не поинтересовался, где будет жить Симон и на что. Да и вообще он показался Симону каким-то чужим.
Симон, промучившись несколько дней, снова отправился к Никию, но из осторожных расспросов слуг Салюстия (им он сказал, что они с Никием земляки и родные просили его справиться о здоровье молодого человека) узнал, что Никий живет теперь во дворце императора и император якобы очень к нему благоволит. Симону в это верилось плохо — все это не могло произойти за столь короткий срок,— но делать было нечего, и, пошатавшись около дворца до самого вечера, он вернулся к себе. Еще несколько дней Симон ходил ко дворцу в надежде увидеть Никия, но, когда заметил, что стража приглядывается к нему более внимательно, ходить перестал.
В первое время он все думал, что ему надо вернуться в Фарсал — здесь, в Риме, делать стало нечего,— но, боясь нарушить приказ учителя Павла, лишь тяжело вздыхал и с неприязнью, даже злобой, думал о Никии.
Однажды он встретил купца, бывшего проездом в Фарсале. Тот рассказал Симону, что римляне жестоко расправились с общиной назареев — иные погибли, кто-то бежал,— а учителя Павла заточили в темницу и строго охраняют. Купец еще говорил, что назареи самые вредные люди на свете и что император, преследуя их, поступает очень правильно. Он только посетовал, что расправляются с ними недостаточно жестоко, по его мнению, их всех, от мала до велика, нужно уничтожать, как заразу. Симону стоило большого труда сдержаться и не выдать себя. Более того, он оказался вынужденным утвердительно кивать, словно соглашался с купцом.
Сначала он твердо решил ехать в Фарсал и попытаться освободить учителя Павла — он был отважен и хорошо знал воинскую науку. Потом, поостыв, стал думать, что не имеет права нарушать наказ учителя. Кроме того, освободить Павла из темницы было делом почти невозможным. Скрепя сердце Симон заставил себя остаться в Риме и терпеть столько, сколько понадобится, тем более что учитель всегда говорил: терпение есть самая главная, после веры, доблесть христианина.
...В тот день, ближе к вечеру, Симон почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. В нескольких шагах от него, прислонившись к стене дома, стоял человек: мужчина лет пятидесяти с всклокоченной бородой и шапкой черных с проседью волос. Одет он был неряшливо и бедно, и по его одежде, по запыленным и ветхим сандалиям стало ясно, что он проделал далекий путь. К тому же скорее всего пешком. Человек смотрел на Симона горящим взглядом своих глубоко посаженных глаз. Симон почувствовал себя неуютно, отвернулся, делая вид, что занят делом и не замечает смотрящего на него незнакомца. Когда некоторое время спустя он взглянул опять, незнакомец стоял на прежнем месте, словно врос в стену, и смотрел так же пристально.
Дорога к дому, где жил Симон, вела через пустырь. Сначала он подумал было, что сегодня лучше пойти другой дорогой, по городу, но устыдился своей осторожности и пошел обычным путем. Когда он вышел на пустырь, уже смеркалось. Незаметно посмотрев назад, он увидел того самого незнакомца, идущего за ним. Симон, взявшись за рукоятку длинного ножа, который всегда носил под одеждой, ускорил шаг. Идущий за ним тоже пошел быстрее. Симон заставил себя не бежать и, сделав несколько шагов в сторону, остановился, и повернулся к преследователю лицом. Тот не замедлил шага, будто шел не за Симоном, а своим путем. Когда он подошел достаточно близко, Симон окликнул его:
— Берегись, если у тебя дурные мысли, у меня оружие!
Но преследователь, словно не услышав, продолжал идти. Он остановился только в двух шагах от Симона (да, это был тот самый, с глубоко посаженными глазами и всклокоченной бородой) и внимательно, с ног до головы его осмотрел.
— Что тебе нужно? — крикнул Симон и вытянул нож до половины лезвия.
— Ты,— глядя на него исподлобья, сказал человек и добавил хрипло: — Не кричи, тебя могут услышать.
— Что тебе нужно? — снова спросил Симон и сжал нож с такой силой, что у него заломило пальцы.
— Я же сказал — ты,— отвечал тот.— Ведь это ты Симон из Эдессы?
Симон промолчал, лишь повел рукояткой ножа из стороны в сторону.
— Убери нож,— сказал мужчина голосом, привыкшим повелевать.
Как это ни странно, но Симон не сумел ослушаться и спрятал нож.
— Я знаю, кто ты и зачем приехал в Рим,— продолжал мужчина тем же повелительным тоном и вдруг спросил: — Что тебе сказал Павел во время вашей последней встречи в Фарсале?
— Кто ты такой? — пересилив себя, в свою очередь спросил Симон, но голос его был не тверд.— Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Ты меня путаешь с кем-то.
— Мое имя Онисим,— представился мужчина.— Я приехал из Коринфа. Меня прислал учитель Петр. У тебя есть еще вопросы?
Симон отрицательно помотал головой, но так слабо, что мужчина вряд ли мог это заметить. Впрочем, отношение Симона к его словам, кажется, совсем не интересовало этого человека.
— Я проделал долгий путь,— продолжал он, указывая куда-то назад,— устал и голоден. Мне нужен отдых и кров, я остановлюсь у тебя. Пошли.
— Но...— возразил было Симон, однако мужчина, не слушая его, повернулся и пошел прочь. Симон, вздохнув, побрел за ним.
Так они и шли — мужчина двигался впереди не оглядываясь, как будто ему было все равно, идет за ним Симон или нет, а Симон в нескольких шагах сзади. Возле дома, где жил Симон, мужчина остановился и пропустил того вперед. Симон, и сам не понимая, почему подчиняется незнакомцу, послушно вошел внутрь.
Тот молча умылся и молча поел. Потом сел на пол у окна, вытянув ноги. Слабый огонь светильника не освещал его глубоко посаженных глаз, и Симон видел на лице гостя только два черных провала.
— Ты неплохо устроился в Риме,— проговорил мужчина после продолжительного молчания, когда Симону стало казаться, что тот незаметно уснул.— Не жалеешь масла,— он кивнул в сторону светильника.— Большинство наших братьев в провинции не имеют такого. Это те, кто остался жив, а тебе известно, сколько их погибло по воле проклятого Нерона?
Последнее он выговорил так, будто Симон был в этом виноват. Но Симон промолчал, только едва слышно вздохнул.
— А ты знаешь, сколько еще может погибнуть? — не возвышая голоса, но так, словно он его возвысил, продолжил мужчина.— Римляне не успокоятся, пока не истребят всех. Разве не так? Отвечай!
— Я не знаю,— с трудом выговорил Симон.
Тот, кто назвал себя Онисимом, недобро усмехнулся:
— Может быть, ты не хочешь знать?! Может быть, тебя не заботит судьба твоих братьев?! Ты отсиживаешься в Риме, ешь и пьешь вдоволь, купаешься в роскоши,— он опять показал на светильник,— и ни о чем не хочешь думать. Так? Я правильно говорю?
— Я... я...— с обидой в голосе начал было Симон, но Онисим не дал ему говорить.
— Такие, как ты, не нужны Богу,— пророкотал он.— Такие, как ты, хуже римлян.
Симону хотелось возразить, но он не мог решиться. Этот человек подавлял его. Его голосом говорила власть. И, несмотря на всю несправедливость обвинений гостя, Симон вдруг и в самом деле почувствовал себя виноватым. Он даже не посмел спросить, откуда этот человек знает его, откуда ему известно, что он разговаривал в Фарсале с учителем. Он не удивился бы, перескажи этот Онисим весь их разговор.
— Тебе, конечно, известно, что Павел в тюрьме,— после молчания проговорил Онисим, и голос его зазвучал сейчас чуть мягче.— Мы считали его учителем, хотя и не таким великим, как Петр и Иаков: ты же знаешь, они видели Иисуса, а он нет. Кроме того, он часто проявлял слабость, и его ученость вредила ему. Бог требует веры, а не учености. Вера проста, хотя дается нелегко, а ученость делает ее сложной и многим непонятной. Ученость только обволакивает веру умными словами и заменяет собой суть самой веры. Простому человеку это непонятно, простой человек начинает видеть в таком учителе господина, а не брата, а Иисус учил, что не должно быть ни рабов, ни господ. Учитель Петр и учитель Иаков много раз говорили об этом Павлу, но он не хотел внимать их советам — ученость мешала ему. Повторяю еще раз: ученый не может быть братом простому человеку, потому что ученость есть привилегия господ. Ты согласен с этим? Отвечай!
Симон не знал, что ответить: и слова, и тон Они-сима обижали его и совсем ему не нравились. Ему не нравилось, что Онисим говорит об учителе в прошедшем времени, будто тот умер. Ему не нравилось, что он называет учителя господином. Павел — великий учитель, а не господин, и его ученость тут ни при чем. Симон слышал, что Петр и Иаков в чем-то не согласны с учителем, но никогда не вникал в суть этих разногласий. Он маленький человек, и его это не касается. Он знал одно — Павел великий учитель и он, Симон, любит его больше жизни.
— Отвечай же! — повторил Онисим повелительно.— Ты согласен?
И Симон предал учителя, он сказал:
— Да.
Ему показалось, что Онисим улыбнулся — в черных провалах глаз блеснул огонь.
— Сам учитель Петр послал меня к тебе,— сказал он.— Он хочет говорить с тобой о Никии, одном из учеников Павла.
Симон вздрогнул, хотя вполне ожидал, что разговор не минет Никия.
— Что хочет от меня учитель Петр? — Симон сам удивился той твердости, с которой он это произнес.
Снова глаза Онисима блеснули:
— Если наши сведения верны, этот Никий находится сейчас у императора Нерона. Это так, скажи мне?
Симон не ответил, и Онисим в этот раз не стал настаивать. Он сказал:
— Ты знаешь, сколько злодеяний совершил в отношении наших братьев Нерон, и ты должен понимать, сколько он еще совершит. Со времени Ирода Великого народ не знал такого чудовища. Или ты думаешь иначе?
— Что хочет от меня учитель Петр? — снова спросил он вместо ответа.
Онисим недовольно помолчал, потом сказал, понизив голос:
— Никий должен убить Нерона, и ты передашь ему
это.
— Так хочешь ты? — Симон почувствовал, что страх перед гостем проходит.
— Так хочет учитель Петр,— хрипло выговорил Онисим.— Так хочет учитель Иаков. Так хочет Бог.
«Это ты думаешь, что так хочет Бог»,— хотелось сказать Симону, но он промолчал.
— Ты понял мои слова? — спросил Онисим, и в голосе его была теперь нескрываемая угроза.
— Я понял тебя,— кивнул Симон, улыбнувшись одними губами (при неярком свете в комнате гость вряд ли мог это заметить).
— Значит, ты сделаешь то, что хочет учитель Петр и учитель Иаков? — Гость спрашивал с какою-то особенной строгостью и, подавшись вперед, внимательно посмотрел в лицо Симона,
— Я не знаю,— ответил Симон, в этот раз прямо глядя в глаза гостю.— Я не могу увидеть Никия.
— Что значит, не можешь?
— Это значит, что меня не пускают во дворец, а он живет там.
— Но он не может находиться там все время, когда-то же он должен выходить.
— Я не знаю, когда он выходит,— чуть раздраженно проговорил Симон,— преторианская стража не докладывает мне об этом. И если даже я смогу его увидеть, то только издалека. Или ты полагаешь, я прокричу Никию, что он должен убить императора? Ты, наверное, не жил в Риме и не понимаешь...
— Я все понял,— резко перебил его Онисим,— ты отказываешься сделать то, что приказывает тебе учитель Петр.
— Я не отказываюсь, я не могу.
— Я тебе не верю, ты лжешь!
— Ты можешь не верить мне, но это правда,— в тон Онисиму жестко выговорил Симон.
Онисим вздохнул и встал.
— Берегись, Симон из Эдессы,— сказал он, подойдя к двери и глядя на Симона сверху вниз,— ты знаешь, как мы поступаем с отступниками.
— Ты угрожаешь мне? — Симон встал.
— Я даю тебе время одуматься,— сказал Онисим чуть дрогнувшим от злобы голосом, и Симону показалось, ;что тот может его ударить.— Если этого не произойдет — берегись! Мы покараем и тебя, и Никия вместе с проклятым Нероном. Тот, кто не хочет убить чудовище, служит ему. Знай, каждую минуту я буду следить за тобой, следить и ждать. Не испытывай моего терпения и не губи свою душу.
— Я не верю, что учитель Петр послал тебя! — воскликнул Симон, отступая на шаг.— Учитель Петр милосерден, а ты...
— Все сказано! — перебил его Онисим и, более ничего не добавив, вышел в дверь.
Когда шаги гостя затихли в ночи. Симон опустился на пол и долго сидел так, настороженно вглядываясь в темный угол комнаты. Ему все время казалось, что кто-то наблюдает за ним оттуда.
Глава вторая
Прошло не так много времени с того дня, как Никий впервые вошел во дворец и остался здесь, но ему казалось, что он живет тут давным-давно. Он сделался своим человеком у Нерона, словно знал императора с самого детства, словно был не безвестным провинциалом, волею случая попавшим в Рим, а родственником Нерона и даже его братом. Кровным братом, а не таким, какими считали себя все в христианской общине Александрии, а потом Фарсала.
Об общине он вспоминал редко и гнал прочь такие воспоминания, а по прежней жизни не тосковал совсем. Он даже не мог теперь сказать, любит ли он учителя Павла так же, как любил его прежде. Иногда он думал, что любит, а иногда... Та, прежняя жизнь теперь казалась ему скучной, лишенной той энергии, какую он постоянно ощущал здесь, при дворе Нерона. Да, он видел много гадостей, тут распутство и излишества считались нормой, но все это не возмущало его так, как возмущало прежде, когда он лишь слышал об этом, но не видел сам. Никогда он не думал, что к этому можно привыкнуть, но привык очень быстро.
То, что сообщил ему Симон во время их последней встречи, было воспринято Никием как знак. Павел все умел предугадывать заранее, и это он предугадал тоже. Сам Нерон нравился Никию в той же мере, в какой не нравилось все его окружение. Все эти чванливые патриции, заискивающие перед императором, казались ему жалкими. Порой он говорил себе, удивляясь: «И это римский патриций? И это римский всадник?» Они отличались от актеров и вольноотпущенников, во множестве живущих при дворе, только тем, что в отсутствие Нерона напускали на себя высокомерие и смотрели на окружающих свысока. Но лишь только Нерон оказывался рядом, все их высокомерие исчезало, и они готовы были исполнять все прихоти императора, а в этом смысле император был большой искусник.
Даже самые близкие к Нерону люди — такие, как командир преторианцев Афраний Бурр и Анней Сенека, который еще так недавно казался Никию едва ли не лучшим из живущих,— даже они вызывали в нем презрительную усмешку. По крайней мере, Нерон вертел ими как хотел. И этим он нравился Никию больше всего. В них не было жизни, а в нем она была.
Порой Никию казалось, что все те поступки и деяния, которые принято называть мерзкими, Нерон совершал не вследствие своего дурного нрава, а лишь ради того, чтобы посмотреть, что еще смогут вытерпеть эти надутые сенаторы. Казалось, они могли вытерпеть все и унижения принимали с радостью. Никию было непонятно, чем же еще силен Рим, если такие стоят на высших ступенях государственной лестницы. Отсюда, из дворца, Рим не представлялся великим, он представлялся жалким. Может быть, все дело в том, что живущие за стенами дворца люди, то есть народ, не знают, что стены скрывают жалких шутов и фигляров? Кажется, это понимали только Нерон и он, Никий.
Нерон полюбил Никия. Он часто спрашивал, когда они оставались одни:
— Скажи, мой Никий, ты по-прежнему любишь меня?
— Да, я люблю тебя,— с неизменной простотой, словно подтверждая самое естественное и обычное и даже несколько удивляясь вопросу, отвечал Никий.
Тогда Нерон говорил, улыбаясь одними губами и с прищуром глядя на Никия:
— Люби меня, Никий, мне это очень приятно.
Все другие пребывавшие во дворце по десять раз на день говорили, как любят императора, но Никий никогда не слышал, чтобы тот отвечал, что ему это очень приятно; он не улыбался им так, как улыбался ему. Может быть, лесть и нравилась Нерону, но он не очень обращал на нее внимание. По крайней мере, он многих заставлял делать то, к чему никогда не принуждал Никия. Если ему хотелось, чтобы Никий много пил, он обращался к нему так:
— Не желает ли мой Никий напиться сегодня как свинья? Ответь мне честно, ты же знаешь, я ни за что не стану заставлять тебя, если ты не хочешь.
Другие смотрели на Никия с завистью, и он соглашался. Он не хотел обижать Нерона и соглашался всегда. Но при этом знал, что имеет возможность отказаться. Об этой возможности, об этой великой привилегии отказаться исполнить желание императора Нерон ведь говорил при всех, и у Никия не было причины ему не верить. Если ты можешь чем-то пользоваться свободно, то незачем торопиться.
Вообще быть другом Нерона оказалось очень весело, такого веселья Никий не испытывал никогда. Отец воспитывал его в строгости, в общине проповедовался аскетизм и к веселью, даже самому невинному, относились с подозрением и неприязнью. Нерон же любил говорить:
— Знаешь, Никий, молодость дана для того, чтобы познать веселье, а старость для того, чтобы познать мудрость. Скажу тебе честно, мудрость меня не привлекает. Стоит только посмотреть на нашего великого мудреца Сенеку, чтобы расхотеть жить до старости. Все ему подобные только и твердят, что жизнь не имеет смысла.
Веселиться же Нерон умел, как никто. И распутства его тоже были веселыми. Однажды он сообщил Никию, что придумал замечательную забаву — устроить лечение больных. «Императорское лечение», как он его назвал. Пригласив двух сенаторов и двух всадников (при этом приказав Никию приготовить все необходимое), он спросил каждого с участием:
— У тебя плохой цвет лица. Скажи мне, своему императору, ты не болен?
Трое ответили, что да, их мучают болезни (у одного болела грудь, у другого ухо, третий маялся несварением желудка), а четвертый произнес с поклоном:
— Как будет угодно принцепсу.
— Мне будет угодно лечить тебя,— с самым серьезным выражением на лице сказал Нерон.— Я же должен заботиться о том, чтобы мои подданные были здоровы и могли еще лучше служить мне и Риму. Это моя обязанность.
Обескураженный льстец только настороженно улыбался, а Нерон кликнул слуг и велел отвести «больных» в специально подготовленное помещение. Там уже стояли столы, к которым и привязали несчастных. Нерон с Никием обходили каждого, успокаивали, обещая, что лечение хотя и не из самых приятных, зато очень действенное. Несчастные «больные» вели себя по-разному: первые двое умоляли пощадить их, принять во внимание возраст и заслуги, третий несмело улыбался, четвертый испуганно молчал. Сначала Нерон убеждал их в необходимости лечения — при этом поминутно обращался к Никию за подтверждением своих слов,— потом, выйдя в центр комнаты и подняв правую руку, провозгласил с торжественностью трагедийного финала:
— Внесите благовония!
Слуги внесли два больших блюда. В первом были тухлые яйца — целая гора, во втором — молоко. Свою забаву Нерон придумал накануне и, чтобы не откладывать лечения, приказал заменить перепелиные яйца куриными, а положенное по рецепту ослиное молоко — обыкновенным козьим.
Подойдя к первому «больному» (это был тучный сенатор весьма преклонных лет), он стал разбивать яйца над его голым телом, а Никий принялся втирать содержимое в грудь. При этом император сопровождал свои манипуляции чтением любимых греческих авторов. Стихи не очень соответствовали смыслу происходящего, но это его не смущало — когда он принимался за декламацию, то делался сам не свой. Больные стонали, кряхтели, умоляли пощадить их. На это он отвечал с самым серьезным видом строками из Гомера:
Ему наскучило разбивать яйца над лежащим, и он, войдя в раж, стал давить их о тела «больных» и втирать вместе со скорлупой. Комната наполнилась страшным зловонием, а Нерон, с силой размазывая мерзкую жижу, подбадривал себя и Никия криками:
— Еще! Еще! Торопись, Никий, мы должны спасти их!
Он не удовольствовался втиранием жижи в грудь, но стал обмазывать ею лицо и все тело, особенно усердствуя в стыдных местах. Двое больных стонали, третий кричал — Нерон в кровь разодрал ему грудь и лицо скорлупой,— а тучный сенатор стал хрипеть.
— Подбавь еще,— хохоча, кричал Нерон,— он умирает!
И он стал поливать лежащих молоком. Наконец он сбросил одежду и, разбив о собственную грудь несколь яиц, зачерпнул ковшик молока и вылил себе на голову. То же самое он проделал и с Никием.
Сначала Никий морщился от зловония и противной жижи на руках, но вскоре веселье Нерона захватило и его, и он даже с каким-то особенным удовольствием размазал по телу содержимое нескольких яиц и полил голову молоком.
Казалось, забава подходит к концу, но для Нерона все только начиналось. Веселье его перешло — как это бывало с ним почти всегда — в какое-то неистовство, и он приказал слугам привести женщин.
Женщин для удовольствий всегда было много во дворце и возле него. Слуги привели трех — размалеванных и громко галдящих.
— Лечение! Лечение! — завопил Нерон, бросаясь к ним и с остервенением срывая одежду.
Женщины визжали, пытались увернуться, отбегали в другой конец комнаты, но он догонял их и разбивал о них яйца, плескал молоком. Когда не осталось ни яиц, ни молока, он приказал женщинам лечь на «больных» и потереться телами об их тела. Женщин было три, и Нерон, вскричав: «Одной не хватает, я заменю ее сам!» — бросился на крайнего (это был всадник, который вопил без перерыва уже второй час) и стал обнимать и гладить его, изображая страсть.
Короткое время спустя Никий, стоявший чуть в стороне, с удивлением увидел, что изображение страсти перешло в страсть настоящую: Нерон сладостно вскрикивал и все его тело трепетало. Наконец он забился в конвульсиях и затих, свесив руки со стола и прильнув щекой к щеке несчастного всадника, который уже не кричал, но смотрел на своего мучителя обезумевшим взглядом.
— Делайте то же! — приказал Нерон слабым голосом, но с явной угрозой, и женщины, со страхом косясь на него, попытались...
Разумеется, ничего у них не вышло, но это не их вина, они старались, как могли. Несчастные больные никак не могли им соответствовать — никаких признаков мужской страсти заметить было нельзя. К тому же тучный сенатор лежал с закрытыми глазами и, кажется, уже не дышал. Женщина сверху смотрела в его лицо с ужасом.
Нерон сполз с тела всадника на пол и, протянув к Никию руку, жалобно выговорил:
— Я умираю, Никий, спаси меня! — При этом по лицу его, по запекшейся коркой жиже потекли слезы.
Никий бросился к нему, поднял и с помощью слуг вывел из комнаты. Он собственноручно обмыл его тело, быстро вымылся сам, уложил императора в постель и сел рядом.
— Никий! Никий! О-о! — с протяжным стоном, едва слышно выговорил Нерон.— Скажи, ты любишь меня?
И Никий ответил, взяв его руку в свою:
— Люблю!
Однажды Нерон сказал Никию:
— Ты похож на смерть, лишь она любит человека неизменно и постоянно и в конце концов добивается его.
— Но ведь я добился тебя,— с улыбкой отвечал Никий,— и ты не умер.
— Ты так уверен, что я жив? — неожиданно отозвался Нерон, глядя на Никия странным взглядом, в котором были и любовь, и недоверие одновременно.— Значит, ты думаешь, что не похож на смерть? — спросил он некоторое время спустя.
— Нет,— сказал Никий уже без улыбки,— скорее я похож на собаку.
— На собаку? Почему?
— Потому что любовь к хозяину — состояние собаки, а не чувство. Она любит хозяина потому, что он хозяин, а не потому, что он хорош или плох.
Нерон ответил не сразу, отошел к окну, долго вглядывался в даль, затем проговорил не оборачиваясь, словно лишь самому себе:
— Бывали случаи, когда собака бросалась на хозяина.
Никий хотел возразить, но Нерон остановил его движением руки:
— А если я прикажу тебе броситься на другого, ты сделаешь это?
— Да,— кивнул Никий.
Глава третья
Никий чувствовал, что у него появились враги, и самым опасным был актер Салюстий. Внешне он выказывал Никию полное свое расположение и, разговаривая с ним, униженно улыбался. Но улыбка Салюстия порой пугала Никия — блеск в глазах актера казался ему зловещим. А когда тот спросил однажды как бы между прочим: «Что-то давно не видно благородного Аннея Сенеки. Ты не знаешь, он здоров?» — Никий понял, что немедленно нужно предпринять что-то, иначе Салюстий может выдать его Нерону, улучив момент.
Но что можно было предпринять? Припугнуть Салюстия? Но как и чем? Рассказать все Сенеке и попросить у него защиты? В конце концов Сенека придумал всю эту комбинацию с Салюстием, пусть он сам с ним и разберется. Это, казалось, наиболее простой путь и самый надежный, но Никию почему-то меньше всего хотелось прибегать к помощи Сенеки. Тем более что Сенеку он тоже побаивался до сих пор: он знал о Никии значительно больше, чем Салюстий, и в каком-то смысле был даже опаснее последнего. Тем более что теперь император был недоволен своим прежним учителем и не очень скрывал свое недовольство. По крайней мере от Никия. Он говорил, что старик стал дряхлеть и уже не может оставаться настоящим советником.
— Да и вообще,— продолжал он со своей особенной усмешкой,— кажется, наш философ живет слишком долго. Мне жаль его, долгая жизнь предполагает скорбь.
Не нужно было хорошо знать императора, чтобы понять значение таких его речей.
Нет, обращаться к Сенеке стало опасно, и тогда Никий вспомнил о Симоне из Эдессы. Вот кто мог бы прописать Салюстию настоящее лекарство! Симон не думал, что это за лекарство, он знал его. Странным казалось то, что Никий думал об этом спокойно, хотя ему никогда в жизни не приходилось убивать и он не предполагал, что придется. Но ведь сначала учитель послал его сюда именно за этим!
Впрочем, сомневался он недолго, а точнее, не сомневался совсем. Он знал, что Симон торгует у Северных ворот, но сам туда идти не хотел, и тогда позвал к себе Теренция.
Теренций жил в отведенных императором для Никия покоях дворца, но виделись они мало. У Никия даже возникла мысль как-нибудь избавиться от Теренция: порой слуга мешал ему. Никию не нравился его взгляд — не то чтобы осуждающий, но какой-то отстраненный, а иной раз и тоскливый. Жизнь во дворце явно его тяготила, а императорские забавы, в которых участвовал Никий, не нравились. Но, с другой стороны, он, как никто, хорошо исполнял свои обязанности слуги, и Никий чувствовал, что на него можно положиться. Не столько знал это, сколько чувствовал. И сам не понимал почему. Может быть, Теренций напоминал ему отца? Тому достаточно было посмотреть на Никия, чтобы Никий понял, что поступает нехорошо, и уже впредь так не поступал. А может быть, дело в чем-то другом? Но, как бы там ни было, он и хотел расстаться с Теренцием, и боялся расстаться.
Разговор их состоялся поздно ночью, когда Никий возвратился от императора. Теренций вышел навстречу, сказал, что все готово для умывания и отхода ко сну, и уже взялся за ручку кувшина с водой, чтобы полить хозяину. Но Никий остановил его движением руки, кивком приказав следовать за собой. В комнате, служившей ему спальней, он сел на край ложа и указал Теренцию на кресло у окна. Теренций удивленно на него посмотрел, подошел к креслу, но не сел.
— Садись, Теренций,— проговорил Никий с улыбкой,— я хочу говорить с тобой не как со слугой, а как с другом.
Теренций поклонился с благодарностью на лице, но снова не сел. Никий не стал настаивать, некоторое время молча смотрел на Теренция, внутренне подготавливаясь к предстоящему разговору, и наконец сказал:
— Я буду говорить с тобой прямо. Скажи, ты мог бы убить человека, если я прикажу тебе это?
Теренций неопределенно качнул головой и ничего не ответил.
— Хорошо,— сказал Никий,— спрошу иначе: сможешь ли ты защитить меня, если iMHe будет угрожать опасность? Помнишь, как ты вытащил меч, когда по дороге в Рим на тебя неожиданно наскочил Симон из Эдессы? Ты помнишь это?
— Да, господин,— кивнул Теренций,— я хорошо помню тот случай.
— Я еще тогда спросил тебя: неужели ты сможешь убить человека? И ты ответил, что сможешь.
— Я не помню, чтобы отвечал так,— сказал Теренций,— но если ты говоришь, то, значит, так оно и было.
— Вижу, Теренций,— Никий прищурился, подражая императору,— тебе не нравится наш разговор. Скажи откровенно, и я прекращу его.
— Нет, господин,— Теренций смотрел на Никия напряженно,— ты неправильно меня понял. Но ты сказал, что будешь говорить прямо...
— Ты прав,— согласился Никий.— Хорошо, я скажу прямо. Актер Салюстий угрожает мне разоблачением. Он не делает этого явно, как ты понимаешь, но от этого угроза не становится менее опасной. Если он исполнит ее, ты знаешь, чем это может грозить мне и Аннею Сенеке. Ему даже больше, чем мне, потому что он все это придумал и его положение в Риме... Тебе известно, как поступают с заговорщиками.
— Да,— скорбно выговорил Теренций.— Но позволь сказать, разве не лучше...
— Нет,— перебил его Никий.— Я думал об этом и не хочу впутывать Сенеку в такое дело.
— Салюстий трепещет перед ним,— пояснил Теренций,— я знаю.
Никий вздохнул:
— Так было, но теперь это не так. Если бы он, как ты говоришь, трепетал перед Сенекой, то не посмел бы угрожать мне. Ты, наверное, и сам понимаешь, что влияние Сенеки на императора не такое, как прежде. Больше того, я слышал сам, как он отзывался о твоем прежнем господине пренебрежительно. Сенека не только теряет влияние, он может потерять жизнь. Мне даже кажется, что дело не во мне, а в Аннее, и, возможно, Салюстий послан кем-то (у сенатора много врагов и завистников), чтобы свалить его окончательно. Представь себе, что за Салюстием стоят какие-то значительные силы, вряд ли жалкий лицедей осмелился бы идти против сенатора. Так вот, я не хочу обременять этим делом Аннея, я хочу, чтобы мы сделали это сами. Ты согласен со мной?
— Да, господин,— упавшим голосом произнес Теренций и уже едва слышно добавил: — Что сделали?
— Убили Салюстия,— жестко выговорил Никий.— Я хочу, чтобы ты помог мне. Или ты отказываешься?
— Нет, нет,— отрицательно помотал головой Теренций,— но я не умею...
— Что ты не умеешь?
— Убивать,— потерянно проговорил Теренций.— Я могу быть слугой, управляющим, но никогда... Меня не обучали военному делу.
— Однако,— раздраженно заметил Никий,— ты тогда на дороге лихо выхватил свой меч.
Теренций вздохнул и опустил голову, словно признавал свою вину. То ли в том, что не умеет убивать, то ли в том, что так опрометчиво вытащил меч тогда по дороге в Рим.
— Успокойся, Теренций,— усмехнулся Никий,— убивать тебе не придется. Но помочь ты должен. Понял меня? — последнее он проговорил жестко, почти угрожающе.
Глава четвертая
Поппея Сабина, жена Марка Сальвия Отона, вошла во дворец с низко опущенной головой, но уже короткое время спустя сделалась полноправной хозяйкой — полноправной, не имея на это, разумеется, никаких формальных прав. Права при дворе определялись одним — отношением принцепса, а Нерон влюбился в Поппею так, как никто ожидать не мог. Тут дело было не в желании наслаждаться, а в чувствах. В том, что трудно было предполагать у императора.
Никий понял, что произошло, увидев Марка Отона. Отон нравился ему, он казался единственным разумным человеком в окружении императора.
В тот день Отон одиноко стоял, прислонившись к одной из колонн у входа. Он был мрачен и старательно не замечал проходивших мимо. Зато проходившие мимо, как нарочно, не желали пройти незаметно, приветствовали Отона с особенно ласковыми лицами, в которых легко читалось насмешливое сочувствие. Отон отвечал коротким кивком, пряча глаза, и, если его спрашивали о самочувствии, едва заметно пожимал плечами. Никий так и не решился подойти к нему, наблюдая со стороны, стараясь оставаться незамеченным.
Он пришел по зову Нерона, но у самой двери слуга сказал, что принцепс занят и велел никого не допускать к себе.
— Император сам вызвал меня,— высокомерным взглядом прожигая слугу, сказал Никий и потянулся, чтобы взяться за ручку двери.— Ты, может быть, не узнаешь меня? — сердито добавил он.
Слуга сделал быстрое движение в сторону, прикрывая дверь, собой, и рука Никия ткнулась в его грудь.
— Там Салюстий,— пояснил слуга таким тоном, будто актер был по крайней мере командиром преторианских гвардейцев.
Никий гневно посмотрел на слугу, а тот поднял вверх указательный палец, призывая к молчанию, и тогда Никий услышал доносившиеся из покоев Нерона завывания актера: тот декламировал очередной трагический монолог.
— Там женщина,— прошептал слуга извиняющимся тоном.
— Женщина? Какая женщина? Одна?
Слуга посмотрел сначала направо, потом налево, где с обеих сторон двери стояли гвардейцы с каменными выражениями на лицах, и, чуть подавшись к Никию, проговорил, выпучив глаза, как если бы открывал страшную тайну:
— Поппея Сабина.
Никий неопределенно повел головой и отошел от двери. Вот тогда же, бесцельно прогуливаясь по дворцу, он увидел стоявшего у колонны Отона.
То, что Отон привел жену к Нерону, он знал уже несколько дней, но не придавал этому визиту никакого особенного значения. Кроме обычного: если женщина понравится императору, то он не упустит возможности получить от нее удовольствие. Это было в порядке вещей, и всякий муж, независимо от своего положения и возраста, знал это. И никто из мужей не видел в этом — во всяком случае, не показывал внешне — никакого особенного позора. Более того, многие были бы счастливы, понравься их жены императору, а еще лучше, если бы он возжелал получать эти удовольствия более или менее продолжительное время. В таком случае счастливый муж мог рассчитывать на значительные назначения и награды.
Поначалу Отон показался Никию несколько другим, но когда он однажды услышал, как тот расхваливал жену в присутствии императора, Никий подумал, что все они одинаковы, хотя и не осудил Отона. Несмотря ни на что, Отон нравился Никию.
Скорбный вид Отона сначала удивил Никия, потом расстроил и, наконец, насторожил. Придворный, чья жена понравилась императору, не должен был иметь такой вид. По крайней мере, не должен был ничего такого показывать. Никий почувствовал, что произошло нечто более значительное, чем предполагалось. Его опасения усилились, когда он увидел, как Анней Сенека (Никий не видел его уже очень давно и намеренно избегал встречи) подошел к Отону и заговорил с ним. Отон отвечал односложно и нехотя, стоял с опущенной головой. Сенека дружески тронул его руку и отошел. И тут же, увидев Никия, остановился, пристально глядя на него.
Никий подошел, вежливо, но с достоинством поприветствовал сенатора. Сенека дружески ему улыбнулся, но Никий заметил, как напряжен его взгляд.
— Тебя не узнать, мой Никий,— сказал Сенека, улыбаясь чуть снисходительно,— ты стал совершенной принадлежностью императорского дворца.
Он не сказал «двора», но «дворца», то есть здания, и в этом Никий увидел особенно обидную насмешку. Он сделал непроницаемое лицо и воздержался от ответа.
— Я посылал за тобой несколько раз, но ты не пожелал меня видеть. Может быть, ты забыл, как попал сюда и, главное, зачем?
Сенека произносил все это с самым приветливым видом, будто говорил о пустяках, замолкал, если кто-нибудь проходил мимо.
— Не мог предположить, что ты станешь таким близким принцепсу человеком,— продолжал сенатор,— Это хорошо, но всякую минуту ты должен помнить о пославшем тебя и о своих страдающих братьях.
— Неужели сенатора так волнуют их страдания? — произнес Никий так, будто за вопросом больше ничего не стояло.
— Ты прав,— кивнул Сенека,— я не принимаю их судьбу очень уж близко к сердцу. Но я и не говорил, что принимаю, хотя сочувствую им по-человечески. Мне лишь жаль, что Павел в тюрьме, для меня это, поверь, большая потеря. Я очень уважал учителя, и его письма много значили для меня. Но мне непонятно...
— Что непонятно, сенатор? — быстро вставил Никий, и стало очевидным, что он знает, о чем заговорит Сенека, и не хочет этого слышать.
— Но мне непонятно,— еще отчетливее выговаривая слова и еще пристальнее вглядываясь в лицо Никия, повторил Сенека,— почему это не беспокоит тебя? Мне не хотелось бы думать, что ты забыл обо всем и обо всех, что тебе понравилась такая жизнь и твоя дружба с принцепсом. Если это не так, тогда скажи почему?
— Мне не хотелось бы говорить об этом, сенатор,— сказал Никий, опуская глаза.
— Почему же? — лицо Сенеки выразило непритворное удивление, он даже чуть подался назад, оглядывая Никия с ног до головы.
— Потому что время еще не наступило,— ответил Никий.
— А когда оно наступит, ты можешь сказать?
— Нет.
— Нет? Не-ет? — протянул сенатор. Он хотел еще что-то спросить, но только вздохнул и развел руками.— Тогда прощай.— Он развернулся и быстро пошел прочь, но, сделав несколько шагов, остановился и, повернув голову, рукой поманил Никия. Когда Никий подошел, он сказал, быстро посмотрев по сторонам: — Должен предупредить, что у тебя появился соперник, и очень серьезный. Вернее, соперница. Поппея Сабина — тебе, наверное, знакомо это имя.
— Да, я слышал его,— сдержанно кивнул Никий.
— И что ты думаешь сам?
Никий сделал неопределенный жест:
— Принцепс любит женщин, но очень недолго. Не думаю, что Поппея станет исключением.
— Поппея станет исключением,— очень тихо и очень уверенно выговорил Сенека и, поймав недоверчивый взгляд Никия, добавил: — Поверь, я хорошо знаю своего ученика. Его нельзя влюбить ни красотой, ни лаской, ни тем более всякими женскими достоинствами, но его можно влюбить силой. Поппея сможет.
И, более ничего не сказав, Сенека ушел, а Никий, пока тот не скрылся из вида, напряженно смотрел ему вслед. На душе у него было тревожно. В те минуты он не думал о Поппее, женщина не представлялась ему опасной. Опаснее всех, даже опаснее Салюстия, стал теперь Анней Сенека — казалось, он может убить Никия одним движением бровей. Не надо было держаться с ним так высокомерно, не надо было демонстрировать независимость. Кто он такой перед Сенекой? Любимая игрушка императора? Да и любимая ли?!
Салюстий вышел из покоев императора с сияющим лицом. Радость переполняла его, он сам подошел к Никию.
— Поппея лучшая из женщин! — произнес он вместо приветствия.
— Ты так полагаешь? — отозвался Никий с заметной долей иронии в голосе (так он разговаривал с Са-люстием в последнее время).
Салюстий, по-видимому, не счел нужным обсуждать эту тему, вместо ответа он сказал:
— Я представлял им из Софокла. Ты знаешь мой греческий, к тому же сегодня я был в ударе. Поппея смотрела на меня так, будто я не представлял царя, а сам стал Эдипом. Император был доволен, он сказал, что своим чтением я потряс своды дворца. Понимаешь, что это означает?
— Это означает то, что я правильно лечил тебя, Салюстий,— усмехнулся Никий (знал, что сейчас лучше почтительно разговаривать с актером, но не смог себя сдержать: слишком уж самодовольным выглядел этот лицедей).— Я могу предложить тебе еще один способ усиления голоса — смазывание гортани свежим конским навозом. Я скажу об этом императору, может быть, он захочет посмотреть.
Ненависть мелькнула в глазах Салюстия, на мгновение Никию показалось, что актер способен броситься на него, впиться зубами в горло,— тот стоял, сжимая и разжимая кулаки.
— Не бойся, Салюстий,— улыбнулся Никий,— процедура не такая уж неприятная, как может показаться на первый взгляд. Но зато я обещаю результат, верь мне, я хороший врач.
— Ты хороший врач,— сквозь зубы произнес Салюстий,— конечно, Анней Сенека не прислал бы плохого.
Теперь уже Никию захотелось броситься на Салюстия, и он едва сдержался. А тот, круто повернувшись, пошел прочь, особенно прямо держа спину.
«Надо кончать с ним!» — сказал себе Никий, с ненавистью глядя вслед актеру.
Он хотел вернуться к себе, но тут к нему подбежал слуга Нерона и с заискивающей улыбкой сообщил, что император зовет его.
Никий так и не сумел справиться с лицом и, войдя, угрюмо посмотрел в ту сторону, где находился император. На мягком диване, подперев рукой голову, лежала женщина. Нерон сидел на маленькой скамеечке возле, ласково поглаживая ее высокие бедра. Женщина показалась ему красивой, даже очень красивой, она без всякого смущения, как хозяйка, смотрела на вошедшего.
Нерон повернулся к Никию и поманил его рукой:
— Этот Салюстий так орал сегодня,— произнес он притворно-болезненно,— что совершенно оглушил меня. Говори громче, Никий, я плохо слышу. Не хватает Риму заполучить глухого принцепса. Скажи, тебе жалко меня?
— Салюстий играет так, как научил его ты,— отозвался Никщ с полупоклоном, относившимся и к императору, и к лежавшей рядом женщине.
— Я? — удивленно вскинулся Нерон.— Я не учил его орать во все горло. Может быть, ты считаешь, что и я декламирую так же грубо?
— Ты — оригинал, а Салюстий — копия, копия всегда грубее оригинала. Не обладая твоим божественным даром, он кричит там, где поешь ты.
— Не слишком ясно, что ты имеешь в виду,— нахмурился Нерон.
Никий понял, что его объяснение вышло не очень толковым, и не нашелся с ответом. Его неожиданно выручила Поппея. Загадочно улыбнувшись Никию, а затем переведя взгляд на Нерона, она сказала:
— А мне понравилось. Он такой забавный. Сначала мне показалось, что он кривляется и завывает ради шутки, но когда я поняла, что он это серьезно, мне сделалось еще веселее.
— Никий говорит, что это я научил его,— с капризными интонациями в голосе проговорил Нерон.— Ты полагаешь, моя Поппея, что я научил его кривляться и завывать?
— Ты талантлив, Нерон,— сказала она снисходительно и, лениво протянув свою красивую руку с тонкими длинными пальцами, нежно коснулась ею щеки Нерона.— А талантливый человек, как ребенок, не может поверить, что другие не умеют делать то, что делает он. Ты учил обезьяну божественному слогу, а она научилась только кривляться. Думаю, что твой Никий имел в виду именно это.
— Это так? — взглянув на Никия и как бы еще сердясь, отрывисто спросил Нерон.
— Да, император,— кивнул Никий.— Поппея сумела правильно выразить то, чего не сумел выразить я.
— Вы, я вижу, сговорились,— сказал Нерон с плохо скрываемым удовольствием.— Если так дальше пойдет...
Он не успел договорить, Поппея обняла его за шею и прижала голову к груди:
— Маленький мой, моя рыжая бородушка,— пропела она, мельком взглянув на Никия.— Мой божественный ребенок! Рим имеет больше чем принцепса, он имеет божество.
Нерон по-детски вздохнул и еще глубже зарылся лицом в пышную грудь Поппеи. А она все говорила и говорила, поглаживая его голову и спину и уже не взглядывая на Никия.
Никий ощутил смущение. Не оттого, что император изображал ребенка и глупо вздыхал. Он чувствовал смущение потому, что Поппея проделывала все так естественно, /Ни разу не сфальшивив ни голосом, ни движением, будто в самом деле была матерью этого взрослого рыхлого мужчины, зарывшегося лицом в ее грудь. Более того, Нерон вдруг представился Никию настоящим ребенком — маленьким, страдающим, беззащитным, никогда до того не знавшим ласки и вдруг получившим ее.
Наконец император поднял голову и посмотрел на Никия затуманенными влагой глазами.
— Ты? — спросил он так, будто только что увидел Никия, и снова протяжно вздохнул.
И тут же Поппея сделала плавный жест рукой, показывая, что Никию лучше уйти. И Никий, сам не ожидавший от себя этого, медленно ступая, стал отходить к двери. Нерон провожал его невидящим взглядом. Поппея все еще держала руку на весу и, кажется, шевелила пальцами. Относилось ли это к нему или нет, Никий сказать не мог,— толкнув спиной дверь, он вышел наружу. Огляделся, словно не узнавая знакомое помещение, скользнул взглядом по каменным лицам преторианских гвардейцев и медленно, не слишком уверенно ступая, пошел прочь. Кто-то поприветствовал его с поклоном, но он только кивнул рассеянно.
Выходя из дворца, он внезапно остановился — будто натолкнулся на преграду. Остановился и снова ощутил прежнее безотчетное беспокойство.
— Ты был у императора? — услышал он за спиной знакомый голос. Оглянулся и узнал Отона. Его лицо было пепельно-серым, вокруг глаз синие круги, губы чуть вздрагивали, когда он повторял вопрос: — Ты был у императора?
Никий хотел сказать «нет», но почему-то ответил:
— Да.
— Поппея...— едва слышно выговорил Отон и вдруг резким движением прикрыл рот, словно страшился продолжить.
Глава пятая
За северными воротами города, в овраге за рощей, горел костер. Двое, закутанные в плащи, осторожно вышли из-за деревьев. Тот, что шел впереди, вскинул руку, останавливая идущего следом.
— Стой! Вот они,— с тревогой прошептал он, указывая на огонь внизу.
— Никого не видно,— взволнованно отвечал его спутник.— Может быть, ты ошибся?
— Ты боишься, Теренций? — спросил первый, по-ложа руку на меч у пояса.
Теренций проследил глазами за движением его руки и только вздохнул.
— Не бойся,— стал успокаивать его первый.— Я уже говорил тебе вчера, что, умирая, мы попадем в царство Бога. Ты получишь там все, чего не имел в этой жизни, рабы будут господами, а господа рабами. Не бойся, Теренций, верь мне, мы, бедные, будем там счастливы. Или ты не веришь? Скажи!
Говоря это, он пристально вглядывался в темноту вокруг костра. До него было всего шагов пятьдесят.
— Ты не веришь? Говори!
— Зачем ты спрашиваешь меня, Симон? — с укоризной в голосе ответил Теренций.— Мне кажется, ты нашел неподходящее время для таких разговоров.
— Ты не понимаешь, Теренций,— продолжил Симон, горячась.— Никто не знает, когда придется умирать, а ты должен быть готов вступить в лоно Бога. Если не спасешь свою душу, то тогда...
— Что? Что тогда? — раздраженно перебил его Теренций.— Ты нарочно пугаешь меня?
— Чем я тебя пугаю?
— Смертью. Ты считаешь, нас могут убить сегодня, раз хочешь, чтобы я...
— Тихо! — тревожно прервал его Симон.
И он, и Теренций замерли, прислушиваясь. Вдруг позади них треснула ветка — они испуганно огляну-лись, Симон до половины вытянул меч из ножен, а Теренций лишь взялся за рукоять своего.
Послышался тяжелый топот — приближались чьи-то шаги. Затем голос из темноты произнес:
— Вложи обратно свой меч, Симон, или ты пришел не с миром?
— Это ты, Онисим? — с тревогой спросил Симон, убирая меч в ножны и делая шаг вперед.
— Это я,— ответил тот насмешливо.— Спускайтесь к огню, я иду за вами.
Симон и Теренций стали спускаться в овраг, время от времени пригибаясь и хватаясь руками за траву. Они уже стояли у костра, когда к ним подошел Онисим.
— Ты один? — спросил Симон, заглядывая ему за спину.— Мне показалось...
— Тебе правильно показалось. Мои друзья ждут наверху. Они хорошо видят нас, но не могут слышать. Ты, кажется, хотел говорить со мной о чем-то важном?
— Ты пришел не один,— с укоризной заметил Симон,— хотя я просил тебя...— Он не договорил, вглядываясь в лицо Онисима.— Ты не доверяешь мне?
— Я? Тебе? — усмехнулся Онисим.— Конечно, я не доверяю тебе. То, о чем я просил, ты не сделал. Кроме того, все это время ты избегаешь меня, переехал в другой конец города... Как же я могу доверять тебе? Кто это с тобой? — без перехода спросил он.
— Это Теренций,— ответил Симон.— Он служит у Никия.
— Садитесь,— Онисим указал на траву возле костра,— так нам удобнее будет говорить.
Симон нехотя опустился на землю, Теренций присел рядом. Онисим уселся на корточки с другой стороны костра и начал разговор:
— Говори, чего ты хочешь от меня?
Симон вздохнул, снова огляделся по сторонам.
— Я не знаю,— глухо произнес он,— можно ли говорить. Эти твои люди... Зачем ты привел их с собой?
— На всякий случай. Почему я должен доверять тому, кто не доверяет мне? Говори же, все равно ты не уйдешь отсюда, не сказав.
— Почему не уйду? — с настороженностью с голосе спросил Симон.
— Потому что я не отпущу тебя,— просто ответил Онисим. В его тоне не было угрозы, но именно поэтому фраза его прозвучала особенно зловеще.
Симон почувствовал, как сидевший вплотную к нему Теренций вздрогнул, и быстро проговорил:
— Если ты будешь пугать нас, то ничего не добьешься. Ты знаешь, что я ничего не боюсь.
— Я это знаю,— согласился Онисим.— Но ты должен сделать то, что приказал учитель...— Он замялся, посмотрел на Теренция и, понизив голос до шепота, досказал: — Что приказал учитель Петр. Отвечай, ты сделаешь это?
— Значит, ты собрался убить меня? — в свою очередь спросил Симон.
— Ты сделаешь это? — настойчиво повторил Онисим.
— Да,— после непродолжительного молчания подняв голову и прямо глядя в глаза Онисиму, произнес Симон.— Мы пришли говорить об этом.
— Я не знаю твоего человека,— сказал Онисим, кивнув на Теренция.— Почему я должен доверять ему?
— Его послал Никий,— сказал Симон.— Если ты не доверяешь Никию и мне, то нам не о чем разговаривать.
— Хорошо,— медленно произнес Онисим,— говори.
— Ты сделаешь то, о чем тебя просит Никий?
— Да, если это служит нашему делу.
— Это служит нашему делу,— строго сказал Симон.
— Говори,— повторил Онисим.
Прежде чем начать, Симон посмотрел на Теренция, тот ответил ему тревожным взглядом.
— Есть один человек, актер Салюстий, близкий к императору,— наконец стал объяснять Симон.— Он знает тайну Никия и может выдать его Нерону. Никий просил тебя помочь.
— И это все? — тихо и медленно выговорил Онисим.
— Это очень важное дело,— чуть подавшись вперед и помогая себе движением руки, сказал Симон.— Надо успеть, потому что этот актер может заговорить в любую минуту. Он уже намекал Никию.
— А откуда он знает о Никии? — спросил Онисим.— Разве он связан с нашими братьями?
— Он не связан с нашими братьями.
— Тогда откуда же он знает?
— Я не могу тебе этого сказать.
— Ты не знаешь?
— Я не могу тебе этого сказать,— угрюмо повторил Симон и добавил, пожав плечами: — Это не моя тайна.
— А чья это тайна? — насмешливо спросил Онисим.
— Это тайна Никия. Ты должен верить ему на слово или...
— Что «или»? Продолжай.
— Или не верить.— Симон вздохнул.— Он отдает приказы, а не ты.
— Так это приказ? — Голос Онисима прозвучал все так же насмешливо, но в нем уже чувствовалось напряжение.
Неожиданно в разговор вступил Теренций.
— Никий не приказывает, он просит,— проговорил он, покосившись на Симона.— Но если ты не сделаешь этого, то тогда...— Он запнулся, и Онисим спросил уже совершенно без насмешки:
— Что же тогда?
— Никий погибнет, вот и все,— выговорил Теренций со вздохом.
— И наше дело здесь не будет иметь смысла,— добавил Симон.— Никий единственный человек в окружении Нерона, который...
— Знаю,— сердито прервал его Онисим,— знаю.— И, помолчав, спросил: — Значит, он хочет, чтобы я убил этого актера?
— Он хочет, чтобы актер не выдал его Непону,— уклончиво ответил Симон.
Наступила тишина. Беседа прервалась, и молчание длилось долго. Костер почти догорел, свет его пламени уже не доставал до лиц собеседников. В тишине раздавалось только слабое потрескивание костра и короткие вздохи Теренция. Казалось, ему не хватает воздуха, но Симон даже не смотрел в его сторону. Он смотрел на Онисима — тот сидел, низко опустив голову и выставив вперед сложенные в замок руки. Наконец он произнес, чуть приподняв голову и глядя на Симона исподлобья:
— Хорошо, я сделаю то, о чем просит Никий. Но при одном условии.
— При каком условии? — тревожно отозвался Симон.
— Я хочу встретиться с Никием.
— Но это!..— почти вскричал Симон, делая страшные глаза.— Это невозможно!
— Говори тише,— предостерег его Онисим и продолжал: — Это возможно, я хочу говорить с ним. Это возможно, если сделать все...
— Это опасно,— быстро вставил Симон.
— Если сделать все осторожно,— не обращая внимания на слова Симона, досказал Онисим.— Но мне обязательно нужно говорить с ним. Ты понял меня?
— Ты хочешь говорить с ним до...— начал было Симон, но Онисим перебил:
— Нет. Я сделаю то, что он хочет. Но после этого ты сведешь его со мной. Если ты не сделаешь этого или если Никий не захочет, я сам буду искать встречи с ним и найду возможность. Но тогда его тайна... Ты понимаешь меня?
— Да,— глухо отозвался Симон и, прежде чем продолжить, заглянул в лицо Теренция (тот утвердительно кивнул).— Хорошо, Теренций скажет об этом Никию.
— Я скажу ему об этом,— вставил Теренций.
— Он постарается убедить Никия встретиться с тобой. Думаю, он согласится. Но ты должен будешь прийти один, никто из твоих людей не должен видеть Никия и знать о вашей встрече. Ты обещаешь?
— Обещаю,— твердо выговорил Онисим и встал, разминая затекшие ноги. Теренций и Симон встали тоже.
Актер Салюстий уже давно не передвигался пешком, он и забыл, как это делается. В первое время, когда он попал к Нерону, носилки у него были самые простые. Тогда он еще не понимал своего настоящего положения и не был уверен, что его счастье продлится долго. Кроме того, он еще чувствовал себя рабом и боялся даже стоять рядом с патрициями, окружавшими императора,— что уж говорить о том, в какой страх повергали его их высокомерные взгляды!
Впрочем, освоился он быстро и понял, что далеко не все строящие из себя значительных особ таковыми являются. Но главное — он уразумел то, что древность рода уже мало что значит при дворе, а в большинстве случаев просто ничего не значит. Ценятся же и дают высокое положение две вещи: близость к императору и деньги. Первое было в большой степени залогом второго. Он видел вольноотпущенников, которые вели себя, как восточные владыки, и роскошь их жизни казалась ему недостижимой.
Взять хотя бы Паланта. Он заведовал государственной казной еще при Клавдии и продолжал то же самое при теперешнем принципате. Когда он ехал в богато украшенных носилках, сопровождаемый конной стражей, плебеи сбегались посмотреть на него. Время от времени его усыпанная кольцами рука высовывалась из-за прошитых золотыми нитями занавесок и бросала в толпу горсть монет. Из толпы кричали:
— Слава тебе, великолепный Палант! Счастливой тебе жизни, щедрый Палант!
И даже:
— Слава великому Паланту, опоре Рима!
Поговаривали, что Палант нанимал для таких приветствий специальных людей, но Салюстий не верил этим слухам: если горстями бросать в толпу монеты, она прокричит и не такое.
Ничего похожего Салюстий себе, разумеется, позволить не смел. И не только потому, что не обладал богатством Паланта (мало кто в Риме мог похвастаться, что имеет столько же, и уж, наверное, никто не смог бы сказать, что имеет больше, включая и принцепса). Просто однажды Салюстий слышал, как Афраний Бурр, смеясь, говорил Нерону:
— Каждый выезд нашего Паланта создает давку на улицах. Может быть, сенат наградил его триумфом? Правда, мне неизвестно, командовал он когда-либо хотя бы манипулой! Впрочем, такой богач, как он, может позволить себе нарушать обычаи.
Салюстий видел, как при этих словах Бурра на лицо императора набежала тень. Он ничего не сказал, только недобро усмехнулся, выпятив нижнюю губу, что всегда было у него признаком крайнего недовольства.
А короткое время спустя Паланта обвинили в плохом бережении государственных денег, в незаконных сделках и в чем-то еще. Мать Нерона, Агриппина, сама подписала обвинения. Правда, суд не приговорил его к изгнанию, как того хотела Агриппина, а наложил большой штраф, и Палант вынужден был покинуть государственную службу. Вряд ли его богатствам был нанесен сколько-нибудь значительный ущерб, но опаснее оказалось другое — недовольство Нерона. Становилось вполне вероятным, что в один прекрасный день Паланта объявят каким-нибудь заговорщиком, а богатство его твердой рукой подгребет под себя Нерон. Так что деньги без расположения императора (и это Салюстий усвоил твердо) мало значат в Риме и сами по себе могут скорее повредить их обладателю, чем помочь ему.
Салюстий наказал себе не высовываться — хотя состояние его стало теперь вполне значительным — и жить осторожно. Выезд его ничем особенным не отличался от выезда какого-нибудь средней руки претора, но в то же время не стыдно показаться перед другими. Носилки его теперь были одновременно и богатыми, и скромными, никакой конной стражи, а лишь четверо вооруженных слуг — с факелами в ночное время.
Салюстий любил выезжать, смотреть сквозь занавески на толпу, прижимающуюся к стенам. Он мог бы выбрасывать им несколько мелких монет, но считал это ненужным расточительством и без всяких приветственных криков чувствовал себя вполне счастливым.
В тот вечер он отправился к своей любовнице, «пышной Марции», как он ее называл за выдающиеся формы. Дорогой он думал главным образом о двух вещах: о проклятом Никии, неизвестно откуда и за что свалившемся на его голову, и об обнаженной Марции. Конечно, если бы не Анней Сенека, он давным-давно нашел бы способ избавиться от этого Никия, потому что кроме императора актер имел и других мощных покровителей. С одной стороны, далеко не всем нравился Анней Сенека, и многие были бы рады сделать ему какую-нибудь неприятность. Стоило Салюстию только открыть рот, как целая свора завистников набросилась бы на сенатора. Но Салюстий благоразумно молчал, и это несмотря на то, что влияние Сенеки на государственные дела и на самого Нерона явно слабело. Просто Салюстий боялся Сенеку, он до сих пор воспринимал его как своего господина. С тех самых пор, как Сенека выкупил его у прежнего хозяина, Титиния Капитона, Салюстий просто боялся и ничего с этим поделать не мог. Так что если бы Салюстий все же сделал такую глупость и открыл рот... Он не хотел думать, что бы произошло — более всего вероятно, он так бы и остался с раскрытым ртом, да еще с остекленевшими мертвыми глазами в придачу.
Эти мысли испортили Салюстию настроение, и, чтобы не омрачать себе предстоящий вечер и ночь, он стал думать о «пышной Марции». Впрочем, видел он ее всегда одинаково: обнаженной и в соблазнительной позе. Иногда ему казалось, что он не помнит ее лица, но зато знает каждую родинку, каждую складку ее теплого и мягкого тела.
Он вез ей подарок — знакомый купец подарил ему маленький сосуд с редким и дорогим притиранием. Если купец не врал, то притирание было из Персии и им якобы пользовались лишь жены персидского царя. Конечно, скорее всего купец врал и купил притирание где-нибудь в Антиохии или Эдессе, но такой оборот не огорчал Салюстия: во-первых, он очень любил, если что-то доставалось ему даром, во-вторых, притирание пахло очень сладко. Время от времени он открывал крышку и, приблизив горлышко к носу, вдыхал волнующий запах. Он представлял себе, как разденет Марцию и будет неспешно и сосредоточенно втирать жидкость в каждую частичку ее необъятного тела. Он решил, что заберет подарок домой — женщины расточительны и не умеют беречь то, что дается им в дар. Она может опрокинуть драгоценный сосуд или использовать его содержимое в один раз. Или — что заранее приводило Салюстия в неистовство — даст попользоваться притиранием какой-нибудь глупой подруге. Будет правильнее и спокойнее, если он заберет сосуд домой, а привезет его в следующий раз. Таким образом он доставит полное удовольствие и себе, и Марции, проявив при этом благоразумную бережливость.
Решив так про себя, Салюстий снова открыл крышку и поднес горлышко к носу. В ту же минуту за занавесками носилок раздался какой-то шум, они раздвинулись, и внутрь просунулась чья-то голова, укутанная в капюшон плаща. Салюстий резко подался назад, прижимая к груди сосуд с притиранием.
— Не бойся,— услышал он голос, показавшийся ему знакомым,— это я, Теренций.
Тут же рука одного из слуг Салюстия (из тех, что сопровождали носилки, освещая дорогу факелами) схватила Теренция за плечо и потянула назад. В свою очередь Теренций ухватился за край носилок и умоляюще посмотрел на Салюстия.
Салюстий, уже придя в себя (хотя и не вполне), чуть сдавленно приказал слуге:
— Оставь его!
Носилки остановились, а Салюстий, напряженно глядя на Теренция, спросил:
— Что случилось? Что тебе надо?
Теренций приставил палец к губам, призывая говорить тише, и, поведя глазами за спину, прошептал:
—Мой господин, Анней Сенека, хочет говорить с тобой.
— Сейчас? — недовольно глядя на Теренция, спросил Салюстий.— Почему сейчас?
— Я не знаю,— отвечал Теренций, все больше волнуясь и с трудом выговаривая слова.— Его носилки здесь, за углом.— Он показал рукой куда-то в сторону.— Он сказал, что у него срочное сообщение для тебя.
— Срочное сообщение? — переспросил Салюстий.— Может быть, лучше я приду к нему утром?
— Тогда я передам ему, что ты не хочешь,— дернул плечами Теренций и попятился.
— Нет, погоди,— остановил его Салюстий и уже совсем тихо добавил: — Я пойду.
— Сенатор просил тебя быть осторожным,— сказал Теренций и протянул руку, чтобы помочь Салюстию покинуть носилки.— Слугам не нужно видеть...
— Ладно, ладно, сам знаю,— раздраженно остановил его Салюстий и, опираясь на руку Теренция, вышел из носилок.
Теренций еще больше надвинул капюшон на глаза, а Салюстий, приказав слугам дожидаться его здесь, двинулся за ним следом. Он все так же прижимал сосуд с притиранием к груди, хотя забыл и думать о нем.
Теренций шагал быстро, и Салюстий едва за ним поспевал. Завернули за угол, потом еще раз — мрак сгустился, и Салюстий потерял Теренция из виду. Он остановился, опасливо озираясь и не в силах заставить себя кликнуть проводника. Вдруг он ощутил, что здесь что-то не то, и вспомнил, что Теренций уже давно не служит у Сенеки, а служит у Никия. «И, значит...» — со страхом выговорил было он про себя, но не успел закончить.
Сначала актер услышал шаги и почувствовал, как несколько человек обступили его со всех сторон. Он метнулся к стене, блеснул свет факела. Их было четверо с закутанными до бровей лицами — они молча и пристально смотрели на него. Теренций стоял за их спинами, глядя в сторону. Салюстий хотел окликнуть его, спросить, что же такое происходит, но тут державший факел поднес его едва ли не к самому лицу актера и глухо спросил:
— Ты Салюстий?
Салюстий только кивнул. Державший факел усмехнулся и сказал:
— Тогда умри!
И в ту же минуту что-то ударило в грудь Салюстия, он выронил сосуд — тот разбился о камни мостовой у его ног. Маслянистая жидкость забрызгала сандалии. Он смотрел туда, не в силах оторвать взгляд, чувствуя все нарастающую боль в груди и слабость в ногах.
Второй удар показался ему значительно сильнее первого. Он дернулся и стал оседать, скользя по стене. Последнее, что он увидел, это расширившиеся от ужаса глаза Теренция.
Глава шестая
Нерон был так занят Поппеей, что известие о смерти Салюстия не произвело на него никакого особенного впечатления. Он сказал:
— Нечего было таскаться по ночам к девкам.
А Поппея спросила:
— Это тот самый, что так смешно завывал и размахивал руками?
— Он мне порядком надоел,— проговорил Нерон и отвернулся.
Никий подумал, что император, может быть, так же выразился бы и о нем в случае его смерти, и ему сделалось грустно и почему-то стало жаль Салюстия. Актер в сущности был ни в чем не виноват, а погиб от знания чужой тайны, которая ему была не нужна. С другой стороны, хотя его жизнь и оказалась коротка, но последние несколько лет он все-таки жил при дворе императора, осыпанный его милостями. А такое выпадает далеко не каждому, тем более если учесть, что Салюстий недавний раб. Возможно, актер дожил бы до старости, останься он в Александрии у Титиния Капитана, но что это была бы за жизнь! А каждый день этой, при дворе Нерона, стоил месяца обычного существования. Так что в определенном смысле Салюстий не остался внакладе. Это вполне примиряло Никия со смертью актера.
Правда, смерть его (которая казалась вначале полным избавлением от всех неприятностей) повлекла за собой новую проблему: посланник учителя Павла, Онисим, требовал встречи с Никием.
Именно требовал, а не просил. Никию очень не хотелось с ним встречаться, но Симон убедил его, что это необходимо.
— Ты знаешь,— сказал он, вздохнув,— учитель Петр — это тебе не учитель Павел, он и его люди в таких делах всегда идут до конца.
Никий настороженно относился к братьям, бывшим при учителе Петре. Конечно, он любил учителя Петра и почитал его. Как же иначе, ведь учитель Петр видел самого Иисуса! Но люди, бывшие при нем, ему не нравились. Он знал не всех, но те, кого он знал, были ему неприятны. Были они заносчивы и себялюбивы, резки в оценках — для них существовало только черное и белое и никаких оттенков — и, главное, все казались уверенными, что лишь одни они знают Истину, а все другие, особенно братья из окружения Павла, только и стараются извратить Истину и повредить ей. И когда Симон из Эдессы сказал Никию, что Онисим угрожает добраться до него, если Никий не пойдет на встречу, то не приходилось сомневаться: раз Онисим так сказал, то и сделает, как сказал.
Никий через Симона передал Онисиму, что готов встретиться с ним, но что торопиться неразумно и нужно подыскать удобный случай — если кто-нибудь заподозрит Никия в сношениях с христианами, злейшими врагами Рима, то ему конец. А вместе с ним и конец всему делу. Симон передал и, вернувшись, сообщил Никию через Теренция, что Онисим согласен ждать, но очень недолго.
Но случай скоро представился, и притом совершенно неожиданно.
Надо сказать, что Поппея Сабина, так быстро ставшая полновластной хозяйкой дворца, проявляла в отношении Никия необычное расположение. Необычное потому, что Никий ничем его не заслужил, а еще потому, что с другими была она резка и язвительна. Она холодно говорили с Афранием Бурром и даже с Сенекой, а жене Нерона, Октавии, так прямо и заявила, что она тупая корова, а Нерону нужна настоящая женщина. Правда, сам Никий этого не слышал, но рассказавший ему об этой сцене человек добавил, что такая женщина, как Поппея, собственноручно может кого-нибудь придушить, если будет в гневе.
— Я считаю, что Поппея настоящая женщина,— ответил на это Никий, холодно глядя на собеседника. В глазах того мелькнул страх, и он, пробормотав что-то извинительное, быстро отошел.
Вообще-то Поппея нравилась Никию, хотя он и не смог бы объяснить почему. На первый взгляд, все в ней было дурно, кроме, может быть, внешности,— ее высокомерие, ее резкость, ее презрительный взгляд...
Короче говоря, в ее присутствии все чувствовали себя неуютно и теперь старались даже больше понравиться ей, чем Нерону. Чаще всего такие попытки оказывались напрасными.
Но с Никием она разговаривала неизменно ласково, и, возможно, это было главной причиной того, что Поппея нравилась ему.
Как-то Нерон сказал ей в присутствии Никия:
— Знаешь, Поппея, все достоинства Никия заключаются в одном: он любит меня.
Произнес он это с иронической усмешкой, как самую обыкновенную шутку. И посмотрел на Поппею, ожидая ответной. Но Поппея, строго на него взглянув, ответила с предельной серьезностью:
— Я знаю это. Никий единственный человек, который любит тебя по-настоящему.
Нерон был смущен. Чтобы как-то выйги из неловкого положения, он, вяло продолжая шутку, проговорил:
— А ты, Поппея? Разве ты не любишь меня по-настоящему? Признавайся!
— Я говорила о Никии, а не о себе,— отрезала она.
Нерон не нашел что сказать и, разведя руки в стороны, с виноватым выражением на лице обернулся к Никию.
А короткое время спустя, всего через несколько дней после смерти Салюстия, Нерон позвал Никия к себе.
Никий, войдя в покои императора, поискал глазами Поппею, с которой Нерон в то время не расставался, казалось, ни на одну минуту. Нерон, перехватив его взгляд, неожиданно строго заметил:
— Мы одни, Никий. Мне нужно переговорить с тобой об одном важном деле.— Он сделал паузу, прошелся мимо Никия от двери к окну, шумно вздыхая, и наконец продолжил: — У меня много врагов, а ты, может быть, единственный, кто любит меня по-настоящему. То, что я доверяю тебе, я не могу доверить никому другому — ни моему учителю Сенеке, ни даже
Афранию Бурру. Ты хорошо понимаешь, что я имею в виду?
— Да, император,— кивнул Никий.
Нерон опустился в кресло, тут же встал и тут же сел опять. Глядя исподлобья, сердясь то ли на Никия, то ли на самого себя, он неожиданно спросил:
— Ты знаешь мою мать, Агриппину?
— Да-а,— чуть с запинкой сказал Никий, не понимая, как отвечать на такой вопрос и что он может значить.
— И что ты думаешь о ней? — снова спросил Нерон.
— Я могу думать о матери императора только то, что она родила великого сына.
Нерон поморщился:
— Оставь такие глупости, я спрашиваю не об этом. Что ты думаешь о ней в государственном смысле, не как о моей матери, а как...— Он запнулся, подбирая нужное слово, и, так и не подобрав, проговорил раздраженно: — Что бы ты сделал, если бы мне угрожала опасность от собственной матери? И предупреждаю тебя: смертельная опасность.
Никий уже довольно долго пробыл при дворе, чтобы понять, куда клонит император и что он хочет услышать.
— Я защитил бы тебя от любого, кто посягнул бы на твою драгоценную жизнь, не принимая во внимание ни родство, ни заслуги.
— Так защити! — воскликнул Нерон, упершись руками в подлокотники и привстав в кресле.
— Ты имеешь в виду...— осторожно начал Никий, в свою очередь подавшись чуть вперед.— Если я тебя правильно понял, ты хочешь, чтобы я...— Он не договорил, ожидая реакции императора, а тот прошептал, вернее, почти что прошипел сквозь зубы:
— Да, да, я хочу этого, Никий!
Никий стоял, испуганно глядя на Нерона. Убить Агриппину, мать императора, недавнюю фактическую правительницу Рима... Этого он никак не ожидал. Его страшило не то обстоятельство, что Нерон был готов предать смерти собственную мать — в этом проклятом Риме и такое вполне могло сойти за оправданный, продиктованный государственными интересами поступок,— его страшило то, что Нерон поручает ему совершить это. Значит, он готов пожертвовать им, Никием, если не сразу же после содеянного, то чуть позже. Кто же оставит такого свидетеля! Кто захочет видеть рядом убийцу собственной матери, даже если ты сам приказал ее убить! Об Агриппине Никий не думал, он думал о себе.
— Ты, я вижу, сомневаешься? — спросил Нерон, презрительно усмехнувшись.— Отвечай!
— Нет,— Никий отрицательно повел головой,— я не сомневаюсь. Я не могу сомневаться, когда тебе грозит опасность. Просто не знаю, сумею ли я. Никто не обучал меня военному делу, и я не держал в руках меч.
Нерон облегченно вздохнул и, поднявшись с кресла, подошел к Никию и положил ему руку на плечо:
— Ничего такого тебе и не понадобится. Я просто поручаю тебе сопровождать мою мать в Байи, куда она скоро отправляется на отдых. Она поедет морем, и я хочу, чтобы ее путешествие было приятным. Корабль прекрасно подготовят,— проговорил он, пристально глядя в глаза Никию и делая ударение на слове «прекрасно»,— но ты сам понимаешь, в море все может случиться. Я дам тебе несколько человек, которыми ты будешь руководить, у тебя будет лодка, на случай, если с кораблем что-нибудь произойдет. У тебя всегда будет возможность спасти мать императора Рима. Но я хочу, чтобы ты знал вот что. Ты очень дорог мне, Никий, и я опечалюсь, если с тобой сотворится неладное. Пусть погибнут люди, которые будут сопровождать тебя, пусть даже погибнет моя...
Он не договорил, отошел к окну и некоторое время спустя, глядя вдаль, как бы в задумчивости произнес:
— Ты должен вернуться, Никий, вот чего я хочу от тебя.
— Я вернусь, император, будь уверен,— ответил Никий почти торжественно.
Нерон резко повернул голову. Губы его разошлись в натянутую улыбку, когда он произносил:
— Тогда иди и готовься к отплытию. Я попросил Аннея Сенеку представить тебя моей матери.
И Нерон плавно махнул рукой, показывая, что беседа окончена.
Уже поворачиваясь к двери, Никий вдруг перехватил беспокойный взгляд Нерона, брошенный в сторону тяжелого полога, прикрывавшего его ложе. Никий взглянул туда, и ему показалось, что за краем полога мелькнуло платье Поппеи.
Глава седьмая
Сенека сообщил Никию, когда они встретились, чтобы ехать к Агриппине, что несколько дней назад император посетил мать в ее доме. Он был с ней ласков, просил простить его за причиненные огорчения и предложил поехать в Байи для отдыха. Сначала император сказал, что они поедут вместе, но потом, вспомнив о неотложных делах — ему обязательно нужно было выступить в сенате по вопросу о новых налогах,— попросил ее отправиться одну, с тем чтобы он присоединился к ней уже несколько дней спустя.
Сенека рассказывал об этом вяло, со скучающим лицом, и лишь на вопрос Никия: «И она согласилась?» — ответил с грустной улыбкой:
— Да. Император настойчиво просил ее согласиться.
Вообще Сенека казался усталым и равнодушным, поручение императора представить Никия матери явно его тяготило. Никий боялся, что Сенека начнет неприятный разговор о том, для чего он был введен в окружение императора, но страхи его оказались напрасными — сенатор не расположен был говорить ни о чем подобном.
Агриппина встретила их в своей гостиной, сидя в кресле у окна. Улыбнулась Сенеке и совсем не заметила Никия. Когда Сенека стал представлять молодого человека, она прервала его, проговорив холодно:
— Знаю, Нерон говорил мне о нем.
Никий впервые видел Агриппину так близко, и она показалась ему очень красивой. Трудно было представить, что у этой молодой, элегантно одетой женщины такой взрослый сын. Сам Нерон представился сейчас Никию едва ли не ровесником собственной матери.
— Ты пришел попрощаться со мной, Анней? — спросила Агриппина, взглянув на сенатора и тут же опустив глаза.
— Нет,— отвечал Сенека с вымученной улыбкой,— скорее пожелать тебе счастливого пути.
— Не вижу разницы между прощанием и... этим,— холодно заметила она.
— Различие в том, дорогая Агриппина,— произнес он как можно мягче,— что мы расстаемся только на время. Если ты позволишь, я приеду навестить тебя в Байи.
— Навестить? — фыркнула она и насмешливо посмотрела на сенатора.— Ты можешь сопровождать меня сейчас же. Или об этом нужно просить моего дорогого сына? Да или нет?
— Нет, Агриппина, я думаю, что никакого особого разрешения не нужно, просто...
— Что? Что просто? — резко спросила она.
— Просто мне нужно быть с Нероном в сенате,— с сожалением разводя руками, ответил он.— Нужно как следует приготовить его речь, в этот раз его выступление будет иметь особенно важное значение.
— Важное значение! — усмехнулась она.— Для кого важное: для тебя, для меня или для него?
— Для Рима,— сдержанно произнес Сенека.
— Да, да,— быстро проговорила она и только теперь указала ему на кресло. Никия она по-прежнему словно не замечала.
Сенатор, удобно устроившись в кресле, с вялой улыбкой смотрел в напряженное лицо Агриппины. Некоторое время они молчали. Никий, стоя у кресла Сенеки, с интересом разглядывал богатое убранство комнаты. Он не чувствовал обиды от того, что Агриппина так демонстративно его не замечала,— в конце концов, она мать императора и имеет право кого-то любить, а кого-то не замечать. Была некоторая неловкость, но вполне переносимая.
— Скажи мне, Анней,— прервала наконец молчание Агриппина,— что ты думаешь об этой Поппее? Я ее совершенно не помню. Она что, так уж красива?
— Ты же знаешь, Агриппина,— с улыбкой старого придворного ответил сенатор,— с твоей красотой ничья сравниться не может.
Агриппина недовольно поморщилась.
— Я спрашиваю тебя не для того, чтобы ты расточал мне комплименты. Согласись, в моем положении это выглядит насмешкой.
— Не понимаю, что ты имеешь в виду.
— Не притворяйся, Анней,— раздраженно заметила она,— все ты прекрасно понимаешь. Если ты боишься говорить о Поппее в присутствии этого молодого человека, то так и скажи.
Сенека покосился к сторону Никия и вздохнул.
— Понимаю,— продолжила Агриппина, раздражаясь все больше,— значит, эта дрянь взяла большую власть. Очень большую, Анней, если даже ты боишься говорить,
— О, Агриппина,— протестующе покачал головой сенатор,— ты несправедлива.
— Значит, это она отправляет меня в Байи,— проговорила женщина со вздохом.— Чувствую, что я уже никогда не вернусь оттуда.
— Знаешь, Агриппина,— после некоторой паузы устало сказал Сенека,— в последнее время я много размышлял, думая о том, чтобы покинуть Рим навсегда.
— Покинуть Рим навсегда? — переспросила она со сдержанным удивлением.— Ты шутишь.
— Нет, Агриппина, я говорю серьезно. Я стар, я устал, мое время прошло. Я только изображаю государственного деятеля, но перестал им быть. Честно признаюсь тебе, я стал равнодушен к так называемым государственным проблемам. У меня нет прежней энергии, да и желания участвовать во всем этом у меня тоже нет. Я хотел бы закончить некоторые свои начатые работы — ведь когда-то меня считали писателем.
Последнее он произнес с грустной улыбкой.
— Ты навсегда останешься писателем,— неожиданно твердо выговорила Агриппина.— Великим писателем, и ты знаешь это. Но куда ты хочешь уехать?
Он пожал плечами:
— На одну из своих вилл в окрестностях Рима. Или на Капри, я всегда любил это место.
— Замечательный остров,— резко проговорила она.— Там мой брат Гай задушил Тиберия. Подушкой, если верить слухам.
— О Агриппина! — воскликнул Сенека, бросив на нее укоризненный взгляд.
— Ты стал труслив, Анней,— усмехнулась она, качнув головой в сторону Никия.— К тому же какой здесь секрет, если это известно каждому римскому плебею. Но я хотела сказать не об этом, то есть не о моем брате Гае, а о тебе, Анней.
— Я не вполне понимаю.
— Ты в самом деле стареешь, Анней,— проговорила Агриппина, пристально на него глядя.— Я только хотела сказать, что если подушка нашлась для Тиберия, то ее найдут _и...
— ...для меня,— договорил за нее Сенека.
— Да, Анней,— кивнула она.— Ты же знаешь, подобные тебе великие деятели не могут просто так уйти на покой. Ты, надеюсь, не говорил о своем желании с моим сыном?
— Потому и не говорил,— улыбнулся он.
— Все-таки хорошо, Анней,— сказала она с ответной улыбкой,— что мы так хорошо понимаем друг друга. Тот из нас, кто умрет первым, окажется счастливее оставшегося в живых: оставшемуся будет скучно. Хочу надеяться, что в этом смысле я стану счастливее тебя.
— А я хочу надеяться...— начал было Сенека, но Агриппина прервала его, обратившись к Никию:
— Ты очень красив,— строго произнесла она.— Ты, наверное, спишь с моим сыном?
Никий покраснел и не нашелся с ответом. Его выручил Сенека.
— Никий — достойный молодой человек,— проговорил он с некоторой укоризной.— Несмотря на молодость, он хорошо образован и умен.
— Правда? — насмешливо и удивленно откликнулась Агриппина.— С каких это пор в окружении моего сына завелись образованные и умные люди? Да еще достойные.
— Я ручаюсь за него,— сказал Сенека.
— Ладно, не будем об этом.— Агриппина сделала быстрое движение рукой, словно отметая прежнюю тему, и, обращаясь к Никию, спросила: — Ты хорошо знаешь морское дело?
— Совсем не знаю,— отвечал он с поклоном.
Агриппина удивленно взглянула на Сенеку, потом
снова на Никия.
— Это странно.— Она прищурилась точно так же, как это делал ее сын.— А Нерон сказал, что ты будешь оберегать меня в пути. Может быть, ты еще и не умеешь плавать?
— Я умею плавать,— сказал Никий,— и, если понадобится, сумею вытащить на берег даже не одного, а двух пострадавших. Тебе не стоит беспокоиться, я всегда буду рядом.
— В этом я не сомневаюсь,— проговорила она со странной улыбкой и встала.— Мне нужно еще приготовиться к отъезду. Прощай, Анней.
Сенека тоже встал и низко поклонился Агриппине, а она нежно коснулась его плеча.
Когда они были уже у двери, Агриппина окликнула сенатора:
— Анней!
Он повернулся (Никий заметил, что по лицу его пробежала тень беспокойства):
— Я слушаю тебя.
— Нет, ничего,— отрывисто произнесла Агриппина.— Иди.
Прощаясь у дворца Нерона, Сенека сказал, глядя в сторону:
— Мне бы очень хотелось...— он не договорил, но поднял глаза и посмотрел на Никия тем же странным взглядом, каким только недавно смотрела Агриппина.
— Я внимательно слушаю тебя,— откликнулся Никий.
— Мне бы очень хотелось,— повторил Сенека уже значительно тверже, не опуская глаз,— чтобы тебе понадобилось твое умение плавать.
— Значит, сенатор считает, что с кораблем может что-то случиться? Надеюсь, боги будут к нам благосклонны и мы благополучно...
— Не боги, Никий, а Бог,— неожиданно твердо выговорил философ.— Тебе нужно помнить об этом.
— Но я думал...
— Не перебивай,— остановил его Сенека.— Так вот, я уверен, твоему Богу будет угодно, чтобы ты применил свое умение плавать и сумел бы вынести на берег если и не двоих, то хотя бы одного. Или одну,— добавил он, четко выговорив последнее слово.
Никий не успел ответить — сенатор отвернулся и приказал носильщикам двигаться вперед. Он долго смотрел вслед удаляющимся носилкам, ожидая, что Сенека обернется. Но тот не обернулся.
Глава восьмая
В тот же день Никий отправился на пристань. Императорский корабль не поразил его размерами и особенной красотой. Сенека когда-то рассказывал ему о корабле Гая Калигулы. То был не корабль, а настоящий дворец, император Гай, случалось, жил на нем несколько недель кряду. Выйти из Тибра в море он мог только весной, когда уровень воды сильно поднимался, да и то для него готовили специальное русло. К дальним путешествиям такой корабль, конечно же, не был пригоден, но зато оставался единственным в своем роде, и его часто — не преувеличивая — именовали одним из Чудес Света.
Корабль-дворец сгорел еще во время принципата Гая. Говорили, император сам велел его поджечь, задумав погубить неугодных ему придворных. Но Сенека считал это досужими домыслами, потому что во время пожара сам император Гай чудом спасся.
Нерон не пытался строить для себя ничего подобного, объясняя, что для жизни его вполне устраивает дворец, а для плаванья лучше иметь быстроходный корабль, чем бессмысленную посудину, готовую пойти ко дну даже при малой волне. Из трех его кораблей этот, приготовленный для путешествия Агриппины, был самым любимым. Агриппина хотела плыть на собственном корабле, но Нерон настоял на своем, говоря, что весь Рим должен увидеть тот почет, который он оказывает матери.
Лишь только Никий покинул носилки, к нему с мостков сбежал низенький крепыш с черной кудрявой бородой и горящими глазами. Низко склонившись перед Никием, крепыш сказал, что его зовут Кальпур-ний.
— Я гражданин Рима, меня зовут Кальпурний! — проговорил он, ударив себя в грудь поросшим черными волосами кулаком. Сказал так, будто Никий мог сомневаться в этом.
— И чего же ты хочешь, Кальпурний? — поинтересовался Никий.
Тот сделал удивленное лицо:
— Я перехожу под твое начало. Разве блистательный Афраний Бурр не сказал тебе об этом?
— А-а,— протянул Никий, сообразив, что к чему.— Да, да, Афраний предупредил меня, я вспомнил.
— Тогда пойдем,— Кальпурний указал на корабль,— я покажу тебе.
— Я плохо понимаю в морском деле,— произнес Никий, вслед за Кальпурнием взойдя на палубу.
— Тебе ничего и не нужно знать, раз с тобой я, Кальпурний, гражданин Рима! — гордо вскинул голову его провожатый и снова ударил себя кулаком в грудь.
Только теперь Никий понял, почему этот моряк упоминает о своем римском гражданстве,— он походил на кого угодно, на выходца из Персии или Иудеи, но никак не на римлянина. Впрочем, Никий не стал уточнять происхождение Кальпурния, это обстоятельство его нисколько не интересовало.
Они спустились в трюм, Кальпурний плотно прикрыл дверь, взял стоявший на полочке горящий светильник и, подойдя к деревянной стойке в центре трюма, похлопал по ней ладонью.
— Попробуй сам,— прошептал он, поглаживая стойку.
Никий не понял и смотрел на Кальпурния вопросительно. Тогда тот молча и аккуратно взял руку Никия и поводил ладонью вверх и вниз по гладкой поверхности. Он лукаво смотрел на Никия и приговаривал:
— Чувствуешь, чувствуешь?
Никий не знал, что же такое он должен почувствовать, а прикосновение Кальпурния было ему неприятно. Он резким рывком освободил руку и раздраженно выговорил:
— Что я должен чувствовать? Говори внятно.
Лицо Кальпурния выразило досаду.
— Я только хотел...— начал было он, но Никий строго повторил:
— Говори!
— Она крепкая,— быстро произнес Кальпурний, с опаской глядя на Никия (Никий ясно ощутил, что в эту минуту моряк совершенно забыл, что он гражданин Рима, он смотрел на Никия как раб на господина).— Она крепкая,— снова повторил Кальпурний и ударив кулаком по стойке (та ответила глухим упругим звуком).— Если даже несколько человек упрутся в нее, то не свалят.
— Дальше! — сердито поторопил его Никий.
— Но я сделал так,— уже жалобно продолжил Кальпурний,— что она рухнет, чуть только до нее дотронешься в нужном месте. Сейчас объясню.— Он присел на корточки, просунул руку куда-то под стойку и, подняв голову и глядя на Никия снизу вверх, начал объяснение: — Мачта крепится в специальных пазах — вот здесь и вот здесь. А вот это упор, чтобы фиксировать крепление. Крепления очень жесткие, мачта может сломаться, но не упасть. А если посмотреть на крепление в палубе, то можно увидеть...— Он встал и, протянув руку, указывал куда-то вверх.— Можно увидеть...
В этом месте Никий прервал его:
— Хватит! — Он сделал решительный жест рукой.— К чему мне твои объяснения?
— Еще два слова, сенатор! — жалобно выговорил Кальпурний.
— Я не сенатор,— холодно заметил Никий.
— Прости, я не знал. Но только два слова!..
— Говори!
— Я еде... сделал так,— заикаясь, промямлил Кальпурний,— что, если ослабить упор, а потом убрать его совсем... Тогда, когда будет нужно... когда ты прикажешь...— быстро поправился он,— когда ты прикажешь, то мачта не сломается, но корабль разломится пополам.
— Пополам? — нахмурился Никий.
— Пополам,— с опаской подтвердил Кальпурний.
— И, значит, все погибнут? И мы вместе со всеми?
— Нет, нет,— помотал головой Кальпурний.— Там две лодки. Ты можешь сесть в одну, прежде чем отдашь приказ. Тебе не о чем беспокоиться, все гребцы — мои люди, они доставят тебя на берег. Клянусь Юпитером, это так!
— А ты сам? Ты сам как будешь спасаться?
— Я? — почему-то испуганно переспросил Кальпурний.— Ты говоришь про меня?
— Да, да, про тебя,— с нехорошей улыбкой подтвердил Никий.— Ты же можешь не успеть, если корабль разломится пополам.
— Не успеть? — На лице Кальпурния отразился страх.
— Корабль разломится, и ты можешь не успеть. Или ты желаешь пожертвовать собой ради... Желаешь пожертвовать?
— Нет,— тревожно выдохнул Кальпурний и тут же сказал: — Да.
— Так «да» или «нет»? — усмехнулся Никий.— Я не понимаю тебя, мой Кальпурний.
Кальпурний стоял неподвижно, глядя на Никия широко раскрытыми глазами. Страх не просто был в его лице, но весь он представлял в ту минуту как бы статую страха.
— Ладно.— И Никий, протянув руку, дотронулся до плеча Кальпурния (тот не пошевелился, а плечо показалось Никию мраморным).— Это мы обсудим после. А теперь проводи меня.— И, резко развернувшись, Никий направился к лестнице, ведущей на палубу.
Кальпурний показался наверху лишь тогда, когда Никий уже сидел в носилках.
— Сенатор! — прокричал он, взмахнув руками, и на полусогнутых ногах сбежал с мостков.
Никий приказал носильщикам двигаться. Кальпурний добежал до края пристани и остановился как вкопанный, словно натолкнулся на невидимую преграду.
— Сенатор! — услышал Никий его жалобный крик, но не оглянулся.
Глава девятая
В ту же ночь Никий тайно покинул дворец. Это было не очень трудно. Нерон давал пир для своих ближайших друзей (по крайней мере, так он их сам называл). Присутствовали Отон, Лукан — поэт и племянник Сенеки, всегда державшийся чуть высокомерно и торжественно даже в присутствии императора, и еще двое — любимец императора красавец Дорифор (ныне отставленный, но не вполне потерявший благорасположение Нерона), и он, Никий. Из женщин была только Поппея, возлежавшая рядом с Нероном и особенно красивая в тот вечер.
В обычай у Нерона вошло посмеиваться над кем-нибудь из присутствующих — это была его любимая забава, то есть весь пир мог проходить под знаком насмешки над кем-нибудь из гостей. Шутки случались то безобидные, то очень жестокие, смотря по настроению императора. В этот раз объектом насмешек был выбран Отон.
Сначала гости держались несколько скованно, поглядывали на Поппею и плохо поддерживали Нерона, находившегося в тот вечер в особенно приподнятом состоянии духа. Шутки императора касались единственной темы — женитьбы Отона. То император предлагал ему одну за другой известных римских матрон преклонного возраста, то говорил, что готов отдать их Отону всех сразу, чтобы тот жил наподобие восточного владыки.
Отон вяло отшучивался, говоря, что не справится со всеми, и упорно не смотрел на Поппею.
— Ты привыкнешь, мой Марк,— со смехом говорил Нерон, оглядывая присутствующих в поисках поддержки.— Все они слишком зрелые женщины, чтобы очень уж утомлять тебя. Ты будешь вести размеренную жизнь, полезную для здоровья.
Отон не ответил, только посмотрел на императора умоляющим взглядом. Поппея глядела в сторону и была похожа на изваяние. «Слишком прекрасна, чтобы быть сострадательной»,— подумал Никий. Дорифор смотрел на Поппею, не скрывая презрения,— так женщина смотрит на свою соперницу, более удачливую, чем она сама. Нерон видел это, но Дорифору, несмотря на отставку, прощалось многое. Анней Лукан был поглощен едой и не поднимал глаз.
— Что ты скажешь на это, Анней? — обратился Нерон к поэту.— Хорош будет наш Отон в виде восточного владыки?
Лукан поднял голову от тарелки, посмотрел на Нерона так, будто только сейчас понял, что слова императора обращены к нему.
По лицу Нерона пробежала тень гнева. Он выпятил нижнюю губу и, прищурившись, посмотрел на Лукана.
— Конечно,— сказал он,— тебе, великому поэту, наши разговоры могут показаться глупыми. Наверное, ты обдумываешь очередное свое произведение. Может быть, ты посвятишь нас в свои планы, если, конечно, ты считаешь нас достойными?
— О император! — с улыбкой отвечал Лукан (но сидевший напротив Никий видел, что его взгляд напряжен).— Как можем мы, стоящие столь низко, сравниться с тобой, стоящим столь высоко! Все мои потуги создать что-либо имеют одну-единственную цель — восславить тебя и твою власть над Римом. Прости, что мы не можем быть достойными тебя!
Тон, каким он произнес свои слова, был самым торжественным, но все это показалось Никию насмешкой. Он перевел глаза на Поппею и понял, что не один он думает так: она смотрела на Лукана с нескрываемой ненавистью.
— Ты ловко умеешь расставлять слова,— проговорил Нерон, скользнув взглядом по сидевшей рядом Поп-пее,— это твоя профессия. Но напрасно ты думаешь, что можешь обманывать нас так же, как обманываешь публику!
— Я не понимаю, принцепс, в чем я провинился перед тобой... публикой? — У Лукана дрогнул голос.
— Ты не знаешь?! — воскликнул Нерон и обвел глазами гостей.— Вы слышите, наш Лукан чего-то не знает! А мы-то думали, что ты знаешь все на свете. А чего не знаешь, то тебе подсказывают боги, слетая по ночам с Олимпа!
Он прервался и уставился на Лукана: лицо искажено злобой и похоже на маску. Он хотел продолжить, но вдруг, конвульсивно дернув головой, встал и, пнув ногой стоявшее перед ним блюдо с фруктами, покинул комнату.
Все замерли, со страхом глядя на дверь, в которую вышел император. Никию показалось, что он до сих пор слышит звук его тяжелых шагов.
Поппея встала тоже. Она поочередно посмотрела на каждого из гостей — на Дорифора мельком, на Отона с насмешкой, на Лукана с холодной злобой — и, остановив взгляд на Никии, сказала, нетерпеливо махнув рукой:
— Проводи менл, Никий!
Никий встал и пошел вслед за ней, едва поспевая. Легкая накидка на ее плечах развевалась и походила на крылья.
Она ни разу не обернулась, а Никий так и не догнал ее. Постоял у двери и хотел было вернуться назад, но вдруг остановился и прислушался: ему показалось, что он слышит тяжелый топот шагов и бряцание железа. Шум приближался, и он со страхом смотрел в конец галереи, откуда исходил этот шум.
Но отряд солдат преторианской гвардии, направлявшийся арестовать Лукана, Отона, Дорифора и, может быть, его, Никия, так и не появился. Топот еще раздавался в ушах, когда он увидел показавшихся в конце галереи слуг со светильниками. Только тогда Никий понял, что уже темно, и вспомнил, что на сегодня у него назначена встреча с Онисимом. Постояв еще некоторое время и успокоившись, он вышел из дворца и направился в сторону садов Мецената, где его должен был ждать Онисим.
Еще вчера Теренций уговаривал его не встречаться с Онисимом. Глядя на Никия глазами, в которых стоял ужас, он говорил, что Онисим страшный человек и ему ничего не стоит убить Никия так же, как он убил Салюстия. «С твоей помощью»,— хотелось напомнить Никию, но он промолчал. Вместо этого он, как мог, успокоил Теренция, объяснив, что Онисиму нет никакой выгоды причинять ему вред, тем более убивать.
— Нет, нет,— всплескивал руками Теренций,— ты не знаешь, ты не видел его лица!
— Скоро увижу,— со смехом отвечал Никий, но на душе у него было тревожно.
Теренций качал головой, лицо его стало таким, будто Никий уже умер, а слуга оплакивает его.
Теперь, стоя у стены из грубого булыжника, вслушиваясь и вглядываясь в темноту, Никий жалел, что все-таки пошел на встречу. Во всяком случае, не стоило идти одному, тем более что Симон предлагал пойти вместе. Но сейчас уже поздно жалеть, хотя идти сюда, в пустынное место за садами Мецената, было очевидной глупостью, ведь на него могли напасть обыкновенные грабители, каких много обретается в Риме.
Он услышал шорох справа и вздрогнул, когда низкий мужской голос из темноты спросил:
— Ты Никий?
— А ты кто? — в свою очередь спросил Никий, стараясь не выказать голосом страха, но все равно не очень уверенно.
Человек в плаще и надвинутом на глаза капюшоне приблизился к Никию и молча сдвинул капюшон на затылок. Насколько ему удалось разглядеть в темноте, мужчине было лет пятьдесят или около того — густая борода, густые волосы и глубоко посаженные глаза. Некоторое время он молча смотрел на Никия, потом сказал своим низким, чуть хрипловатым голосом:
— Я Онисим. Я ждал тебя.
— Вот я и пришел,— проговорил Никий чуть насмешливо, снова стараясь продемонстрировать уверенность, но насмешка прозвучала жалко.— Что ты хотел сказать мне?
— Тебе известно, что я послан учителем Петром? — спросил Онисим.
— Да, Симон говорил мне.
— Значит, тебе известно, что Павел в тюрьме, а Петр да еще Иаков теперь главные наши учителя?
— Мне это известно,— сдержанно кивнул Никий.
— И ты знаешь, что каждый из наших братьев должен идти туда, куда они пошлют его, и делать то, что они скажут?
Онисим говорил почти совсем без выражения: не спрашивал, не утверждал, а лишь сообщал. При этом он смотрел на Никия, ни на мгновенье не отводя взгляда, и с каждой минутой Никию делалось все более не по себе. Он опять вспомнил предостережения Теренция и пожалел, что не послушался слугу.
— Я послан от учителя Петра, чтобы передать тебе,— монотонно продолжал Онисим,— ты должен покончить с чудовищем, именуемым Нероном. Ты хорошо понимаешь мои слова?
— Да.
— Ты сделаешь то, что велит учитель Петр?
— Нет.
Это внезапное «нет» выскочило как бы само собой, без ведома Никия, не собиравшегося отвечать так. Он и сам не понял, как же это произошло.
— Ты отказываешься? — все так же спокойно, по крайней мере без видимой угрозы, спросил Онисим (лучше бы он угрожал — спокойствие его тона было особенно зловещим).
— Нет,— уже осознанно произнес Никий,— не отказываюсь, но ведь такое не делается просто.
— Тебе это сделать просто. Нужно только вытащить нож и ударить им в левую сторону груди или в горло. В горло надежнее.
— В горло надежнее? — переспросил Никий не потому, что хотел утвердиться в том или ином способе убийства, а потому, что был возмущен.
— Да, надежнее,— то ли не замечая возмущения Никия, то ли не желая его замечать, подтвердил Онисим.— Нужно или бить под подбородок, но как можно глубже, или резать от уха до уха, но здесь нужна сноровка. Скажи, ты никогда не делал этого?
— Я никогда не делал этого! — закричал Никий и, отступив на шаг, уперся спиной в уже остывшие за вечер камни стены.
— Не говори так громко,— спокойно заметил Онисим,— нас могут услышать.
— Но я никогда, никогда не делал этого! — понизив голос, горячо прошептал Никий.— И учитель Павел, он никогда, никогда...— Он задохнулся и не смог продолжить.
— Учитель Павел в тюрьме,— напомнил Онисим, делая шаг вперед, чтобы снова приблизиться к Никию. Тому уже некуда было отступать, и он как можно плотнее вжался в стену.— Учитель Павел в тюрьме,— повторил Онисим, и первый раз за все время разговора голос его прозвучал с некоторым напором.— Теперь Петр и Иаков главные учителя, и ты обязан подчиниться их воле.
— Но разве учитель Петр мог повелеть совершить убийство! Ведь он видел Иисуса, а Иисус говорил, что убивать нельзя!
Онисим вздохнул, обдав Никия тяжелым чесночным духом. Никий поморщился и задержал дыхание, а Онисим сказал:
— Кому ты не веришь: мне или учителю Петру?
— Ты не так понял,— быстро ответил Никий,— я не сказал, что не верю, я просто думал, что учитель Петр...
— Тебе не о чем думать,— прервал его Онисим,— учитель Петр думает за тебя.
— Но я не умею! — уже просительно проговорил Никий, стрельнув глазами в сторону. Подумал: «Если толкнуть его посильнее в грудь, то можно убежать и скрыться в темноте».
Но Онисим словно бы прочитал его мысли.
— Тебе уже некуда деться, Никий,— сказал он.— Если ты попытаешься бежать, я убью тебя как отступника, как того, кто выступает с проклятыми римлянами против братьев своих. Если ты согласишься, но обманешь, то тебя все равно ждет смерть,— если не сумею я, то кто-нибудь из наших братьев в Риме все равно достанет тебя. Выхода нет, помни это.
— Но я не собирался бежать,— чуть обиженно произнес Никий.— Зачем бы я пришел сюда, если бы хотел сбежать!
— Ты возьмешь нож и убьешь его,— продолжал Онисим, словно Никий ничего не говорил в свое оправдание.— И ты должен сделать это как можно скорее.
— Ну хорошо, хорошо,— прерывисто вздохнул Никий,— но ведь если я сделаю это, меня тут же схватят...
— И предадут смерти,— договорил за него Онисим.
— Да, предадут смерти,— повторил Никий, и голос его задрожал.
— А ты разве боишься смерти? — кажется, в самом деле удивленно спросил Онисим.
— Я? Я не знаю,— дернул плечами Никий, почувствовав сильный озноб.
— Я тебе скажу,— медленно выговорил его собеседник.— Не бойся смерти — смерти нет. Нельзя бояться того, чего нет! — И, предупреждая возражение Никия, добавил: — Страдания — благо. Так говорил Иисус. И Он страдал и принял смерть ради нашего спасения.
«Но я не Иисус!» — едва не вскричал Никий, но сумел только открыть рот.
Внезапно Онисим отскочил в сторону, и в руке его блеснул меч.
— Кто здесь?! Выходи! — чуть пригнувшись, расставив ноги в стороны и выставив меч перед собой, крикнул он.— Выходи, или я убью тебя!
— Это я, я! — раздался тревожный голос из темноты, показавшийся Никию знакомым.
— Ну-у-у! — угрожающе протянул Онисим.
— Это я, Теренций,— отозвался голос, и только теперь Никий узнал его.
— Какой Теренций? — Онисим, сделав шаг вперед, настороженно вглядывался в темноту.
— Это мой Теренций,— быстро проговорил Никий.— Мой слуга. Убери меч.
Онисим меч не спрятал, но поза его сделалась не столь напряженной. Из темноты, осторожно ступая, вышел Теренций, закутанный в плащ,— широкие полы его едва не касались земли.
— Что ты тут делаешь? — удивленно спросил Никий, но Онисим не дал Теренцию ответить:
— Подойди! — приказал он властно и сам шагнул ему навстречу.
Теренций попятился, но Онисим ловко ухватил его за плащ и резко дернул. Плащ распахнулся, и что-то упало, глухо ударившись о землю. Онисим присел и поднял упавшее. Когда он распрямился, в его руках было уже два меча.
— Значит, ты хотел убить меня? — надвигаясь на пятящегося Теренция, угрожающе сказал Онисим.
— Нет, нет,— жалобно воскликнул Теренций, останавливаясь и прикрывая грудь рукой.
— Ты сказал, что придешь один! — обратился Онисим к Никию,— Ты обманул меня! Ты хотел...
Страх уже покинул Никия, он и сам не заметил когда и как. Может быть, все дело было в Теренции — неловко выглядеть трусом в присутствии своего слуги. А может быть, страх был ложным и, дойдя до критической точки, лопнул как мыльный пузырь. Но, как бы там ни было, Никий вдруг решительно подошел к Они-симу и отвел его руку с мечом, направленным в грудь Теренция.
— Ты хотел!..— повторил Онисим, но Никий не дал ему договорить.
— Ничего я не хотел! — раздраженно, едва ли не со свирепыми нотками в голосе, воскликнул он.— Отойди, сейчас все узнаем!
Онисим неожиданно повиновался, отошел, пусть и нехотя, на два шага. Вложил свой меч в ножны, а меч Теренция с силой воткнул в землю.
— Что такое, Теренций? — обратился Никий к слуге.— Почему ты здесь?
— Я, я... думал...— запинаясь, выговорил Теренций, заглядывая за спину Никия, туда, где стоял Онисим.
— Он думал всадить мне меч в спину! — усмехнулся Онисим.
— Не вмешивайся! — строго прикрикнул на него Никий и приказал Теренцию.— Говори!
— Я думал, одному опасно,— уже спокойнее сказал Теренций. — Я думал, вдруг кто-нибудь нападет на тебя.
— Кто, кто нападет?
— Не... не знаю... Грабители.
Теренций стоял, низко опустив голову, вид у него был виноватый. Никию вдруг стало жалко слугу, он усмехнулся про себя (Теренций скорее походил на жертву грабителей, чем на защитника) и сказал примирительно:
— Ладно, поговорим потом.
Повернулся к Онисиму:
— Отдай ему меч!
Онисим снова повиновался, хотя и не сразу: некоторое время он и Никий стояли неподвижно, пристально глядя в глаза друг другу. Первым опустил глаза Онисим. Он медленно протянул руку, взялся за рукоять меча и коротким рывком выдернул его из земли. Потом, обойдя Никия, подал меч Теренцию. Теренций молча взял меч за лезвие и почему-то прижал его к груди.
— Отойди,— сказал ему Никий,— нам надо договорить.
Теренций сделал несколько торопливых шагов назад, а Никий, кивнув Онисиму, подошел к стене.
— Теперь слушай, что я тебе скажу,— произнес он властным, неожиданным для самого себя тоном.— Учитель Павел говорил со мной, прежде чем направить в Рим. Он направил меня сюда не для того, чтобы служить Нерону. Или ты думаешь по-другому?
— Нет,— глухо отозвался Онисим и тут же торопливо добавил: — Я не знаю.
— Так вот знай,— подавшись вперед, чуть прищурив глаза и выпятив нижнюю губу, как бы подражая Нерону (хотя все это вышло неосознанно), сказал Никий,— учитель Павел направил меня сюда не для того, чтобы служить Нерону. Мне нечего тебе объяснять. Мы с тобой маленькие люди, братья, а не учителя. Пусть Павел договорится с Петром и Иаковым, это их дело, а не наше!
— Но Павел...— начал было Онисим, но под взглядом Никия тут же поправился: — Но учитель Павел... Он в тюрьме.
— А тебе известно, что он сам желал этого?!
— Да.
— Почему он желал этого, скажи?!
— Не знаю,— пожал плечами Онисим (и тон, и голос его, да и поза тоже выдавали явную нерешительность, которую он и не думал сейчас скрывать).
— Не знаешь! — с угрозой произнес Никий.— И я не знаю. Он сказал во время нашего последнего разговора, что пойдет в тюрьму, но я не посмел его спрашивать почему. (Павел не говорил Никию этого, так ему рассказал Симон из Эдессы, но сейчас было правильнее сказать, что он слышал это сам из уст учителя.) Я не посмел его спрашивать, почему он это делает,— продолжал Никий,— ведь он учитель, великий учитель, а я всего-навсего... Я не смею стирать пыль с его сандалий, вот что. Ты понимаешь меня, Онисим? Ты правильно меня понимаешь?
Онисим не ответил, а только, взглянув на Никия, удрученно вздохнул и снова опустил глаза.
Никий выдержал паузу, мельком глянул на стоявшего невдалеке Теренция и спросил:
— У тебя есть люди, здесь, в Риме? Они надежны?
— Да, они надежны,— кивнул Онисим,— я не раз имел возможность убедиться...
— Хорошо,— прервал его Никий.— Сколько их?
— Четырнадцать.
— Немного,— медленно выговорил Никий и снова спросил: — Их отбирал сам учитель Петр?
— Нет,— помотал головой Онисим,— я их отбирал.
— Значит, говоришь, они надежны?
— Да, надежны,— быстро ответил Онисим.— И каждый стоит троих.
— Кого троих? — усмехнулся Никий.— Здешних плебеев или преторианских гвардейцев Афрания Бурра?
— Я имел в виду солдат,— осторожно произнес Онисим.
— Хорошо. Будем считать, что ты не ошибаешься. Теперь слушай внимательно. Мне нужен ты и твои люди. Мне надо убрать кое-кого из окружения императора, прежде чем взяться за него самого. Послезавтра я отплываю в Байи, сопровождаю Агриппину, мать Нерона.
— Проклятая! — как бы про себя вскричал Онисим.
— Она может не добраться до места назначения,— продолжал Никий, как бы ничего не услышав (при этих словах Онисим вскинул на него удивленный и радостный взгляд).— Когда я вернусь, я разыщу тебя через Симона. Будь наготове и не дай обнаружить себя и своих людей, что бы ни произошло. Ты слышишь меня — что бы ни произошло! Ты понял?
— Да, но...
— Что бы ни произошло! — прервал его возражения Никий, и Онисим не посмел продолжать.— А теперь проводи меня.
И, больше ничего не добавив и махнув рукой Теренцию, Никий быстрым шагом направился в сторону императорского дворца. Теренций держался сзади за Никием, а Онисим сопровождал их, двигаясь в отдалении. Когда они вышли на освещенные улицы, Никий сделал знак Онисиму, чтобы тот отстал.
— Спрячь оружие,— сказал он Теренцию и, когда тот торопливо запахнул плащ, спросил: — Неужели ты действительно смог бы убить этого Онисима, если бы...— Он не договорил и, чуть пригнувшись, заглянул в лицо слуги.
Теренций смущенно молчал.
— Что же ты, отвечай! — улыбнувшись, проговорил Никий.— Неужели бы решился?
— Я отдам за тебя жизнь,— едва слышно произнес Теренций.
«Вот как!» — подумал Никий, но так ничего и не сказал, только ласково дотронулся до плеча слуги, дрогнувшего под его рукой.
Глава десятая
Нерон сам приехал попрощаться с матерью. Никий не слышал их разговора, они оставались в комнате наедине в течение получаса. Он увидел их, когда они в сопровождении Афрания Бурра вышли на площадку перед парадным входом дома Агриппины. Одной рукой император нежно обнимал мать за плечи, а другой приветствовал собравшуюся тут же толпу, оттесняемую преторианскими гвардейцами. Из толпы слышались выкрики: «Да здравствует император!», «Да здравствует Агриппина!». Толпа подхватывала выкрики радостным воем. Судя по тому, что здравицы выкрикивались очень похожими голосами, можно было предположить, что это делали специально нанятые люди. Но, как бы там ни было, толпа радостно подхватывала их — Агриппину любили в Риме.
Мать и сын спустились по лестнице, Нерон обнял ее и нежно поцеловал. Агриппина казалась несколько скованной, и улыбка ее (этого, возможно, и нельзя было заметить издалека, но Никий стоял рядом) выглядела застывшей. Она села на носилки, сын приветственно поднял руку, нежно улыбаясь. Сквозь просвет занавесок Никий увидел, какие же грустные у нее глаза. У него щемило сердце, когда он, сев в седло, вместе с отрядом преторианцев, сопровождавшим носилки и бесцеремонно расталкивающим толпу, ехал к пристани.
Кальпурний встретил их у мостков — в этот раз он был аккуратно причесан и в чистой одежде. Он радостно улыбался Агриппине и преданно поглядывал на Никия. Агриппина со служанкой удалились в свою каюту, Никий дал знак Кальпурнию, и тот громовым голосом стал отдавать приказания матросам, забегавшим по палубе взад и вперед. Приказав позвать его, если Агриппина пожелает его видеть, Никий ушел к себе и лег, задернув занавески и бессмысленно глядя в потолок. Он заставлял себя думать, что Агриппина все равно обречена и никакой его вины в ее смерти быть не может. Потом он стал вспоминать все те злодеяния, которые совершались, пока Нерон был еще юношей, а она фактически правила Римом. Злодеяний было не меньше, чем теперь, и в отношении его братьев-христиан тоже. Так что жалеть Агриппину казалось грешно и несправедливо, но, несмотря на все эти веские доводы, он не мог себя пересилить и жалел.
Агриппина нравилась ему, и он не мог понять почему. Было в ней что-то сильное, мужское и одновременно нежное, беззащитное. Он даже подумал, что мог бы жить с Агриппиной как с женой, и ему стали представляться сладкие картины их любви. Он гнал от себя эти видения, но они упорно возникали перед его воспаленным взором, делаясь все откровеннее, все бесстыднее.
Он не сразу услышал звук за дверью — кто-то осторожно скреб по дереву.
— Кто? — отрывисто спросил Никий, приподнявшись на локтях.
— Это я, сенатор,— услышал он голос Кальпурния, виноватый и жалобный. Кальпурний упрямо называл его сенатором, и Никий больше не поправлял моряка.
— Войди!
Дверь, скрипнув, приоткрылась, и Кальпурний боком скользнул внутрь. На лице его отражался испуг.
— Что тебе? — недовольно проговорил Никий, садясь на постели.
— Она говорила со мной,— заговорщически прошептал Кальпурний, моргая глазами, как от яркого света.
— Кто? Скажи яснее.
— Она, Агриппина,— уже едва слышно выговорил тот и заморгал еще чаще.
— Ты заходил к ней в каюту?
— Нет.— Кальпурний испуганно замахал руками, будто Никий уличил его в чем-то предосудительном.— Нет, сенатор, она сама позвала меня.
— Ну и что же? Чего она от тебя хотела? Она говорила с тобой один на один?
— Нет, служанка оставалась при ней, она причесывала Агриппину.
— Дальше.
— Она стала спрашивать,— произнес Кальпурний и прерывисто вздохнул,— стала спрашивать, хорош ли корабль и надежна ли команда.
— И это все? Надеюсь, ты сказал ей правду!
— Я не понимаю, сенатор,— жалобно улыбнулся Кальпурний.
— Как,— нахмурился Никий,— разве корабль не хорош, а команда не надежна? Ты сказал ей что-то другое?
— Нет, нет! — обрадованно, только сейчас поняв тайный смысл слов Никия, воскликнул моряк, тут же оглянулся на дверь и, снова понизив голос до шепота, продолжил: — Я сказал ей именно это. Но она...— Он запнулся и виновато посмотрел на Никия.
— Ну? — нетерпеливо произнес тот.— Продолжай!
— Она дала мне деньги,— глядя на Никия испуганными глазами, выпалил Кальпурний и, тут же достав из-под одежды кожаный кошель, дрожащей рукой протянул его Никию, добавив: — Я не хотел, сенатор, но она заставила меня взять.
— Не хотел? — зловеще усмехнулся Никий, а про себя подумал: «О Рим! Честный убийца — это что-то новое!»
— Не хотел, сенатор,— быстро отозвался Кальпурний.— Она еще сказала, что возьмет меня на службу и сделает богатым, если я... если я...
— Что?
— Если я буду правильно себя вести,— наконец сумел выговорить несчастный Кальпурний, и на лбу у него выступили крупные капли пота.
— Вот как! — снова усмехнулся Никий, но на этот раз почти весело, что еще больше испугало Кальпурния.— Но скажи, мой Кальпурний, разве ты будешь вести себя неправильно?
— Нет, сенатор... то есть я... Я не знаю,— вконец запутавшись, с багровым от напряжения лицом промямлил Кальпурний.
— Веди себя правильно, как приказала тебе Агриппина, мать нашего великого Нерона, императора Рима,— проговорил Никий строго и назидательно.— Веди себя правильно, и все будет в порядке,— добавил он, с трудом подавив готовый сорваться с губ смешок.
— А это?..— Кальпурний все так же держал кошель в протянутой руке: рука дрожала, и монеты глухо позвякивали внутри.
— Оставь себе,— словно удивляясь сомнениям Кальпурния на этот счет, пожал плечами Никий.— Мать императора может одарить всякого, и это большая честь, Кальпурний, запомни. А теперь иди и занимайся своими прямыми обязанностями.— И плавным жестом руки, подражая Нерону, он отпустил бедного Кальпурния, который, попятившись, дважды ударился о стену, прежде чем покинуть каюту.
Никий, переждав некоторое время, тоже покинул каюту и поднялся на палубу. Долго слонялся от носа к корме, поджидая Агриппину (сам не зная зачем), но она так и не вышла.
Когда Никий проснулся следующим утром, то ощутил особенно свежий запах, наполнивший каюту, и, выглянув в окно, понял, что корабль вышел в море.
Ближе к полудню на палубу в сопровождении служанки поднялась Агриппина. Два матроса вынесли тяжелое кресло с высокой спинкой и поставили его под навесом на носу. Агриппина села, пристально глядя на полоску берега вдалеке. Никий подошел и, низко поклонившись, встал возле, не смея заговорить первым. Некоторое время Агриппина словно не замечала его присутствия. Наконец сказала, не оборачиваясь:
— Тебя, кажется, зовут Никий, и мой сын приставил тебя следить за мной.
— Сопровождать тебя,— чуть склонившись в сторону и мельком глянув на стоявшую с другой стороны кресла служанку, отвечал Никий.
— В моем положении это одно и то же.— Агриппина вздохнула и, медленно повернув голову, посмотрела на Никия.— А ты красив! Не поверю, что мой сын не спит с тобой,— добавила она, внимательно его разглядывая.— Ну, что же ты молчишь, отвечай!
— Я не знаю, что отвечать.
— Правду,— усмехнулась она.— Матери императора Рима положено говорить правду, не так ли?!
— Да,— он глядел на нее с вежливой улыбкой,— но ту правду, которую хочешь услышать ты. А я боюсь огорчить тебя моей правдой.
— Твоей правдой? — откликнулась она, глядя на него с интересом.— Скажи свою правду и не бойся огорчить меня. Ты придаешь мне то значение, которого нет у меня давным-давно. Ты был еще ребенком, когда я его потеряла. Говори, я слушаю.
— Я не сплю с мужчинами.— Никий слегка покраснел.— Хотя это не та правда, которую ты хотела бы услышать.
— Да-а,— неопределенно протянула Агриппина и впервые ласково ему улыбнулась.— Кроме того, что ты красив, ты еще и умен и не похож на придворных мальчиков. Мне нравится твоя правда, и я готова по-верить в нее. Но если ты, как ты утверждаешь, не любишь мужчин,— продолжала она после короткой паузы, во время которой сделала служанке знак и та отошла в сторону на несколько шагов,— то, наверное, любишь женщин. И женщины от тебя без ума, не так ли?
Никий не ответил, а только опустил голову. Агриппина сделала удивленное лицо:
— Неужели ты скажешь мне, что не любишь женщин? В эту твою вторую правду я не поверю. Отвечай же, ты любишь женщин?
— Я не знаю,— сказал он, не поднимая глаз.
— Странный ответ.— Агриппина недоуменно посмотрела на Никия.— Так ты любишь женщин или не любишь?
— Я не знаю,— повторил Никий, робко взглянув на нее, и, снова краснея, добавил: — Я их не знаю.
Агриппина неожиданно рассмеялась.
— Ты не знаешь женщин? Не знаешь женщин! — восклицала она сквозь смех.— Не хочешь же ты сказать, что никогда не был с женщиной?
— Да, именно так,— робко и медленно выговорил он,— я никогда не был с женщиной.
— Никогда?! — Агриппина подалась вперед и с неопределенной улыбкой снизу вверх посмотрела на Никия.— Ты шутишь, этого не может быть!
— Это правда,— глухо отозвался он.
Наступило молчание. Агриппину, с самого раннего детства познавшую все прелести и виды плотских удовольствий, трудно было смутить чем-либо, но сейчас она была смущена. Отвернувшись, смотрела вдаль, комкая пальцами воздушный рукав платья.
Наступило время обеда. Агриппина приказала подать его на палубу и принести кресло для Никия. Ели молча. Время от времени Агриппина внимательно оглядывала своего сотрапезника. Наконец, когда обед был окончен и они остались одни, сказала:
— Ты нравишься мне. Ты не похож на других. Скажи, а я тебе нравлюсь?
— Да,— ответил он с поклоном, хотя понимал, что она спрашивает не об этом,— ты мать императора, я не могу не любить тебя.
— Я не спрашиваю тебя, любишь ты меня или нет,— сказала она с непроницаемым лицом.— Хочу знать, нравлюсь ли я тебе? — И добавила, помолчав: — Как женщина.
Он смутился, не зная, что ответить. Предательская краснота выступила на лице. Агриппина потянулась и погладила его руку от локтя до запястья своей гладкой ладонью.
— Ты нравишься мне! — страстно, как она это умела, прошептала Агриппина.— Ты напоминаешь мне моего брата Гая, хотя он и не был так красив.
Никию были известны разговоры о том, что Агриппина еще в юном возрасте жила со своим братом Гаем, будущим императором Гаем Калигулой. Впрочем, как и две ее сестры, младшая из которых, Друзилла, стала впоследствии женой императора. О мерзостях и жестокостях, которые проделывал Гай, слагались легенды, и трудно было разобрать, где в них правда, а где вымысел. Но все равно Агриппина стала частью этих легенд.
Да, она была распутна, хотя сейчас, глядя на нее, Никий видел только очень красивую женщину, умеющую любить, с горящей в глубине глаз особенной страстью. Эту страсть видели, наслаждались ею два императора — Калигула и Клавдий. Говорили, что и Нерон тоже, хотя Никий не верил в это. А теперь он, Никий, несчастный провинциал, волею случая попавший в Рим, видит то, что созерцали прежние властители империи. И не только видит, но имеет возможность насладиться тем же, чем наслаждались они.
— Приходи ко мне, когда стемнеет! — шепнула Агриппина, сжав его руку, и, стремительно поднявшись, быстро покинула палубу.
Он долго сидел один, глядя вдаль, но видя не голубизну неба и синь воды, а прекрасное лицо Агрип-пины и чудесный, манящий блеск ее глаз. «Когда стемнеет,— повторял он про себя.— Когда стемнеет!»
Он не помнил, как прошло время до вечера, был как в бреду. Уже в сумерках в дверь его каюты постучали. Задохнувшись, он спрыгнул с кровати, сделал несколько нетвердых шагов и рывком распахнул дверь.
Стоявший на пороге Кальпурний отпрыгнул от неожиданности, смотрел на Никия со страхом.
— Ты что? Что? — тревожно проговорил Никий и прерывисто вздохнул, потому что ему не хватило воздуха.
— Я пришел сказать... сенатор... договориться,— запинался Кальпурний, все еще глядя на Никия с опаской.
— Договориться? О чем договориться? — Никий смотрел на моряка так, будто наполовину потерял способность видеть.
— Ну, как же,— Кальпурний осторожно посмотрел в одну сторону коридора, потом в другую,— сегодня на рассвете...
— Что на рассвете?
— Крушение. Крушение на рассвете,— подавшись вперед и в сумерках вглядываясь в лицо Никия, несмело выговорил Кальпурний.
— Крушение на рассвете,— вслед за ним повторил Никий и вдруг осознал, о чем идет речь.— А-а,— протянул он, пропуская Кальпурния внутрь каюты и прикрывая за ним дверь.— Ну да, я знаю. Что же ты хочешь от меня?
— Ничего,— виновато проговорил Кальпурний,— я только хотел напомнить. На рассвете ты сядешь в лодку, гребцы спустят ее на воду, а потом, когда корабль... когда я все сделаю и он разрушится, я подплыву к вам и мы пойдем к берегу. Там не очень далеко, мы доберемся быстро.
— Хорошо,— кивнул Никий и вдруг остановил уже собравшегося уйти Кальпурния.— А почему на рассвете?
Кальпурний улыбнулся:
— На рассвете, сенатор, самый крепкий сон. Но ты не беспокойся, я разбужу тебя вовремя.
— Чей сон? — поморщившись, спросил Никий.
— Ее,— указал пальцем куда-то в стену каюты Кальпурний.
— Ее?
— Ну да,— радостно кивнул тот и, приблизив губы к самому уху Никия, прошептал: — Агриппины.
Никий брезгливо отшатнулся и резко махнул рукой, приказывая Кальпурнию уйти.
Глава одиннадцатая
Оставшись один, он стал ходить по каюте из угла в угол, не понимая, что же ему теперь делать. Его миссия, еще вчера казавшаяся предельно простой, теперь представлялась совершенно невыполнимой. Сначала ему пришла мысль — бежать. И тут же, еще более невероятная,— бежать вместе с Агриппиной. Он бросился к двери, но, выйдя в коридор, остановился: ему показалось, что он по-настоящему сходит с ума. Он вспомнил об учителе Павле — за что он послал его на такую муку! Послал — и ушел в тюрьму, и оставил его одного. Одного в целом мире. Если Бог взирает на него с небес, то почему он не поможет ему, Никию, или хотя бы не даст совет.
Он решил, что надо помолиться, и, может быть, тогда он услышит совет Бога, но лишь только повернулся к двери, как услышал шорох, и женский голос позвал его:
— Никий!
Голос был ему незнаком. Он всмотрелся в темноту коридора, осторожные шаги приблизились... Служанка Агриппины (это была она) поймала его руку и, прошептав:
— Госпожа ждет тебя! — потянула за собой.
И он послушно пошел, уже не думая, что ему нужно помолиться и услышать совет Бога — не Бог, а служан-ка Агриппины помогла ему в сомнениях. Она вела его, как ребенка, а он, как ребенок, послушно шел за ней. Что поделаешь, если они решили за него, если сам он не сумел принять решение, Бог не услышал его и не захотел помочь. А может быть, в этом и заключалась помощь Бога?
Служанка без стука открыла дверь, пропустила Никия вперед, легонько тронув за спину, и лишь только он переступил через порог, тут же закрыла дверь.
В просторной каюте, на ложе под балдахином, сидела Агриппина. Даже при неярком свете сквозь прозрачную тунику виднелось ее тело. Оно было прекрасным. Никий в смущении опустил глаза.
— Подойди ко мне, Никий,— проговорила она таким тоном и таким голосом, что он тут же послушно подошел. Стоял, не в силах поднять взгляда, и смотрел на ее голые ступни с длинными ровными пальцами.
Она медленно встала, едва коснувшись его грудью, так же медленно подняла руки и прижала ладони к его щекам. Никий задрожал, ему почудилось, что вот сейчас он потеряет сознание. Стены каюты поплыли перед глазами, он сделал непроизвольный шаг в сторону, Агриппина нежно подтолкнула его, и он упал на ложе, а она упала на него...
...Он плохо понимал, что она делает с ним, но наслаждение, которое испытывала каждая частичка его тела, было невероятным, в самом настоящем смысле неземным. То, что называлось плотским грехом, то, чего Никий всегда так страшился,— наступило. Но почему-то не было ничего страшного, ничего страшного или отвращающего дух. Напротив, его дух как бы слился с наслаждением тела, и теперь и дух, и плоть стали одним, и невозможно оказалось различить, где он, а где она.
Агриппина ласкала его податливое тело, шептала что-то ласковое (он не мог разобрать что, но это не имело никакого значения), ее лицо расплывалось в его взгляде. Потом она оказалась под ним, прижала его бедра коленями, сначала застонала протяжно и тихо, потом все громче и громче, и наконец стон перешел в крик, оглушивший Никия. И он, ни в чем не отдавая себе отчета, закричал тоже...
...Некоторое время они лежали рядом, расслабленные, усталые. По всему телу Никия разлилась незнакомая ему до сих пор нега, и он плыл в пространстве комнаты, неизвестно куда и неизвестно зачем.
— Оставайся со мной,— сказала Агриппина, сжав его руку.— Ты мне нравишься, я не отпущу тебя.
— Да,— Никий не очень понимал, соглашается ли он на самом деле или выговорил лишь для того, чтобы не молчать.
— Знаю, мой сын не приедет в Байи,— продолжала она.— Может быть, я больше никогда не увижу его. Ни его самого, ни этот проклятый Рим. Я не могу без Рима, но ненавижу его. Никогда не думала, что так страшно умирать.
— Да,— опять сказал он, с трудом разлепив губы.
Голос Агриппины мешал ему. В той тишине и покое;
которые были в нем сейчас, внешний звук (хотя Агриппина говорила едва слышно) причинял физическую боль.
— Оставайся со мной.— В глухом голосе Агриппины он ощутил нарастающую страсть.— Зачем тебе Рим? Я буду твоим Римом.
— Нет.
Она приподнялась на локтях, заглянула ему в лицо:
— Нет?
Он вздохнул:
— Не могу.— Никий отрицательно покачал головой и пояснил с виноватой улыбкой: — Я не принадлежу самому себе, император приказал мне вернуться, как только я...
— Молчи! — она прикрыла ему рот ладонью.— Я все знаю, но я хочу. Ты знаешь, что такое желание женщины? Желание такой женщины, как я?..
Никий осторожно взял ее запястье, отвел руку в сторону.
— Не могу,— сказал он и медленно поднялся. Надел валявшуюся на полу тунику, присев на корточки, стал застегивать сандалии.
Агриппина молча смотрела на него, не стыдясь своей наготы. Скорее всего она ее просто не замечала. Никий несколько раз оглядывал ее мельком и опускал глаза. В неясном свете лицо ее казалось маской. Он вдруг подумал, что эта женщина будет красивой даже мертвая. Подумал как-то очень просто, без сожаления, словно все уже случилось.
— Прости,— произнес он, вставая.— Прости, мне нужно идти.
Она едва заметно качнула головой. Ему вдруг стало жаль ее. Остановившись у двери, он сказал:
— Я слышал, что ты хорошо умеешь плавать. Это правда?
— Да,— кивнула она.— Почему ты спрашиваешь?
— Потому что мы в море и всякое может случиться.
Некоторое время она молча смотрела на него — молча и пристально.
— Когда? — спросила наконец.
— Сегодня,— он опустил глаза и добавил: — Сегодня на рассвете.
— Они придут за мной?
— Нет.
— Мы будем тонуть?
— Да.
— Мне было хорошо с тобой, Никий, запомни это.
— Я буду помнить об этом всегда.
— Будь ты проклят!
Никий не помнил, как вернулся в свою каюту: просто оказался там. Темнота незаметно перешла в сумрак — приближался рассвет. Он сидел, не шевелясь, и думал, думал, думал об одном и том же: когда Агриппина умрет, не будет ни одного свидетеля его падения. Кроме Бога, но от него все равно ничего не утаишь.
Кальпурний поскребся в дверь и вошел еще до того, как Никий отозвался.
— Пора, сенатор,— прошептал он.— Мои люди готовы и ждут только тебя.
— Ждут?
— Да, сенатор, лодка уже на воде.
Он вышел на палубу вслед за Кальпурнием. Над морем стоял туман, противоположный борт корабля был едва различим. Никий поежился, стало очень холодно. Кальпурний протянул ему шерстяную накидку, но Никий отрицательно помотал головой и раздраженно бросил:
— Где?
— Вот.— Кальпурний перегнулся через борт и указал вниз рукой.
У Никия возникло сильное желание схватить Кальпурния за ноги и выкинуть за борт. Но тот, словно почувствовав это, быстро распрямился и шагнул в сторону, выжидающе и настороженно глядя на Никия. Никий подошел к борту — за густым белым туманом не видно было воды. Он гневно посмотрел на Кальпурния:
— Где же?!
— Вот, сенатор.— Кальпурний осторожно, словно боясь, что Никий ударит, протянул руку к борту и дотронулся до веревочной лестницы.— Они там, надо спуститься.
Никий в упор посмотрел на Кальпурния, тот испуганно кивнул вниз. И тогда Никий, перекинув ногу через борт, нащупал провисающие ступени и, ухватившись за веревки, стал спускаться. Посмотрел вверх — голова Кальпурния показалась над бортом и тут же скрылась. Посмотрел вниз — туман, кажется, сделался еще гуще. Никия била дрожь.
Дело было не только в промозглом тумане, а главным образом в том, что он испугался — ему почудилось, что это заговор и Кал'ьпурний послал его на смерть. Он втянул голову в плечи, ожидая удара сверху (веслом? мечом? — здесь достаточно было палки), и тут же кто-то схватил его за ногу у щиколотки. Он дернул ногой, но безуспешно, рука, сжимавшая щиколотку, оказалась крепка. Он дернул ногой еще раз и услышал голос матроса снизу:
— Спускайся, я держу тебя,— спокойный вежливый голос.
В лодке сидело четверо гребцов. Тот, что помог Никию спуститься, усадил его на корму, сам сел на весла, и лодка отплыла. Через мгновенье очертания их корабля растворились в тумане. Они плыли недолго — старший бросил в воду якорь, гребцы подняли весла.
Никий сидел напрягшись, стараясь, чтобы другие не заметили дрожь его тела. Он спросил сквозь зубы:
— Где берег?
— Там.— Матрос указал рукой за спину, в клубы тумана.
— Далеко?
— Нет.— Матрос почему-то усмехнулся, но под строгим взглядом Никия мгновенно стер улыбку.— Не больше пяти стадиев, господин.
«Неужели смогла бы доплыть!» — подумал Никий, сам не понимая, хочет он спасения Агриппины или нет.
Туман стал рассеиваться, но корабля впереди все еще не было видно. Наконец луч солнца прорезал туман, и Никий увидел сначала край мачты, потом целый кусок кормы. Корабль был повернут носом в открытое море — значит, тоже встал на якорь. Ни звука, ни шороха, ни всплеска воды у лодки — вода стала словно продолжением тумана.
Корабль проявлялся все яснее и рос на глазах. Никий и не думал, что они от него так близко. Казалось, он медленно наплывает на них.
И тут раздался скрежет, будто где-то рядом разрывали ткань. Мачта как-то странно качнулась в сторону и вдруг повалилась на палубу, ударилась об нее с глухим звуком и развалила корабль надвое. Все произошло в одно мгновение: Никий ничего как следует понять не смог. Мачта, сколь бы она ни была тяжела, не могла развалить корабль. Но он развалился именно от ее удара (или, может быть, вместе с ее ударом), и две его половины стали медленно уходить под воду, словно пучина засасывала их. Ни единого крика на палубе, будто корабль вымер.
Никию казалось, что все происходит не наяву, а во сне: обломки корабля бесшумно уходят под воду, и это наваждение, игра, а не гибель. Смерти не было рядом, он не чувствовал ее.
Туман не столько рассеялся, сколько развалился, и клочья его плыли теперь перед глазами Никия, то открывая его взору уходящий в море корабль, то снова прикрывая его.
Вдруг Никий услышал всплеск. Потом еще и еще. Звук шел откуда-то справа. Он встал во весь рост и, сохраняя равновесие на покачивающейся лодке, стал внимательно вглядываться в ту сторону.
— Сена-а-а...— услышал он протяжный крик и тут же снова: — Сена-а-а... Сенатор!
Это кричал Кальпурний, несколько мгновений спустя Никий увидел его самого. Он был уже совсем близко, на расстоянии трех корпусов лодки. Он кричал и, время от времени вытягивая руку, указывал куда-то за спину Никия.
— Уплывает,— как-то странно произнес матрос и тронул Никия за плечо.
Никий вздрогнул и обернулся, глядя туда, куда ему указали. Сердце на мгновенье замерло и вдруг забилось часто-часто — он увидел Агриппину. Она плыла с другой стороны лодки, направляясь к берегу, который был уже довольно ясно виден. Когда Никий разглядел ее, она уже поравнялась с лодкой — плыла размашисто, мощно.
Лодка качнулась, и тут же что-то тяжелое ударило в борт. Никий понял, что матрос, не дожидаясь его команды, вытянул из воды якорь. Он повернулся в другую сторону и посмотрел на Кальпурния — тот почти уже достиг лодки и вытягивал правую руку, что-бы ухватиться за борт. Никий потянулся к ближнему гребцу.
— Весло!
Тот ничего не понял, мельком глянул на старшего.
— Дай весло,— уставившись на гребца страшными глазами, выговорил Никий сквозь зубы.
Тот испуганно кивнул, протянул длинное весло, с которого стекала струйка воды. Никий взял его и тут же услышал голос:
— Это она, сенатор... я видел... уйдет...
Кальпурний уже держался обеими руками за борт лодки и говорил, указывая глазами в ту сторону, куда плыла Агриппина. Голос его звучал прерывисто, сдавленно, вид был несчастный, а в глазах тоска.
— Уйдет,— глядя на него, повторил Никий, сам не понимая, что имеет в виду, и, отступив к противоположному краю лодки, замахнулся на Кальпурния веслом. Их взоры встретились: Никий увидел в глазах моряка неотвратимость смерти. Это решило все.
— Нет,— выдохнул Кальпурний,— не-е-т!
— Да-а! — словно в ответ ему крикнул Никий и, чуть присев, с размаху опустил весло на голову Кальпурния.
Он и сам не ожидал, что хватит всего одного удара. Голова Кальпурния — так показалось Никию — раскололась на две части, кровь брызнула, обагрив борт лодки. Тело ушло под воду, потянув за собой уже безжизненные руки. Старший матрос схватил Никия за кисть, но тот, вырвав руку, бросил весло на дно лодки и необычайно тихо, но с какою-то угрозой сказал:
— К берегу.
Слово оказалось магическим: словно повинуясь какой-то неведомой силе, гребцы сели на весла и, дружно ударив ими по воде, принялись грести с такой мощью, что лодка буквально полетела к берегу.
Но Никий не смотрел туда, он смотрел в море, где плавали обломки корабля и где сгинул Кальпурний. Он не думал, достигла Агриппина берега или нет, он не хотел об этом думать — в сущности, это уже не могло иметь никакого значения. Значение имело другое — гибель Кальпурния. Четверо гребцов видели, как плыла Агриппина, четверо гребцов видели, как он убил Кальпурния. Он не может убить всех четверых — что же он скажет Нерону?!
Нос лодки мягко ткнулся в песок, но Никий едва удержался на ногах: в первый момент ему показалось, что его толкнули в спину. Он быстро оглянулся, не в силах скрыть страха, но все четверо спокойно и выжидательно смотрели на него. Он перевел взгляд на берег. Лодка стояла между двух скал. Он медленно посмотрел направо, потом налево: никого, ни единого человека, ни следа строения. Нужно уходить, но пройти между гребцами казалось страшным. Подумалось: «Они не выпустят меня живым». Прежней решимости уже не осталось в нем, и гребцы, конечно же, не могли не видеть этого.
Вместо того чтобы шагнуть к носу, в сторону берега, Никий отступил назад, сам не сознавая, почему и зачем он это делает, а только поддавшись страху, и, ударившись ногами о скамейку на корме, не сел, а повалился на нее, вытянув вперед ноги и ухватившись руками за борт.
Старший из гребцов медленно поднялся. Он еще не шагнул к Никию, но тот уже понял, что сейчас он сделает это.
— Нет,— выдохнул он точно так же, как совсем недавно Кальпурний, с тою же смертной тоской глядя на гребца.
Повторное «нет» он не успел произнести — смотревший на него в упор гребец вздрогнул и резко обернулся к берегу.
Из-за скалы вдруг выбежали солдаты — пять или шесть — и бросились к лодке. Гребцы повскакивали со своих мест, один спрыгнул в воду. Солдаты, словно по команде, обнажили мечи. Все произошло так быстро, что Никий не успел опомниться. Несколько мгновений спустя трое гребцов лежали на дне лодки, истекая кровью. Четвертый, успевший прыгнуть за борт, покачивался на воде лицом вниз и окрашивал воду вокруг себя в красный цвет.
— Все кончено! — услышал он громкий голос, показавшийся ему знакомым.— Выходи!
Никий посмотрел туда, откуда раздался голос. У скалы, широко расставив ноги, одну руку уперев в бок, а другую держа на рукоятке меча, стоял центурион Палибий, один из близких к Афранию Бурру людей. Никий не столько со страхом, сколько с удивлением смотрел на него, не двигаясь с места. Один из солдат подошел и протянул ему руку, за которую Никий схватился почти неосознанно. Подошел другой солдат, они подняли Никия и перенесли на берег. Центурион Палибий улыбался ему широкой улыбкой.
— Все? — крикнул он за спину Никия.
— Четверо,— ответил ему кто-то.
Палибий нахмурился:
— А где пятый? Их должно быть пять.
— Я убил его,— неожиданно для самого себя (и, главное, неожиданно спокойно) сказал Никий.
— Ты? — удивился Палибий.
И хотя Палибий не спрашивал, а Никию не было необходимости отчитываться перед ним, он пояснил:
— Кальпурний слишком много знал. Я ударил его веслом по голове.
— Веслом по голове,— в тон Никию повторил центурион и, приставив ладонь ко лбу, посмотрел на море.
Никий оглянулся. Лодка была уже довольно далеко от берега, солдаты сбрасывали тела гребцов в воду.
— Император ждет тебя,— неожиданно почтительно проговорил Палибий.— Он послал меня навстречу.
Никий посмотрел в глаза центуриона — тот отвел глаза, медленно и неохотно склонил голову в поклоне. «Сенатор»,— проговорил про себя Никий, вспомнив о Кальпурнии.
Глава двенадцатая
Центурион Палибий оказался нагл. Все время пути он смотрел на Никия с насмешкой. Он был вежлив и предупредителен, в тоне его была почтительность, но именно вследствие этого насмешка в глазах центуриона выглядела особенно наглой. Никий злился, разговаривал с Палибием строго, но ничего не мог поделать: центурион оставался нагл, а у Никия не нашлось от него защиты.
Наглость центуриона, впрочем, имела свои причины, и они были вескими. Преторианские гвардейцы обладали властью едва ли не большей, чем императорская. Правда, власть эта проявлялась лишь время от времени, и сами преторианцы не могли полностью распоряжаться ею. Но все равно каждый из них знал, что она есть, ощущал в себе частицу этой власти. Они свергали императоров и ставили новых. Если принцепс все-таки был божеством, а не просто именовался им, то какую же силу нужно иметь, чтобы сбросить божество с Олимпа, ведь Палатин для Рима то же самое, что Олимп для всей земли!
И этот проклятый, с наглым взглядом серых глаз центурион Палибий нес в себе частицу божественной власти и вполне ощущал это. А кто такой Никий? Пришелец, щепка в потоке жизни, случайно занесенная во дворец Нерона. Что он мог значить сам по себе для самодовольного центуриона? Да, сейчас сила у императора, а не у преторианцев, но ведь все может измениться в одно мгновение, что уже не раз бывало в Риме. И тогда Палибий наступит на щепку, именуемую Никием, подошвой своей калиги. Наступит и даже не услышит хруста.
...Они уже миновали едва ли на четверть пути до Рима, когда, проезжая одно из селений, услышали гул толпы и возбужденные выкрики. Никий отодвинул рукой занавеску повозки и, обратившись к скачущему рядом Палибию, спросил недовольно (ну как же, его, императорского любимца, беспокоят какие-то крики!):
— Что там такое? Узнай.
Палибий не ответил, но повернул лошадь в сторону. Повозка продолжала свое равномерное движение, и крики стали уже отдаляться, когда лицо Палибия вновь появилось в окне. Его наглый взгляд показался Никию особенно вызывающим. Центурион сказал, усмехнувшись едва-едва, лишь концами толстых губ:
— Чудесное спасение! Корабль принцепса потерпел крушение, Агриппина сумела добраться до берега вплавь.
— Где? — спросил Никий, сам не понимая точно, что он хочет знать: где выплыла Агриппина или где она теперь.
— Она уже на пути в Рим,— ответил Палибий.— Повсюду народ приветствует ее. Это спасение — великая радость для римского народа.
Последнее он произнес таким тоном, что Никии вынужден был подтвердить:
— Это великая радость для Рима! — Но он не выдержал взгляда Палибия и опустил глаза.— Боги хранят семью принцепса!
— Боги хранят семью принцепса! — крикнул Палибий, отрываясь от окна повозки и пришпоривая лошадь.
Никий поплотнее прикрыл занавеску, обхватил голову руками и закрыл глаза. Сейчас он пожалел, что ударил веслом Кальпурния, пожалел, что предупредил Агриппину и отпустил ее, когда она проплывала вблизи лодки. Тоска охватила все его существо — хотелось стать маленьким, невидимым, может быть, вовсе перестать быть. Он и в самом деле почувствовал себя щепкой, которую несет поток жизни, неведомо куда и неведомо зачем. Он с неприязнью подумал о Павле — впервые с тех пор, как узнал учителя. И странно, что неприязнь эта не представлялась теперь грехом.
Когда они приехали в Рим, Никий отпустил Палибия, а сам отправился домой, сказав, что ему нужно привести себя в порядок, прежде чем предстать перед императором. Палибий не стал возражать, взглянул на
Никия с усмешкой, на этот раз совершенно открытой, и, не поклонившись, поскакал прочь.
Теренций вышел навстречу Никию, вид у него был встревоженный.
— Хозяин уже несколько раз посылал за тобой,— сказал он.
— Император Нерон? — спросил Никий с вымученной улыбкой, хотя сразу понял, о ком идет речь.
— Император? — не понимая, переспросил Теренций и тут же добавил: — Анней Сенека, он присылал за тобой.
— И что же хочет твой хозяин?
Теренций испуганно пожал плечами:
— Прости, мой господин, я ошибся. Не Анней Сенека мой хозяин, а ты...— Он вдруг странным взглядом посмотрел на Никия и произнес совсем другим тоном: — Я боюсь.
На этот раз удивился Никий:
— Чего же ты боишься, мой Теренций? — проговорив это, он вдруг сам ощутил в себе уже утихший было страх. Ему показалось, что в глазах слуги мелькнула та же мертвая тоска, какую он видел в глазах Кальпурния в тот момент, когда замахивался на него веслом.
Теренций опустил глаза и глухо выговорил:
— Я не знаю, хозяин, но я боюсь...
— Ну, ну, договаривай,— Никий с натугой усмехнулся,— не бойся.
— Сенека,— промолвил Теренций, не поднимая взгляда.
— Что Сенека? Я не понимаю.
— Я боюсь... его.
— Успокойся, мой Теренций, твои страхи не имеют под собой...— начал было Никий, но не сумел договорить: Теренций поднял голову и пристально (не так, как дозволено слуге, а как брат или друг) посмотрел на Никия.
— Я вызвал Онисима,— сказал он.
— Ты вызвал Онисима?! — со страхом и возмущением одновременно воскликнул Никий.
— Да,— на этот раз Теренций не смутился и добавил, указав рукой за спину: — Он ждет тебя здесь.
— Да ты понимаешь, что может быть, если кто-нибудь,— Никий схватил Теренция за плечо и больно стиснул его,— если кто-нибудь увидит или узнает! Ты понимаешь, что будет со мной? И с тобой тоже! С тобой тоже, Теренций!
— Понимаю,— спокойно и убежденно проговорил Теренций, только чуть поморщившись и скосив глаза на плечо, которое все еще сжимал Никий,— Я знаю, что не должен был делать этого, но я не мог иначе, я боялся.
— Ты боялся! Да как ты можешь!
— Он убьет тебя,— перебил Теренций,— я знаю.
Никий вдруг оттолкнул Теренция и, сердито ступая,
прошел в комнату, служившую ему кабинетом.
Не сразу, лишь несколько мгновений спустя, из-за ширмы в углу, закрывавшей ложе, вышел Онисим.
— Ты знаешь, что нельзя было приходить ко мне! — набросился на него Никий (впрочем, произносил слова благоразумно негромко).— Тебя могли видеть! Ты понимаешь, чем это может кончиться для меня? Для нас! Для нашего дела!
— Он позвал меня, и я пришел,— ответил Онисим примирительным тоном, кивнув на дверь (Никий оглянулся, у двери стоял Теренций).
— Но я запретил тебе! Я, я запретил тебе! Ты слышишь?
— Я слышу,— ответил Онисим,— не надо так громко.
— Ты еще будешь мне указывать! — уже совершенно забывшись, вскричал Никий и, подскочив к Онисиму, замахнулся на него рукой.
Но тот даже не пошевелился — исподлобья, тяжело посмотрел на Никия: еще без угрозы, но уже не по-доброму. Рука Никия застыла, и сам он замер. Он вдруг понял, что не сможет ударить, не причинив боль себе самому,— ударить сейчас Онисима было все равно что ударить скалу с острыми краями.
— Значит, я,— произнес он дрожащим голосом, не в силах справиться с этой дрожью,— значит, я больше не свободен? Значит, ты думаешь, что я должен...
Онисим не дал ему договорить.
— Никто не свободен, и все должны,— проговорил он глухо и добавил совсем тихо: — перед Господом.
— Да кто ты такой, чтобы учить меня! Я не знаю тебя и не хочу знать!
— Я такой же, как и ты,— сказал Онисим,— не больше, но и не меньше. Я твой брат. И он,— кивнул на Теренция,— тоже твой брат. Или ты забыл о нашем братстве?
— Он?! — Никий выбросил руку в сторону Теренция.— И он тоже?
— И он тоже,— кивнул Онисим.
— Значит, я должен делать то, что вы мне прикажете? Ты — неизвестно кто и откуда явившийся ион -мой слуга?
— Твой брат,— спокойно поправил его Онисим.— Твой брат перед Господом.
Никий повернулся к Теренцию:
— Ты теперь тоже?..— Он не закончил, но Теренций хорошо понял, о чем он спрашивает.
— Да,— ответил он и добавил чуть слышно,— хозяин. Онисим объяснил мне, и я верю.
— Онисим объяснил тебе, и ты веришь?! Когда он успел? Пока сидел в моем кабинете?
Теренций опустил глаза и ничего не ответил, за него сказал Онисим:
— Мы встречались с Теренцием не один раз. Он был на наших собраниях, и он молился с нами.
— Он был на ваших собраниях? — вскричал Никий не столько с возмущением, сколько удивленно.— Но когда?
— Ночью. Когда ты бывал на пирах императора. Когда смотрел на те мерзости, которые делало это чудовище, и, наверное, принимал в них участие. Он молился с нами, когда ты удовлетворял свою плоть. Ночью, потому что мы можем собираться только в темноте, как воры, как преступники, как изгои.
— Но... но он... Разве он не должен был сказать мне об этом?
— А разве должен? Твой брат держит ответ перед Богом, а не перед тобой. Или ты, Никий, стал настоящим римлянином?
— Значит, вы... значит, вы за моей спиной... Это заговор против меня, вот что это такое!
— Твой слуга стал твоим братом, а ты говоришь о каком-то заговоре,— спокойно и устало выговорил Онисим.— Я тут только потому, что он опасается за твою жизнь, за жизнь своего брата. Разве он побежал к римлянам и выдал тебя, выдал нас всех? Он мог бы, останься он только твоим слугой. Но он хочет спасти тебя, потому что он твой брат.
Никий сделал два коротких шага и бессильно опустился на край ложа. Сидел, свесив голову на грудь. От разноцветных плиток на полу рябило в глазах, и он устало прикрыл их.
Глава тринадцатая
Никий чувствовал себя не столько удрученным, сколько потерянным — прошлое, будущее и настоящее переставали иметь какой-либо смысл. С одной стороны стоял Нерон, с другой — Онисим. Они в равной степени давили на него, и Никию казалось, что он уже никогда не сможет вырваться.
Сейчас он сидел на краю ложа, низко опустив голову и закрыв глаза. Услышал, как Онисим подошел, встал над ним, ощутил затылком беспрекословную тяжесть его взгляда.
Онисим стал говорить: тихо, убежденно, обвиняюще.
Он сказал, что это чудовище Нерон устроил мерзкое цирковое зрелище на погибель их братьям. Более двухсот христиан, среди которых старики, женщины и дети, сегодня же примут смерть в Большом цирке. Нерон устраивал что-то вроде кораблекрушения на заполненной водой арене. Онисим сказал, что не хочет об этом рассказывать и что если бы он сам мог добраться до Нерона, то за один удар кинжалом готов отдать себя разрезать на куски. Но Онисим не имеет возможности сделать это, а он, Никий, имеет такую возможность, и ее нельзя упускать.
Онисим помолчал некоторое время (Никий приоткрыл глаза, глянул на носки ветхих сандалий Онисима и отвел взгляд), потом вдруг спросил:
— Отвечай, почему ты не убил мать этого чудовища?
Он не просто спросил, но потребовал ответа.
Никий медленно поднял голову, посмотрел на Онисима с болезненной гримасой.
— Почему ты не убил мать этого чудовища? — повторил Онисим.
Никий хотел спросить: «А откуда тебе известно, что я должен был ее убить?» — но не посмел произнести таких слов. Вместо этого он сказал:
— Ты считаешь... можно убить женщину? Что можно... убить. Разве Спаситель не завещал нам всем...
— Нет.— Онисим не дал ему закончить, и голос его прозвучал как удар хлыста, Никий даже зажмурился на мгновенье.
— Нет? — осторожно переспросил он.
— Нет! — Глаза Онисима угрожающе блеснули.— Спаситель говорил о человеке, но не говорил о чудовище, о диком звере, алчущем крови невинных. Не говорил о волчице, породившей кровожадного волка. Она и сама не менее кровожадна, чем ее порождение. Ты должен был уничтожить волчицу, но ты не сделал этого. Почему? Ты боялся? Ты пожалел ее?
Никий вспомнил ночь с Агриппиной, ее ласки, ее нежное бормотание. Вспомнил, как огонь ее плоти перекинулся на его, Никия, плоть и как его плоть трепетала в сладком и страшном огне. Никий боялся поднять глаза на Онисима, он был уверен, что тот поймет все.
— Ну? — торопил его Онисим.
Прежде чем ответить, Никий вспомнил другое, увидел так, будто все происходило перед его глазами в эту минуту. Вспомнил, как Агриппина, энергично взмахивая руками, проплыла мимо лодки. Потом вспомнил, как, отступив на шаг, он замахнулся на Кальпурния веслом. Потом удар, и голова раскололась на две половины. Но сейчас это уже была не голова Кальпурния, а голова Агриппины... Он посмотрел на Онисима и произнес:
— Я не мог ударить ее веслом по голове.
— Почему веслом? — нахмурился Онисим.— При чем здесь весло?
— Я не мог ударить ее веслом по голове! — с надрывом, срывая голос, крикнул Никий и вдруг повалился на пол, стукнувшись лбом о гладкие плитки.
Когда открыл глаза, увидел лицо Теренция, склонившегося над ним.
— Что? — выдохнул Никий, тревожно водя глазами по сторонам.
— Успокойся,— ласково проговорил Теренций,— ты просто неудачно упал, ничего страшного.
— Он должен идти,— услышал Никий голос Онисима, и лицо последнего показалось из-за спины Теренция: тяжелое, пугающее лицо.
— Сейчас он не может,— не оборачиваясь, ответил Теренций,— он слишком слаб.
— Он должен! — Онисим отстранил Теренция и склонился над Никием.— Вставай, с чудовищем надо покончить еще до захода солнца.
— Оставь его, он не сможет! — жалобно и сердито одновременно проговорил Теренций.
— Молчи! — сквозь зубы процедил Онисим и, обращаясь к Никию, спросил: — Ты сможешь? Ответь.
— Смогу! — ответил Никий со страхом в голосе и попытался приподняться на локтях.
Тело было ватным, перед глазами плавали разноцветные круги, и движение давалось с большим трудом. Онисим взял его за плечи и рывком посадил, сбросив ноги на пол:
— Ты можешь идти? — не дожидаясь ответа Никия, он схватил его за одежду и поставил на ноги.— Пройдись по комнате, я посмотрю.
Никий сделал шаг, потом еще один и еще. Теренций шел рядом, готовый в любой момент его подхватить.
— Он сможет, сможет! — уверенно воскликнул Онисим, достал из-под одежды короткий кинжал и протянул его Никию.— Возьми. Ты умеешь с ним обращаться?
Никий принял оружие слабой рукой, неуверенно посмотрел на Онисима:
— Не знаю.
— Это очень просто,— почти весело произнес Онисим.— Чтобы ударить в сердце, нужен навык. Бить нужно вот так, снизу вверх. (Вытянув вперед длинный и корявый палец, он показал, как следует бить в сердце.) Но тебе это не понадобится, ты все равно не сможешь, поэтому бей в горло. (Протянув руку, он дотронулся до горла Никия. Никий вздрогнул и отстранился, Онисим улыбнулся довольно.) Надо только провести справа налево, кинжал сам сделает то, что нужно.
Очевидно, он получал удовольствие от своих объяснений. Никий смотрел на него настороженно, Теренций — недовольно.
— Оставь его.— Теренций шагнул к Онисиму, словно закрывая от него Никия.— Он не сумеет, он слишком слаб.
— Но здесь и не требуется сила,— Онисим развел руками,— это сможет проделать даже ребенок. Всего-навсего поднять руку и провести справа налево.
— Не знаю, что сможет проделать ребенок,— неожиданно смело заявил Теренций,— но ему это не под силу, он слишком слаб. И потом... он не должен.
— Что он не должен?
— Он не должен убивать.
— А кто должен? Я?
Теренций вздохнул:
— Оставь его в покое, ты видишь, он не в себе.
Некоторое время они продолжали перебранку, все
возвышая голоса и резко взмахивая руками.
— Мне нужно ехать,— неожиданно произнес Никий, и они оба, внезапно замолчав, посмотрели на него.
— Ехать? — переспросил Онисим.— Куда ехать?
— К императору,— ответил Никий, с каждым словом тон его делался все тверже,— он ждет меня.
— К императору? — недоуменно, будто не понимая, о ком идет речь, сказал Онисим и тут же, словно спохватившись, добавил: — Да, к императору, он в цирке. Ты спрячешь нож под одежду.
Под ободряющим взглядом Онисима и укоряющим Теренция Никий спрятал нож и слабым голосом, но с прежними интонациями господина, приказывающего слуге, сказал:
— Теренций, распорядись, чтобы подали мои носилки. И как можно быстрее. А ты,— он повернулся к Онисиму,— будешь следовать за мной. Но незаметно. Ты хорошо меня понял?
Онисим угрюмо кивнул: власть над Никием опять ускользала, и он был недоволен. И он снова не мог понять почему.
— У тебя много людей? — по пути к двери, не оборачиваясь, бросил Никий.
— Мои люди со мной,— уклончиво отозвался Онисим.
— Сколько их?
— Все.
— И Симон из Эдессы тоже?
— Он с нами.
Взявшись за ручку двери, Никий вялым движением указтл на угол комнаты:
— Оставайся здесь, выйдешь после меня. Теренций проведет тебя черным ходом.— И, больше ничего не добавив, даже не дождавшись ответа или просто согласного кивка, Никий покинул комнату.
Он перекусил на скорую руку и кое-как привел себя в порядок — смыл пыль с лица и причесал волосы. Вернувшийся Теренций с поклоном доложил, что носилки ждут внизу. Его тон и движения выражали необходимую почтительность, недавнего разговора словно не было.
Только когда Никий уже сидел в носилках, Теренций, пригнувшись к нему, прошептал:
— Будь осторожен, прошу тебя. И бойся Сенеки. Я чувствую, что он замыслил недоброе,
Никий холодно посмотрел на него и отвернулся.
Глава четырнадцатая
У цирка стояли толпы народу. Носилки, в которых сидел Никий, замедлили ход, потом остановились. Зрелище избиения христиан привлекло едва ли не все население Рима. Мужчины возбужденно переговаривались, женщины пронзительно вскрикивали, дети плакали. Никий поплотнее задернул занавеску, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Думал об Онисиме. Думал с ненавистью, не сдерживаясь и не пытаясь мыслить разумно.
Вполне понимал, что полностью пересилить власть Онисима над ним совершено невозможно и нет таких условий, чтобы это сделалось возможным. Если, например, жалкий Палибий, центурион, встретивший его на берегу после «крушения», ощущает в себе частичку власти, которая, может быть, сильнее власти императорской, то Онисим ощущает в себе частичку власти над всем миром. Да и не частичку он ощущает, а большую часть — он сам является не представителем этой власти, а носителем ее. Подобные Палибию, свергая очередного императора, говорят, что совершают это ради римского народа, а подобные Онисиму расправляются с врагами (или с теми, кого оци называют врагами) ради веры в Спасителя, ради своих братьев по вере. Но все равно получается — и в первом, и во втором случае,— что все дело во Власти и в тех благах, которые дает Власть. Возможно, Палибию хочется роскоши, огромных имений и множества слуг, а Онисиму хочется ходить в рубище и питаться кореньями. Пусть так, это не меняет сути дела. Потому что каждый из них желает жить так, как ему нравится, а это дает Власть. Так что суть не в рубище или в роскоши, а в обладании Властью. И тот и другой будут добиваться ее, невзирая ни на какие препоны, не думая о нормах человеческого общежития, законах и тому подобных мелочах. Власть выше всего и сильнее всего. Кроме того, все эти нормы и законы хороши для своих, а на тех, кого ты зачислил во враги, они не распространяются. Онисим не отступит, он даже страшнее Палибия, потому что фанатичен, а понимание благ жизни (рубище и коренья) извращено. Палибий не лучше, просто он предсказуемее.
Так думал Никий, и результатом этих его размышлений могло быть только одно: раз нельзя переубедить Онисима, его следует уничтожить. В данном случае как врага. Не врага веры, а его собственного врага, врага Никия. Здесь все ясно: или он, Никий, или Онисим.
О том, чтобы уничтожить Онисима (он думал именно так — не убить, а уничтожить), Никий думал уже без раздражения и ненависти. Чувства тут уже были ни при чем: следовало сделать дело, а дело требует хладнокровия. Тем более такое, как убийство.
Он почувствовал мягкий толчок — слуги подняли носилки, и они двинулись вперед. Рука Никия, лежавшая на груди, скользнула к поясу, пальцы наткнулись на что-то твердое. Это был нож, который дал Никию Онисим, он совсем позабыл о нем. Так все просто у этого проклятого Онисима — провести ножом по горлу справа налево, и все. Он вспомнил лицо Нерона с выпяченной нижней губой и прищуренными глазами, его гладкую коротковатую шею, горло без кадыка. И по этому холеному горлу...
Никий вдруг отчетливо понял, что Нерон ближе ему, чем Онисим. Нерон не свой, не брат, но все-таки близок, а Онисим если и не откровенный враг, то все же чужой.
Он засунул руку под одежду, чуть приподнялся, упершись ногами в стенку носилок, и достал нож. Он не стал рассматривать его, а просто засунул под сиденье кресла. Носилки снова опустились с мягким толчком. Никий протянул руку к окну, чтобы отодвинуть занавеску и крикнуть слугам, чтобы они решительнее разгоняли толпу, но вдруг занавески словно сами по себе резко сдвинулись в сторону, и чье-то страшное лицо (всклокоченная борода, всклокоченные волосы), искаженное гримасой ненависти и отчаяния, показалось в окне носилок.
«Кальпурний!» — мелькнуло в сознании Никия, и он резко отшатнулся назад, прикрываясь все еще вытянутой вперед рукой. Он не увидел ножа, а только почувствовал резкую боль в руке и непроизвольно отдернул руку. Кровь хлынула на белую тунику, Никий пронзительно закричал, прижав порезанную руку к груди. Человек с всклокоченной бородой надвинулся на него, вытянув вперед зажатый в кулаке нож с длинным лезвием. Он сделал резкое движение, пытаясь поразить Никия в грудь, но пространство носилок оказалось слишком тесным, а он не рассчитал замаха. Нож ударил в стенку и, вспоров часть обшивки из плотной материи, застрял в ней. Человек закричал, пытаясь освободить лезвие, но тут несколько рук схватили его сзади, оттащили от Никия — а тот, не шевелясь, скорчившись, сидел, забившись в дальний угол.
Человек с всклокоченной бородой вдруг как-то странно охнул, глаза его закатились, рука выпустила рукоятку ножа — нож так и остался торчать в стенке носилок — и сполз наружу, как тогда Кальпурний, потянув за собой безжизненную руку.
Вместо него в проеме окна показалось испуганное лицо слуги. Показалось и исчезло. И тут же открылась дверца, и несколько рук потянули Никия наружу. Когда он встал на землю, увидел лежащего перед носилками человека. Человек лежал лицом вниз, под ним уже растеклась лужа крови. Слуги держали Никия под руки, толпа кричала, а со стороны цирка, грубо расталкивая людей, приближались несколько преторианских гвардейцев. Лицо идущего впереди показалось Никию знакомым. Когда солдаты достигли носилок, Никий узнал Палибия.
— Прочь, прочь! — кричал Палибий, энергично работая локтями и ногами.— Ты ранен? — обратился он к Никию встревоженно.
Никий не ответил, жалобно глядя на центуриона.
— Несите, остолопы! — приказал тот растерявшимся слугам, указывая в сторону ближайшего дома.— Клянусь Марсом, я задавлю вас собственными руками, если он не выживет!
И, подняв руки, он потряс огромными, поросшими рыжими волосами кулаками. Испуганные слуги неловко, причинив ему боль, подняли Никия и понесли туда, куда указал Палибий. Расталкивать толпу уже не было необходимости, люди освободили проход, опасливо глядя на солдат, сопровождавших раненого.
Надо отдать должное Палибию, он распоряжался решительно и умело. Никия внесли в чей-то дом, уложили на ложе. Вскоре явился врач, промыл рану, обработал ее какими-то снадобьями, наложил повязку. Центурион Палибий все время находился рядом, никакой наглости в его взгляде Никий теперь не замечал. Впрочем, от потери крови и от испуга он видел все чуть туманно.
Закончив возиться с раной, врач ушел, сказав, что она неглубокая, но лучше всего несколько дней провести в постели.
— Я провожу тебя домой,— сказал Палибий, склонившись над лежащим Никнем,,— сейчас подадут носилки.
Никий отрицательно повел головой.
— Не понимаю тебя.— Палибий склонился еще ниже.
— Я не поеду домой,— слабо выговорил Никий, чуть приподняв голову,— мне нужно увидеться с императором.
Во взгляде Палибия мелькнуло нечто похожее на уважение. Однако он проговорил с сомнением:
— Император в цирке, представление еще только началось. Ты очень слаб и можешь не выдержать шума и духоты.
— Мне необходимо увидеться с императором,— упрямо повторил Никий, и голова его упала на подушку.
Палибий повернулся, сделал знак слугам, все еще стоявшим тут же, и, когда они вышли, прошептал:
— Ему уже все известно. Весть о спасении Агриппины народ встретил приветственными криками.— Он помолчал, ожидая ответа Никия, и, не дождавшись, спросил: — Ты не знаешь, кто мог покушаться на твою жизнь? Ты никогда не видел этого человека?
Никий пошевелил запекшимися губами:
— Я никогда не видел его. Кроме того, у меня нет врагов.
— Враги есть у всех,— заметил Палибий, потом добавил, не сводя с Никия пристального взгляда: — Может быть, это тоже они?
— Кто они? — растерянно спросил Никий, почувствовав, что в словах центуриона кроется что-то неожиданное и неприятное для него.
— Христиане,— медленно выговорил Палибий.
— Христиане? — Никий не смог скрыть испуга.
— Они. Анней Сенека объявил сегодня в цирке, что на жизнь Агриппины покушались христиане.
— Сенека? Ты говоришь, Сенека?
— Да, сенатор Анней Сенека,— приблизив лицо к Никию так, что оно расплылось во взгляде раненого, каким-то особенным тоном, словно сообщая нечто тайное, выговорил Палибий.
Чтобы не выдать себя, Никий тяжело вздохнул и закрыл глаза.
— Тебе хуже? — услышал он тревожный голос Палибия.
— Нет, ничего,— Никий медленно открыл глаза,— просто слабость. Наверное, я плохо выгляжу? — Он слабо улыбнулся.
Палибий внимательно на него посмотрел:
— Бледен,— произнес отрывисто.
Никий попытался встать, изобразив на лице гримасу боли. Палибий помог ему подняться на ноги.
— Ты сможешь идти сам? Или приказать слугам нести тебя?
— Сам.— Никий мягко, но настойчиво отстранил руку Палибия и шагнул к двери.
Палибий остался за спиной. Никий подумал, что сейчас ему не выдержать особенного взгляда центуриона. «Неужели знают? — мелькнуло в голове.— Нет, быть не может!»
Когда он вышел, шум на площади перед цирком оглушил его. С трудом справившись с подступившей дурнотой, отстранив подбежавших слуг, он самостоятельно сел на носилки. Солдаты Палибия сопровождали его до самого центрального входа. Он вылез, но, сделав два шага по лестнице, остановился и покачнулся. Палибий подхватил его сзади.
Вот так, поддерживаемый Палибием, с бледным лицом, в забрызганной кровью одежде, он предстал перед императором. Император смотрел на разворачивающееся на арене действо, но, еще не видя лица Нерона, а лишь посмотрев на его спину и затылок, Никий понял, что тот не в себе. Рядом сидела Поппея, чуть сзади поэт Лукан и Анней Сенека.
Поппея первая увидела Никия. Обернувшись, словно почувствовав его приближение, она вскрикнула, всплеснула руками. Нерон тоже резко обернулся, прикрыв рукой грудь, на лице его был испуг. Некоторое время он молча смотрел на Никия, словно не узнавая. Наконец произнес:
— Ты? Что с тобой случилось?
— Я... я хотел...— более слабым голосом, чем мог, проговорил Никий.— Хотел сказать тебе, что твоя мать Агриппина спаслась, хотя я достоин наказания.
— Ты ранен? — прищурившись, спросил Нерон и оглядел Никия.— Не понимаю, о чем ты говоришь,— он переглянулся с Поппеей и добавил: — Нам уже известно о чудесном спасении матери,— он возвел глаза к небу,— Боги охраняют наш род...
— Я хотел...— снова начал Никий, но Нерон не дал ему говорить, указал на испачканную кровью одежду:
— Что случилось? Почему на тебе кровь?
— Какой-то человек ударил его ножом на площади перед цирком,— пояснил Палибий.
Нерон строго на него посмотрел:
— Ударил ножом?
— Да, принцепс, ударил ножом, но поранил только руку.
Нерон снова перевел взгляд на Никия.
— Значит, тебя хотели убить? Кто? Почему?
— Я не знаю.— Никий прерывисто вздохнул и осел на сильных руках Палибия.
— Он очень бледен,— сказала Поппея, трогая руку Нерона.
— Да,— словно спохватившись, произнес Нерон и приказал, близоруко скользнув взглядом по сторонам: — Отнесите его во дворец и пригласите моего врача.
Несколько человек бросились к Никию, закрыв от него императора, бережно подхватили на руки и понесли вниз по лестнице.
Уже теряя сознание, Никий вдруг услышал рев трибун, которого не замечал до этого, и как-то очень спокойно подумал, что сейчас на арене гибнут его братья. «И я гибну тоже!» — мелькнуло у него в последнее мгновенье.
Глава пятнадцатая
В сознание Никий пришел скоро, но был очень слаб и пролежал в постели несколько дней. Дважды посылали от императора справиться о его здоровье. Теренций не отходил от него ни на минуту и ночью спал рядом на полу. Они почти не разговаривали, Теренций смотрел тревожно. Никий хотел спросить у него об Онисиме, но все никак не мог решиться. Казалось, если не спрашивать, то Онисима как бы и нет вовсе, а если спросить, то... Больше всего Никий боялся, что Онисим вдруг появится здесь, во дворце. Этого никак не могло быть, но на душе оставалось неспокойно.
В очередной раз Нерон прислал сказать, что он беспокоится о здоровье Никия и, лишь только тот сможет ходить, ждет его у себя. Посыльный передал странные слова Нерона: «ждет, но не торопит». Никий переспросил, так ли сказал император? Посыльный повторил и заверил, что именно так ему велено было передать.
В тот же день, как только Никий встал с постели, он неожиданно спросил Теренция:
— Ты думаешь, мне нужно бежать?
Теренций не удивился вопросу, сказал, глядя на Никия с чуть заметным осуждением:
— Как, мой господин, я могу советовать тебе?
— Отвечай! — приказал Никий раздраженно, и тогда Теренций произнес спокойно:
— Император ждет тебя,— и не добавил в этот раз «мой господин».
Полдня Никий пребывал в сомнениях, минутами доходил до того, что готов был бежать сейчас же — куда угодно, хоть в никуда, лишь бы подальше от Рима. Он и сам не понимал, кого боится больше — императора или Онисима.
К вечеру он все же решился и, тщательно одевшись, пошел на половину Нерона. Ступал он медленно и как бы несмело, словно впервые оказался во дворце, озирался по сторонам и рассеянно отвечал на приветствия.
В одном из залов он вдруг остановился, ощутив безотчетный страх, стоял, прижимая перевязанную руку к животу. Услышал тяжелые шаги за спиной и медленно повернулся. Все внутри него трепетало — почему-то почудилось, что это Онисим. Но то был не Онисим: подволакивая изуродованную ногу, к нему подходил Афраний Бурр.
— Приветствую тебя, Никий,— сказал Афраний, как показалось Никию, со странной улыбкой.— Рад видеть тебя здоровым и сильным.
Никий невнятно ответил на приветствие, глядя на командира преторианских гвардейцев с опаской.
— Императора очень беспокоила твоя рана,— продолжал Афраний,— и нас, твоих друзей, она беспокоила тоже. Надеюсь, теперь ты чувствуешь себя хорошо?
— Да,— настороженно кивнул Никий.
— Ты идешь к императору? Он будет рад видеть тебя здоровым. Я только что от него. Сейчас он занят, и я хотел бы предложить тебе пройти ко мне, мне нужно задать тебе несколько вопросов.
— Мне?
— Тебе, Никий, тебе.— Афраний подошел и обнял Никия за плечи, увлекая за собой.— Ты никогда не был у меня. Пойдем, посмотришь, как живет старый солдат.
Никию ничего не оставалось, как последовать за Афранием. Но тот провел его не в свои покои, а в помещение, находившееся рядом с залой, где отдыхали сменившиеся с поста караульные. Комната была совсем небольших размеров, но из-за малого количества мебели (стол и два стула по обе стороны) и отсутствия каких-либо украшений на стенах казалась просторной. Здесь ощущался запах казармы — кожаных доспехов, мужского пота,— и Никий невольно поморщился. Афраний заметил это, и вновь на его тонких губах появилась странная улыбка. Он сел за стол и, не предложив Никию стула, сказал, глядя на него снизу вверх, уже без улыбки:
— Скажи, ты знаешь того человека, который покушался на твою жизнь?
Никию хотелось изобразить на лице недовольство, но он все не мог перебороть страх и, отрицательно мотнув головой, буркнул:
— Нет.
— Это странно,— медленно выговорил Афраний, в глазах его блеснуло нечто похожее на угрозу.
— Я не знаю этого человека,— не выдержав наступившего тягостного молчания, повторил Никий и, пожав плечами, добавил: — Я даже не успел его рассмотреть, все произошло так быстро.
— По моим сведениям, не слишком быстро,— произнес Афраний и, оторвав руку от стола, чтобы предупредить возражения собеседника, продолжил: — Впрочем, я хотел спросил тебя не о нем, а о другом человеке. Ты понимаешь меня?
— Не-е-т,— только и сумел выдавить из себя Никий и так сильно прижал раненую руку к животу, что ощутил резкую боль и невольно вскрикнул.
Афраний сделал вид, что ничего не заметил. Сказал:
— Значит, ты не понимаешь, о ком я говорю? Жаль. Но я объясню. Я имел в виду того, кто спас тебя.
— Спас меня?
— Ну да. Он ударил твоего убийцу мечом между лопаток. Скажу тебе, удар был очень хорош, этот человек проделывал такое не один раз.
— Не понимаю.— Никий с трудом сглотнул вязкую слюну, наполнившую рот.— Я еще очень слаб, сегодня я первый раз встал с постели самостоятельно. Если это допрос, то я...
Перебивая его, Афраний Бурр коротко бросил:
— Это допрос.
— Что? — едва слышно выдохнул Никий.
— Я сочувствую тебе,— сказал Афраний,— ты в самом деле, я это вижу, еще очень слаб. Но ты должен понять, что существуют государственные интересы. Покушение на тебя — не только твое частное дело. То есть оно совершенно не частное дело.
— Почему? — В голосе Никия не было возмущения, только просьба, причем звучащая самым жалким образом.
— Потому что тот человек,— пристально и строго глядя на Никия, произнес Афраний,— который поразил твоего убийцу и спас тебя, принадлежит к сообществу христиан, врагов Рима. Может быть, теперь тебе понятно, что это дело не частное. Надеюсь, мне не нужно объяснять далее.
— Не нужно.
— Так вот,— холодно, строго и уже не выдавая допрос за беседу, продолжил Афраний.— Человек, спасший твою жизнь, принадлежит к сообществу христиан и давно разыскивается римскими властями. Мне непонятно, как он оказался на площади в ту самую минуту, когда на тебя совершили покушение, и почему он предотвратил убийство. Кто покушался на тебя — другой вопрос. Ты близкий к императору человек, а у Рима много врагов. Меня удивляет другое — удивляет и настораживает: почему этот человек тебя спас? Разве что ты имеешь отношение к христианам, злейшим врагам Рима.
— Я?! — Никий задохнулся, и голова его дернулась конвульсивно.— Я?!
— Успокойся.— Афраний посмотрел на него с тревогой и указал на стул.— Сядь и успокойся. Я ничего не утверждаю, я только задаюсь вопросом: почему? Кроме того, я почти уверен, что тот человек появился там не случайно. Думаю, он знал о возможности покушения и хотел его предотвратить.
Странно, но, опустившись на стул, Никий почувствовал себя значительно увереннее. То ли страх его дошел до своей высшей точки, а потом вдруг исчез, словно обессилев, то ли Никий просто устал от страха, то ли, опустившись на стул, он почувствовал себя равным Афранию. Особенной уверенности он, конечно, не ощущал, но прежнего страха уже не было. Подняв голову, он посмотрел на Афрания, подобно Нерону, прищурив глаза:
— Скажи мне, Афраний, прямо: ты обвиняешь меня?
Афраний Бурр явно не ожидал такого поворота и
несколько растерялся. Он покашлял, переложил на столе какие-то бумаги и только потом ответил:
— Нет, Никий, как ты мог подумать? Я просто хочу выяснить обстоятельства дела, ведь все, что касается тебя, так или иначе касается императора, и потому...
— И потому ты не предложил мне сесть,— перебил его Никий,— а разговаривал со мной так, будто я раб, слуга или преступник, враг Рима.
— Ты меня неправильно понял,— отводя взгляд, проговорил Афраний.— Я только хотел...
Но Никий снова перебил его. Облокотясь на стол, он придвинулся к Афранию Бурру почти вплотную (тот чуть отодвинулся назад, вдавившись в спинку стула).
— Где этот человек? — громко, словно специально для того, чтобы это слышали за дверью, воскликнул он.— Покажи мне его, Афраний.
— Но я... я...— Афраний недовольно качнул головой и пожал плечами.— Я не могу этого сказать.
— Не можешь? Ты, блистательный Афраний Бурр, гордость Рима, великий воин, и ты не можешь? Разве есть что-нибудь на свете, чего не мог бы Афраний?
Никий и сам не понимал, что он такое делает. Так мог Нерон — так разговаривать с Афранием Бурром, может быть, Анней Сенека и еще два-три влиятельных сенатора, но так не посмели бы разговаривать с командиром преторианской гвардии ни Отон, ни Лукан, ни даже, наверное, Поппея. Что уж говорить о Никии, безродном провинциале, игрушке императора, которую он может сломать в любую минуту, даже этого не заметив, непроизвольным движением руки.
Но все сделалось само собой, будто что-то внутри Никия подсказало нужный тон. Он говорил так, как говорил бы император Нерон, он сейчас подражал императору. А Афраний Бурр не мог найти должного ответа — как поставить на место человека, говорящего, как император, и, главное, смеющего так говорить.
Афраний смущенно молчал, не поднимая глаз, и Никий, потянувшись, тронул пальцами его плечо. Афраний вздрогнул и с недоумением уставился на Никия. Тот поощрительно улыбнулся (уже неизвестно было, кто кого допрашивает):
— Ты не ответил, Афраний. Можешь представить мне этого человека?
— Этого человека? — Афраний смотрел так, будто не понимал, о ком идет речь.
И тогда Никий сказал громко и четко:
— Да, человека, который якобы спас меня от убийцы и которого ты называешь членом сообщества христиан. Прикажи привести его, посмотрим на него вместе. Мы посмотрим на него, а он на нас.
— На нас? — Брови Афрания Бурра поползли вверх.
— На тебя и на меня,— просто выговорил Никий,— возможно, он узнает кого-нибудь.
— Кого он должен узнать? — подозрительно спросил Афраний.
— Узнать своего собрата по сообществу христиан, проникшего во дворец императора Рима.
— Ты имеешь в виду...— начал было Афраний, но Никий не дал ему закончить:
— Я никого не имею в виду. Неужели ты думаешь, я так глуп, что буду подозревать командира преторианских гвардейцев в связях с человеком, являющимся врагом Рима?
— Да почему ты должен меня в этом подозревать?! — уже с очевидным возмущением, хотя растерянность еще ощущалась в его тоне, вскричал Афраний.
— Я и не подозреваю.— Никий откинулся на спинку стула и еще удобнее расположил раненую руку на животе,— а подозреваешь ты. Меня, меня подозреваешь, Афраний.
— Не подозреваю,— раздраженно заметил Афраний,— а лишь хочу разобраться.
— Знаешь что, Афраний,— Никий насмешливо улыбнулся,— скажу тебе открыто, как солдат солдату, хотя я и не был солдатом никогда. Но мое ранение хотя бы отчасти дает мне на это право. Так вот, скажу тебе откровенно и прямо. Думаю, у тебя нет никаких особенных подозрений в отношении меня, ты просто хочешь сделать меня подозреваемым и потому выдумал всю эту нелепицу.
— Опомнись, что ты говоришь?
— Говорю то, что думаю. Кому-то, может быть твоим друзьям, недовольным теперешним принципатом, выгодно, чтобы близкий к императору человек, которому император доверяет важные поручения, был уличен в сношениях с врагами Рима.
— Замолчи! — крикнул Афраний и, неловко дернувшись, поднялся.— Я прикажу взять тебя под стражу!
Никий изобразил на лице крайнюю степень удивления.
— Ты мог сделать это в самом начале нашего разговора. Ты мог сделать это раньше, когда я был болен и лежал в постели,— стоило лишь прислать ко мне пару солдат под командованием... Под командованием хотя бы твоего центуриона Палибия! Почему же ты, всесильный Афраний Бурр, не сделал этого?!
— Я исправлю ошибку,— прошипел Афраний сквозь зубы, с ненавистью глядя на Никия,— сделаю это сейчас.— И он посмотрел на дверь, словно собирался позвать солдат.
Никий медленно встал со стула, он глядел на Афрания сейчас с не меньшей ненавистью, чем тот на него.
— Делай, Афраний, то, что должен, если можешь.
— Ты в этом сомневаешься? — И Афраний зычно крикнул: — Солдаты, ко мне!
— Только имей в виду, я буду кричать, что ты заговорщик,— быстро говорил Никий, глядя на Афрания без страха, но прислушиваясь к тяжелым приближающимся шагам за дверью.— У меня есть что сказать императору, если он захочет узнать, за что я арестован. Агриппина рассказала мне все: ты и Анней Сенека...
Тут дверь распахнулась, и в комнату вбежало несколько солдат. Они остановились, недоуменно глядя то на Никия, то на своего командира.
Лишь несколько мгновений Никий находился в замешательстве и пришел в себя быстрее Афрания Бурра.
— Значит, мы договорились, мой Афраний,— проговорил он лениво, словно заканчивая дружеский разговор.— Я готов встретиться с этим человеком, но не сегодня. Уже поздно, я устал, а ведь мне еще нужно увидеться с императором, он ждет меня. Прощай!
С этими словами пройдя между расступившимися солдатами, Никий вышел из комнаты. Он ватным шагом пересек караульное помещение, несколько комнат двора и, остановившись у двери, все не мог понять, куда он явился. Ему казалось, что вот сейчас за спиной он услышит окрик Афрания Бурра, потом снова топот солдат. Он ощутил, что, как только они дотронутся до него, он сейчас же потеряет сознание, потому что спина его сейчас стала чувствительнее лица: с нее будто сняли кожу, и он чувствовал ею каждый шорох позади себя, каждый еще не родившийся звук. Спина осталась без кожи, он не выдержал бы теперь даже легкого к ней прикосновения...
Дверь перед ним открылась, и Никий увидел Теренция, смотревшего на него испуганно. Теренций шагнул навстречу, выставил вперед руки:
— Тебе стало хуже, мой господин?!
— Сейчас уже нет, Теренций, сейчас уже нет,— слабо выговорил Никий и упал на руки слуги.
Глава шестнадцатая
Войдя к Нерону, первой Никий увидел Поппею. Она улыбнулась, поманила его рукой: — Подойди, я хочу взглянуть на тебя. Погладила повязку на руке и вдруг резко сжала пальцы. Никий вскрикнул от неожиданной боли.
— Больно? — спросила она.— Я слышала, что рана неглубокая. Это так?
— Да,— ответил Никий, несколько отстраняясь от все еще протянутой к нему руки Поппеи,— так сказал врач.
— Врачи ничего не смыслят, они только делают вид. Ты и сам, как я слышала, врач, тебе должно быть виднее.
Никий не понимал, к чему она ведет, смотрел на нее с вежливой осторожностью.
Вдруг она спросила — резко, будто ударила его наотмашь:
— Ты видел, как Агриппина прыгнула в воду?
Он замер. Она нетерпеливо дернула головой:
— Отвечай же, я спрашиваю тебя!
— Не видел,— глядя себе под ноги, произнес Никий.— Мы были в лодке, когда корабль стал разрушаться.
— Странно. Я думала...
Но Никий так и не узнал, что же думала Поппея: из-за полога кровати показался Нерон.
— А-а, Никий,— проговорил он так, будто только что появился в комнате,— надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо.
Никий почтительно поклонился:
— Благодарю, принцепс, но, к сожалению, я чувствую себя плохо.
Нерон близоруко уставился на Никия:
— Да? А мне говорили, что ты вполне здоров и даже успел поссориться с Афранием Бурром. Наверное, мне сказали неправду. С некоторых пор обманывать императора стало обычным делом. Близкие предают меня, но я ничего не могу с этим поделать. Вот и ты...— Он не договорил, выжидательно глядя на Никия.
— Я люблю тебя и не могу предать,— сказал Никий, прямо глядя в глаза Нерону.— Но я виноват перед тобой и заслуживаю наказания.
— Наказания? — улыбнулся Нерон, но улыбка была холодной.— Какой же род наказания я должен к тебе применить? Выбери сам, я сделаю, как ты хочешь.— И так как Никий молчал, добавил: — Говори же, мы внимательно слушаем тебя.
Никий вполне понимал, что этот шутливый разговор совсем не шутка. Он должен ответить предельно точно, от этого зависели его жизнь и его будущее. Нужно было подумать, но времени на размышления не хватало, каждая секунда промедления только усугубляла его положение. И тогда он чуть дрогнувшим голосом выговорил:
— Смерть. Я заслуживаю смерти, принцепс.
Нерон покосился на Поппею (ее лицо осталось непроницаемо), потом удивленно поднял брови и выпятил нижнюю губу:
— Вот как! И какого же рода казнь ты предпочел бы?
— Я не знаю, я плохо разбираюсь в этом.
— Слышишь, Поппея,— воскликнул Нерон, явно предлагая любовнице посмеяться,— наш Никий плохо разбирается в казнях! Зато я разбираюсь в них очень хорошо.
Поппея недовольно на него взглянула:
— Ты шутишь?
— Нет, я в самом деле неплохо разбираюсь в казнях и люблю особенно изысканные. Казнь должна быть интересной, ведь смерть — это трагедия. А кому нужна скучная трагедия! Ты со мной не согласна? — Поппея не ответила, сердито отвернулась, и Нерон продолжил: — Вот недавно — ты помнишь? — я устроил в цирке замечательную казнь для христиан. Римляне восторгались, такого зрелища они еще не видели. Если бы не я стал императором, им было бы скучно. Если бы императором стал, к примеру, твой муж Отон, то он просто распял бы их. Представляешь, какая это скука!
Говоря это и обращаясь преимущественно к Поппее, Нерон, однако, время от времени внимательно поглядывал на Никия. Но Никий оставался спокоен, по крайней мере, у него хватило воли держать себя в руках.
Он слишком хорошо изучил Нерона и понимал, что казнь ему (во всяком случае, скорая) пока не грозит.
— Ну, что скажешь на это, мой Никий? — обратился Нерон к нему. Когда император говорил о чем-либо, так или иначе связанном с театральным действием, будь это даже казнь, как сейчас, он приходил в возбужденное состояние. К тому же в радостно-возбужденное, а не наоборот.
— Прости, император,— смиренно ответил Никий,— я не понял тебя.
Нерон подошел, обнял Никия за плечи:
— Но это так просто. Я велю заполнить, как в прошлый раз, арену цирка водой, мы пустим туда один из моих кораблей (похожий на тот, на котором ты уже плавал), посадим тебя и этого, как его, Кальпурния, кажется, и...— Он помедлил и с удовольствием договорил: — И устроим кораблекрушение. Ну, как тебе мой план?
— Твой план прекрасен, принцепс,— серьезно сказал Никий (так, будто к нему самому это не имело никакого отношения),— я буду счастлив умереть на глазах того, кого люблю, на глазах моего императора.
— Ты будешь счастлив умереть? — медленно выговорил Нерон и посмотрел на Поппею.— Взгляни же, Поппея, на этого счастливца.
Поппея снова подняла глаза на Нерона и снова отвела их. Нерон был несколько смущен. Он отошел от Никия, опустился в кресло, вытянул ноги. Довольно долго молчал, внимательно рассматривая перстень на мизинце правой руки. Казалось, это занятие поглотило его целиком. Не отрывая взгляда от переливающихся разноцветных граней камня, он как бы нехотя спросил:
— Кстати, Никий, а где этот... Кальпурний, кажется? Что с ним случилось?
— Я убил его, принцепс,— спокойно ответил Никий.
Нерон поднял глаза:
— Как?
— Веслом. Я ударил его веслом, когда он хотел влезть в лодку, где находился я вместе с гребцами.
— Вот как? И зачем же ты убил его? Разве я тебе приказывал?
— Он не сделал того, что должен был сделать. Корабль развалился не так, как он мне обещал, то есть слишком медленно.
— Но ты убил его в гневе? — Нерон пристально, снизу вверх смотрел на Никия.— Ведь ты не сознавал, что делаешь? Я правильно тебя понял?
— Нет, принцепс,— Никий выдержал взгляд императора,— я сделал это осознанно.
— Ты удивляешь меня, Никий, не думал, что ты такой кровожадный! Ты всегда мне казался слишком нежным, слишком утонченным для убийства. Так, значит, ты ударил его веслом?
— Да, принцепс, веслом по голове.
— По голове? — заинтересованно переспросил Нерон.— И что же дальше?
— Голова его раскололась на две части, и он утонул.
Нерон недоуменно посмотрел на Поппею. Та обратилась к Никию:
— Значит, ты убил его за то, что корабль развалился слишком медленно?
— Да.
— Но ты сказал мне вначале, что не видел, как Агриппина прыгнула в воду. А раз ты не видел этого, какая разница, медленно развалился корабль или быстро — ведь дело было сделано. Разве не так? Отвечай.
— Я сказал тебе правду: я не видел, как она (Никий не хотел называть Агриппину по имени) прыгнула в воду. Но когда Кальпурний уже подплыл к лодке, он указал мне на нее.
— На Агриппину? — воскликнула Поппея, переглянувшись с Нероном.
— Да, он показал на нее,— кивнул Никий.— Она плыла к берегу всего в нескольких метрах от лодки.
— Ты хочешь сказать,— Поппея в буквальном смысле впилась в Никия взглядом,— что ударил его веслом за то, что он указал тебе на плывущую Агриппину? Выходит, ты спас ее и убил человека, который хотел...— Поппея не договорила, прерывисто вздохнула и схватилась рукой за горло.
— Говори, Никий,— приказал Нерон,— почему ты не сделал это?
— Ты мог...— возмущенно начала было Поппея, но Нерон остановил ее властным движением руки.
— Я мог бы сказать, что не видел ее плывущей, ведь не осталось ни одного свидетеля из тех, кто бы мог опровергнуть мои слова,— проговорил Никий, демонстрируя возмущение, которое он как будто бы не хотел выказывать.— Но я слишком люблю тебя, чтобы обманывать, как другие, тем более в таком деле.
— Значит, ты не сделал этого...— медленно произнес Нерон.
— Я не мог ударить мать императора веслом по голове.
— Тебе стало жаль ее? — Нерон прищурился и подался вперед, вглядываясь в лицо Никия.
— Нет, принцепс,— отрицательно покачал головой Никий,— Я не стану обманывать тебя и здесь. Мне не было жаль ее, я не думал об этом.
— О чем же ты думал? — нетерпеливо спросил Нерон.
— О тебе.
— Обо мне?
— О тебе, император.— Никий вздохнул, он чувствовал на себе тяжелый взгляд Поппеи и старательно не смотрел в ее сторону.
— Объясни,— бросил Нерон, снова откидываясь в кресле.
— Одно дело, когда мать императора гибнет при кораблекрушении — ведь море всегда таит опасность. И совсем другое дело, когда ее убивают на глазах у кого-либо. Тем более когда это делает человек, близкий к императору. Ты прости меня за то, что я, недостойный, говорю о близости к тебе, но так могут думать другие.
— Продолжай,— буркнул Нерон.
— Я боялся не тех людей в своей лодке, не гребцов. Я понимал, их не оставят в живых, хотя не знал, что за скалой прячется отряд преторианцев. Но я не был уверен и в судьбе Кальпурния. Не знаю, чей он человек, но его могли в живых оставить. Кроме того, нас могли видеть с берега.
— Берег был пустынным! — крикнула Поппея.
— За это никогда нельзя ручаться полностью. Даже у стен есть глаза и уши, а пространство берега передо мной оказалось слишком велико. Я не был уверен и не мог рисковать. И я не ошибся — ведь преторианцы во главе с центурионом Палибием прятались за скалой!
— При чем здесь преторианцы? — гневно выговорила Поппея.— Они здесь ни при чем.
Никий растерянно посмотрел на Нерона:
— Прости, принцепс, может быть, я чего-то не понимаю? Если солдаты могут видеть это, то тогда...
— Что, что тогда?! — прокричала Поппея, подскакивая к Никию с искаженным гневом лицом.
Никий пожал плечами, взглянул на императора из-за головы Поппеи:
— Тогда не имело смысла затевать все это с кораблем. Преторианцы могли сделать все в Риме. И уверен, они справились бы значительно лучше, чем я.
— Да кто ты такой,— прошипела Поппея,— чтобы судить о подобных делах?
Никию хотелось крикнуть в это разгневанное, сделавшееся почти мерзким лицо: «А ты кто такая?» — но он только виновато опустил голову.
— Оставь его,— услышал он недовольный голос Нерона,— он прав.
Поппея фыркнула, резко развернулась и, шурша платьем, вышла из комнаты, хлопнув дверью.
Некоторое время Нерон молчал. Потом слабым движением руки подозвал Никия:
— Подойди.
Долго вглядывался в его лицо, будто хотел прочесть там что-то. Наконец спросил с досадой:
— Ты в самом деле любишь меня, Никий?
— Да, принцепс, люблю.
— Это странно.— В голосе Нерона чувствовалась усталость и потерянность, Никию стало жаль его.— Это странно,— повторил Нерон и вздохнул,— ведь меня не за что любить. Знаешь, Никий, порой я бываю противен сам себе. Я проделываю все эти мерзости именно потому, что противен сам себе, и еще потому, что мне хочется позлить окружающих. Ты понимаешь меня?
Никий не ответил, но смотрел на Нерона с таким искренним, естественным участием — жалость в самом деле сдавила ему грудь,— что глаза императора благодарно блеснули.
— Я проделываю все это, чтобы почувствовать себя свободным. Ты не представляешь, Никий, до чего мне не хватает свободы. Все знают, как я должен поступать, и я поступаю так, как они хотят.— Он протянул руку и дотронулся до повязки на руке Никия.— Тебе больно?
— Нет. Но душа моя болит за тебя.
— Это так? Ты не обманываешь, Никий? — Нерон посмотрел на него странно: так смотрят дети, когда ищут поддержки и защиты.
— Нет, принцепс. Я скорблю об одном — что не в силах помочь тебе.
Нерон помолчал. Сидел, свесив голову на грудь. Никию показалось, что он плачет, но присесть и заглянуть в его лицо он так и не решился.
Когда император поднял голову, лицо его стало другим. Усмехнувшись каким-то своим мыслям, он спросил:
— Что это за история с покушением на тебя? Афраний докладывал мне, что тебя спасли христиане. Он подозревает, что ты с ними. Что скажешь?
— Я с тобой,— едва слышно выговорил Никий.— Сам по себе я ничего значить не могу, да и как мне идти против такого человека, как Афраний Бурр? Он может раздавить меня кончиком пальца, я даже не успею вскрикнуть.
— Кончиком пальца? — улыбнулся Нерон.— Сомневаюсь. Посмотри на его изуродованную руку: все эти великие старики, и он, и Сенека, похожи на нее. Они изуродованы слишком долгим пребыванием у власти. К таким я причисляю и свою мать. Порой мне снится, как их скрюченные руки тянутся к моему горлу. Ты понимаешь меня? Ты согласен?
— Я орудие в твоих руках, принцепс,— помолчав, осторожно проговорил Никий.
— Что ты имеешь в виду?
— Если представить, что я меч, то мной можно убивать, а можно повесить на стену, как украшение. Меч не рассуждает, он лишь служит хозяину.
— Ты слишком умен, Никий, чтобы быть преданным,— сказал Нерон и поднял руку, останавливая возражения Никия,— но если ты меч, придется воспользоваться тем, что имею, другого у меня нет.— Он вдруг строго посмотрел на Никия, прежде чем продолжить: — Я не верю Афранию, не верю, что ты с христианами, но будь это так, это было бы очень неплохо. А? Как ты думаешь?
— Я не понял.— Никий осторожно улыбнулся.
— Тебе легче станет убивать их всех — ведь христиане ненавидят римлян. Ты убивал бы их с удовольствием, стал бы не убийца, а мститель. А когда перебил бы всех до конца, то взялся бы за меня.
— О император!..
— Молчи. Молчи и слушай.— Он поманил Никия поближе и понизил голос почти до шепота.— Ты должен закончить то, что начал: мать моя заговорщица и должна умереть. Сам придумай, как это сделать, ты умен и сообразишь лучше других.
— Но я...
— Молчи! Я знаю, что ты не убийца, но мне и не нужен убийца. Мне нужен мститель. Я верю, что ты любишь меня. Значит, ты должен ненавидеть всех остальных. Всех, всех ненавидеть! Так же, как ненавижу я. И когда ты покончишь с ними, останусь я один — вот тогда ты поймешь, любишь ли ты меня по-настоящему. Может быть, ты поймешь, что ненавидишь меня,— тогда я погибну. Хотя я все равно погибну император Рима не живет долго и не умирает в постели. Разве что от яда, но это другое. Иди, Никий, и торопись сделать то, что я велю.— Он усмехнулся,— Говорят, император Юлий, когда убийцы подступили к нему, крикнул своему приемному сыну: «И ты, Брут?!» Интересно, что крикну я, когда ты подступишь ко мне с тем же? — И, не давая Никию возможности возразить, он властно махнул рукой.— Иди, я хочу побыть один.
Но Никий успел сделать только шаг в сторону двери. Нерон, потянувшись, ухватил его за край одежды:
— Хочу тебя спросить, у христиан в самом деле только один бог?
Никий пожал плечами:
— Так говорят.
Нерон снова взялся за перстень на мизинце и, играя им, сказал, не поднимая глаз:
— Всего один бог! Нет, для Рима одного мало, одному за всеми не уследить.
Глава семнадцатая
Когда Никий подъехал к дому Агриппины, он увидел стоявшие за оградой носилки Сенеки. Он едва удержался, чтобы не повернуть обратно. Как только Никий прошел ворота, Сенека, выглянув из окна носилок, окликнул его. Никий подошел, вежливо поклонился сенатору. Они не виделись продолжительное время, и Никию показалось, что Анней Сенека сильно сдал. Прибавилось морщин на лице, глаза уже не смотрят так живо. Взгляд потухший, и приветливая улыбка не спасает его.
Никий был удивлен и не скрывал это.
— Рад видеть тебя, сенатор. Надеюсь, ты здоров! Да даруют тебе боги долгую и счастливую жизнь!
Сенека поморщился:
— Ты стал настоящим придворным, Никий, я рад за тебя. Правда, не думал, что это свершится так скоро. Что до счастливой и долгой жизни, то ты и сам понимаешь, мне осталось совсем мало — я ухожу, и, возможно, мы видимся в последний раз.
— Как, сенатор уезжает? Далеко? Надолго?
— Я решил покинуть Рим навсегда,— сказал Сенека.— Я рад, что это случилось до того, как я покину жизнь.
— У сенатора мрачные мысли,— бодро произнес Никий.— Я думал, ты принадлежишь к стоикам!
— Ты правильно думал. Я и принадлежу к стоикам. А это значит видеть вещи такими, какими они являются, не приукрашивать их. Я не приукрашиваю смерть — она страшна, но я отношусь к ней с пониманием. Впрочем,— он открыл дверцу носилок и кряхтя вылез наружу; Никий хотел помочь ему, но Сенека не пожелал замечать протянутой руки.— Впрочем,— повторил он,— я ждал тебя здесь не для того, чтобы вести отвлеченные разговоры.
— Ждал меня? Но откуда ты мог знать...
— Что ты придешь сюда? — быстро договорил за него Сенека.— О, это очень просто. Я слишком долго жил при дворе, чтобы не уметь предугадывать такие простые вещи.
— Я тебя не понимаю.— Никий в самом деле был смущен и смотрел на сенатора растерянно.
Сенека вздохнул, ответил устало и нехотя, не скрывая досады:
— Я слышал, ты вчера был у императора.
— Ну и что?..
— Дело, которое он поручил тебе, не закончено, а Нерон не любит, когда его приказов не выполняют. Не думаю, что ты прячешь под одеждой нож и теперь же убьешь Агриппину, но совершенно уверен, что ты пришел именно по этому делу.
Никий не отвечал, не отводил взгляда от усталого лица сенатора, но в глазах его не было уверенности.
— Я не прошу подтверждения своих слов,— продолжал Сенека,— в этом нет необходимости. Просто я знал, что ты не станешь медлить и сегодня же явишься сюда. Я ждал тебя, чтобы сказать: ты играешь в опасную игру. Нерон не остановится на этом, ты будешь убивать раз за разом, пока он сам не убьет тебя.
— Это все, что хотел сказать мне сенатор? — холодно произнес Никий.— Или сенатор хочет поведать мне еще что-то? Тогда я внимательно слушаю.
Сенека долго и пристально смотрел на него, потом сказал, покачав головой:
— Не представляешь, Никий, как же я тебя ненавижу!
— Звучит странно,— отозвался Никий с вымученной улыбкой,— тем более что я твое порождение, твой ребенок, можно сказать. Ненавидеть меня ты можешь, но убивать своего сына — не лучший поступок отца. Тем более столь блистательного философа, как ты.
— Что ты имеешь...— начал было Сенека, но Никий не дал ему закончить и быстро сказал:
— Я имею в виду убийцу, которого ты подослал ко мне.
По лицу сенатора пробежала тень. Кажется, несколько мгновений он находился в нерешительности: возмутиться в ответ на такое обвинение Никия или нет. По-видимому, решил не возмущаться. Он сказал только:
— Я слышал, тебя спасли христиане. Мне сказал об этом Афраний. Полагаю, императору это тоже известно.
— Сенатор пугает меня?
— Да, сенатор пугает тебя, Никий,— зло усмехнулся Сенека.— Или ты уже ничего не боишься?!
Никий сделал шаг в сторону дома Агриппины, показывая, что разговор окончен. Сенека остановил его, схватив за рукав:
— Постой, я еще не закончил. Ты должен убить это чудовище, или мы убьем тебя.
— Я люблю императора,— неожиданно проговорил Никий. Сказал это спокойно и холодно. И добавил, высвобождая рукав от старческих пальцев Сенеки: — Это вы чудовища, а не он. Вы сделали из Рима чудовище для всего мира. Вы, доблестные воины и великие философы. Чего стоит ваша философия, если сын убивает мать, а философ наживается на откупах, как последний мошенник! Не надо пугать меня, Анней, уходи, я боюсь смерти не больше, чем ты. Но ты по крайней мере теряешь все свои богатства, а мне нечего терять.
— Значит, ты любишь императора! — воскликнул Сенека громче, чем того требовала осторожность (несколько слуг Агриппины, стоявшие у парадного входа, разом оглянулись на них).
— Тебя это удивляет? — спросил Никий, вплотную приблизившись к сенатору (он был значительно выше ростом и смотрел на Сенеку сверху вниз).— Вы все любите блага, которые дает император, а я люблю его самого.
— Значит, ты уже не христианин,— дрогнув щекой, сказал Сенека.— Он убивает твоих братьев, а ты не хочешь убить его.
— Я не хочу убивать того, кого люблю.
— Не верю, что ты любишь! Не верю!
— Во всяком случае я хочу любить! — воскликнул Никий и быстрым шагом пошел в сторону дома, ни разу не оглянувшись.
Слуги у парадного крыльца низко ему поклонились. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, он выглянул в круглое окошко на площадке пролета — носилок Сенеки уже не было на прежнем месте.
Агриппина встретила его, лишь только он закончил подъем. Лицо ее было бледным и осунувшимся.
— Что? — отрывисто и тревожно бросила она; ее пальцы, вцепившиеся в перила, побелели.
— О чем ты? — улыбнулся он, шагнув к ней.
Она попятилась, с трудом разжав руки:
— Не подходи!
— Да что с тобой, Агриппина? Я не причиню тебе никакого зла!
— Ты разговаривал с Аннеем, я видела,— произнесла она, казалось, без всякой связи.
— Да, я разговаривал с ним.— Никий пожал плечами.— Но почему это так тебя беспокоит?
— Ты пришел убить меня,— сказала она, закрываясь от него обеими руками.
Никий ответил самым серьезным тоном:
— Я мог это сделать, когда ты проплывала мимо лодки, а я держал в руках весло. Но я опустил его на голову несчастного Кальпурния, а не на твою.
— Не верю тебе,— выдохнула Агриппина.
— А я не узнаю тебя,— с досадой проговорил Никий,— Мне казалось, что такую женщину, как ты, ничто запугать не может.
Некоторое время Агриппина молчала, со страхом смотря на Никия. Потом, не отрывая взгляда от его глаз, медленно подошла, с опаской дотронулась до руки. Он стоял не шевелясь, будто давая ей возможность ощутить, что он человек, а не дикий зверь.
— Знаешь,— едва слышно и как-то очень болезненно выговорила она,— почему-то ты напоминаешь мне моего брата Гая.
— Гая?
— Да, того, которого называли Калигулой, когда он стал императором.
— Я не знал твоего брата Гая,— осторожно ответил Никий, все еще оставаясь неподвижным (Агриппина дотронулась до повязки на его руке и вздрогнула).— Чем же я похож на него?
— Чем похож? — отстраненно выговорила Агриппина, словно потеряв нить разговора и с трудом отрываясь от собственных мыслей.— А-а, да, брат Гай,— наконец вспомнила она,— не знаю, он был очень красивый... и он... он был страшный. Это ножом? — спросила она, снова дотронувшись до повязки.— Тебя хотели убить из-за меня?
— Из-за тебя? — улыбнулся он.— Нет, не знаю, не думаю.
— Я боюсь, Никий,— вдруг прошептала она, прильнув к его груди.— Никогда не боялась, а теперь боюсь. Знаю, они убьют меня. Скажи, что мне делать?!
— Разве Сенека не сказал тебе, что делать?
Агриппина вздрогнула.
— Он сказал... Он сказал другое.
— Что это я? Это он сказал тебе?
— Откуда... откуда ты знаешь?!
Он грустно улыбнулся, осторожно обнял ее здоровой рукой за плечи:
— Об этом нетрудно было догадаться.
— Но почему, почему, скажи? Ты тоже думаешь...
— Я знаю,— не дав ей договорить, произнес Никий.
Глаза Агриппины округлились:
— Знаешь? Говори, говори!
— Твой сын хочет убить тебя,— без всякого выражения произнес Никий.
Агриппина отстранилась, упершись кулаками в его грудь:
— Мой сын! — вскричала она.— Ты говоришь о Нероне?
— Я говорю о Нероне,— спокойно ответил Никий и, оглядевшись вокруг, добавил: — Не надо кричать так громко, в твоем доме, я думаю, полно его шпионов. Или ты делаешь это нарочно, чтобы уничтожить меня?
Агриппина отрицательно замотала головой:
— Нет... но я...
— Тебе прекрасно все известно,— продолжил он так же спокойно.— Другое дело, ты не хочешь поверить в это. Трудно поверить, я понимаю, но это так. Но разве наш разговор ночью на корабле не убедил тебя? Он послал меня сделать это, но я...
Он не договорил и с неожиданной нежностью посмотрел в постаревшее лицо Агриппины. Сейчас она уже не казалась ему красивой, и он не чувствовал в себе ни тени плотского желания, но жалость к ней стала настоящей.
— Ты пожалел меня? — едва слышно, глядя на него с надеждой, спросила она.
— Нет.
— Тогда почему же?
— Я полюбил тебя.
— Полюбил меня? Ты?
Она придвинулась к нему совсем близко, вгляделась в его лицо, прищурив глаза, и сделалась тем самым похожей на сына.
— Разве я еще могу возбуждать любовь? — спросила она без всякой страсти или кокетства.
— Да, Агриппина,— кивнул он.— Почему ты спрашиваешь, ведь ты знаешь это.
— Значит, ты пришел не для того, чтобы убить меня? Не для того — скажи!
— Я пришел, чтобы спасти тебя.— Никий снова обнял Агриппину, преодолевая ее сопротивление.
— Как, как ты спасешь меня? — Она всхлипнула, задрожав всем телом.— Что ты можешь против... против всей силы Рима. Этого проклятого Рима!
— Ты веришь мне? — шепнул он ей в самое ухо с удивившей его самого страстью.
— Да,— выдохнула она,— да.— И, медленно подняв голову, потянулась к его губам.
Поцелуй был долгим, у Никия перехватило дыхание. Обвив руками его шею, Агриппина почти повисла на нем, увлекая вниз. Уже падая, он успел выставить вперед здоровую руку, чтобы не придавить Агриппину тяжестью своего тела.
Агриппина стонала, извиваясь под ним, и, казалось, одними этими телодвижениями, без помощи рук, избавлялась от одежды. В первые минуты Никий чувствовал себя скованно, ему все чудились подозрительные шорохи в доме. Но скоро страсть заполнила его сознание, и он уже ничего не видел и не слышал вокруг, вдали и вблизи, даже стонов вздрагивающей под ним женщины.
Когда он наконец поднялся, в голове звенело, а ноги дрожали. Неловко опершись о перила, он смотрел на ту, что лежала перед ним на полу,— бесстыдно раскинувшуюся, обнаженную, с раскрасневшимся лицом и блестящими глазами. «Что же я делаю! — подумал он.— Господи, что же я творю!»
— Иди ко мне,— позвала Агриппина, поманив его вялым движением руки.— Иди, прошу тебя.
В ее голосе слышалось нечто такое, чему невозможно было противиться. Он пригнулся было к ней, потянув дрогнувшими ноздрями волнующий запах страсти, исходивший от ее тела. Но, с трудом пересилив себя, резко распрямился:
— Нет, не сейчас, после.
— Я хочу сейчас, я хочу-у...— протянула она и, чуть привстав, попыталась поймать его рукой за ногу.
— Нет,— сдавленно выговорил он и повторил решительно (не для нее, для себя): — Нет! Нет, Агриппина!
— Но почему? — капризно спросила она.
— Потому что тебе угрожает смерть, а я пришел, чтобы спасти тебя.
— Смерть? — она поморщилась, словно не понимая, о чем он говорит и при чем здесь «смерть».
— Да, Агриппина, вставай.
Он быстро огляделся по сторонам, нагнулся, поймал ее руку и, с силой потянув, заставил подняться на ноги. Она покачнулась, схватившись за голову, он поддержал ее.
— Послушай, Агриппина...— начал было он, но она перебила, выговорив вяло, словно со сна:
— Ты похож на Гая, Никий, на моего брата Гая.
— Подожди, сейчас не до того!..— вскричал он, но она продолжала, словно ничего не слыша:
— Когда он в первый раз... Он взял меня силой, я была совсем девочкой. Было больно, но так сладко, как... как с тобой, Никий. Не могу объяснить, но когда я видела его, мне хотелось этой боли. Когда Гай брал меня, мне всегда казалось, что он убьет меня. Не за-душит в объятиях, но убьет с кровью — или вспорет живот, или перережет горло. Я всегда боялась, но так хорошо, как с ним, мне никогда ни с кем не было. Только с тобой.— Она внимательно посмотрела в глаза Никию.— Ты ведь тоже можешь убить? Можешь? Скажи, что можешь, прошу тебя!
И Никий вдруг твердо выговорил:
— Могу.
Он сам одел ее. Делал это с трудом и неловко — не умел, кроме того, мешала раненая рука. Сам провел в комнату, усадил в кресло. Несколько раз повторил то, из-за чего пришел,— план ее спасения. Она кивала, но ему все казалось, что Агриппина понимает плохо.
Наконец, заставив ее повторить (она повторила: механически, но довольно связно; он с досадой смотрел на нее), Никий сказал, что ему пора, и направился к двери.
— Никий! — вялым голосом окликнула его Агриппина.
— Что? — бросил он нехотя, полуобернувшись в ее сторону.
— Скажи, Никий, ведь ты можешь убить меня? Ты хочешь, скажи!
Не отвечая, он вышел в дверь и уже на лестнице, ткнув кулаком в пустое пространство перед собой, раздраженно выговорил:
— Хочу.
Глава восемнадцатая
Симон из Эдессы вздрогнул, когда человек, закутанный в плащ, окликнул его в темноте. Он уже сжал рукоять меча, но узнал голос Теренция, сказавший:
— Не бойся, Симон, это я, Теренций.
— Ты? Почему здесь? Симон шагнул к Теренцию, внимательно всмотрелся в его лицо, не доверяя самому себе.
Теренций огляделся по сторонам, прошептал с тревогой в голосе:
— Мне нужен Онисим. Ты можешь провести меня к нему?
Симон некоторое время вслушивался в темноту, потом взял Теренция за руку, отвел на несколько шагов в сторону.
— Уходи,— отрывисто произнес он,— тебе не нужно встречаться с Онисимом.
— Но меня послал... меня послал Никий.
— Как ты нашел этот дом? — спросил Симон и, снова вслушиваясь в темноту, предупредил: — Говори тихо, нас могут услышать.
— Дом? — недоуменно переспросил Теренций и указал пальцем на чуть заметное в темноте строение.— Разве не здесь живет кожевник Тирон?
— Как ты узнал? — настойчиво и с очевидной угрозой проговорил Симон.
Теренций пожал плечами:
— Мне сказал Никий. А что?
— А ему откуда это известно?
— Я не знаю, он не объяснил. Он просто сказал, что нужно пойти к дому кожевника и что там я найду Онисима. Почему тебя это беспокоит? Что-то случилось?
Симон не отвечал, сердито сопел, смотрел в сторону. Теренций потоптался беспокойно, поминутно оглядываясь:
— Я не знал, что найду здесь тебя, Симон, я сам удивился. Про тебя Никий мне ничего не говорил. Я должен увидеть Онисима, мне скоро нужно возвращаться.
— Ты можешь не возвратиться никогда,— неожиданно выговорил Симон.
— Почему? Не понимаю тебя.
Симон взял Теренция за плечо:
— Лучше уходи сейчас. Я тебя не выдам, но только уходи.
— Как ты сказал?! «Не выдам»? Но почему ты должен выдавать меня? Я не понимаю, Симон.
— Потому что Онисим считает вас предателями,— Симон пристально глядел на Теренция,— и Никия, и тебя. Он велел своим людям охотиться на вас. Он и меня об этом просил, хотя я не согласен с ним.
— С чем... не согласен, Симон? Я не понимаю.— Голос Теренция прозвучал испуганно.
— Не согласен убивать вас,— жестко выговорил Симон.
— Да, да,— с надеждой, быстро сказал Теренций,— ты же не считаешь Никия...
Он не договорил, но Симон понял и ответил тихо:
— Я еще не решил. Я не знаю.
— Но ты, ты...— Теренций схватил Симона за ворот плаща.— Ты можешь погубить Никия! Ты, который должен его защищать!
Симон с силой ухватил Теренция за запястья, оторвал его руки от себя:
— Я ничего не должен,— сквозь зубы проговорил он.— К тому же я тебе сказал, что еще ничего не решил.
— Тогда я сам пойду к Онисиму,— неожиданно решился Теренций и, резко развернувшись, пошел в сторону дома.
— Постой! Да постой же! — Симон бросился за ним, вцепился в руку. Теренций грубо вырвал руку, ускорил шаг. Симон схватил его сзади за плащ, едва не повалил старого слугу на землю.
— Упрямый старик! — прокричал он, забыв об осторожности.— Я же хочу спасти тебя.
Теренций не успел ответить, насмешливый голос из темноты произнес:
— Не знал, Симон, что ты такой сердобольный. Не думал, что ты предашь нас так скоро. Идите в дом, будем говорить там.
Это был голос Онисима, но его самого ни Теренций, ни Симон так и не увидели. Лишь услышали удаляющиеся шаги.
— Беги! — горячо шепнул Симон на ухо Теренцию.— Я попытаюсь задержать их.
И снова Теренций не успел ответить, а Симон сумел вытащить меч из ножен только до половины — выскочившие из темноты люди повалили его на землю, другие схватили Теренция, потащили к дому.
— Симон! — жалобно позвал Теренций, но его так сильно ткнули в спину чем-то твердым (вероятнее всего, рукояткой меча), что он лишь вскрикнул от боли и не решился повторить.
Его втолкнули в полутемную комнату — светильник в углу на низком столе лишь обозначал пространство. Онисима Теренций заметил лишь тогда, когда он обратился к нему:
— Ну что, Теренций, ты пришел найти свою смерть? Ты пришел правильно, она здесь.
Теренций не отвечал, пытаясь вглядеться в лицо Симона, стоящего у стола,— оно находилось в тени.
— Правильнее было бы сначала убить хозяина, а потом слугу,— продолжал Онисим.— Ты оказался слугой, рабом, хотя некоторое время назад я подумал, что ты наш брат. Я ошибся: ты родился рабом и умрешь им. Ну, что ты мне скажешь напоследок? Или ты все-таки одумаешься и не из-за страха перед смертью, а из-за страха перед Богом отведешь нас к твоему проклятому Никию?
— Ты хочешь убить меня? — неожиданно твердо, хотя и тихо проговорил Теренций.— Убей! Ведь ты считаешь себя почти что Богом и решаешь за него, кому жить, а кому умереть. Сейчас я в твоей власти, убей, если можешь.
— Не богохульствуй! — оборвал его Онисим, но голос его на этот раз прозвучал не вполне уверенно.— Когда ты почувствуешь лезвие меча у себя внутри, то, может быть, не будешь так смел.
— Ты напрасно пугаешь меня, Онисим.— Теренций вздохнул устало.— Я стар, и моя смерть все равно близка. Какое имеет значение, раньше она наступит или позже. Не знаю, как жил ты, но я жил трудно. Да, я был рабом и, наверное, умру им. Моя жизнь мало что стоит, но если тебе нужно — возьми ее.
— А почему ты не спрашиваешь, старик, за что я хочу убить тебя?
— Я ни в чем не провинился перед тобой, Онисим,— так же устало ответил Теренций.— Ты только орудие Бога. Если Он справедлив, как ты внушал мне, то, значит, я провинился перед Ним и должен умереть. А если не справедлив, то я все равно не смогу оправдаться. Но мне кажется, ваш Бог — это вы сами. Вы все решаете за Него — что же я могу с этим поделать?
— Не богохульствуй! — снова сказал Онисим и, встав, подошел к Теренцию,— Ты не сознаешь, что болтаешь, твой разум помутился, старик!
— Если так, то тем более мне не стоит жить.
Онисим был явно в замешательстве. Чтобы скрыть
Смущение, он выговорил грозно:
— Зачем ты пришел ко мне?
Теренций не ответил, сложил руки на животе и опустил голову.
— Ты не желаешь говорить со мной? — Онисим отступил на шаг, внимательно разглядывая Теренция, словно видел его впервые.— Ну, отвечай же!
Последнее он произнес все еще грозно, но уже с просительными нотками в голосе.
Теренций медленно поднял голову, как и Онисим его только что, осмотрел того с ног до головы, выговорил твердо:
— Я скажу тебе только тогда, когда ты дашь мне слово, что сделаешь то, о чем просит Никий!
— Дам тебе слово?! — с болезненной гримасой на лице, чуть склонив голову набок, словно для того, чтобы лучше рассмотреть собеседника, вскричал Онисим.— Я должен дать тебе слово?! Да ты понимаешь, что ты такое говоришь, глупый старик! Твоя жизнь в моих руках, висит на волоске, и я неосторожным движением мизинца могу ее оборвать в любое мгновенье!.. И я должен давать тебе...
— Оборви,— перебил его Теренций,— я готов.
— Ты упрямый осел! — Онисим махнул рукой, вернулся на прежнее место и с такой силой бросил свое тело на стул, что тот опасно затрещал.
Наступило молчание — слышно было лишь потрескивание фитиля в светильнике. Постояв некоторое время, Теренций опустился на пол и вытянул ноги. Голова свесилась на грудь, казалось, он спит.
— Ты слышишь меня? — наконец спросил Онисим так, будто он уже перед этим что-то произнес, но не получил ответа.
— Да,— не сразу и не громко отозвался Теренций, не поднимая головы.
— Что хочет Никий?
— Ты сделаешь?
— Говори!
— Ты даешь слово? — упрямо выговорил Теренций и, медленно подняв голову, посмотрел на Онисима.
— Смотря что он просит. Если...
— Ты даешь? — перебил его Теренций.
Онисим засопел. Несколько раз он порывался встать, но так и не поднялся. Наконец Теренций услышал тихое:
— Да.
И сразу же старый слуга подошел к Онисиму и встал рядом:
— Он хочет, чтобы ты...— начал было Теренций, но, покосившись на дверь, выразительно взглянул на собеседника и не продолжил.
Онисим медленно встал, едва двигая ногами и шаркая подошвами по полу, дошел до двери, приоткрыл, выглянул наружу. Вернулся, сел, не поднимая головы сказал:
— Продолжай.
— Он хочет, чтобы ты...— склонившись к самому уху Онисима, прошептал Теренций,— чтобы ты убил его.
— Кого? — Онисим резко вскинул голову, больно ударив Теренция по скуле.
Потирая ушибленное место, Теренций выговорил по слогам:
— Чу-до-ви-ще!
Онисим посмотрел на него так, будто Теренций сошел с ума и не ведает, что говорит.
— Да,— кивнул тот,— его, Нерона.
— Но я думал...— удивленно глядя на Теренция, начал было Онисим, но тот досказал за него:
— Думал, что Никий предатель. В тебе нет терпения, Онисим. Я стар и знаю, что в молодости терпеть трудно, хочется все совершать немедленно.
— Ты считаешь меня молодым? — недовольно спросил Онисим.
— Я считаю тебя моложе себя. Кроме того, ты никогда не был рабом, а рабство учит терпению. Так вот,— продолжал он, жестом останавливая хотевшего что-то возразить Онисима,— слушай меня внимательно, а то я уже и так потерял с тобой слишком много времени, меня могут хватиться. Через два дня, около полудня, ты будешь на площади и дождешься императорских носилок. Император остановится и будет ждать Никия — Нерону передадут, что для него есть срочное сообщение. Лишь только слуга отойдет от носилок, к ним подойдет Никий. Ты подойдешь следом.
— А стража? — выдохнул Онисим.— Разве они пропустят меня?
— Ты назовешь пароль.
— Какой пароль?
— Пароль преторианских гвардейцев на этот день. «Агриппина». Запомни — «Агриппина».
— А если... они...— сглотнув от волнения, с запинкой проговорил Онисим.— Если они не пропустят меня?
— Они должны пропустить. Рядом будет Никий, он поможет тебе. В руках ты будешь держать свиток.
— Какой свиток?
— Все равно какой,— усмехнулся Теренций.— Это может быть просто кусок бумаги. Пусть думают, что ты хочешь подать прошение самому императору. Ты понял?
Онисим кивнул (скорее непроизвольно дернул головой):
— Да.
— Вот и все,— сказал Теренций и сделал шаг к двери, будто собрался уйти.
— Постой! — Онисим поймал его за край одежды.— И это все? А дальше, дальше что?
Теренций посмотрел на него насмешливо:
— Дальше? Ты не знаешь, что делать дальше?! Я удивляюсь тебе, Онисим. Ты подойдешь к носилкам, вытащишь меч или нож, спрятанный под одеждой, и сделаешь то, что так любишь делать. Тут я тебе не советчик, я плохо обращаюсь с оружием.
— А как я...— начал было Онисим, запнулся, несколько мгновений находился как бы в нерешительности, потом все-таки спросил: — Как я уйду после того... после того, как...
— После того, как убьешь его? — помог ему Теренций, проговорив это так просто, будто речь шла о сущем пустяке.— Никий попытается бежать с тобой через заднюю часть дворца, он хорошо знает все ходы и выходы. Но, конечно, это будет непросто, и можно рассчитывать только на удачу. Никий просил передать, что ты должен понять, на что идешь, и что вероятность спасения очень мала. Или ты сомневаешься? Тогда?
— Мне нечего сомневаться! — резко перебил Онисим.
— Значит, ты пойдешь и сделаешь это.
— Я уже сказал.
— Очень хорошо,— кивнул Теренций,— я передам Никию, что ты готов и сделаешь. Он еще просил сказать, что такого случая может больше не представиться.
— Да, да,— с досадой выговорил Онисим и нетерпеливо махнул рукой,— я все понял.
Теренций снова шагнул к двери, но остановился, повернулся и внимательно, с ног до головы, молча оглядел Онисима.
— Ты что? — недовольно буркнул тот.
— Нужно переодеться, так тебя не пропустят к носилкам императора. Ты должен выглядеть как патриций. Ты сможешь достать хорошую одежду?
Онисим молча кивнул.
— И вот еще что.— Теренций взял руку Онисима и протянул ее поближе к свету.— Тебе нужно заняться руками.
Онисим выдернул руку:
— При чем здесь это!
— Не обижайся, Онисим,— насмешливо улыбнулся Теренций,— но я слишком долго прослужил в доме Аннея Сенеки и видел разных господ: и древнего рода, и совсем захудалых.
— Ну и что? — еще не понимая, но с вызовом бросил Онисим.
— А то, что у всех у них чистые руки,— назидательно пояснил Теренций.— Господа больше всего отличаются от рабов и простолюдинов именно руками. Ногти аккуратно подрезаны, и нет грязи под ними. Запомни, обязательно чтобы не осталось грязи.
— Ты думаешь...— развязно начал было Онисим, но Теренций строго перебил его:
— Я думаю, что нельзя погубить все дело из-за какого-то пустяка. У преторианцев наметанный взгляд, тебе не поможет никакая одежда, если они увидят твой руки. Ты понимаешь меня?
— Да,— помолчав, глухо отозвался Онисим.
Теренций вышел в дверь и сказал из коридора:
— Пусть твои люди проводят меня. И отпусти Симона, он ни в чем не виноват, ему было приказано охранять Никия.
— Это мое дело, ты не лезь в это,— с раздражением ответил Онисим, проходя в дверь вслед за Теренцием.
Лишь только они вышли на крыльцо, к ним подбежал запыхавшийся человек. Взглянув неприязненно на Теренция, он поманил Онисима рукой.
— Говори здесь! — властно приказал Онисим.
— Он... он бежал,— задыхаясь выговорил человек.— Мы потеряли его... в темноте.
— Ладно,— недовольно бросил Онисим и кивнул на Теренция.— Возьми кого-нибудь с собой и проводите его. Он вам скажет куда.
И более ничего не добавив, Онисим вернулся в дом, с силой хлопнув дверью.
Глава девятнадцатая
Сначала Нерон сказал «нет». Никий не пытался его убеждать, смотрел виновато. Они были одни и разговаривали вполголоса. Время от времени император поглядывал на дверь. Никий подумал, что власть над Римом — одно, а власть в собственном дворце — совсем другое. У императора во дворце было не так уж много власти.
— А этот человек,— недовольно сказал Нерон,— как его...
— Онисим.
— Онисим,— повторил Нерон.— Ты говоришь, что он принадлежит к сообществу христиан.
— Да, принцепс, я знал его еще по Александрии.
— Ты знал его еще по Александрии! — вскричал Нерон (ему очень хотелось по-настоящему рассердиться, даже впасть в неистовство, но почему-то не получалось. Дело было слишком серьезным, и его все равно надо было решать).— Значит, ты знался с врагами Рима! — Он гневно округлил глаза, но проговорил последнее значительно тише.— Отвечай: ты знался с врагами Рима? Может быть, ты и сам враг?!
— Я не знался с ним, принцепс,— рассудительно и спокойно отозвался Никий, впрочем, глядя на императора по-прежнему виновато,— я просто знал его по Александрии. У него с моим отцом были торговые дела, я в этом плохо разбираюсь. Я был значительно моложе, чем даже сейчас, и плохо понимал, кто враги, а кто нет. Мне стыдно, принцепс, но тогда мне не было до этого никакого дела.
— Но ты встречался с ним здесь, тайно встречался!
— Я видел его только раз. Он остановил мои носилки, наверное, следил за мной. Он знал, что я бываю во дворце, и просил помочь ему.
— А ты? Что ответил ты? — Нерон подошел к Никию вплотную и, прищурившись, вгляделся в его лицо.
— Он сказал, что его разыскивают, просил помочь.
— Чем? Чем помочь? Отвечай!
Никий пожал плечами:
— Деньгами, принцепс. Он просил денег.
— И ты дал?
— У меня было немного, и я сунул ему, вот и все.
— Значит, ты знал, что он враг Рима, а следовательно, и мой враг, и ты отпустил его, не рассказав об этом, к примеру, Афранию Бурру. Не-ет, ты не рассказал, ты отпустил его да еще дал ему денег. Ну, что ты скажешь на это?!
— Я боялся, принцепс, но я...— Никий помедлил, прежде чем продолжить, посмотрел на императора особенно нежным взглядом.— Я не чувствовал за собой никакой вины.
Нерон угрожающе усмехнулся:
— Но если ты не чувствовал, как ты говоришь, за собой никакой вины, то почему же ты боялся?
На глазах у Никия выступили слезы, когда он сказал:
— Я жалкий провинциал, что я значу при твоем дворе, принцепс! Даже то, что я люблю тебя, вызывает у других злобу. После покушения Афраний обвинил меня в сношениях с христианами. Что бы он сделал, расскажи я ему о встрече с этим Онисимом? Боюсь, принцепс, даже ты не смог бы защитить меня. Но посуди сам, если бы я чувствовал за собой вину, разве бы я сказал тебе о том, о чем сказал? В конце концов, я мог бы избавиться от Онисима совсем по-другому, для этого не нужно придумывать то, что я придумал. Я делаю это лишь ради тебя, потому что люблю тебя больше всего на свете, больше себя самого и больше собственной жизни. Если ты считаешь меня виновным, то вправе убить, Но даже ты не сможешь заставить меня перестать любить тебя.
У Никия перехватило дыхание, он приложил руку к груди, дышал прерывисто. Некоторое время Нерон молча смотрел на него — Никий почувстьовал, что его слова произвели впечатление. Наконец император медленно выговорил:
— Ты красноречив, Никий,— и, отойдя, опустился в кресло, сел вполоборота к Никию и, глядя в стену, закончил: — Я и сейчас не верю тебе, но при этом,— он грустно усмехнулся,— ты убедил меня. Если это игра, Никий, то очень хорошая игра, а ты знаешь, я люблю искусство больше, чем жизнь. В конце Концов, нет никакой правды, есть лишь умение убедить собеседника в ее существовании. Ты умеешь, Никий, и это вызывает во мне уважение.
Никий не ответил, стоял неподвижно, думал: «Самое время потерять сознание». Но тут же остановил Себя: «Нет, это лишнее. Тут главное — не переиграть».
Нерон искоса посмотрел на него, сказал так, будто не было предыдущего выяснения, будто он был заранее согласен с планом Никия и только прояснял детали:
— Значит, ты уверен, что Агриппина напишет такое письмо?
— Она уже написала его, принцепс,— шагнув к императору, тихо сказал Никий.— Она сделала это при мне.
Нерон поднял голову:
— Не знал, что ты пользуешься таким доверием моей матери. Скажи, Никий, ты спал с ней?
Никий, не ответив, прерывисто вздохнул.
— Говори,— Нерон приободрил его улыбкой, смотрел на Никия с любопытством.
— Я виноват перед тобой,— жалобно выговорил Никий,— но я сделал это...
Он не закончил. Нерон, порывисто повернувшись к нему и пригнувшись, заглянул в лицо:
— Только не говори, что ты сделал это из любви ко мне,— рассмеялся он.— Она же красивая женщина, ты же хотел ее. Ну, говори, хотел?
— Да,— в крайнем смущении произнес Никий.
— Она очень опытна в таких делах,— продолжал Нерон.— Я это видел всего один раз, когда был еще юношей. Поверь, я многому от нее научился,— он возвел глаза к потолку, смакуя воспоминание.— Она казалась неистовой, ей всегда не хватало мужчин. А мой отец, Домиций, он был, скажу тебе, не очень. В не.л осталось много злобы, она съела всю страсть. Я стоял за занавеской окна, когда она привела этого солдата. Просто солдата из отряда охранявших нас. Кажется, он был красив — тогда я плохо разбирался в мужской красоте,— двухметрового роста, сложенный почти как Аполлон. Правда, чуть грубовато, но не в этом дело. Ты не представляешь, Никий, какое у него было лицо! Настоящий зверь — тяжелый подбородок, глубоко посаженные глаза. Такого не расшевелишь, такой и понятия не имеет, что страсть существует. И что ты думаешь, через пять минут он вопил как ребенок: кричал, стонал, едва ли не плакал! Да, моя мать способна расшевелить самого Юпитера! А однажды...
Нерон вошел во вкус и рассказывал с настоящим удовольствием, перечисляя те приемы, которыми пользовалась Агриппина, и оценивая их качество. Само по себе это почему-то не особенно беспокоило Никия. Может быть, он сумел бы выслушать все это вполне равнодушно, если бы не имена. Но Нерон называл имена тех, с кем была его мать, и подробно описывал достоинства и недостатки каждого. Так, будто в любовных занятиях своей матери он неизменно присутствовал рядом.
Каждое имя, которое называл Нерон, болью отдавалось в сердце Никия. Он никогда бы не подумал, что такое может с ним произойти. Она, Агриппина, первая женщина, с которой он почувствовал себя мужчиной, изменяла ему, отдавала свою любовь и страсть другим.
Да еще, судя по рассказам Нерона, так неистово, так изощренно. Она обманула его, обманывала каждодневно, он ненавидел ее, он готов был ее убить! Боль, вызванная в его сердце Нероном, уже не уйдет просто так. Ее нужно вырвать из себя с кровью. С кровью Агриппины. Она обманула его, и она умрет, она должна умереть!
— Что с тобой, Никий? — услышал он голос Нерона и, с трудом возвратившись к действительности, проговорил, моргая глазами:
— Да, принцепс, я внимательно слушаю тебя.
— Не очень внимательно,— недовольно заметил Нерон и, оставив прежнюю тему, спросил: — Ты уверен, что ее человек явится вовремя?
Никий кивнул:
— Да, принцепс, он явится в нужную минуту.
Нерон помолчал, потом медленно поднялся и, глядя на Никия уже совсем другим взглядом, взглядом императора на подданного, произнес:
— Хорошо, я разрешаю тебе сделать это. Но ты должен знать, что при малейшей ошибке с твоей стороны твоя жизнь перестанет стоить...— Он так и не сказал, сколько будет стоить жизнь Никия, только добавил, величественно поведя рукой: — Ты понимаешь меня.
— Я люблю тебя! — выдавил из себя Никий, преданно глядя на императора, тогда как перед глазами его была Агриппина.
Нерон не ответил, и лицо его сделалось похожим на маску. На маску скорби.
Глава двадцатая
Была уже поздняя ночь, когда Никий поднялся, быстро оделся, тщательно закутался в плащ и, осторожно ступая, выскользнул в дверь. Ему показалось, что в темноте коридора кто-то есть.
— Кто здесь? — прошептал он тревожно, прислонясь к стене и вытягивая вперед руки.
Сначала раздалось неясное кряхтение, потом голос Теренция произнес:
— Это я, мой господин, Теренций.
— Зачем ты здесь? — недовольно проговорил Никий.— Иди к себе.
Теренций потоптался в темноте, но не ушел. Голос Никия прозвучал жестко, когда он сказал:
— Ты не понял меня, Теренций? Хочешь, чтобы я повторил?
— Нет, мой господин... Но я...
— Что еще?
— Тебе не нужно ходить ночью одному. Позволь мне хотя бы проводить тебя.
— С чего ты взял, что я иду один? — сказал Никий и, пошарив в темноте, коснулся Теренция рукой. Он почувствовал, как тот вздрогнул всем телом.— Что с тобой? Да говори же, у меня совсем нет времени.
— Мне страшно, мой господин,— едва слышно выговорил Теренций.
— Страшно? — усмехнулся Никий.— Тебе всегда страшно, мой Теренций, я уже к этому привык. Помнишь, когда мы еще ехали в Рим, ты испугался, лишь только Симон вышел на дорогу. От испуга ты даже схватился за меч.
— Я не испуган, мой господин, я боюсь,— каким-то особенно суровым тоном произнес Теренций.— Это не как на дороге, это совсем другое.
— Ты опять подозреваешь заговоры против меня? — сказал Никий как можно более беззаботно.— Успокойся, теперь мы строим козни, а не нам. Все будет хорошо, оставь свои страхи и ложись спать.
— Я не об этом, я о другом.— Голос Теренция прозвучал глухо, незнакомо.
— Вот как! Так о чем же?
— О тебе.
При этих словах Никий ощутил холод внутри. Теренций не добавил «мой господин», он говорил не как слуга.
— О тебе,— говорил Теренций в наступившей тишине, которая сейчас показалась Никию особенно разреженной, почти зловещей. Будто не было коридора, не было стен, не было потолка — тишина слилась с темнотой, и Никий стоял совершенно один, беспомощный и жалкий.
— Говори! — выдохнул он, и Теренций сказал:
— Ты губишь свою душу, Никий (он впервые назвал Никия по имени, и почему-то это обращение не покоробило, а прозвучало вполне естественно). Ты можешь погубить ее окончательно. Ты должен остановиться, потому что может быть поздно. Возможно, что уже поздно, но все равно ты должен остановиться.
— Ты... ты...— слабо проговорил Никий и не смог продолжить. Хотел сказать возмущенно, а выходило жалко.— Это Онисим научил тебя! Говори, это он?
— Онисим не нравится мне,— очень спокойно ответил Теренций,— он необуздан и резок, человеческая жизнь для него мало что стоит. Он хочет заставить людей верить в своего Бога силой. Но все равно ты не должен его убивать.
— Что? Что ты сказал?
— Ты не должен его убивать,— внятно повторил Теренций, и Никий услышал, как он вздохнул.
— Но ты... ты... Что ты говоришь! Как ты посмел!..
— Я не знаю, есть ваш Бог или нет,— продолжил Теренций, не обратив внимания на слова Никия,— и так ли Он всесилен и справедлив, как вы говорите. Но я верю в то, что убивать нельзя, ни за Бога, ни против него. Мой бывший хозяин, Сенека, говорил мне, что на небе есть отражение души человека, и это отражение — чистое, честное, непорочное. И если человек загрязняет свою душу дурными деяниями или помыслами, то небесная душа гибнет и чистоты в мире становится меньше — ровно на одну душу. Я не умею это как следует объяснить, но Сенека любил говорить со мной о своих писаниях. Я не все понимаю, но это я запомнил хорошо. Потому что это так.
— Ты говоришь о Сенеке,— сказал Никий,— но разве он не погубил свою душу? Или ты продолжаешь считать его лучшим из живущих?
Теренций отвечал строго:
— Я никогда не считал его лучшим из живущих. Я любил его и был предан ему, потому что я слуга, а он господин. Не мне судить о таком, но я думаю, он погубил свою душу.
Никий усмехнулся через силу:
— Почему же ты не сказал ему об этом, Теренций? Наверное, ты не посмел, побоялся. Наверное, Анней Сенека был для тебя настоящим господином, не то что я. Ну, разве не так?
— Я люблю тебя, Никий, больше жизни и не знаю, почему это случилось. Сенеку я любил как господина и служил ему как господину, а тебя я люблю. Может быть, в этом виновата ваша вера и ваш Бог. Я даже Онисима люблю, хотя он и не нравится мне. Ваш Бог говорил, что любовь выше всего на свете, и я думаю, что он прав. Нельзя убивать того, кого любишь, но нельзя убивать и того, кого ненавидишь. Рим погряз в ненависти, ты не должен жить в нем. Твой Бог погиб за любовь ко всем, а ты должен хотя бы не жить в ненависти. Уедем отсюда, прошу тебя. Я буду с тобой, где бы ты ни был, но тебе нельзя оставаться здесь.
Он помолчал и грустно добавил:
— И мне тоже.
Никий хотел крикнуть Теренцию, что это не его дело, что он всего лишь слуга, раб и его дело служить, а не размышлять. Он хотел выкрикнуть это, но у него стеснило грудь, и он не смог. Внезапный и безотчетный страх охватил его — темнота вокруг представилась ему Богом, и Бог с укоризной смотрел на него со всех сторон, и Никий не мог выдержать этого взгляда.
Он шагнул в сторону, прижимаясь к стене, нащупал дрожащей рукой дверь и, рванув ее на себя, проник в комнату, а потом захлопнул дверь, держась за ручку. Он повис на ручке двери всем телом — казалось, что темнота за ней тянет дверь на себя и, если он не удержит, он погиб.
Обессилев, Никий выпустил ручку и, попятившись, ткнулся ногами в ложе и упал на него, не спуская глаз с двери. Светильники в комнате давали ровный и ясный свет, и постепенно Никий успокоился. Подумал: «Не знал, что я так боюсь темноты»,— и тут же позвал негромко:
— Теренций!
Дверь отворилась, и в комнату вошел Теренций, лицо его было заспанным. Он поклонился:
— Слушаю тебя, мой господин!
Никий медленно поднялся, едва не упал, наступив на полу длинного плаща. Подойдя к слуге, он внимательно его оглядел. Протянул руку, чтобы дотронуться до плеча Теренция, но, тут же отдернув ее назад, спросил недовольно, злясь на самого себя:
— Ты что-то говорил? Я не понял... скажи... ты...
Теренций подался чуть вперед, как бы прислушиваясь, лицо его выразило виноватое непонимание.
— Где ты был? — проговорил Никий отрывисто и зло.
— Я спал, мой господин. Ты сказал, что я не понадоблюсь тебе до утра. Если я провинился...
— Хорошо, иди,— перебил его Никий, но, лишь только Теренций дошел до двери, остановил.— Постой! Возьми светильник и проводи меня, в коридоре так темно.
— В коридоре светло, мой господин, я велел держать свет всю ночь.
— Всю ночь?
— Да, мой господин, всю ночь.— Теренций поклонился.
Никий не ответил, резким движением запахнул плащ и рывком натянул на голову капюшон.
Глава двадцать первая
Никий и сам не понимал, зачем пришел к дому Агриппины. Окна не светились, вокруг стояла тишина, показавшаяся ему зловещей. Он легко перелез через забор и подошел к парадному крыльцу. Отряд германских гвардейцев, охранявших Агриппину долгие годы, уже давно был отозван Нероном под предлогом их неблагонадежности, а обещанные преторианцы так и не прибыли. Впрочем, Агриппина сама не хотела их, говоря, что при такой охране ее когда-нибудь найдут задушенной в постели. Когда Нерону передали ее слова, он расхохотался:
— Задушенной в объятиях, конечно!
Но как бы там ни было, никто не охранял дом матери императора. Никий сначала думал залезть в окно, но потом решил, что если его все-таки заметят слуги, то шуму не оберешься, и постучал в дверь.
Выглянул сонный слуга, подняв светильник, испуганно вгляделся в ночного гостя. Никий скинул капюшон, сказал:
— Марций, ты узнаешь меня?
Тот кивнул, но не посторонился:
— Госпожа спит, она плохо чувствовала себя с вечера.
Никий не стал вступать в ненужные переговоры, просто оттолкнул слугу и вошел в дом. Преданный Марций двинулся следом, что-то жалобно бормоча себе под нос. На лестнице Никий повернулся, выхватил из руки слуги светильник, проговорил строго:
— Мне надоело твое присутствие, Марций. Иди спать, я сам найду дорогу.
Слуга ничего не возразил, потоптался в нерешительности, но отстал. Никий без труда отыскал нужное помещение, вошел, поставил светильник на пол, приблизился к ложу Агриппины. Стоял, неподвижно глядя на спящую женщину. Ее полные красивые руки лежали поверх покрывала, лицо спокойное, умиротворенное. Никий не любовался ею, смотрел с неприязнью, почти со злостью, в сознании мелькали имена любовников, названные Нероном. «Они владели ею как любовники,— подумал он,— а я как раб». Рука его случайно дотронулась до рукояти короткого меча у пояса. Он в страхе отдернул руку, будто меч был живой. Зачем нужны эти хитроумные комбинации, если можно войти в спальню Агриппины в сущности беспрепятственно и одним ударом меча покончить с нею. В конце концов, все можно свалить на обыкновенных грабителей. Но Рим был слишком театрален, чтобы действовать так просто. Из смерти следовало обязательно сделать трагедию или комедию — не имеет значения что, лишь бы все выглядело красиво и высокопарно.
Никий отстегнул меч, осторожно пригнувшись, положил его на пол у ложа. В эту минуту Агриппина спросила тревожно:
— Кто здесь?
Никий осторожно поднялся:
— Не бойся, это я, Никий.
Она привстала на локтях, смотрела на него с испугом и недоверием:
— Почему ты здесь? Что-нибудь случилось?
— Нет, нет, я...
Она резко подалась назад, ударилась о деревянную спинку ложа:
— Тебя прислал Нерон!
Она не спрашивала, она утверждала. Никий быстро шагнул к ней, она в страхе вытянула руки перед собой:
— Не подходи!
Теперь лицо ее стало некрасивым, подурневшим — страх не шел ее лицу, слишком старил. Никий почувствовал удовлетворение, увидев это. Свет в комнате был неяркий, Агриппина по-своему истолковала выражение его лица. Ее вытянутые руки не были уже средством защиты — напряжение исчезло, они плавно колыхнулись в пространстве, приглашая.
— Иди ко мне, Никий,— со сладкой улыбкой проговорила Агриппина,— я так ждала тебя.
Никий понимал, что это неправда, но не мог противиться, подался вперед и — оказался в ее объятиях. Он вспомнил, как Нерон говорил о преторианском гвардейце, которого давным-давно привела к себе мать: «Он плакал, как ребенок». Вспомнил, хотел освободиться от ее рук, но вместо этого почему-то еще плотнее прильнул к ее теплому, пахнущему сном телу, уткнул лицо в грудь.
— О Никий, Никий,— простонала Агриппина,— как я люблю тебя!
Ее голос мог заставить быть страстным даже мертвого. А Никий был еще жив. «Сирена!» — подумал он - последний миг перед тем, как растворился в ее ласках, в звуках ее голоса.
В этот раз Агриппина не была неистова, она оказалась пронзительно нежна. Никий потерял ощущение времени, не понимал, где находится, что с ним уже произошло и что может быть еще. И будущее, и настоящее уже не имели значения — если объятия Агриппины есть забвение от жизни, он больше не хочет жить.
Когда пришел в себя, первое, о чем подумал, было: «Она не может быть моей, значит, не должна жить». Он странно спокойно сказал себе это, повернул голову, посмотрел на лежавшую рядом Агриппину — та неподвижно смотрела в потолок и казалась мертвой. Сам не зная зачем, он сказал:
— Если бы ты могла родить от меня, ребенок стал бы властителем мира.
Проговорил это едва слышно, как бы про себя,— и хотел, чтобы она слышала, и не хотел.
Губы Агриппины дрогнули — то ли в насмешливой улыбке, то ли в скорбной. Она вздохнула протяжно:
— Я уже не могу рожать. Но если бы могла... Нельзя родить двух императоров. Все дети разные — тот, кто сильнее, убьет остальных.
— Я сказал о властителе мира, а не об императоре.— Никий и сам не вполне понимал, что имеет в виду.
Она повернулась, посмотрела на него долгим взглядом:
— Ты говоришь глупости.
Он резко поднялся, спрыгнул с ложа, взял лежавшую на полу одежду. Она не двинулась, не попыталась остановить его, только смотрела с грустью.
— Мне пора идти,— проговорил он, глядя в сторону.
— Иди,— ответила она.
— Ты пришлешь своего человека, как мы договаривались?
— Да, конечно, я же обещала.— Голос ее прозвучал ровно-равнодушно.
— Потом мы уедем с тобой, будем жить тихо, и нас никто не найдет.
— Никто не найдет,— повторила она,— будем жить тихо. Будем жить...— она прервалась, и вдруг Никий увидел, как у Агриппины скользнула слеза, прочертив дорожку от глаза до уха. Она договорила едва слышно: — Или не жить.
Ему сделалось жаль ее, но жалость была какой-то болезненной, перемешанной с раздражением. Он сказал, шагнув к ложу и остановившись над Агриппиной:
— У тебя было много любовников, я знаю, и всех ты одаривала одинаковой любовью. Не понимаю, почему тебя никто не убил из ревности. Не понимаю!
Ее веки дрогнули, когда она произнесла:
— Но меня никто не любил.
— Тебя никто не любил?! — вскричал он с удивлением и возмущением одновременно.
— Нет.
— А твой брат Гай? Ты же сама говорила, ты боялась, что он убьет тебя.
Она усмехнулась грустно:
— Ты не знал моего брата Гая. Чтобы убить, ему не нужно было ни любить, ни ненавидеть, он просто любил убивать.
Никию хотелось крикнуть, что он, он любит ее. Никто не любил, а он любит, но, взглянув еще раз на ее бес-страстное лицо, он промолчал. Нагнулся, чтобы поднять меч, все еще лежавший на полу у ложа. Но лишь только пальцы его коснулись ножен, она спросила:
— Ты что?
— Ничего,— ответил он и осторожно подсунул меч под ложе,— у меня погнулась застежка на сандалии.
— Калигула! — произнесла она, и в какой-то миг Никию показалось, что она сошла с ума.
Он поднялся, тревожно посмотрел на нее:
— Я не понял. Что ты сказала, Агриппина?
— Так прозвали моего брата, Гая. Наш отец, Германик, с детства таскал его по военным лагерям. Калигула — сапожок. Ты сказал про застежку сандалия, а я вспомнила о прозвище, которое дали моему брату солдаты. И еще потому, что ты похож на него.
— Я? Я похож на него? Чем же? — воскликнул Никий с неожиданной злобой и вдруг добавил (не хотел, не хотел говорить, вырвалось само): — Разве я люблю убивать?
— Любишь,— проговорила она уверенно и спокойно,— но еще сам не знаешь об этом.
— Ты!.. Ты...— Он тряс кулаками с искаженным злобой лицом.
Она ответила вяло, даже не пошевелившись:
— Я не вижу в этом ничего страшного, Никий. Ты полюбишь, когда попробуешь по-настоящему. Убивать так же сладко, как любить. Вот и меня ты полюбил, попробовав...
Никий всплеснул руками и, не отвечая, выбежал из комнаты.
Глава двадцать вторая
Нерон говорил, стоя у окна и оглядывая площадь перед дворцом в просвет занавесей:
— Не представляешь, Никий, как я жалею, что меня не будет рядом. Такое зрелище можно увидеть раз в жизни. Не каждый день тебя убивают.— Он повернулся к рядом стоящему Никию и добавил: — Нет, два раза. Ты меня понимаешь?
Никий вежливо улыбнулся:
— Не очень, принцепс.
Лицо Нерона приняло загадочное выражение. Он сделал паузу и наконец пояснил:
— Сегодня я мог бы видеть, как меня убивают. Это первый раз. А второй будет тогда, когда меня станут убивать по-настоящему. Как ты думаешь, я успею все это как следует рассмотреть? Может быть, еще скажу что-нибудь для истории, как император Юлий. А? Как ты думаешь?
— О принцепс! — с деланным возмущением начал было Никий, но Нерон не дал ему говорить.
— Впрочем,— рассудительно заявил он,— не всем так везет, как императору Юлию. Он видел своих убийц и еще успел поговорить с ними. А вот Гай Калигула не успел, ведь его ударили ножом сзади. Говорят, он умер едва ли не мгновенно. Или Тиберий: Калигула с Макроном задушили его подушкой. Он был так слаб, что вряд ли что-нибудь успел понять. Главное, не мог видеть, как его убивают: мешала подушка. Глупо принимать смерть, глядя в какую-то подушку. Вот скажи мне, Никий, зачем жить императором, чтобы в конце так неинтересно умереть?
— О принцепс! — снова воскликнул Никий.— Твои блистательные дни...
— Мои блистательные дни,— передразнил его Нерон.— Ты становишься заурядным придворным, Никий, это меня печалит.— Он сделал грустное лицо,— Актер не должен повторяться, даже если он играет одну и ту же роль.
— Я только хотел сказать...
Но Нерон снова перебил Никия. Он улыбнулся, потрепал его по плечу и сказал, указав глазами в сторону площади:
— Я надеюсь, сегодня ты блистательно сыграешь свою роль, тем более что ты играешь меня, императора Рима. Я переживаю за тебя подобно учителю актерского мастерства, впервые выпускающему ученика на сцену.— Он воздел правую руку вверх и высокопарно произнес: — Помни, я буду наблюдать за тобой, твоя игра должна доставить мне удовольствие. Думать об удовольствии зрителя, а не о славе — вот девиз великого актера.
— Я буду играть так,— в тон ему ответил Никий,— чтобы не посрамить великого учителя!
Его ответ понравился императору. Лицо его выразило самодовольство. Он снова посмотрел в просвет занавесок на площадь и, не оборачиваясь, сказал:
— Декорации расставлены — носилки поданы. Иди, Никий, и возвращайся со славой.
Никий низко поклонился полусогнутой спине Нерона, пошел прочь, деревянно ступая плохо слушающимися ногами. Чем ближе он подходил к выходу на площадь, тем сильнее его била дрожь. Он ощутил ее еще сегодня утром, лишь только открыл глаза. Сначала она никак внешне не проявлялась, но потом вышла наружу сначала в ноги, а теперь и в руки. Он остановился, вытянул руки ладонями вверх — пальцы заметно подергивались. «Нерон прав,— подумал он — я в самом деле как актер, впервые выходящий на сцену». Держа голову прямо, он быстрыми шагами устремился из дворца. Сбежал по лестнице, покосившись в сторону окна, за которым стоял Нерон, и торопливо подошел к императорским носилкам. Открыл дверцу, заглянул внутрь.
Носилки были пусты. Справа, на полочке у кресла, лежал нож, средних размеров, обоюдоострый, с удобной ручкой. Никий сам положил его сюда, когда носилки стояли еще во дворе. Он сделал вид, что разговаривает с императором, сидящим внутри: повел рукой, улыбнулся, покачал головой. Все движения и улыбка выходили замороженными — если бы это происходило на сцене, публика, наверное, со свистом прогнала бы его прочь. Но это происходило не на сцене, да и публика находилась далековато.
Толпа зевак, пришедшая поглазеть на выезд императора, стояла за шеренгой преторианских гвардейцев шагах в пятидесяти от Никия. Он снова посмотрел в полуоткрытую дверцу на пустое пространство носилок и вежливо кивнул, словно отвечая на слова императора. Опять нетерпеливо покосился на толпу за шеренгой преторианцев и — увидел...
Высокий мужчина в тоге подошел к центуриону (это был все тот же Палибий) и что-то сказал ему, указывая на императорские носилки рукой, в которой был зажат свиток. Никий узнал Онисима, и все внутри его замер Ему следовало опять обратиться к пустому пространству носилок, чтобы все виделось естественно, но он не мог заставить себя: смотрел на Онисима во все глаза, не в силах пошевелиться.
Онисим, впрочем, ничего не мог заметить — он что-то говорил Палибию, уже размахивая руками, тот отвечал тем же, и разговор их делался все горячее.
Чтобы взять себя в руки, Никий перевел глаза на окно, за которым стоял Нерон, вспомнил: «чтобы не посрамить великого учителя...», глубоко вздохнул и, поймав взгляд Палибия, чуть сдавленно крикнул:
— Пропусти его, Палибий!
Палибий смотрел на него нерешительно, и тогда, не в силах заставить себя прокричать еще что-либо, Никий просто вяло махнул рукой.
Но этого взмаха оказалось достаточно. Палибий (насколько мог рассмотреть Никий с такого расстояния) что-то проворчал недовольно и отрывистым жестом указал Онисиму на носилки. Онисим стал приближаться.
Шел он медленно, ступал неровно, смотрел себе под ноги. Тога сидела на нем мешковато, и Никию все казалось, что тот запутается наконец в длинном одеянии, споткнется и упадет. Кто бы знал, как этого желал Никий!
Но Онисим, хотя и ступал неровно, все-таки не споткнулся, и вот уже Никий увидел его напряженное лицо с тяжелыми скулами. Одну руку он держал прижатой к телу — наверное, там и был спрятан меч,— а другой, в которой зажал свиток, он широко размахивал.
Когда Онисиму до носилок осталось не больше десяти шагов, Никий плотно прикрыл дверцу, быстро зашел с другой стороны и, пригнувшись, юркнул внутрь. Противоположная дверца носилок была им предусмотрительно открыта. Взял нож с полочки, сжал рукоятку так, что заломило пальцы; сердце тяжело и гулко стучало в груди.
Сидел, напрягшись и не чувствуя ног, прижав нож к бедру. За занавесками показалась тень — показалась, исчезла и показалась снова. Онисим почему-то медлил. Никий чувствовал, что еще несколько мгновений, и он не выдержит, бросится наружу. Но тут дверца отворилась и Онисим втиснулся внутрь так стремительно (почти броском), что едва не навалился на Никия. Тот отпрянул назад, округлившимися глазами глядя в лицо Онисима, казалось, искаженное безумием. Рука Онисима с коротким мечом была отведена назад, готовая к удару. Он обвел быстрым взглядом внутренность носилок и, не увидев того, кого ожидал увидеть, вдруг поднял голову и отчаянно простонал. Стон походил на рев раненого зверя. Его морщинистая шея обнажилась, острый кадык дернулся вверх и вниз.
И Никий ударил его что было сил в обнажившуюся шею, провел лезвием справа налево, как учил его Онисим. Кровь брызнула фонтаном, Никий ощутил ее жаркую влагу на своем лице, выпустил нож, отпрянул назад, вдавился в стенку носилок. А Онисим повалился на него, уткнувшись головой в колени Никия.
Тут Никий закричал — неистово, страшно. Он пытался сбросить голову Онисима со своих коленей, но она была словно из камня, и у него не хватило сил оттолкнуть ее.
Крик Никия еще не смолк, когда он услышал топот, потом солдаты оттащили Онисима, бросив его на землю перед носилками. Никий хотел подняться, оперся рукой о сиденье, почувствовал липкую влагу на ладони, отдернул руку и, неловко повернувшись, упал на дно носилок, больно ударившись лбом об острый край порога.
Несколько сильных рук подняли его, вытащили наружу, потом понесли куда-то. Крики и топот вокруг оглушили его. Никия внесли во дворец, поставили на ноги. Двое солдат придерживали его. Он увидел подходящего к нему Нерона, хотел сделать шаг навстречу, но только дернул ногой и едва не завалился на спину.
Рядом с Нероном появился Афраний Бурр. Лицо его казалось встревоженным — центурион Палибий с лицом белым как полотно докладывал о случившемся, поминутно указывая рукой за спину.
Император приблизился, брезгливо осмотрел тунику Никия, забрызганную кровью. Спросил, дернув щекой:
— Ты не ранен?
Никий хотел сказать, что нет, но горло его сдавил спазм, и он лишь невнятно промычал.
— Моего врача! — сердито воскликнул император, махнув кому-то рукой.
Солдаты подняли Никия и понесли куда-то. Запрокинув голову, он смотрел на Нерона. Но тот, уже отвернувшись, слушал Афрания Бурра, что-то горячо ему говорившего. Нерон недовольно кивал, глядя в сторону от лица Афрания.
Глава двадцать третья
Солдаты уложили Никия на ложе. Но лишь только его спина коснулась мягкого, он оттолкнул солдат и вскочил на ноги. Пришедший врач застал его с остервенением сбрасывающим окровавленную одежду. Он отстранил руку встревоженного врача, крикнул слугам, толпящимся у дверей, чтобы они позвали Теренция.
Скоро явился Теренций, запыхавшийся и бледный. В одной руке была новая туника, в другой — сандалии. Слуга ни о чем его не спрашивал, молча помогал оде-ваться. Все было как обычно, только руки Теренция заметно дрожали и он прятал глаза от Никия.
Теренций еще возился с застежкой сандалии, когда двери отворились настежь и в комнату в сопровождении Афрания Бурра вошел Нерон.
— Сегодня ты спас Рим! — сказал он подходя и, положив руку на плечо Никия, с особенным выражением посмотрел в его глаза.— Не думал, что ты так ловко владеешь оружием,— и, повернувшись к Афранию Бурру, добавил: — Не правда ли, Афраний?
— Да,— сдержанно кивнул тот,— он распорол шею убийцы от уха до уха.
— От уха до уха! — радостно воскликнул Нерон.— А ведь мог сделать со мною то же самое — вот так.
И Нерон провел пальцем от уха до уха, приподняв подбородок. Движение вышло резким, а в выражении лица появилось некое подобие сладострастия, будто Нерону доставило бы удовольствие быть порезанным таким кровавым способом.
Он радостно рассмеялся, повторив понравившийся жест, и опять с удовольствием произнес:
— От уха до уха!
Потом, словно спохватившись, сказал:
— Да, Никий, вот Афраний хотел задать тебе несколько вопросов. Ты в состоянии отвечать? Я бы тоже хотел послушать.— При этом он несколько лукаво посмотрел на Никия.— Ну, Афраний, приступай!
— Тебе незнаком этот человек? — глядя на Никия исподлобья, спросил Афраний.
— Ты имеешь в виду убийцу?
— Я имею в виду убийцу.
— Нет, он мне незнаком.
— Ты так уверенно говоришь это. Все-таки, может быть, ты его видел раньше? — При этих словах Афраний Бурр покосился на Нерона. Тот стоял с отсутствующим видом, со скукой смотрел куда-то за спину Никия.
В свою очередь взглянув на императора, Никий ответил с чуть смущенной улыбкой:
— Все произошло так быстро, у меня не было времени рассмотреть этого человека. Если я и видел его когда-нибудь, то не помню. А почему ты спрашиваешь? Если бы он оказался мне знаком, то я, конечно же, сказал бы тебе об этом. Или ты сомневаешься?
Тон Никия был слишком развязный — так не говорят с командиром преторианских гвардейцев, да еще в присутствии самого императора. Никий почувствовал это и под пристальным взглядом Афрания весь сжался внутри. Но неожиданно Нерон поддержал его. Повернувшись к Афранию и с прищуром глядя на него, он повторил вопрос Никия:
— Или ты сомневаешься?
— Нет, принцепс,— учтиво, но холодно произнес Афраний с легким поклоном,— я просто хотел выяснить все обстоятельства дела.
— Так выясняй! — В голосе Нерона звучало недовольство.— Разве ты не видишь, он еще не вполне пришел в себя?
Афраний опять холодно поклонился и, обратившись к Никию, спросил:
— Скажи, откуда у тебя нож? Я не знал, что ты ходишь с оружием.
Никий растерянно посмотрел на Нерона, тот, в свою очередь, на Афрания:
— Я вижу, ты не хочешь спрашивать по существу,— проговорил император с раздражением.— Я пришел сюда не затем, чтобы присутствовать при допросе. Никий только что спас мою жизнь, или ты по-прежнему сомневаешься в этом?!
— О нет, принцепс,— так же сдержанно, почти скучно проговорил Афраний,— в этом я нисколько не сомневаюсь.
— Тогда в чем же дело? — Брови Нерона сердито поползли вверх.
— Я думал, что покушение на твою жизнь, принцепс...— начал было Афраний, но Нерон его перебил:
— Так ты будешь спрашивать по существу?
— Да, принцепс,— лицо Афрания приняло виноватое выражение,— я сожалею, что вызвал твое недовольство.
— Хорошо, хорошо.— Нерон милостиво покачал головой.— Продолжай же.
Ироническая улыбка чуть заметно раздвинула губы Афрания, и он спросил:
— Если ты не знаешь, кто убийца, то, может быть, тебе известно, почему он пытался сделать такое?
— Мне трудно об этом говорить,— потупив взгляд, нерешительно проговорил Никий.
— Почему же? — Афраний чуть пригнулся, пытаясь заглянуть в его лицо.
Никий тяжело вздохнул и ничего не ответил.
— Почему же? — повторил Афраний.— Говори, император слушает тебя.
— Потому что это... потому что это...— Никий быстро взглянул на Афрания и тут же опустил взгляд.
— Ну?! — Афраний потянулся и дотронулся до его руки.
Никий вздрогнул всем телом, посмотрел на Афрания испуганными глазами и быстро пробормотал:
— Это касается матери принцепса.
— Матери принцепса? — воскликнул Афраний.
— Агриппины?! — в свою очередь воскликнул Нерон.— Моей матери, Агриппины?
Афраний дернул Никия за руку:
— Говори!
Никий затравленно взглянул на него:
— Я не знаю, как объяснить это, но когда он уже упал, то выговорил «Агриппина» и еще раз, почти невнятно,— «Агриппина».
— Что значит «невнятно»? — Афраний возвысил голос, словно забыл о присутствии Нерона.— Он сказал это или нет?
— Я это услышал,— осторожно проговорил Никий, удерживая себя, чтобы не взглянуть на Нерона.
Афраний в эту минуту, как видно, потерял самообладание: он ухватил Никия здоровой рукой за плечо и сжал пальцы. Никий поморщился, но не решился сбросить руку Афрания.
— Ты так услышал, или ты так...— стиснув зубы, прошипел Афраний, но не успел договорить, Нерон перебил его:
— О боги! — вскричал он.— Значит, собственная мать, которую я всегда так любил и почитал, хочет мне смерти и посылает убийц! О боги! Лучше бы я умер в ее утробе, чтобы не видеть и не слышать всего этого.
— Принцепс! — обратился к нему Афраний, наконец выпустив плечо Никия.— Позволь мне допросить его как следует, я не верю, что...
И опять Афраний не сумел договорить — Нерон толкнул его в грудь и, потрясая руками закричал:
— Все вы хотите моей смерти! Ты, Афраний, знал о заговоре, но не доложил мне об этом! Ты и Сенека — вы знали, но вы молчали. Я окружен врагами, мне некому довериться!
— Но, принцепс...— попытался возразить Афраний, и снова не смог закончить.
С искаженным гневом лицом Нерон воскликнул, ткнув пальцем в его грудь:
— Где Сенека?! Где эта хитрая лиса? Почему он не с нами!
— Но он уехал...
— Молчи! Не смей его защищать, Афраний. Он и ты больше других общались с моей матерью. Вы все знали, но вы молчали, вы хотели...— Он подскочил к Афранию, схватил его за одежду.— Где, где Сенека? Он сидит в своем имении, тогда как его подруга подсылает мне убийц.— Он повернулся к Никию.— Так он сказал «Агриппина»? Говори, он назвал это имя?
— Да, принцепс,— кивнул Никий удрученно.
— О боги! — Нерон отпустил Афрания, попятился, запрокинув голову и воздев руки над головой.
Никию показалось, что он вот-вот опрокинется на спину. Он было сделал шаг, чтобы помочь императору, но его остановил пристальный взгляд Афрания. Афраний не смотрел на готового вот-вот упасть императора, он смотрел на Никия. Во взгляде его было столько ненависти, что Никий ощутил боль в глазах и непроизвольно поднял руку, заслоняясь от Афрания.
Неизвестно, что бы произошло дальше — упал бы Нерон на спину или все же удержался на ногах, сумел бы взгляд Афрания прожечь Никия или только опалил бы его лицо,— неизвестно, что бы произошло, если бы в эту минуту в комнату без стука, отталкивая пытавшегося удержать его слугу, не вбежал Палибий. Все взгляды устремились к нему. Он тяжело дышал, лицо его раскраснелось, взгляд горел.
— Что случилось? — строго спросил Афраний.— Почему ты ворвался сюда, как пьяный германец в таверну!
Палибий, не отвечая, лишь нервно втянув ртом воздух, указал за спину.
— Говори! — угрожающе прорычал Афраний, шагнув к центуриону.
— Там, там...— выдавил из себя тот,— посланный от Агриппины, он говорит...
— Что-о-о? — протянул Афраний, уже не столько с угрозой, сколько жалобно.— Она жива?!
Прежде чем ответить, Палибий, косясь на императора, дважды утвердительно кивнул:
— Жива. Там, за дверью...
— Агриппина за дверью! — в страхе вскричал Нерон, отступая к окну и театрально прикрываясь руками, словно он увидел призрак.— Моя мать?
— О нет, принцепс,— сдавленно выговорил Палибий.
— Да кто же там? Говори! — Афраний Бурр, положив руку на меч, угрожающе двинулся на центуриона.
— Ее слуга. Его зовут Марций.— Голос Палибия дрожал, на лбу выступили крупные капли пота.— Я допросил его, он сказал про заговор, и больше я...
Афраний поднял руку, Палибий прервался на полуслове. Повернувшись к императору, Афраний сказал с поклоном:
— Принцепс, позволь мне разобраться.
— Нет! Нет! — закричал Нерон, замахав руками, будто все еще видел призрак.— Пусть войдет, я хочу видеть... хочу сам...
Несколько мгновений Афраний молчал, глядя под ноги, потом, коротко кивнув Палибию, бросил:
— Введи!
Палибий со всех ног бросился к двери, и короткое время спустя ввели испуганно озирающегося маленького человечка, держа его сзади за плечи. Никий узнал Марция, слугу Агриппины. В ту же минуту он поймал на себе короткий и выразительный взгляд Нерона — слишком выразительный, чтобы не понять его значения.
Нерон глазами указал ему в угол комнаты, где на низкой скамейке у окна лежал короткий меч без ножен: обычный солдатский меч. Никий прикрыл глаза, давая Нерону знать, что он его правильно понял. Все это продолжалось какое-нибудь мгновение, вряд ли кто-либо из присутствующих мог что-то заметить, а уж тем более осмыслить.
Марций сначала посмотрел на Никия, потом перевел взгляд на Нерона — кожа на его лице сделалась еще бледнее; черные, чуть навыкате глаза от этого казались еще выразительнее.
— Подойди! — величественно произнес Нерон.
Марций не пошевелился, Палибий подтолкнул его в спину. Марций сделал к Нерону несколько коротких шажков, запнулся и едва не упал.
Нерон вытянул руку, как бы останавливая его:
— Говори!
— Я, принцепс... я...— пролепетал Марций, часто моргая. Палибий снова толкнул его в спину — Марций осекся и жалобно посмотрел на Нерона.
— Оставь его! — приказал Афраний Бурр, отстраняя Палибия, и, заглянув Марцию в лицо, мягко проговорил: — Тебя послала госпожа? — Посланник испуганно кивнул.— Говори, не бойся, император слушает тебя.
При слове «император» Марций вздрогнул и перевел затравленный взгляд на Нерона.
— Говори же,— снова мягко попросил Афраний.
Все напряженно смотрели на посланника, даже Нерон. Никий сделал осторожный шаг в сторону, потом еще один, зашел за спину Нерона.
— Госпожа приказала мне,— наконец произнес Марций дрожащим голосом (глаза его, казалось, вот-вот выкатятся из орбит).
— Что же приказала тебе госпожа? — строго спросил Нерон. Слишком строго — у Марция стала подергиваться правая щека. Афраний укоризненно посмотрел на Нерона. Тот ответил презрительным взглядом.
— Госпожа сказала, чтобы я сказал тебе...— пролепетал Марций, прижимая ладонь к подергивающейся щеке.— Чтобы я сказал, что она сказала...
— Она сказала, он сказал,— надвинулся на него Нерон,— Ты можешь говорить внятно?
Марций испуганно кивнул, втянул голову в плечи, словно ожидая удара. (Тут Никий попятился, чуть пригнулся, не поворачиваясь, нащупал меч на скамеечке, взял его и, держа за спиной, выпрямился.)
— Она сказала,— пролепетал несчастный Марций,— что ее... что ее хотят убить.
— Она тебе сказала это...— начал было Афраний, но Нерон вдруг вскричал громко:
— Убить? Убить меня? Она сказала тебе это?!
Все, включая Палибия, уставилась на императора: Палибий удивленно, ничего не понимая в происходящем, Афраний настороженно, как бы начиная понимать, Марций — с крайней степенью страха, почти с ужасом.
(Никий дважды коротко шагнул вперед, быстро присел и положил меч на пол, у самых ног Нерона. Поймав на себе взгляд Афрания, быстро выпрямился.)
— Она приказала тебе убить меня! — воскликнул Нерон, делая движение, будто собирался пятиться, но при этом остался на месте.
— Не-е...— жалобно пропел Марций.— Она-а...
(Никий осторожно, носком сандалия, подвинул лежавший на полу меч поближе к Марцию.)
— А-а,— закричал Нерон, делая шаг назад, и, увидев под ногами меч, ткнул в него пальцем.— А-а, ты хотел убить меня! Она послала тебя убить меня! Он убийца, хватайте его!
Центурион Палибий обхватил Марция сзади, сжал его с такой силой, что тот задушенно простонал. Лицо слуги из белого сделалось багровым. Никий выскочил вперед и заслонил собой императора, который кричал не переставая:
— Он убьет, он убьет меня!!!
Афраний Бурр растерялся.
— Отпусти, ты задушишь его,— крикнул он Пали-бию, но не очень уверенно.
Но Палибий не слышал его: сжимая несчастного Марция, он запрокинул голову и взревел так, что, казалось, задрожали стены:
— Солдаты! Ко мне! Ко мне, солдаты!
Афраний тоже восклицал что-то, но рев Палибия заглушил его слабый крик. Двери распахнулись, в комнату вбежали солдаты, топая и гремя доспехами. Они схватили уже не подававшего признаков жизни Марция и утащили его прочь. Нерон уже не кричал, а что-то бормотал испуганно, глядя на дверь. Никий стоял рядом, поддерживая императора.
— Я поеду к ней,— сказал Афраний, подходя и с плохо скрытой брезгливостью глядя на Нерона. Нерон, казалось, не слышал, и Афраний возвысил голос: — Я сам поеду к ней и все разузнаю на месте.— И он повернулся, собираясь уйти.
— Нет! — вскричал Нерон, пытаясь дотянуться до уходящего Афрания.— Нет! Ты должен остаться со мной, заговорщики могут быть уже во дворце!
— Я должен,— твердо проговорил Афраний, но Нерон снова крикнул:
— Нет, ты останешься со мной! Я чувствую, они здесь, ты останешься со мной, Афраний! — И Нерон перевел почти безумный взгляд на Никия: — Ты! Ты поедешь! Привези ее сюда! Ты понял меня, Никий? Ты понял?! Возьми с собой этого, Палибия, пусть он сопровождает тебя!
Никий кивнул и пошел к двери, подобрав по пути все еще валявшийся на полу меч. Уже выходя в дверь, он оглянулся: Нерон держал Афрания обеими руками и, закатив глаза, что-то бормотал — невнятно и тревожно.
Вскоре с манипулой солдат под командованием Палибия Никий соскочил с коня перед воротами дома Агриппины и, бросив поводья, вбежал во двор. Оттолкнув у двери испуганного слугу, он повернулся к шумно дышащему за спиной Палибию:
— Оставайся здесь. Пусть солдаты перекроют все выходы!
Палибий коротко кивнул и, взмахнув рукой, что-то прокричал солдатам, а Никий, сжимая рукоять меча занемевшими руками, взбежал по лестнице и с силой толкнул дверь спальни Агриппины.
И сразу же увидел ее: она стояла у противоположной от окна стены, держа руки у ворота длинного платья. Лицо ее было бледным, но не испуганным, волосы распущены.
Она неподвижно смотрела на него. Когда Никий подбежал, она выговорила без всякого выражения:
— Пришел.
— Ты... ты...— едва ли не прокричал Никий, сам не понимая, что он хочет сказать и зачем.
— Молчи,— едва пошевелила она бледными губами,— делай...
Он поднял руку с мечом и замер в нерешительности, глядя не в лицо, а на руки, сжимающие ворот платья. Костяшки ее пальцев побелели от напряжения. Вдруг она с силой рванула ворот, обнажив грудь:
— Бей!
И он ударил — будто от испуга. Выдернул меч и, увидев красное пятно под левой грудью, ударил еще раз, в то же место, словно хотел заткнуть его сталью. Чтобы не видеть...
Она осела на пол и ткнулась головой в его ноги. Он отпрыгнул назад, бросил меч и медленно, не спуская глаз с лежащей Агриппины, стал пятиться к двери.
На пороге столкнулся с Палибием.
— Что?! — жарко выдохнул центурион, глядя на Никия широко раскрытыми глазами.
— Она закололась, узнав...— вяло выговорил Никий и, покачиваясь из стороны в сторону, чувствуя, что сейчас упадет, повторил: — Она... закололась... она...
Часть третья.
ПУСТЫЕ НОЖНЫ
Глава первая
Прошло больше года со времени описанных событий. Никий жил теперь в доме Агриппины, пожалованном ему Нероном. Он отделал все комнаты в своем вкусе, и особенно спальню, где в последний раз видел Агриппину. Впрочем, он не любил заходить туда — в том месте, где в роковой день лежала женщина, все ему чудилось красное пятно. Он приказал сменить здесь даже доски пола, покрыл пол толстым ковром, но ощущение, что кровь все равно проступает наружу, не проходило. Достаточно было оказаться в коридоре перед дверью, чтобы почувствовать это. Иной раз Никий тайно ночью пробирался сюда, зажигал светильник, загибал ковер и смотрел. Пригнувшись низко, он даже нюхал. Не находил ничего — ни следов крови, ни запаха, но коснуться рукой этого места он так и не смог себя заставить. Знал, если заставит, то, может быть, мучающее ощущение покинет его, но — не мог.
Он очень изменился в последнее время: от того красивого юноши, что приехал когда-то в Рим, ничего не осталось. Лоб Никия прорезали теперь глубокие морщины, щеки стали бледными (здоровый румянец исчез, казалось, навсегда), подбородок заострился, глаза запали, а во взгляде не стало огня. Ему можно было дать лет тридцать, а то и больше. При этом он походил скорее на тридцатилетнего старика, чем на тридцатилетнего мужчину.
После той услуги, которую он оказал Нерону, устранив Агриппину, Никий некоторое время по-настоящему боялся за свою жизнь и строил вполне реальные планы побега из Рима. Но бежать было некуда, и сил для этого он тоже не чувствовал. Он плохо спал, вскакивал от каждого шороха — настоящего или почудившегося,— все время мерещилось, что к нему пробирается убийца. Но самое отвратительное состояло в том, что этот представляющийся ему убийца был с собственным его лицом. Он боялся смотреть в зеркало и приказал убрать из дома все зеркала.
Но Нерон остался неизменно милостив к нему, и страхи Никия несколько поутихли, хотя и не прошли совсем. Его главный враг, командир преторианцев Афраний Бурр, уже полгода как лежал в могиле. Он сам приложил руку к гибели Афрания, но нисколько не жалел об этом. И не вспоминал об Афрании, словно того никогда и не было.
Афраний Бурр, пока еще был жив, неизменно смотрел на Никия с ненавистью и нисколько ее не скрывал. Если бы не Нерон, Афраний расправился бы с ним очень быстро. Император время от времени любил шутить на эту тему. Он говорил, смеясь и лукаво поглядывая на Поппею (к тому времени взявшую во дворце большую власть):
— А как ты думаешь, моя Поппея, что бы сделал Афраний с Никием, попадись он ему в руки? Нет, в руку, потому что наш доблестный Афраний калека. Но, думаю, и одной рукой он сумел бы его помучить как следует.
Поппее не нравились эти разговоры, при таких шутках Нерона она неизменно хмурила брови и отворачивалась сердито. Как-то она сказала Никию:
— Не бойся, Нерон любит тебя и не даст в обиду. Он любит, а я ценю. Что же до Афрания, то, мне кажется, он уже достаточно созрел, чтобы из живого стать мертвым. Перезревший плод срывают — вот только нужно разыскать умелого садовника.
При этом она так смотрела на Никия, что тот понял — «садовником» будет он.
И не ошибся, хотя после этого разговора прошло довольно много времени и Поппея больше к нему не возвращалась.
Афраний Бурр вдруг заболел и слег в постель, жалуясь на боли в горле. Вообще-то он жаловался на горло давно, но впервые болезнь обострилась настолько, что он в течение нескольких дней не мог выполнять своих обязанностей по службе.
Однажды во время пира Нерон поманил пальцем Никия и, пригнувшись к самому его уху, сказал:
— Тебе не кажется, мой Никий, что на пиру не хватает одного человека?
— Кого не хватает, принцепс? — спросил Никий.
Нерон обвел взглядом гостей и проговорил с лукавой улыбкой:
— Того, кого ты больше всех любишь.
— Но больше всех, принцепс, я люблю тебя, ты же знаешь.
— Да, да,— несколько нетерпеливо заметил Нерон,— но я говорю о другой любви.— И, видя, что Никий либо не может, либо не хочет понять, о ком идет речь, пояснил:
— Я говорю об Афрании, нам не хватает его.
— Да, принцепс,— осторожно согласился Никий.
Нерон усмехнулся.
— Мне его очень не хватает, я так привык любоваться его искалеченной рукой. А как он хромает! Это не хромота, а великолепный танец. В его хромоте я всегда видел великую поступь Рима. Скажи, Никий, ты еще не забыл искусство врачевания? Помнишь, как ты лечил потерявшего голос Салюстия тухлыми яйцами? Мне тогда это очень понравилось! — И Нерон весело рассмеялся.
Никий улыбнулся тоже, но лицо Нерона уже в следующее мгновение приняло самый серьезный вид.
— Я хочу, чтобы ты полечил нашего Афрания,— проговорил он, глядя на Никия с прищуром.— Я желаю видеть его здоровым. Надеюсь, ты согласишься взяться за дело?
— Но, принцепс, я уже давно...— начал было Никий, но Нерон, не дослушав его, сказал:
— Вылечи его, пусть даже он лишится своего замечательного уродства. Я согласен пожертвовать этим. Ты понимаешь, что я имею в виду?
— Не очень, принцепс,— пожал плечами Никий,— прости мою тупость.
— Прощаю.— Нерон великодушно наклонил голову.— Хочу, чтобы ты понял: мертвый Афраний уже не будет калекой. Ведь мертвый не может хромать, не так ли? Я готов лишиться удовольствия лицезреть его походку, олицетворяющую величественную поступь Рима. Ну, теперь ты понял меня?
Губы императора разошлись, но глаза смотрели строго. И Никий сказал:
— Да, принцепс, я сделаю все, что в моих силах.
— Ты сделаешь все,— произнес Нерон тоном приказа и, тут же отвернувшись, шутливо заговорил с кем-то из гостей.
Никий исполнил приказ с хитроумием опытного убийцы. Он отыскал колдунью Тускулу: сгорбленную старуху с лицом, похожим на кусок прогнившего дерева. Никто не знал, сколько ей лет, некоторые говорили, что она бессмертна. По крайней мере, не было человека в Риме, который бы знал ее молодой. Она занималась колдовством, изготовлением любовных снадобий, врачеванием. Не однажды ее пытались изгнать из Рима, но сам император приказал оставить колдунью в покое.
Ходили слухи, что известное грибное блюдо, отправившее в могилу императора Клавдия, было приготовлено не без ее участия.
Никий сам поехал к ней. Как и полагается в таких случаях, поздним вечером. Сначала старуха, кряхтя и охая, сказала, что она ничем уже не занимается, потому как совсем одряхлела и готовится к смерти. Но когда Никий вытащил и подбросил на ладони тугой мешочек с монетами, глаза Тускулы сверкнули не по-старушечьи, и, оглядев дорогую одежду Никия, она сообщила, что готова помочь столь знатному молодому человеку, которого привела к ней, как видно, великая нужда.
— Великая,— без улыбки кивнул Никий и объяснил ей цель своего прихода: один его близкий родственник болеет горлом, страшно страдает, и он хочет, чтобы Тускула помогла ему избавить несчастного от мучений.
— Ты хочешь, чтобы он поскорее предстал перед богами? — спросила она напрямую.
— Да, если им так будет угодно.
— Им так будет угодно,— уверенно проговорила Тускула и, раздвинув губы, показала ему черный провал рта, что, по-видимому, должно было означать улыбку.
Через день она вручила Никию мазь и, длинным корявым пальцем проведя по горлу, сказала:
— Ему не будет больно.
Утром следующего дня Никий зашел к врачу Нерона, который каждый день навещал больного Афрания.
— Я пришел справиться о здоровье нашего доблестного Афрания Бурра,— поведал Никий с любезной улыбкой.— Скажи, ему лучше?
Врач, подозрительно взглянув на Никия, ответил уклончиво:
— У него слишком застарелая болезнь.
Никий с участием покачал головой:
— Жаль, что судьбу смертных определяют не врачи, а боги.
Врач не ответил, а настороженность в его взгляде стала еще заметнее.
Никий потрогал горшочки со снадобьями, стоявшие на полках, и, не глядя на врача, спросил:
— Тебе, наверное, известно, что я когда-то занимался медициной? Скажи, чем ты пользуешь несчастного Афрания?
— Настойкой из трав и еще...— медленно выговаривая слова, попытался объяснить врач, но Никий его остановил:
— Я знаю, ты опытный врач и твои лекарства, как известно всем, порой творят чудеса.— Тут он демонстративно вытащил из-под одежды коробочку с мазью, которую дала ему Тускула, и, показав врачу, спросил: — Но почему ты забыл об этом прекрасном лекарстве? — И, указав на полки за спиной, добавил: — Я нашел это у тебя на полке. Наверное, ты приберегаешь снадобье напоследок, как самое сильное средство. Не хочу вмешиваться в лечение, но императора так беспокоит здоровье доблестного Афрания, что, мне кажется, лечение нужно ускорить.— Никий раскрыл рот и пальцем указал на собственное небо.— Вот туда, и все, совсем не страшно.
Врач задрожал, отступил назад. Никий подошел, взял его руку и вложил в нее коробочку со снадобьем.
— Нет... не могу...— Врач затряс головой, кожа на лице приняла землистый оттенок, а глаза неподвижно смотрели на Никия.
— Даже если я тебя попрошу?
— Нет,— врач дернул головой.
— Даже если тебя попросит император?
— Император? — пролепетал несчастный, вращая глазами.— Разве это он послал тебя?
— Я пришел сам,— улыбнулся Никий,— своими ногами, ты, наверное, заметил это. Но разве что-нибудь в Риме происходит без ведома императора? Или ты сомневаешься, что он наделен божественной силой? Скажи, не бойся, я передам ему твое мнение.
— Нет, нет,— быстро проговорил врач,— я понимаю, я не думал ничего такого.
— Конечно, ты не думал, но, чтобы я не сомневался и чтобы у императора никогда не возникало на этот счет никаких сомнений, не прячь свое снадобье, не жалей его, здоровье Афрания Бурра стоит дорого. Прощай!
И, одарив врача улыбкой, от которой у того задрожали ноги, Никий ушел.
Еще день спустя Нерон спросил Никия:
— Как продвигается лечение Афрания? Надеюсь, он на пути к выздоровлению?
— Он на пути, принцепс,— заверил его Никий.— Если ты пожелаешь навестить его, то сделать это нужно теперь же.
— Теперь же? — притворно удивился Нерон.— Но к чему такая спешка?
— Он слишком торопится, двигаясь по пути выздоровления, принцепс. Боюсь, нам его не догнать.
Некоторое время Нерон молча смотрел на Никия и вдруг, не удержавшись, расхохотался:
— Ох, не могу, Поппея! — обратился он к стоявшей тут же Поппее, мотая головой и всплескивая руками.— Ох, не могу!
— Да что тебя так рассмешило, Нерон? — спросила она, дернув его за рукав.— Поделись с нами.
— Я представил... я представил...— не в силах успокоиться, сквозь смех выговорил Нерон.— Представил, как наш великолепный Афраний хромает по пути выздоровления. Вот так! Вот так! — И Нерон изобразил хромающего Афрания, пробежав к окну и обратно.
Поппея поддержала его веселье сдержанным смехом, а Никий лишь вежливо улыбнулся.
Император отправился навестить больного Афрания Бурра с большой помпой. Его блестящий выезд сопровождали толпы зевак, выкрикивающих приветствия. Жена и брат больного встретили его у дверей дома.
— Ну, как наш Афраний? — милостиво глядя на них, осведомился Нерон.— Надеюсь, ему лучше?
При этих словах жена Бурра залилась слезами, а брат, глядя на императора запавшими от бессонницы глазами, сказал, что Афраний совсем плох и вряд ли доживет до утра. Нерон нахмурил брови и, кивком приказав Никию следовать за собой, вошел в дом.
Афраний Бурр лежал на высоких подушках с бледным и безучастным лицом. Войдя, император поморщился — в комнате стоял тяжелый дух. Приблизившись к ложу, он обратился к Афранию с участливой улыбкой:
— Скажи, Афраний, как чувствуешь себя? — И, переглянувшись с Никием, добавил: — Надеюсь, ты на пути к выздоровлению?
Щеки больного дрогнули, он тяжело вздохнул, высоко поднимая грудь, проговорил едва слышно:
— Со мной все кончено, принцепс.
Опустившись в кресло, подставленное ему слугами,
Нерон не без брезгливости коснулся руки Афрания, лежавшей поверх одеяла (изуродованная рука больного была прикрыта, но и здоровая выглядела не лучше — скрюченные пальцы казались обтянутыми истончившейся до предела кожей лилового оттенка), и выговорил бодро:
— Ты удивляешь меня, Афраний. Такие доблестные воины, как ты, не умирают в постели.
— Я не умираю, принцепс, я погибаю,— слабо отозвался больной.
— Вот как! — вырвалось у Нерона, и лицо его сделалось недовольным. Он покосился на Никия, стоявшего возле кресла, не поймал его взгляда, повторил, взявшись за подлокотники и как бы желая подняться.— Вот как!
— Этот,— сказал Афраний, переведя глаза на Никия, который отступил за спину Нерона.
Слово прозвучало слабо, и трудно было разобрать, что в нем: вопрос или утверждение. Больной закрыл глаза и казался безучастным. Нерон потянулся к руке Афрания, но только дотронулся кончиками пальцев до края одеяла. Поднялся рывком, едва не уронив кресло, сердито топая, дошел до двери, но вдруг остановился и жестом подозвал врача из темного угла комнаты:
— Подойди!
Врач подбежал, со страхом глядя на императора. Его вид был не лучше вида больного, испуганные глаза лихорадочно блестели.
— Говори! — строго приказал Нерон.
Врач посмотрел на Никия, как бы ища защиты, сказал, разведя заметно дрожавшие руки в стороны:
— Болезнь оказалась слишком запущенной, жар уже проник внутрь. Я ничего не мог...
— Он в самом деле не доживет до утра? — перебил его Нерон.
— Да, принцепс, наверное.
Тут Нерон неожиданно улыбнулся и, протянув руку, ободряюще потрепал плечо врача:
— Тебе не в чем упрекать себя. Оставайся и помоги Афранию умереть.
Никий невольно вздрогнул. Посмотрел на жену и брата Афрания, стоявших поодаль. Ему показалось, что они смотрят на него каким-то особенным взглядом. Врач скорбно улыбнулся и покачал головой. Нерон отпустил его и вышел в дверь. Во дворе он попрощался с родственниками Афрания, произнес несколько ободряющих слов. Жена Афрания плакала, низко опустив голову, лицо брата словно застыло.
Нерон пригласил Никия в свои носилки. Резким движением задернув занавеску, сказал, глядя прямо перед собой:
— Вот как умирают столпы великой империи!
Никий молчал, смотрел на профиль императора с выпяченной нижней губой.
— Почему ты не спрашиваешь, мой Никий, как умирают столпы великой империи? — не оборачиваясь, вдруг спросил он.
Никий подался вперед:
— Как?
Нерон, бросив на него ответный взгляд, лукаво улыбнулся. Подняв указательный палец, он произнес едва ли не по слогам:
— Великолепно!
Глава вторая
Теренций теперь редко выходил из дома. В последний год он сильно одряхлел. В доме Никия у него не осталось никаких особенных обязанностей. Другие слуги, молодые и крепкие, делали то, что делал прежде он: одевали Никия, встречали его, прислуживали за столом. Теренций чувствовал себя заброшенным, ненужным. И это при том, что господин, Никий, относился к нему хорошо, и Теренцию не на что было жаловаться
— Ты слишком долго служил другим, жил для других,— говорил Никий, когда Теренций пытался что-то сделать по хозяйству, как-то услужить своему господину.— Я хочу, чтобы ты пожил для самого себя. Скажи, что ты хочешь, я все сделаю. Если ты желаешь жить здесь, то живи как свободный человек, ни о чем не задумываясь. Если желаешь жить отдельно, я куплю тебе дом.
Теренций отвечал, что не хочет покидать своего господина. Никий улыбался, дружески трепал его по плечу и уходил. Теренций грустно вздыхал: он знал, что больше никому не нужен, и на душе у него было тяжело.
Никий выделил ему в доме просторную светлую комнату, уютную, удобную, хорошо обставленную. Он даже предложил Теренцию слугу, но тот отказался. Ему не нужен был слуга, ему хотелось оставаться нужным Никию, но он видел теперь хозяина очень редко. Тот не то чтобы избегал встреч, но, кажется, временами просто забывал о существовании Теренция. Той близости, которая была между ними раньше,— такой близости не стало и в помине.
А некоторое время назад Теренций почувствовал приближение смерти. Он начал думать об этом постоянно и сам не понимал, страшится смерти или желает ее. Скорее всего он чувствовал и то, и другое одновременно. Ему не с кем было поделиться своими думами, страхами — он остался совершенно одинок.
Однажды он увидел во сне виллу, где жил у Аннея Сенеки. Это получилось так реально, он видел все так, как видят наяву, даже ощутил запахи. Сон взволновал его, и он уже не мог успокоиться. Мечта побывать там сделалась главной целью его теперешней жизни, единственной, потому что ничего другого он уже не мог ни желать, ни хотеть.
Долго он не решался сказать об этом Никию, даже убеждал себя, что не скажет никогда. Но тяга к месту, которое он называл родным (он хотя и не родился там, но все же прожил большую часть жизни), была сильнее сомнений, и, собравшись с духом, он попросил Никия отпустить его на несколько дней.
— Я все равно скоро умру, мой господин,— добавил он с грустью.— Кому будет плохо, если я поеду! А мне будет приятно увидеть перед смертью родные места.
— Значит, ты считаешь их родными? — спросил Никий, слегка подозрительно глядя на Теренция.
— Да, мой господин,— отвечал тот,— ведь меня привезли туда ребенком.
— Может быть, ты соскучился по своему господину, Аннею Сенеке?
Теренций почувствовал, что вопрос задан не просто так, и ответил как можно простодушнее:
— Нет, дело не в нем. Я считаю тебя своим господином, а не его. Кроме того, я не собираюсь видеться с ним. Кто я такой? Старый дряхлый слуга. Я не стану входить в дом, а только поброжу по окрестностям и вернусь. Но если ты не хочешь, чтобы я ехал...
— Поезжай,— сказал Никий.— Возьми с собой пару слуг, дороги теперь небезопасны, да и тебе будет веселее.
— Мне хотелось бы поехать одному,— просительно улыбнувшись, проговорил Теренций.— Это мое последнее путешествие, путешествие к смерти, а туда не нужны провожатые.
— Как знаешь. Но только...— Никий прервался, и Теренций спросил:
— Да, мой господин.
— Нет, ничего, поезжай. Я распоряжусь, чтобы тебе предоставили все необходимое.
Теренцию не трудно было догадаться, о чем хотел говорить Никий и чего он не сказал. Конечно, Никия волновала возможная встреча Теренция и Сенеки. По обрывкам разговоров, которые вел Никий с гостями и даже с императором, довольно часто посещавшим дом Никия, он понимал, что Сенека беспокоит власть, все еще беспокоит. Несмотря на старость, несмотря на абсолютную уединенность. Вряд ли они страшились заговора или чего-то в этом роде. Их раздражало, что Сенека все еще живет, смотрит на них из своего далека, видит те ужасные вещи, которые они проделывают в Риме и с Римом. Именно это, то, что старый философ видит все, по разумению Теренция, и не давало им покоя. То есть полного покоя.
Но Никий не сказал ему об этом, а Теренций не посчитал себя вправе спрашивать. В конце концов, кто он действительно такой есть, чтобы рассуждать о делах государственной важности, а тем более самому заговаривать о них! Он поблагодарил Никия и стал собираться в дорогу.
Два дня спустя, ранним утром, верхом, ведя на поводу запасную лошадь, Теренций выехал из города. Он уже и не помнил, когда путешествовал один. Обычно он сопровождал господ — сначала Сенеку, потом Никия. Впрочем, Никия всего один раз — в тот памятный день они отправились в Рим.
Утро было холодным. Укутавшись в теплый плащ и натянув на голову капюшон, Теренций дремал в седле, вспоминал те места, куда ехал. Воспоминания были теплыми. Теплыми в самом настоящем смысле. Теренцию представлялось, что там, на вилле Сенеки, всегда тепло, не то что в этом проклятом Риме, где если солнце, то обязательно духота, а если тучи, то собачий холод.
Вдруг чья-то рука схватила коня за повод — он заржал, пытаясь встать на дыбы, едва не сбросил на землю задремавшего Теренция. Теренций качнулся в седле, хотел вытащить меч, но запутался в полах плаща и только прихватил рукою платье у пояса. Тут он услышал:
— Ты не изменился, Теренций, такой же воинственный, как и прежде,— и, приглядевшись, узнал Симона из Эдессы.
Тот выпустил поводья, похлопал широкой ладонью по шее коня, все еще испуганно храпящего, протянул Теренцию руку:
— Сойди, Теренций, я давно ищу с тобой встречи. Честно говоря, я потерял надежду увидеть тебя, не думал, что ты вдруг так смело отправишься в далекий путь.
— Ты? — Теренций все еще глядел на Симона с испугом.
— Конечно, я,— ответил тот, усмехаясь,— или ты совсем забыл, как я выгляжу?
— Я задремал,— проговорил Теренций уже чуть смущенно и кряхтя слез с седла,— Зачем тебе нужно было пугать меня! — добавил он с укоризной.
— Пойдем туда,— указал Симон на кучку деревьев в низине,— не нужно, чтобы нас кто-нибудь видел вместе.
Теренций огляделся, в этот час дорога была совершенно пустынной. Симон, по-хозяйски ступая, повел лошадей вниз, Теренций, вздохнув, поплелся за ним.
Глядя в спину впереди идущего Симона, он не мог разобраться в своих чувствах — рад он встрече или не рад. С одной стороны, ему было приятно увидеться с Симоном: он остался единственным теперь человеком, с которым Теренций еще мог поговорить если не по душам, то, по крайней мере, дружески. С другой стороны, он почему-то чувствовал неловкость, будто был в чем-то перед Симоном виноват. Дело заключалось, наверное, не в нем, а в Никии, но Никий остался далеко, а неловкость Теренция все возрастала.
Они дошли до небольшой рощи, всего в несколько деревьев, Симон привязал лошадей, сел на траву. Трава была в росе, Теренция стал бить озноб, он потоптался в нерешительности, но все же сел, подвернув под себя полы плаща. Симон молчал, со странной улыбкой глядя на Теренция. Одежда на нем была ветхой и грязной, он не походил на того торговца, каким знал его Теренций, а смахивал на нищего странника, что во множестве собираются у ворот города, у торговых рядов или у храмов, заунывными голосами прося милостыни.
Симон, как видно, угадал мысли Теренция. Сказал, дернув себя за одежду у ворота:
— Я, наверное, плохо выгляжу, Теренций. Такой важный человек, как ты, и не посмотрел бы на меня, повстречайся мы на улице.
— Нет, что ты,— быстро возразил Теренций, опуская глаза,— я и не подумал ни о чем таком. Но разве ты уже не торгуешь, как раньше?
Симон вздохнул:
— Иногда мне кажется, что все это было в другой жизни, Теренций,— проговорил он с грустью.— С тех пор как убили Онисима, я скитаюсь в окрестностях Рима, будто голодный волк.
— Да-а,— протянул Теренций, поглядев на Симона с состраданием, и взялся за кошелек на поясе.— Я помогу тебе, у меня, правда, не очень много денег, но...
— Я не об этом,— поморщился Симон.— Я сказал о голодном волке не потому, что голоден, а потому, что одинок, Теренций. А пропитание я всегда могу добыть себе.
— Понятно,— кивнул Теренций с некоторой настороженностью .
Симон неожиданно рассмеялся:
— Не бойся, я не стал разбойником, хотя мог бы им стать.— Он показал на рукоять меча, торчащую из лохмотьев.— Разве ты забыл, что я принадлежу к общине христиан? Это только для защиты. Не скрою, иногда приходится украсть. Да, Теренций, да. Но это когда становится совсем невмоготу, чтобы только не умереть с голоду.
Теренций снова взялся рукой за кошель, но Симон опять остановил его:
— Я искал тебя не для этого,— сказал он раздраженно.— Мне нужно знать, как жить дальше, а никто, кроме тебя, не сможет мне ответить.
— Я? — удивленно пожал плечами Теренций.— Но как я...
— Да, ты,— перебил его Симон.— Потому что ты живешь в доме Никия. Или,— он презрительно усмехнулся,— в доме матери императора.— И он вдруг спросил, не делая паузы: — Это правда, что Никий убил Агриппину?
Теренций никак не ожидал такого вопроса, не был готов ответить.
Симон повторил:
— Так это Никий убил Агриппину?
— Я же не видел, Симон! — проговорил Теренций и, тут же почувствовав, что ответ вышел глупым, добавил: — Я ничего точно не знаю, откуда мне знать!
— Она, конечно, была не лучше своего сынка,— сказал Симон,— но все-таки убить женщину... А, Теренций, ты смог бы убить женщину?
— Я никого не убивал. Никогда,— с нескрываемой обидой отозвался Теренций.
— Ну, ладно,— Симон потянулся и дотронулся до колена Теренция,— я не хотел тебя обидеть. Прости. Помнишь тот день, когда ты приходил к Онисиму, накануне его смерти?
— Да, помню.
— Я попал в нехорошую историю, Теренций,— вздохнув, с грустью выговорил Симон.— Тогда я смог убежать от людей Онисима, но потом...
Он замолчал, неподвижно смотря вдаль. Теренций переждал некоторое время, потом решился спросить:
— Что? Что потом, Симон?
— Потом,— криво усмехнувшись, сказал Симон,— убили Онисима. Люди из римской общины христиан стали говорить, что это сделал Никий и что я помог ему в этом. Они охотились за мной, как за диким зверем. Каждый из членов общины считал за благо расправить-ся со мной. Мне пришлось бежать. Они охотились на меня, а римляне на них. Почти все они погибли. Ну, тебе это, наверное, известно. И я остался один. Совсем один, ты понимаешь это, Теренций?
— Я понимаю,— грустно заметил Теренций, подумав о своем.— Но почему ты не ушел из Рима совсем? Ты мог бы отправиться в Эдессу.
— Я мог бы возвратиться в Эдессу?! Я? — Симон постучал своим корявым пальцем по груди.— Как же я мог вернуться, Теренций, что ты говоришь?!
— Но почему же ты не мог вернуться? Там, наверное, остались твои родные.
— Да,— глядя на Теренция горящими глазами, вскричал Симон,— там остались мои родные, там остались мои друзья, там много чего осталось! Но как я мог уехать, если учитель Павел сказал, что я должен быть при Никии во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало, Теренций. Во что бы то ни стало! Я слышал это собственными ушами.— Симон дотронулся ладонью до уха,— Ты понимаешь это?!
— Да, да,— осторожно покивал Теренций,— я понимаю, но ведь обстоятельства могли измениться, неужели учитель Павел не мог отменить своего...
— Учителя Павла нет,— быстро сказал Симон,— он умер. Разве ты не знал этого?
— Нет,— испуганно помотал головой Теренций,— мне неоткуда было узнать об этом.
— А Никий? — спросил Симон.
— Что Никий?
— Разве он не сказал тебе?
Теренций находился в замешательстве: сказать правду было невозможно, лгать не хотелось. Он ничего не ответил, только грустно посмотрел на Симона.
— Значит, он больше не разговаривает с тобой? — спросил тот.
Теренций отрицательно покачал головой:
— Мы уже давно... мы уже давно так... не разговариваем.
— Что же мне делать, Теренций? Скажи, что же мне делать?
— О чем ты, Симон, я не понимаю.
— Мне нужно увидеться с Никием,— твердо выговорил Симон, пристально глядя на Теренция.— Ты сможешь помочь мне?
— Я? — Теренций спросил так, будто не понял вопроса.
— Конечно, ты, кто же еще.
И тут Теренций сдался. Посмотрев на Симона взглядом, в котором было безраздельное страдание — теперь нескрываемое,— он ответил:
— Боюсь, Симон, я не смогу этого сделать.
— Почему же? Ты не хочешь?
— Я не могу.
— Но почему, почему, ответь!
Теренций ответил не сразу. Он долго смотрел себе под ноги, потом медленно поднял голову:
— Я маленький человек, Симон, что я могу! Я не имею права осуждать своего господина.
— Ты не раб, Теренций, ты не раб! — вскричал Симон, потрясая руками перед самым лицом Теренция.
Теренций грустно улыбнулся — грустно и виновато:
— Нет, Симон, ты ошибаешься, я раб. Я родился рабом и умру им, я ничего не могу с этим поделать. Это воля Бога — вашего или другого, я не знаю. Я хотел бы чувствовать, как ты, Симон, но я не умею. Я раб своего господина, кто бы он ни был. Я многое вижу, думаю, кое-что понимаю, но как я могу осуждать господина? Скажи, Симон, как?
— Значит, ты все-таки осуждаешь Никия? Ты имеешь на то свои причины? Скажи мне о них, Теренций.
— Я боюсь.
— Чего же ты боишься? Мы одни. Или ты думаешь, что я выдам тебя? Не бойся, я никогда этого не сделаю.
— Нет, нет,— Теренций отрицательно помахал рукой,— не в этом дело. Я не тебя боюсь и даже не Никия, я сам не знаю, чего или кого боюсь. Может быть, Бога, но я не уверен.
— Скажи,— жестко выговорил Симон, и это прозвучало как приказ, который Теренций не мог не выполнить.
Он произнес, прямо глядя в глаза Симону:
— Никий убил Онисима. Я знаю. Он ударил его ножом. Вот так.— И Теренций провел пальцем по горлу, от уха до уха.
Симон внезапно схватил Теренция за ворот, едва не опрокинув:
— Ты сам это видел? Ты сам это видел?!
— Нет,— почти прохрипел Теренций, пытаясь оторвать руки Симона.— Пусти!
Симон выпустил его, сел, тяжело дыша.
— Не видел,— потирая горло ладонью, проговорил Теренций.— Не видел, как все происходило, но видел Никия сразу после этого — он был весь в крови. В крови Онисима, Симон! Я помогал ему переодеваться, когда пришел император вместе с Афранием Бурром, командиром преторианцев. Я сам слышал, как Афраний сказал, что Никий разрезал его от уха до уха. Я сам это слышал, и я видел Никия... Верь мне!
— Я не верю тебе! — с угрозой сказал Симон.— Ты нарочно говоришь мне это, ты...— Он не закончил, задохнувшись, дернул головой.
— Ты просил сказать — я сказал,— Голос Теренция дрожал, на глазах выступили слезы (то ли от обиды, то ли от удушья).— Я не искал встречи с тобой, Симон, и не хотел тебе ничего такого рассказывать. Я говорил тебе это как... О Симон, если бы ты только знал, как же я одинок! — И Теренций, прижав ладони к лицу, зарыдал, трясясь всем телом.
Он почувствовал, как рука Симона коснулась его спины, и услышал у самого уха:
— Прости меня, старик! Не плачь. Ну, успокойся же, успокойся.
Голос Симона был столь необычно и неожиданно ласков, будто это говорил не Симон, а какой-то другой человек.
Скорее от удивления, чем от самих слов, Теренций убрал ладони и поднял голову. Лицо Симона стало бледным, губы подрагивали. Он медленно произнес (осторожно, как бы со страхом выговаривая слова):
— Значит, ты думаешь, что Никий...
Он не договорил, а Теренций утвердительно кивнул.
— Я убью его,— сказал Симон.
— За что?
— Ведь он убил Онисима.
— Онисим был дурной человек.— Теренций дотронулся до руки Симона, ощутил, как она холодна.— Конечно, его не следовало убивать, но, с другой стороны, Симон, ведь он был дурной человек!
— Дело не в нем.— Симон раздраженно махнул рукой.— Дело в том, что Никий покусился на жизнь одного из наших братьев. Значит, он служит римлянам, этому чудовищу, императору Нерону. Он должен умереть, Теренций. Он должен умереть! Я убью его!
Последнее он почти прокричал. Так громко, что Теренций с тревогой огляделся по сторонам. Но никого не было вокруг, только лошади испуганно прижали уши.
Наступило молчание. Говорить стало не о чем. Теренций чувствовал неловкость, и ему казалось, что Симон ощущает то же. Нужно было подняться, взять лошадей и продолжить путь. Но как это сделать теперь?
Странно, но Теренций не ощущал страха: ни за себя, ни за Никия, хотя вполне понимал, что Симон не шутит. Он несколько раз собирался с силами, прежде чем сказать:
— Знаешь, Симон, только учитель Павел мог решить это.
— Что? Что это? — воскликнул Симон, сжав кулаки и глядя на Теренция едва ли не с ненавистью.
— О Никии,— сдержанно, но без страха пояснил Теренций и наконец сказал главное, о чем не решался говорить раньше: — Может быть, учитель Павел ошибся, послав Никия. Я хочу сказать, ошибся, выбрав его.
— Учитель Павел не мог ошибиться! — Тяжелый взгляд Симона сделался каменным.
— Но тогда...— Теренций начал, но не договорил, намеренно не договорил, давая возможность Симону досказать самому. Но Симон молчал, неподвижно и уже как будто со страхом глядя на Теренция. И Теренций выговорил, уже уверенно, как учитель ученику, как взрослый подростку: — Если учитель Павел не мог ошибиться, а я в это верю, то тогда он и не ошибся.
— Он не ошибся,— повторил Симон скорее непроизвольно, чем утверждающе.
— Если так,— продолжал Теренций все увереннее,— то, значит, Никий поступает правильно, и никто не имеет права судить его. Учитель Павел знал, что делал, когда посылал его, и осуждать Никия — это все равно что осуждать учителя Павла!
Симон теперь смотрел на Теренция с откровенным страхом. Он сказал еле слышно, скорее самому себе, чем Теренцию:
— А учителя Петр и Иаков.— И он повторил, но уже спрашивая Теренция: — А учителя Петр и Иаков? Ведь Онисим пришел от них!
Теренций пожал плечами и сказал, вставая:
— Этого я не знаю, Симон. Кто я такой, чтобы судить о великих учителях! Я просто думаю, что если учитель Павел послал тебя охранять Никия, как ты говоришь, во что бы то ни стало, то ты должен делать это, не рассуждая.
Он подошел к лошадям и стал отвязывать поводья. Симон приблизился к нему, взялся за стремя. Опираясь на его плечо, Теренций сел в седло.
— Путь неблизкий, мне пора ехать,— произнес он.
Симон взял его лошадь под уздцы:
— Но я должен увидеться с Никием! Ты поможешь мне?
— Меня не будет в Риме несколько дней, но потом... Потом я подумаю, как это лучше сделать. Скажи, где я могу найти тебя?
— Я сам тебя найду,— пообещал Симон, отпуская поводья и отходя в сторону.
Теренций кивнул:
— Тогда прощай! — И тронул лошадь.
— Теренций,— услышал он за спиной голос Симона и, останавливаясь, снова потянул за повод.
Симон подошел. Не глядя на Теренция, сказал:
— Ты не мог бы дать мне несколько монет? Понимаешь...
— Да, да,— пробормотал Теренций, чувствуя, что краснеет, и потянулся к кошелю, висевшему на поясе.
Его рука дрожала, и он долго не мог справиться с застежкой.
Глава третья
Уже несколько недель Никий жил в Афинах, куда он отправился подготовить приезд императора. Нерон устраивал в Афинах состязание кифаредов и сам решил участвовать в нем. Состязание задумывалось как грандиозное празднество, должное в полной мере выявить блистательный талант императора Рима.
Отправляя Никия, Нерон взволнованно говорил:
— Жаль, Никий, что я не родился греком, в этом я тебе завидую.
— Но тогда ты не смог бы стать императором,— с улыбкой заметил Никий.
Нерон махнул рукой:
— Власть не принесла мне счастья, Никий, и уже не принесет никогда. Родись я греком, я стал бы великим кифаредом, столетия спустя обо мне бы слагали песни. Рим холоден и бездушен — только в Греции умеют понимать искусство, ценить красоту поэзии. Нет, Никий, я в самом деле завидую тебе.
— Но не всякий грек становится кифаредом, принцепс. Например, я.
— Я бы стал.
— Но ты и без того великий кифаред,— произнес Никий с поклоном.— Власть заслоняет твой талант, но все равно он велик. Если бы тебе было позволено...
— Если бы мне было позволено...— перебил его Нерон и, вздохнув, продолжил с грустью в голосе: — Все они только мешали мне. Им нужна была власть, а мне — поэзия. Я не хотел, меня заставляли. Я был молод и мало что понимал в жизни. Нет, Никий, я в самом деле завидую тебе.
Все дни своего плаванья (он добирался морем) Никий думал о Нероне. Императора не за что было любить, но он любил его. Теперь не притворяясь — по-настоящему. Но сам не мог понять почему. Может быть, потому, что Нерон представлялся ему ребенком? Он не мог объяснить этого даже самому себе, но видел императора ребенком.
Никий остался, наверное, единственным из близких к Нерону людей, кому нравились занятия императора поэзией, актерским искусством, пением. И совсем не потому, что Нерон делал это хорошо. Нет, он делал это плохо, во всяком случае довольно посредственно. Тут сказалось другое — радость, которую испытывал Нерон, делая это. Настоящая детская радость, присущая только ребенку, который еще не умеет понимать, в каком мире живет. Сам Никий не испытывал этой радости, хотя был значительно моложе Нерона.
Злодейства Нерона казались теперь Никию тоже проявлениями ребенка. Разве ребенок ведает, что творит, когда ломает игрушки, наносит боль своим воспитателям, родителям и слугам?!
Нет, Никий не оправдывал Нерона, он просто чувствовал, что за всем этим нет продуманной хитрости и продуманной жестокости — у него был слишком переменчивый характер, чтобы продумывать свои действия хотя бы на два шага вперед.
Что хотели от молодого императора его мать Агриппина, Афраний Бурр, тот же Сенека? Разве того, чтобы он стал справедливым и мудрым? Совсем нет. Они хотели лишь, чтобы он внешне представлял такового правителя и чтобы народ Рима и сенаторы видели это. Так им казалось спокойнее, так они чувствовали себя надежнее, так им легче было проявлять свою власть, наживаться, пользуясь властью. Они укоряли императора, когда он изображал из себя актера или наездника (Нерон любил участвовать в состязаниях на колесницах и страстно желал получить лавровый венок победителя). Они говорили, что такие выступления не приличествуют его положению, что он теряет уважение подданных, выступая на сцене или в цирке. А он хотел жить, радоваться, а не пребывать куклой. Будучи императором, он хотел жить как частное лицо. Да, это невозможно, но все равно он честнее, чем они все, потому что бескорыстен в своих проявлениях, пусть они даже наивны и смешны.
Сейчас, на состязаниях кифаредов в Афинах, ему уже никто помешать не мог. Нерон очень волновался, послал Никия вперед, чтобы тот тщательно все приготовил, вернее, надзирал за уже шедшими приготовлениями.
Как оказалось, ничего особенного делать не пришлось. Дважды он съездил в театр — там строили специальный помост,— лениво понаблюдал за работами. Один раз был у римского наместника — тот долго и нудно распространялся о своих неустанных деяниях. Так что ничего от Никия не требовалось, но жизнь в Афинах показалась ему более чем приятной. Он был представителем самого императора Рима, а это многое определяло в отношении к нему окружающих. Он и не думал, что в Греции так хорошо относятся к Нерону. Вокруг он слышал разговоры о том, что и Нерон по-особому относится к Греции — обещает снизить налоги, предоставить льготы и все такое прочее.
Когда он проезжал по городу, жители приветствовали его так, будто он сам был императором. Ликование показалось ему столь искренним, что Никий не утерпел, выглянул из носилок и приветственно помахал толпе рукой. При этом он поймал презрительный взгляд центуриона Палибия, сопровождавшего его во главе отряда солдат.
Он сам взял Палибия с собой, чтобы только ощутить собственное над ним превосходство. Кто такой этот Палибий перед ним, посланником и любимцем самого императора Рима? После смерти Афрания Бурра Палибий ушел в тень, ведь он до конца оставался одним из самых близких к Афранию людей. Нерон как-то сказал при Никии, что хочет отправить Палибия и еще нескольких командиров в дальние гарнизоны. Он сказал:
— Даже духа Афрания не должно быть во дворце.
Но неожиданно для императора Никий заступился
за центуриона. И когда Нерон подозрительно на него посмотрел и проговорил, не скрывая неудовольствия:
— Не понимаю, Никий, что тебе в нем? — Никий ответил, покраснев:
— У меня с ним свои счеты, император.
— Счеты? Какие же у тебя с ним могут быть счеты? Кто он такой, этот Палибий! Когда он уберется в провинциальный гарнизон, никто и не вспомнит, что такой существовал когда-то.
— Да, это так,— сказал Никий и, мельком взглянув на Поппею, присутствовавшую при разговоре, опустил глаза.— Позволь, принцепс, сказать правду.
Нерон удивился:
— Правду? Какую правду? Ну, говори.
— Помнишь, когда я сопровождал твою мать, а корабль затонул...
— Помню, корабль затонул, а моя мать вплавь добралась до берега. Что из того?
— Я не об этом, принцепс. Я о том, что центурион Палибий встретил меня на берегу с отрядом солдат. Потом он сопровождал меня в Рим.
— Сопровождал тебя в Рим Палибий. Думаешь, я помню такие вещи? Дальше!
— Зато я хорошо помню. Он смотрел на меня...— Никий помедлил, не решаясь, и наконец с трудом выговорил: — Он смотрел на меня с высокомерием, принцепс, с насмешкой, он смотрел на меня... Нет, не могу объяснить.
— Ты хочешь, чтобы я наказал его? — спросил Нерон.— Ты считаешь его перевод в провинциальный гарнизон недостаточным наказанием? Что ж, я подумаю над этим. Но я не понимаю, Никий, в чем, собственно...
— Он прав,— неожиданно жестко произнесла Поппея,— я понимаю Никия.
— Тогда объясни ты,— Нерон развел руками.— Почему это вы понимаете, а я нет.
— Потому что ты император,— прямо глядя в глаза Нерону, сказала Поппея.— Ты император, и никто не имеет права смотреть на тебя с презрением. Никто на тебя так никогда и не смотрел. А на меня смотрели, и я хорошо понимаю Никия. Но никто не имеет права смотреть так на любимца императора, тем самым подвергая сомнению правильность твоего выбора.
— А-а,— протянул Нерон,— я никогда не думал об этом. Значит, наш Никий тщеславен?
— Он не тщеславен,— отрезала Поппея,— он прав. Он не сказал, что это касается твоей чести, потому что не хотел тебя огорчать. Разве не так, Никий?!
Она не спрашивала, она утверждала. Никий опустил голову и вздохнул.
— Но что же вы хотите? — благодушно заметил Нерон.— Я накажу его, только скажите как.
— Отправь его сопровождать Никия. Поставь Никия над ним, вот и все,— сказала Поппея.
— Хорошо,— кивнул Нерон,— если ты так хочешь.
Никий благодарно посмотрел на Поппею, она чуть усмехнулась понимающе.
Нерон тогда в самом деле вызвал Палибия и в присутствии Никия, косясь на Поппею, приказал центуриону сопровождать своего посланника в Афины.
— Ты хорошо понимаешь, центурион, что такое императорский посланник?
— Да, принцепс! — четко кивнул Палибий.— Это представитель Рима!
— Это мой личный представитель,— надвинулся на него Нерон,— все равно что я сам. Ты понял?!
Палибий снова кивнул:
— Я все понял, принцепс.
Нерон поднял указательный палец, выговорил сердито:
— Так смотри же, Палибий!..
Когда центурион ушел, Нерон вопросительно глянул на Поппею. Она одобрительно кивнула.
Но Никий остался недоволен. Недоволен потому, что Палибий, конечно же, почувствовал, что Никий жаловался на него императору. Он стал предельно исполнителен, подчеркнуто вежлив, но смотрел... Это был все тот же взгляд, и даже более унизительный на фоне четкого исполнения его обязанностей.
Взгляд Палибия время от времени отравлял Никию замечательное пребывание в Афинах. Никий сказал себе, что никоим образом не должен этого обнаруживать, но однажды не сдержался.
То оказался день его триумфа, его посетил сам наместник Рима Юлий Басс. Юлию уже перевалило далеко за пятьдесят, он был уважаем не только здесь, в провинции, но и в Риме. И разговаривал он с Никием как с равным себе. Рассказал о трудностях провинциального управления, поведал о своей тоске по Риму. Короче говоря, может быть, впервые Никий ощутил себя почти значительным лицом, хотя отвечал очень просто и выказывал Юлию Бассу всяческое уважение. Тот уехал довольный, дружески распрощавшись с Никием.
Никий был почти счастлив, ему хотелось высказать хоть кому-то, что он чувствует. Но поговорить оказалось не с кем, и он вызвал Палибия. Тот явился, четко доложил, что все в порядке, караулы расставлены, солдаты здоровы... Никий прервал его, предложил сесть. Тот опустился на краешек кресла — сидел прямой, официальный, неприступный.
— Как тебе понравился наместник? — спросил Ни-кий самым дружеским тоном и сделал рукой жест, приглашая Палибия расслабиться.
Но тот остался сидеть столь же прямо, холодно и неподвижно глядя на Никия. Унизительно-неподвижно, это Никий почувствовал остро.
— Я спросил тебя. Отвечай! — Никий не смог сдержать раздражения.
— Слушаюсь! — отчеканил Палибий и спросил: — Ты хочешь знать мое мнение о наместнике?
— Да, я хочу знать твое мнение!
— Он патриций, значительное лицо, он представляет в провинции императорскую власть. Пожалуй, это все, что я могу сказать на его счет. Я всего-навсего солдат.
— Та-ак! — Никий встал. Палибий тут же поднялся следом.— А какого ты мнения обо мне, Палибий? Может быть, ты выскажешь мне его наконец открыто!
— Мое мнение о тебе совпадает с мнением императора Нерона! — четко выговорил Палибий.— И я готов выполнить все, что ты прикажешь. Приказывай!
— Уходи! — сквозь зубы процедил Никий.
Палибий поклонился, круто развернулся и, четко печатая шаг, вышел.
Никий опустился в кресло, закрыл ладонями лицо. Ему хотелось плакать, он чувствовал себя бессильным, униженным. Впервые за долгое время он вспомнил учителя Павла. Тот был строг, но никогда Никий не ощущал себя униженным. Теперь учитель умер. Когда Никий получил известие о его смерти, он принял это спокойно, неожиданно спокойно. Он даже сумел заставить себя не думать об учителе, и это получилось на удивление легко. Тогда.
Сейчас он вспомнил его так, будто только что узнал о его смерти. Щемящая тоска наполнила все его существо. Ему жаль было учителя и одновременно жаль самого себя. Учитель бросил его, послал в этот ненавистный Рим и бросил. Бросил, чтобы какой-то Палибий мог унижать его. А разве Никий совершил что-нибудь такое, что не понравилось бы учителю? Нет, Никий делал именно то, чего от него хотели. Он расправлялся с врагами Рима — с Агриппиной, с Афранием Бурром. Он готов был убить их всех... Так хотел учитель, а значит, так хотел Бог!
Никий медленно поднял голову, посмотрел вверх --потолок украшала замысловатая лепнина. Он хотел обратиться к Богу, но не смог — мешала лепнина. Потолок закрывал от него Бога.
— Этого не может быть,— едва слышно выговорил он и по какой-то непонятной ему связи вспомнил о Нероне.— Я люблю его.
Проговорив это, он испугался. Что-то опасно смешалось в его сознании, и он не мог понять, кому предназначались эти слова — Богу или Нерону.
— Я люблю его! — повторил Никий плачущим голосом и без сил сполз с кресла на пол.
Глава четвертая
Еще там, в Афинах, ему стал сниться один и тот же сон: пришествие учителя Павла. Сон был очень простым и очень страшным. Над постелью вставал Павел и что-то говорил Никию. Голос звучал ровно, ясно, Никий отчетливо слышал произносимое. Потом Павел исчезал, а Никий просыпался. Он не вскакивал в страхе, не обливался холодным потом, не кричал. Он просто открывал глаза, смотрел в потолок и пытался вспомнить то, о чем говорил Павел. Пытался и — не мог. И это при том, что знал: он слышал и понимал сказанное Павлом.
Если позволяли обстоятельства, он лежал в постели часами, неподвижно глядя в потолок. Входившие слуги смотрели на него со страхом — Никий казался мертвым.
Он так и не вспомнил ни одного слова Павла, и иногда ему казалось, что он уже сошел с ума. Он просил Павла не приходить, но тот неизменно являлся и говорил. Никий возносил молитву к Богу, но и Бог не желал ему помогать. Сон этот измучил Никия, и к приезду Нерона он чувствовал себя так, будто встал после тяжелой болезни. Смертельной.
Нерон въехал в Афины с необыкновенной торжественностью. Его сопровождало множество богато разукрашенных колесниц. На первой стояли он и Поппея. На голове Нерона красовался лавровый венок. Поппея была одета, как царица. Император приветствовал радостно бесновавшуюся возле них толпу. Поппея смотрела поверх голов, неподвижно, надменно, и походила на статую.
Торжественная встреча продолжалась слишком долго. Никий так устал, что видел перед собой лишь разноцветное мелькание. Наконец Нерон вошел в отведенные для него покои дома наместника, а уже через короткое время Никию сообщили, что император ждет его.
Нерон пребывал в хорошем настроении и радостно обнял Никия. В лице императора не заметно было даже следов усталости, напротив, он казался бодр, как никогда.
— Рад тебя видёть, Никий. Ты как будто бы не очень доволен. Тебя плохо приняли в Афинах? Ну, что же ты молчишь?
— Нет, принцепс, я счастлив видеть тебя. Просто я...
Никий не успел договорить, вошла Поппея. Теперь на ней было легкое платье без украшений, что еще больше подчеркивало бледность лица.
— Просто он устал,— сказала она еще с порога, недовольно глядя на Нерона.— Мне кажется, праздник вышел слишком затянутым. Ты так не считаешь, Нерон?
— Он только начинается, дорогая Поппея,— благодушно ответил тот.— Мне кажется, все прошло замечательно. А как народ радовался моему приезду! Нашему приезду,— поправился он, перехватив взгляд Поппеи.
— Твоему,— сказала она,— твоему приезду. Но ты уже не мальчик, Нерон, чтобы не понимать...
— Что? Что я должен понимать?! — запальчиво прервал ее он.
— Что радость толпы ничего не значит,— спокойно продолжила она.— Сегодня толпа кричит «да здравствует», а завтра крикнет «долой». Причем с тем же рвением.
— Но будь справедлива, Поппея,— примирительно выговорил Нерон,— пока они не кричат «долой».
— Император не должен возбуждать собой толпу. Народ не должен радоваться, что ты управляешь им, он должен знать это. Человек радуется лакомству, но никому в голову не придет радоваться хлебу, который он ест каждый день.
— Ты считаешь, что я лакомство? — спросил Нерон, хитро взглянув на Никия.— Что ж, не вижу в этом ничего плохого.
Поппея осуждающе покачала головой:
— Когда лакомство надоедает, человек не может не только есть его, но и видеть. Или ты не понимаешь, о чем я говорю?
Нерон подошел, обнял ее за плечи:
— Успокойся, Поппея, позволь мне побыть лакомством здесь, в Афинах. В Риме я обещаю тебе стать хлебом. Ну, ты позволяешь мне?
Она недовольно передернула плечами, отошла в сторону. Нерон подмигнул Никию:
— Видишь, Никий, что значит быть женатым человеком. Императору достается от жены так же, как и простому смертному.
— Я тебе не жена! — глухо проговорила Поппея.
— Ну что ты, дорогая,— Нерон снова попытался ее обнять,— ты мне больше чем жена.
— Я не хочу быть больше,— зло бросила Поппея и, держа спину прямо, вышла в дверь, гулко хлопнув ею.
Нерон развел руками:
— Вот видишь...— Он вздохнул.— Или ты тоже считаешь, Никий, что она права?
— Я думаю, что она любит тебя,— осторожно произнес Никий.
— Любит? Вот как! — насмешливо и удивленно бросил Нерон и тут же отвернулся.— Ну ладно, увидимся на пиру. Иди.
Эта насмешливость Нерона более всего поразила Никия. Казалось бы, совершенный пустяк, но Никий почувствовал, что дни Поппеи сочтены. Возможно, не сейчас, возможно, много позже, но это обязательно произойдет — Нерон сломает любимую игрушку, отбросит лакомство, которое ему надоест.
Во время пира Нерон был весел, а Поппея строга. Она натянуто улыбалась лишь в тех случаях, когда гости поднимали чаши за ее здоровье. Она вскоре ушла — сказавшись уставшей. Никию почудилось, что, уходя, она особым образом на него посмотрела, как бы приглашая последовать за собой. Он истолковал ее взгляд очень определенно и испугался. Опустил глаза, сделал вид, что ничего не понял. И досидел до конца. Не пил, а только изображал питье.
Впрочем, и гости, и сам император ничего не изображали, вскоре речи сделались бессвязными, вино поминутно проливалось из дрожавших в руках чаш. Наконец слуги стали уносить задремавших гостей. Император держался едва ли не дольше всех — смотрел перед собой осоловевшими глазами, что-то несвязно бормоча. Слуги стояли в нерешительности и взялись за него лишь тогда, когда голова императора окончательно упала на подушки.
Никий выпил мало, но все равно, возвращаясь туда, где жил (этот дом находился в нескольких кварталах от резиденции наместника, в которой остановился император), чувствовал сонливость и неприятное сжатие в голове.
Раздевшись с помощью слуг, он упал на ложе и тотчас уснул. Проспав некоторое время, он вдруг ощу-тил безотчетную тревогу и открыл глаза. И тут же, вскрикнув, вжался в подушку затылком. Над ним склонилось женское лицо, внимательно и строго на него глядя. При слабом мерцании светильника (Никий боялся полной темноты) он не сразу узнал Поппею.
— Не удивляйся, Никий, это я,— произнесла она необычайно мягко, что никак не вязалось со строгостью ее лица.
— Ты? — Никий все никак не мог преодолеть испуг.— Но как же?..
Он хотел подняться и уже сделал движение, пытаясь опереться на руки, но Поппея сказала:
— Нет, лежи,— и положила ему руку на грудь.
Он вздрогнул от ее нежного прикосновения, но невольно посмотрел за ее спину, на дверь. Она поняла его взгляд, сказала, улыбнувшись:
— Да, слуги видели меня, не могли не видеть.
— Но тогда...— Никий не скрывал испуга, но уже по другому поводу.
— Думаю, они будут молчать. По крайней мере, мы не в Риме, где стены имеют уши, а каждый слуга — шпион наших врагов. Они, конечно, заговорят, но пока это дойдет до тех, кто может повредить нам...— она грустно усмехнулась,— будем ли мы еще жить в то время!
— Что ты имеешь в виду, я не понимаю?
— Я имею в виду, Никий, то, что мы единственные в окружении Нерона, кто может помочь друг другу. Ну, и ему, разумеется.
Последнее она произнесла с нескрываемым презрением.
Никий находился в замешательстве. Рука Поппеи все еще лежала у него на груди — ему было и приятно, и страшно, он ничего не понимал.
— А Нерон? — спросил он первое, что пришло в голову, чтобы только не длить тревожное молчание.
— Он спит, ты же знаешь. У нас есть время до утра.
— Но, Поппея, послушай,— умоляюще заговорил он,— мы не должны... Я не знаю, но ты сама обязана понять...
Она спокойно и чуть насмешливо смотрела на него: не насмешливо-презрительно, а насмешливо-любовно. Он так и не сумел закончить фразы, а Поппея, переждав, вдруг спросила:
— Скажи, я нравлюсь тебе?
— Ты? — глупо переспросил он, не зная, что ответить.
— Я, Никий, я.
— Да, Поппея, конечно, ты нравишься мне.
— И ты хотел бы быть со мной?
— Ты спрашиваешь? — вдруг произнес он, задышав часто; рука Поппеи еще плотнее прижалась к его груди.
— Нет, я знаю, я просто хотела услышать это от тебя.
— Зачем?
Она удивленно подняла брови:
— Потому что я женщина.
Никий не нашелся с ответом, но его рука, медленно поднявшись, накрыла руку Поппеи. И в то же мгновенье Поппея резко перевернула руку ладонью вверх и схватила Никия. Ее пальцы переплелись с его, она шепнула:
— Подвинься,— и легла рядом, дыша ему в ухо.
Он боялся пошевелиться, лежал напряженный. Она сказала, коснувшись влажными губами его щеки:
— Люби меня, Никий. Это уже не имеет... не имеет никакого значения.
Он не успел спросить, о каком значении она говорит. Поппея порывисто обняла его, он почувствовал теплоту и упругость ее бедра, трепет груди, горячее прикосновение губ.
Поппея не была столь же умелой любовницей, как Агриппина. Но в ней нашлось другое — она умела подчиниться. Особым образом сделаться слабой в руках мужчины. Тут не в удовлетворении было дело, а в ощущении силы, которое она давала.
— Ты любишь, любишь, любишь меня! — говорил он задыхаясь, сам не сознавая того, что не спрашивал, а утверждал.
Она не отвечала, лишь дыхание ее, казалось, делалось еще горячее. Оно обжигало, как огонь, и хотелось и укротить этот огонь, и сгореть в нем одновременно.
Потом она поднялась, села рядом и сказала так спокойно, будто все это время они рассудительно беседовали:
— Я хотела сказать тебе, Никий, что мы должны быть вместе.
Он потянулся к ней, горячо выговорил:
— Да, да, навсегда!
Поппея мягко, но уверенно отстранила его руку:
— Я не об этом.
— Не об этом? Но я...
— Ты любишь меня, я знаю,— сказала она, кивнув.— Но я хочу, чтобы ты понял другое, главное.
— Главное? Что главное? Что, что, Поппея?
— Успокойся, Никий, умей держать себя в руках. Главное заключается не в любви, а во власти. Ты же знаешь, что мы погибнем, если не достигнем полной власти, абсолютной. Ты понимаешь меня, абсолютной!
— Что ты говоришь, Поппея?! — вскричал Никий.
— Не надо так громко,— усмехнулась она,— В нашем положении о таком говорят шепотом. Ты понимаешь, Никий?
— Нет, нет! — Он замахал руками, но произнес все же едва слышно.— Я не хочу слышать об этом, Поппея!
— У тебя нет выхода. Сегодня Нерон любит нас, а завтра сдует, как пыль с пальцев. Не мне тебе объяснять, что мы значим при дворце. Ничего не значим, Никий! Или власть, или... Или у нас нет будущего. Ты думаешь, я стала бы рисковать сегодня, если бы думала иначе!
— Так, значит, ты... значит, ты...— начал было Никий с обидой, но она резко оборвала его:
— Перестань! Будь наконец мужчиной! Если мы умрем, то и любви никакой не будет. Ты хочешь меня любить — люби. Но если любовь для тебя есть это кувыркание в постели...
— Но, Поппея!..
— Да,— упрямо выговорила она, как бы отвечая самой себе,— сначала власть, потом жизнь, а потом любовь.
Он ничего не ответил, он чувствовал, что не может противиться ей, и сам не понимал почему. Некоторое время она неподвижно смотрела на него. Когда заговорила, голос ее звучал жестко и неумолимо, как приказ:
— Теперь слушай меня внимательно. Скоро рассвет, и мне нужно возвратиться. У нас мало времени — слушай и не перебивай. Нерон не может иметь детей, а ему нужен ребенок. Я рожу ему сына, и ты поможешь мне.
Она сделала паузу, пристально и строго на него глядя, и он выдохнул:
— Как?
— Разве ты не знаешь, как делаются дети? — проговорила она без улыбки.— Ты молод, силен, у тебя это хорошо получится. Может быть, достаточно будет и сегодняшней ночи. Если нет, мы станем делать это еще и еще. Ты готов?
— Но я не понимаю, Поппея! — воскликнул он едва ли не жалобно.
— Все очень просто: мне нужно родить ребенка и стать женой Нерона. Ты должен помочь мне в двух вещах. В этом,— она положила ладонь на свой живот,— и еще в одном — нужно убрать Октавию.
— Жену императора? — выговорил он в страхе.
— Да, жену императора, Октавию. Не понимаю, что тебя удивляет? — Она проговорила это так просто, будто речь шла о чем-то самом обыденном.— Ведь ты сумел убрать Агриппину, чем же жена императора лучше его матери?
— Но, Поппея!..— Он умоляюще протянул к ней руку.
Она холодно отстранилась, произнесла, поморщившись:
— Что тебя смущает?
— Тогда было другое.— Никий прерывисто вздохнул.— Тогда он сам хотел. Нерон хотел этого сам — ты понимаешь меня, сам!
Она кивнула:
— Очень хорошо понимаю, успокойся. Октавию и не нужно будет убивать из-за угла, Нерон сам прикажет тебе покончить с нею.
— Он? Сам? — сдавленно выговорил Никий.
— Да, я уже предприняла кое-какие шаги.
— Ты сказала ему, чтобы он?..
— Нет, нет.— Она отрицательно помахала рукой.— Я не сказала ему об этом ни слова, неужто ты считаешь меня такой наивной? Все произойдет помимо меня. Когда мы вернемся в Рим, там начнутся народные волнения. Толпа будет требовать изгнать меня и восстановить Октавию в ее правах. Плебеи станут разбивать мои статуи и ставить на их место статуи Октавии. Так что все случится само собой, и Нерону придется выбирать между мной и Октавией. Понятно, что он выберет меня.
— Но откуда ты можешь знать?
— Что он выберет меня?
— Нет.— Никий проговорил это раздраженно, сердясь почему-то более на самого себя, чем на Поппею.— Я спрашиваю о народных волнениях. Откуда ты можешь знать, что они...
— Что они произойдут,— договорила она.— Так ведь я сама их и вызвала. Поверь, пришлось очень много заплатить.
— За что заплатить?
— Как за что? За то, чтобы люди кричали: «Долой проклятую Поппею! Смерть Поппее! Да здравствует Октавия!» Ну и все в том же роде, разве ты не понимаешь?!
— Значит, ты сама...
— Ну конечно, сама. Кто же еще будет делать это вместо меня?
Они помолчали. Потом Никий осторожно спросил:
— А если Нерон?..
Она резко ответила:
— Это моя забота, Никий. Ты делай свое дело, а я буду делать свое. Он выберет меня, не беспокойся. Но я хочу, чтобы ты сделал все быстро и надежно, когда Нерон прикажет тебе.
— О чем ты?
Глядя на него с прищуром, она выговорила едва ли не с угрозой:
— Я хочу, чтобы с Октавией не случилось того, что в первый раз случилось с Агриппиной. Чтобы она не выплыла и чтобы весло, которым ты будешь замахиваться, раскололо ей голову надвое. Впрочем, это я так, для примера, ты, надеюсь, придумаешь что-нибудь получше, чем дурацкое кораблекрушение.
— Ну, хорошо,— горячо зашептал Никий, приподнявшись на локтях,— ты сделаешь это...
— Ты сделаешь это,— ткнув в его сторону пальцем, поправила Поппея.
Он несколько раз нетерпеливо вздохнул:
— Когда это будет сделано и ты станешь женой — что тогда? Неужели ты думаешь, что ребенок привяжет Нерона настолько, что он...
Она с лукавой улыбкой отрицательно покачала головой, и Никий прервался на полуслове.
— Нет, я так не думаю,— пояснила Поппея,— это было бы слишком глупо. А я, как ты видишь, совсем не глупа.
Никий хотел сказать: «Зато страшна», но сдержался.
— Сначала необходимо стать женой,— продолжила она,— без этого ничего не получится.
— Что не получится? — спросил он, подавшись к ней: не зная еще, чувствовал, что она сейчас ответит.
— Все! — проговорила она, усмехнувшись его наивности.— Я получу все.— И, помолчав, добавила: — И ты тоже, Никий, ты тоже.
— Но как? — выдохнул он, уже поняв.
Она улыбнулась беззаботно:
— Так же, как мать Нерона, Агриппина. Сначала она заставила императора Клавдия жениться на себе, потом усыновить Нерона, а потом...— Поппея помедлила, как бы сомневаясь, договаривать все до конца или нет, и наконец сказала: — Всегда найдется вкусное грибное блюдо. Кстати, несмотря на случившееся с Клавдием, Нерон очень любит грибы. Правда, он беззаботен, как ребенок. В Риме не придумаешь ничего нового, все уже пройдено, а нам с тобой нужно только повторить этот пройденный путь.
— А я? — сам не зная зачем (наверное, от растерянности), спросил Никий.— Что ты придумаешь для меня?
— Уже придумала. Что ты скажешь о командовании преторианскими гвардейцами? Надеюсь, тебе понравится. Но об этом мы поговорим позже. А сейчас делай то, что ты должен делать.
— Что? Что я должен?
Поппея похлопала себя ладонью по животу:
— Делай ребенка для Нерона, вот что! — со смехом воскликнула она и улеглась рядом с Никием, широко расставив ноги и согнув их в коленях.
Никий не сумел отказаться, но, занимаясь тем, что требовала Поппея, он не ощущал в себе ни сил, ни желания, вспотел и все никак не мог закончить начатое.
Глава пятая
Уже въехав во владения Аннея Сенеки и увидев своего бывшего господина, Теренций остановился и долго смотрел, не в силах заставить себя двинуться дальше. Его охватило волнение, смешанное со страхом. Волнение было понятным (все-таки он прожил здесь долгие и, возможно, лучшие годы), страх — нет. Но чем дольше он смотрел на дом, тем больший его ох-ватывал страх. В какую-то минуту он даже хотел повернуть лошадь и вернуться в Рим. Он чувствовал, что напрасно приехал, что с этим что-то связано — опасное, смертельно опасное.
Наконец, упрекнув себя в малодушии, он все-таки направил лошадь вперед. Он еще только подъезжал к ограде двора, когда его окликнул человек, стоявший у одной из колонн крыльца:
— Это ты, Теренций?
Теренций пригляделся и узнал Крипса, одного из своих бывших помощников. Тот подбежал, радостно улыбаясь, одной рукой взялся за повод, другой за стремя. Теренций тяжело спрыгнул на землю.
— Думал, что уже никогда не увижу тебя, Теренций,— улыбаясь, проговорил Крипе и, протянув руку, дотронулся до одежды Теренция, как бы желая проверить, не ошибается ли он.— Ты совсем забыл нас. Конечно, теперь ты живешь в Риме, что тебе за дело до нас, деревенских.
Теренций грустно покачал головой:
— Что ты, Крипе, ты не знаешь Рима! Лучше бы я провел остаток жизни здесь, с вами.
Так они беседовали, пока Крипе вел лошадей на конюшню, расседлывал их. Крипе жаловался, что из старых слуг почти никого не осталось, а молодые заносчивы и нерадивы, только и знают, как стянуть что-нибудь, поесть да поспать, а до работы им нет никакого дела. Теперь никто не уважает стариков, как это было раньше,— молодые думают, что они знают все уже от рождения.
Теренций спросил, почему же хозяин не отпустит Крипса на покой. Крипе ответил, что несколько раз просил хозяина об этом, но тот сказал, что они должны уйти вместе.
— Он так и сказал мне,— добавил Крипе, говоря об этом не без удовольствия.— Ты да Теренций, больше никого не осталось. Теренций далеко, значит, мы должны уйти вместе с тобой. И еще он сказал: «Ты же знаешь, Крипе, молодые слуги уморят меня раньше времени, они никогда не научатся тому, что умеешь ты». Так он сказал мне. Как ты думаешь, разве мог я просить его отпустить меня после таких слов!
Теренций подтвердил, что после таких слов уже никуда не уйдешь.
Крипе сказал, что доложит о его приезде хозяину. Теренций снова почувствовал испуг, проговорил тревожно:
— Нет, нет, не надо!
— Как,— удивился Крипе,— почему? Он не раз вспоминал о тебе, Теренций.
— Видишь ли, я не хотел бы его беспокоить.
— Да что ты,— Крипе энергично всплеснул руками,— хозяин будет рад тебя видеть. Пойдем!
И, несмотря на сопротивление Теренция (надо заметить, довольно вялое), он увлек его к дому.
Анней Сенека встретил Теренция, сидя в своем кресле у стола. В первое мгновение Теренцию показалось, что он вообще никуда и никогда не уезжал, а просто явился на зов хозяина: та же комната, то же кресло, те же бумаги на столе. И Сенека был тем же, впрочем, пока не повернулся к Теренцию лицом. Нельзя сказать, чтобы Теренций не узнал хозяина (да и виделись они не так уж давно), но тот явно постарел, или, правильнее, одряхлел. Щеки обвисли, веки с красным ободком, в глазах старческий блеск. Он улыбнулся Теренцию, раздвинув тонкие бескровные губы.
— Рад видеть тебя, мой Теренций,— проговорил он привычно-насмешливо.— Вижу, ты не радуешь друзей своими посещениями. Наверное, совсем забыл меня. А скажи, в Риме уже не помнят, кто такой Анней Сенека?
Теренций смущенно молчал, а когда хозяин указал ему на кресло, покраснел.
— Садись, садись, Теренций,— подтвердил Сенека.— Ко мне теперь мало кто приезжает. Ну, расскажи, как дела в Риме.
Теренций присел на краешек кресла — он чувствовал себя очень стесненно, не знал, что отвечать. Впрочем, Сенека не стал мучить его расспросами, еще раз заверил, что рад приезду Теренция, и отпустил, пообещав встретиться завтра.
Хотя было заметно, что хозяин искренне обрадовался его приезду, Теренций ощутил облегчение, покинув кабинет Сенеки. Крипе показал ему комнату, поговорил еще некоторое время о том о сем и ушел к себе. А Теренций лег, закрыл глаза, но долго не мог уснуть, несмотря на то что устал с дороги и чувствовал себя совершенно разбитым. Все ему вспоминалось лицо хозяина и накатывала безотчетная тревога. Он был опытным слугой и хорошо разбирался в настроениях господ. Лучше, чем они могли себе представить, включая даже такого мудрого и хитрого царедворца, каким был Анней Сенека.
Ворочаясь с боку на бок, Теренций говорил себе, что здесь что-то не так, что радость Сенеки имела другую причину, помимо приезда Теренция. То есть и приезд тоже, но это не главное. Он вздохнул, сейчас по-настоящему горько пожалев, что приехал сюда. Заснул он только под утро, но спал крепко, без сновидений.
До полудня Теренций бесцельно шатался по дому. Крипе оказался весь в делах и не мог уделить ему времени. Из старых слуг никого не осталось, а новые смотрели на него подозрительно и высокомерно. Никакого ощущения родных мест — чтобы пробудить это чувство, он сюда и приехал — не было, а была лишь тревога и сожаление по поводу совершенной ошибки. Больше всего ему хотелось уехать, но как это сделать, он не знал.
В полдень Сенека прислал за ним, пригласил погулять вместе. Они дошли до памятной оливковой рощи, беседуя о разных пустяках. Сенека говорил сам, спрашивал, Теренций отвечал односложно. Он все никак не мог избавиться от внутреннего напряжения — со страхом ждал, что хозяин вот-вот заговорит о главном. Время от времени он, правда, пытался убедить себя, что его страхи ни на чем не основаны, что ничего «главного» ему Сенека говорить не будет, что старику просто скучно и он рад поболтать со своим старым слугой. Но попытки эти ни к чему не приводили, и в конце концов напряжение внутри него сделалось столь сильным, что ему стало трудно дышать.
Сенека заметил это, спросил с участием:
— Ты плохо себя чувствуешь, Теренций? Может быть, лучше вернуться в дом?
У Теренция перехватило горло. Он отрицательно замахал руками, выговаривая с натугой:
— Нет, нет, мой господин, все уже прошло!
— Тогда давай посидим у реки,— Сенека указал на два пня, один возле другого,— это мое место.
Теренций вспомнил: Сенека и в самом деле когда-то любил отдыхать здесь. Они сели. В этот раз Теренций не заставил себя уговаривать, к тому же и ноги держали плохо.
Сенека долго смотрел на воду, прежде чем заговорить. Когда начал, в его голосе Теренций с удивлением заметил некую натянутость. «Вот оно, началось!» — тревожно мелькнуло у него.
— Скажи, Теренций,— проговорил Сенека, все так же глядя вдаль,— тебе нравятся порядки в Риме? Я имею в виду императора Нерона и его окружение.
Теренций испуганно молчал, дышать снова стало трудно, с левой стороны груди возникла тупая боль.
— Вот и я думаю, что порядки в Риме никуда не годятся,— произнес Сенека так, будто Теренций ответил утвердительно.— Правы те, кто называет Нерона чудовищем. Не представляешь, как мне стыдно, что я когда-то был его учителем. Но, как видно, чудовищами рождаются, а не становятся, просто тогда я этого не заметил. Ну что, Теренций, скажи, что ты думаешь об этом?
— Я не знаю, мой господин,— сдавленно выговорил Теренций и неровно вздохнул.— Я всего лишь слуга, что я могу понимать в таких делах?
Сенека резко повернул голову и строго посмотрел на Теренция.
— Не лукавь, мой Теренций, ты понимаешь в таких делах не хуже моего, а видишь, может быть, даже лучше. Тем более что находишься рядом. Ведь наш Никий, как мне известно, теперь самый близкий к Нерону человек. Так? Если я ошибаюсь, поправь меня.
— Я редко бываю во дворце,— пожал плечами Теренций,— тебе виднее, мой господин.
— Послушай, Теренций,— голос Сенеки гневно дрогнул,— мы уже много лет знаем друг друга. То, что я был твоим господином, а ты моим слугой, сейчас не имеет никакого значения. Ты прекрасно понимаешь, что я завел этот разговор не от скуки. Мне слишком мало осталось жить, чтобы тратить время на пустую болтовню. У меня к тебе дело, и дело очень важное. Разговор идет о благополучии Рима. Мне самому, как ты понимаешь, уже ничего не надо, но я не хочу умереть, оставив чудовище у власти. Я сам в том повинен и хочу исправить ошибку. Скажи, могу я тебе довериться или нет? Отвечай прямо. Если скажешь «нет», будем считать, что никакого разговора между нами не было. Ну, отвечай: могу я тебе довериться или не могу — «да» или «нет»?
Кто бы знал, как Теренцию хотелось ответить «нет»! Даже не ответить, крикнуть это срывающимся от страха голосом. Крикнуть, вскочить и убежать и больше никогда, никогда сюда не возвращаться. Но тяжелый взгляд Сенеки давил на него как железная плита, и он выдохнул, только чтобы прекратилось это давление — он не мог выносить его больше:
— Да, можешь, мой господин, да!
Сенека облегченно вздохнул, сказал (в голосе еще чувствовалось напряжение):
— Я благодарен богам, что не ошибся в тебе, мой Теренций.
Теренций смотрел на Сенеку, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. Боль в левой стороне груди еще усилилась, в горле встал непроглатываемый комок. Когда Сенека заговорил, его голос донесся до Теренция будто бы издалека, глухо, едва слышно. Многое он угадывал лишь по движениям губ. Но и то, что он понял, было страшно.
Сенека говорил о том, что лучшие люди Рима — и сенаторы, и всадники, и плебеи, и вольноотпущенники, и даже рабы (последнее он подчеркнул особо: «Ты слышишь, даже рабы, Теренций!») — больше не хотят, чтобы страной управляло чудовище, и готовы положить свои жизни, чтобы избавить народ от него. Заговор против чудовища проник во все слои римского общества, объединил всех, независимо от родовитости, положения и богатства. Нельзя жить в стране, где так бессовестно попираются законы.
Он довольно долго говорил в этом роде, заметно волнуясь. Даже румянец окрасил его старческие щеки, а глаза заблестели решимостью. Еще никогда Теренций не видел его таким, и если бы не собственный страх, то он в самом деле залюбовался бы Сенекой.
Тот остановил свою речь внезапно, едва ли не на полуслове. Посмотрел на Теренция так, будто только что заметил его. Сказал с грустью:
— Я старею, мой Теренций, я стал заговариваться, сказал тебе больше, чем нужно. Впрочем, это уже не имеет значения. Слушай меня внимательно — ты должен помочь в деле избавления от чудовища и можешь сыграть здесь не последнюю роль. Ты понимаешь меня, не последнюю,— в подтверждение значительности своих слов он поднял указательный палец.
Теренций утвердительно кивнул — сам не понял, как это получилось, просто комок мешал в горле, и он все никак не мог его проглотить.
— Хорошо,— одобрительно произнес Сенека.— Вот что ты должен сделать.
«Я ничего не буду делать, я не хочу!» — едва не крикнул Теренций, но не крикнул, а только вздохнул.
Сенека истолковал его вздох по-своему:
— Понимаю, что есть опасность, в таких делах она есть всегда. Ты идешь на опасное дело, Теренций, и я горжусь тобой. Мне трудно говорить тебе о Никии, но он для меня теперь то же самое, что и Нерон: если не чудовище, то уж слуга чудовища по крайней мере. К тому же добровольный слуга. Итак, Теренций, ты понимаешь, что Никий должен умереть? Скажи, ты понимаешь это?
И Теренций ответил:
— Да.
Сенека вдруг посмотрел на него с некоторым сомнением и повторил вопрос:
— Так ты понимаешь это?
И Теренций опять сказал:
— Да.
— Хорошо, тогда вот что.— Тон Сенеки стал холодным и деловитым.— Ты знаешь центуриона Палибия? — Теренций кивнул.— Отдашь ему несколько моих посланий. Он передаст их тому, для кого они предназначены. Я хотел переправить их другим путем, но у меня не было верного человека, а тебе я безоговорочно верю, Теренций. Так вот, ты передашь ему мои послания и будешь подчиняться центуриону, он сам скажет тебе, что делать и когда.
— Что делать? — не выдержав, слабым голосом спросил Теренций.
Сенека холодно усмехнулся (еще без презрения, но уже с очевидной холодностью):
— Не беспокойся, Теренций, тебе не придется убивать Никия, это сделают другие. Ты только проведешь нужных людей к нему, когда тебе об этом скажет Палибий. Вот, собственно, и все.— Он встал. Теренций поднялся тоже.— Ты можешь ехать. Лучше всего прямо сейчас. Сколько дней тебе разрешил отсутствовать Никий?
— Не... не знаю... несколько.
— Скажешь ему, что тебе стало скучно, что родные места тебя не взволновали, что Сенека совсем одряхлел... Ну, придумаешь, что сказать. Мои послания уже готовы, поезжай сейчас же.
И, больше ничего не добавив, Сенека повернулся и пошел к дому. Теренций побрел следом, обреченно глядя в его спину, которая теперь уже не казалась ему такой сутулой.
Час спустя, сопутствуемый причитаниями Крипса, Теренций выехал из усадьбы Сенеки и направил лошадей в сторону дороги, ведущей в Рим. На душе у него было тяжело. Так, как никогда прежде. Он думал о том, как же несчастливо сложилась его судьба: дорога в Рим неизменно оказывалась дорогой несчастья. Чем он заслужил такую немилость богов, или Бога, как говорят христиане! Он поднял голову, посмотрел на пасмурное небо и тяжело вздохнул.
На полдороге, остановившись передохнуть, он вытащил свитки, которые дал ему Сенека, и положил перед собой на траву. Один из них показался ему плохо запечатанным. Он поднял его, внимательно осмотрел и, чуть согнув, аккуратно сдернул печать, развернул, настороженно оглядевшись по сторонам. Сверху было написано: «Гаю Пизону. Привет».
— Гай Пизон,— повторил он вслух и, не продолжив чтения, опять свернул свиток и наложил печать на прежнее место.
Он еще не добрался до Рима, когда стало темно. Дорога была пустынной, темнота казалась кромешной, но страха Теренций не ощущал. Больше всего ему хотелось сейчас, чтобы из кустов, растущих вдоль дороги, выскочил Симон их Эдессы и схватил бы сильной рукой повод его коня.
Глава шестая
Афинские выступления Нерона прошли самым наилучшим образом. По крайней мере, для него самого. Более радостным Никий не видел его еще никогда. Он выходил на сцену, пел, читал монологи, принимал лавровые венки победителя, которыми его награждали устроители, а потом спрашивал у Никия с почти безумным от возбуждения лицом:
— Не правда ли, помпезно?!
Что это должно было означать в точности, Никий не очень понимал, но, искренне радуясь за Нерона, отвечал, сладко прикрыв глаза:
— Это божественно, принцепс!
Не в силах бороться с чувствами, император бросался к Никию, обнимал его, прижимал к себе с такой силой, что причинял боль.
После ночи, проведенной у Никия, Поппея стала вести себя по-другому. Холодность больше не появлялась на ее лице, она перестала быть похожей на статую и принимала радость Нерона со всем доступным ей участием. То есть тоже, как и Никий, восхищалась его игрой, радовалась его радости, вполне соответствовала его собственному настроению.
— Я люблю вас, я люблю вас! — восклицал Нерон, одной рукой обнимая Поппею, а другой — Никия.
Никий и сам по-настоящему заразился радостью Нерона и мог бы ощущать себя вполне счастливым, если бы не взгляд Поппеи, который она время от времени обращала на него. Это был взгляд заговорщицы, и он гасил счастье так, как если бы на огонь плеснули воду.
Это стало первой неприятностью, а второй — то обязательство, которое наложила на него Поппея и которое он начал исполнять еще в ночь их первой близости. Как всякий человек, испытывающий огромную радость, Нерон оставался слеп и беззаботен, и найти время для исполнения этого самого обязательства не составляло особого труда. Впрочем, оно и не требовало много времени. Поппея легко его находила. То Нерон готовился к выступлению, то отдыхал после него. Поппея являлась так внезапно, будто вырастала из-под земли, брала Никия за руку, шептала: «Пойдем» — и увлекала его в какой-нибудь темный угол. Не заботилась о том, чтобы там была постель, вообще ни о чем таком не заботилась. Они делали это стоя, сидя, очень редко лежа (просто потому, что лежать было негде). Сначала Никий так смущался, что не мог себя настроить, и свидание длилось значительно дольше, чем того требовала осторожность. Потом все пошло легче. Тем более что Никий понял: чем быстрее он исполнит то, что она хочет, тем быстрее освободится. Поппея шептала успокоительно: «Ничего, Никий, как только я забеременею, я оставлю тебя в покое, а сейчас постарайся. Ну! Ну!» И он старался, и временами даже чувствовал некий род вожделения. Как бы там ни было, но все-таки Поппея нравилась ему, а то, что она была возлюбленной императора Рима, придавало ей дополнительную прелесть.
Все бы ничего, но когда Нерон в радостном порыве говорил Никию, что он его единственный друг и единственный человек, которому он всецело доверяет, тот не мог удержаться, чтобы не опустить глаза в смущении (ему все еще бывало стыдно, и он ничего не мог с этим поделать).
— Не смущайся, Никий,— говорил при этом Нерон,— это так, и тебе нечего стыдиться.
— Я не заслужил такого, принцепс,— отвечал Никий, не поднимая глаз.
— Ладно, ладно,— Нерон благодушно похлопывал Никия по плечу,— такого я тебя и люблю.
Если Поппея присутствовала при таких сценах, она неизменно кивала головой с приятной улыбкой на красиво очерченных губах, но глаза ее оставались холодны.
Праздник наконец закончился, и они возвратились в Рим. Нерон не скрывал сожаления и все твердил, что если бы это оказалось возможным, то он навсегда бы остался в Афинах.
Дорога назад была приятной. Сначала они ехали, потом плыли. Нерон все время находился рядом с Поппеей, и эти несколько дней она не тревожила Никия своими домоганиями.
Император въехал в Рим с не меньшей торжественностью, чем в Афины. Сенат в полном составе встретил его далеко за городом. Толпы народа, как и всегда в таких случаях, заполнили улицы. Правда, той радости горожан, что была в Афинах, здесь не чувствовалось. А когда процессия уже подъехала к самому дворцу, случилось и вовсе неприятное. Из толпы послышались выкрики: «Долой Поппею!» и «Да славится Октавия!». Сначала они казались единичными (солдаты бросились хватать горлопанов), потом их стало все больше и больше, а когда Нерон уже стоял на портике перед дворцом, это кричала вся площадь.
— Неблагодарные негодяи! — воскликнул он, злобно обернувшись к толпе, но его слова потонули в общем хоре.
Нерон был не столько возмущен, сколько растерян. Блуждая взглядом по сторонам, он повторял как заклинание:
— Что это? Что это?!
Командир преторианских гвардейцев и начальник гарнизона заверили императора, что к вечеру беспорядки будут прекращены, а зачинщики выявлены и арестованы. Нерон слушал их рассеянно и неопределенно качал головой: то ли соглашаясь с тем, что они говорили ему, то ли обдумывая свои мысли.
Когда же он бросился к Поппее с тем же самым:
— Что это? Что это? — она только холодно на него посмотрела, отвернулась и ушла к себе.
Он заперся в своих покоях, приказал никого не принимать (даже командиров с докладами), оставил при себе лишь Никия, признавшись ему:
— Я боюсь. Не покидай меня, Никий.
Впервые Никий видел его столь напуганным, но ни презрение, ни даже просто презрительная жалость ни разу не колыхнулись в нем. Никий смотрел на Нерона и думал: как же он любит этого человека! Ему не нужно было разбираться, за что и почему, но он твердо знал, что если потеряет Нерона, то уже не сможет жить.
Императору долго не удавалось уснуть, он ворочался с боку на бок, прислушивался к звукам на улице, к шагам за дверьми, шептал, широко раскрыв глаза, с полубезумным от страха лицом:
— Ведь они могут ворваться, Никий! Как ты думаешь, они могут ворваться?
Никий успокаивал его, говоря, что тревога императора ни на чем не основана, что народ любит его и никто из его врагов не сможет причинить ему никакого вреда.
— Да? Ты думаешь? — спрашивал Нерон, вцепившись в одежду Никия, и тот уверенно отвечал:
— Да, принцепс, никто из них не посмеет.
Так он говорил Нерону, но сам в этом уверен не был. Он знал только, что если они все-таки ворвутся, то он без страха закроет собой императора. Если им обоим суждено умереть, то Никий хотел бы умереть первым. Странно, но он даже желал, чтобы они ворвались, умереть, прикрыв своим телом Нерона,— это ощущалось теперь как счастье.
Это желание столь сильно возросло в нем, что в какую-то минуту он хотел признаться Нерону в своей связи с Поппеей. Рассказать ему все, как это всегда хочется сделать перед близкой смертью,— покаяться, очиститься. Он уже был готов начать, но, увидев несчастное лицо Нерона, сдержался, не желая приносить тому излишних страданий. Кроме того, находясь в подобном состоянии, Нерон вряд ли смог бы его понять.
Император еще некоторое время метался на ложе, стонал, бормотал что-то тревожно и вдруг уснул. Так крепко, что даже посапывал во сне. При этом рука его свесилась вниз и обняла Никия за шею (Никий постелил себе на полу, рядом с ложем императора). Когда Никий попытался высвободиться, Нерон, не проснувшись, обнял его еще крепче.
Лежа на спине, чувствуя, как деревенеет затекшая шея, Никий со злостью думал о Поппее. Как он мог довериться ей, не предупредив Нерона! То, что она сделала, возбудив толпу против себя, могло закончиться гибелью императора. И ее гибелью, конечно, тоже. Она думала, что может перехитрить всех, но безумная жажда власти затмила ее разум. Теперь она может всех погубить. Никий не страшился смерти — умереть вместе с Нероном не было страшно,— но ему стало обидно, что такое может произойти по глупости властолюбивой и похотливой женщины. Злоба душила его, он вздыхал, чувствовал руку Нерона, вздрагивавшую при каждом его движении, и, чтобы не тревожить его сон, заставлял себя не думать о проклятой Поппее. Чтобы отвлечься от нее, он стал думать об Октавии.
Октавию он не знал совсем и видел всего несколько раз. Он помнил молодую, ничем не примечательную женщину с грустным лицом и испуганными глазами. Трудно было поверить, что она дочь императора Клавдия и жена императора Нерона. Никий слышал, будто Нерон когда-то любил ее, но он не верил этому. Не верил, потому что Октавия казалась ему слишком добродетельной, слишком скучной, а Нерон более всего ненавидел скуку. И добродетель он ненавидел именно потому, что добродетель всегда скучна, всегда предсказуема.
Да, конечно, трудно сказать, что, живя с Поппеей, император сделал правильный выбор (тем более в свете того, что происходило теперь). Он, выбор, не мог быть правильным, но уж, во всяком случае, отвечал естеству Нерона, его артистической натуре. Никий вполне сознавал, что Нерон оказался посредственным актером, но что может значить игра на подмостках перед игрой в жизни — настоящей, блестящей игрой? Конечно, кровавой, но и в этом был свой артистизм.
Отдавшись таким своим размышлениям, Никий задремал только под утро. Нерон сам растолкал его:
— Проснись, да проснись же, Никий! Ты слышишь?!
Никий вскочил, оглядываясь по сторонам и ничего не понимая спросонья.
— Вот, вот! Слышишь? — Нерон показал рукой сначала на дверь, потом на окно.
— Да, да,— пробормотал Никий еще до того, как что-либо понял.
Наконец он услышал — даже прислушиваться не было необходимости — в дверь стучали, а за окном стоял шум толпы и грозные выкрики.
— Это они,— дрожащим голосом выговорил Нерон, прячась за полог ложа. Он был в ночной рубашке, мятой и грязной, нечесаные волосы торчали в разные стороны и блестели от пота.
Стук в дверь делался все настойчивее — так не принято стучать в покои императора. Переглянувшись с Нероном, Никий на цыпочках подбежал к двери. Некоторое время слушал стук, будто по его характеру и силе что-то хотел понять, наконец, собравшись с духом, спросил:
— Кто?
И услышал голос начальника преторианских гвардейцев, просивший немедленно отворить:
— Срочное сообщение для императора!
Никий оглянулся, Нерон отрицательно помахал рукой, прошептав в страхе:
— Нет, нет, не открывай!
Но Никий, повинуясь своему внутреннему чувству, протянул руку и отодвинул щеколду. Дверь тут же распахнулась, и в нее не вошел, а ворвался начальник преторианских гвардейцев, едва не задев Никия своим мощным плечом. Никий сразу же запер за ним дверь, успев разглядеть в коридоре испуганные лица жавшихся друг к другу слуг.
Сердито топая, начальник преторианцев приблизился к Нерону. Тот осторожно вышел из-за полога, все еще держась за его край рукой.
— Принцепс,— громко произнес начальник,— толпу унять не удалось, беспорядки приняли угрожающий характер!
Нерон растерянно и испуганно смотрел на него, вряд ли хорошо понимая смысл того, о чем ему докладывал начальник. А тот стал распространяться о принятых мерах, о том, что народ слишком возбужден, что сметены все статуи Поппеи и на их место поставлены статуи Октавии и что есть только два пути прекратить беспорядки: или уступить, или обрушить на толпу все имеющуюся в Риме военную силу. Еще он добавил, что солдат в Риме недостаточно, а чтобы призвать дополнительные легионы из провинции, требуется время, которого тоже нет.
— Так что же делать? — после долгого молчания произнес наконец Нерон.
— Я полагаю,— твердо заявил начальник преторианцев,— нужно уступить.
— Да, да, уступить,— кивнул Нерон,— но я не понимаю, что это значит. Уступи, если это нужно.
Лицо начальника преторианцев побагровело от напряжения, когда он сказал:
— Но я не могу этого сделать, это должен сделать ты, принцепс!
— Я? — удивился Нерон и повторил, ткнув себя пальцем в грудь: — Я?
Начальник преторианцев оглянулся на Никия, во взгляде его были досада и раздражение.
— Да, принцепс,— сказал он,— только ты можешь решить это!
— Но что, что решить? — воскликнул Нерон едва ли не жалобно.— Я не понимаю, не понимаю!
Начальник преторианцев снова посмотрел на Никия, и тот, вздохнув, сказал:
— Он хочет, принцепс, чтобы ты изгнал Поппею.
— Изгнал Поппею,— поморщившись, выговорил
Нерон и, указав пальцем на начальника преторианцев, спросил Никия: — Это он хочет этого?
— Этого хочет римский народ, — не скрывая раздражения, проговорил начальник и, указав на окно, добавил: — Разве ты не слышишь, что они кричат?!
Все трое повернулись к окну. Шум толпы на площади сделался слышнее: «Долой Поппею! Смерть Поппее! Слава Октавии!» — кричали там.
— Какое им до этого дело? — пробормотал Нерон, с надеждой взглянув на Никия.
Никий только пожал плечами и развел руки в стороны.
— Я думаю...— нерешительно начал он, но голос Поппеи прервал его:
— Об этом будет думать только Нерон!
Поппея появилась незаметно (ее комната была смежной с комнатой Нерона), стояла прямо, гордо приподняв подбородок. Она была одета в парадное платье со множеством украшений.
Все трое молчали, неподвижно глядя на нее. Она подошла, медленно и уверенно выговорила, величественно взглянув на начальника преторианцев:
— Это может решить только император Рима! Я хочу, чтобы нас оставили одних!
Начальник преторианцев посмотрел на Нерона, тот на Никия, потом на Поппею.
— Оставь нас! — сказала она и, повернувшись к Нерону, бросила, энергично взмахнув рукой: — Прикажи ему!
— Да, да,— пробормотал Нерон, виновато улыбнувшись,— выйди пока.
— У нас уже нет времени, принцепс! — сказал начальник, но, не дождавшись ответа императора, круто развернулся и быстро вышел, хлопнув дверью.
Никий тоже направился к двери, но Поппея остановила его:
— Ты можешь остаться! — И, обернувшись к Нерону, спросила: — Ну?
Нерон отвел глаза, стоял жалкий, нерешительный, что особенно было заметно на фоне нарядной и уверенной Поппеи. Она подошла к нему вплотную:
— Ты должен решить!
— Но, дорогая,— он отступил на шаг, кивнул в сторону окна,— что же я могу сделать?
Презрительно фыркнув, Поппея отошла и села в кресло, держа спину прямой и сложив руки на коленях. Помолчав, пристально взглянула на Нерона, сказала:
— Дело не во мне, а в тебе, Нерон. Я могу уйти из дворца и никогда сюда не возвращаться. Мне нужен был ты, а не власть в Риме, но мне противно смотреть, как ты теряешь ее. Не меня, Нерон,— я всего лишь женщина,— а власть!
— Что ты имеешь в виду?! — вскричал Нерон, взмахнув рукой (жест был грозный, но голос прозвучал жалобно).
— Если ты сейчас уступишь толпе,— ответила Поппея спокойно,— то ты уже не император Рима. Разве кто-нибудь смеет указывать тебе? Разве кому-нибудь позволено вмешиваться в частную жизнь принцепса? У тебя нет выбора, Нерон, это вопрос власти, а не престижа!
Проговорив это, она встала и вышла из комнаты: прямая, спокойная, только, может быть, чуть бледнее обычного. Нерон некоторое время смотрел на дверь, в которую она вышла. Когда он повернулся к Никию, это уже был другой Нерон — мятая сорочка и растрепанные потные волосы тут уже не имели никакого значения.
— Помоги мне одеться, Никий,— произнес он так, что Никий только коротко кивнул и побежал за одеждой.
Когда начальник преторианских гвардейцев, приглашенный Никием, снова вошел в комнату, он уже не топал сердито, а остановился у дверей, ожидая, когда император обратит на него внимание. Нерон, одетый и причесанный, равнодушным взглядом смотрел в окно. Медленно повернул голову, с прищуром посмотрел на начальника преторианцев. Тот почтительно поклонился, не решаясь подойти.
— Сколько их убили сегодня? — спросил Нерон, ткнув пальцем в окно.
— Солдаты не трогали их,— растерянно ответил командир преторианцев.— Я ждал твоего приказа. Кроме того, принцепс, толпа слишком возбуждена. Они громили статуи, я думал...
— Ты думал,— перебил его Нерон,— что громить статуи возлюбленной римского императора вполне допустимое дело? Я правильно тебя понял?
— О, принцепс, я только хотел сказать...
— Ты много говоришь,— снова перебил его Нерон.— Это хорошо для претора в суде, но не для начальника моих гвардейцев. Разве ты не знаешь, как поступают с теми, кто оскорбляет императора, угрожает спокойствию Рима? Разве это не преступление, а эти люди не преступники? Отвечай!
— Да, но их...— начальник преторианцев не сумел договорить, и Нерон грозно бросил:
— Что?
— Их много, принцепс, едва ли не весь город.
— Значит, убей их всех. Я не намерен быть императором преступников. Иди и исполняй свой долг.
Когда начальник удалился, Нерон попросил Никия пригласить Поппею. Лишь только она вошла, он сказал с нежной улыбкой:
— Я обещал тебе прогулку в садах Мецената, дорогая. Если ты хорошо себя чувствуешь, мы сможем отправиться сразу же после обеда.
Поппея улыбнулась ему чуть дрогнувшими бескровными губами, едва слышно проговорила:
— Да.
Глава седьмая
Теренцию не так просто было увидеться с Палибием, чтобы вручить ему свитки Сенеки.
Вернулся он удрученным, потерянным, только несколько дней спустя встретился с Никием.
— Что с тобой, Теренций? — насмешливо спросил Никий.— Вижу, посещение родных мест не пошло тебе на пользу! Выглядишь ты не очень свежо. Ты не болен?
— Нет, мой господин,— ответил Теренций, пряча глаза,— просто дорога оказалась тяжелей, чем я думал. Ведь я уже совсем старик.
— Ну, ну, Теренций, ты еще вполне крепкий,— приободрил его Никий и вдруг спросил, не сумев скрыть натянутости в голосе: — А как там наш Сенека? Все еще ругает проклятый продажный Рим?
Теренций пожал плечами:
— Я говорил только со слугами.— Он вздохнул.— Из старых почти никого не осталось, а молодые...
— Меня не интересуют слуги,— недовольно перебил его Никий,— я спросил тебя об Аннее Сенеке. Ты видел его? Говорил с ним?
— Видел только раз.
— Ну и что, что? — Никий склонил голову, заглядывая Теренцию в лицо.
Теренций заставил себя поднять глаза; встретив настороженный взгляд Никия, сказал вполне равнодушно:
— Он не проявил ко мне никакого интереса. Сказал, что я постарел. Но ведь это правда.
— А про меня, про меня он не спрашивал?
— Нет,— Теренций отрицательно покачал головой, но не очень ровно,— он не спрашивал. Слуги говорили, что он очень болен, да и на вид — высох совсем.
Некоторое время Никий молча смотрел на Теренция. Так долго, что у того снова, как в доме Сенеки, стало теснить грудь и появилась боль слева. Наконец он сказал:
— Ты что-то недоговариваешь, мой Теренций, и я недоволен тобой.
— О мой господин! — воскликнул было Теренций, но Никий отрывисто бросил:
— Иди! — И отвернулся.
Теренций просидел в своей комнате до самого вечера, прислушиваясь к каждому шороху за дверью. Все ему казалось, что сейчас за ним придут, схватят, отведут в тюрьму, будут пытать. Он беспрестанно повторял слова Никия: «Ты что-то недоговариваешь, мой Теренций, я недоволен тобой».
Теренций, конечно, говорил себе, что это одни только пустые страхи и нет никакой причины бояться. По крайней мере, сейчас еще не за что тащить его в тюрьму, ведь у Никия нет никаких доказательств. Но голос внутри него предательски твердил — никаких доказательств Никию и не нужно, достаточно подозрений, ведь это не тот Никий, которого знал Теренций еще год назад, а другой Никий, друг императора Нерона, хладнокровно убивший мать императора, а правильнее, просто зарезавший ее. Разве у Агриппины спрашивали доказательства? А кто такой Теренций в сравнении с матерью императора!
Страхи такого рода не оставляли Теренция, тем более что он все-таки был виноват. Он проклинал день, когда ему пришло в голову поехать в родные места. Если бы ему сказали прежде, что на старости лет он станет участником заговора против императора Рима и против своего господина, он счел бы такого человека безумцем. Но вот он и заговорщик. Пусть невольный — какая разница!
Он никогда не думал о своем господине Аннее Сенеке так плохо, как теперь. Он и вообще не думал о господах плохо. Настроения господина, его характер и его действия — это как проявления погоды: то светит солнце, то налетает ветер, то идет дождь. Да, погода приносит неудобства, но разве можно думать о ней плохо — она такая, и все тут. Но сейчас, впервые, он думал об Аннее Сенеке не как о господине, а как о человеке, таком же, как и он сам, Теренций. С каким рвением и преданностью он всегда служил ему! Нужно сказать, он положил жизнь, чтобы только Сенеке было удобно: спать, есть, отдыхать, работать. И какую он получил за это награду? Смертельную опасность — вот какую награду приготовил для него Сенека! Да, Сенека умел говорить правильные слова, умел представить себя хорошим, честным, справедливым, но оказалось, что Теренций для него совсем ничего не значит как человек, и он отнесся к нему, как к корове или собаке.
Несколько раз Теренций порывался встать, пойти и все рассказать Никию. И рассказать, и отдать бумаги, которые передал Сенека. В конце концов, в этом заключался его долг слуги перед господином.
Он бы так и сделал. Но, представив, как по его доносу (а такое его признание никак по-другому назвать было нельзя) преторианские гвардейцы врываются в дом Аннея Сенеки, тащат старика в тюрьму, может быть, пытают... Нет, это казалось невозможным, Теренций не мог такого допустить. Он даже заплакал от бессилия. Если он все расскажет Никию, то убьют Сенеку, а если не расскажет, то погибнет Никий. Одного из двух господ он все равно должен будет предать, обречь на пытки и смерть. О боги, что же ему делать? Разве что не жить самому!
Единственным человеком, с которым он мог обо всем поговорить, был Симон из Эдессы. Сейчас Теренций думал, что только Симон скажет ему, как поступать,— даст совет, поможет. Но где найти Симона? Он горько жалел, что не договорился с ним о встрече, так недоверчиво отнесся к нему.
«Симон, где ты?!» — готов был вскричать несчастный Теренций, но только беззвучно заплакал, глядя в темноту комнаты.
Но при всех своих сомнениях и муках Теренций оставался слугой и не мог не выполнить того, что поручил ему господин. Он стал искать встречи с центурионом Палибием. Разумеется, пойти во дворец императора или в казармы преторианских гвардейцев он не мог. Впрочем, в этом не было особой необходимости — с некоторых пор Палибий часто появлялся в доме Никия. Не в качестве гостя — он был слишком ничтожен, чтобы приходить в гости к такому человеку, как Никий,— а в качестве командира сопровождающего Никия отряда гвардейцев. Отряд этот охранял Никия в поездках и провожал до дома. Потом солдаты уходили, и в доме оставались лишь охранники-германцы (так же, как это было, когда здесь жила Агриппина). То есть увидеть Палибия было просто, но увидеться...
Прошло несколько дней, а Теренций все не мог решиться, не находил удобного случая. Он видел Палибия едва ли не дважды в день, утром и вечером (вернее, ночью, потому что Никий обычно возвращался очень поздно). Но подойти было совсем не просто, тем более заговорить. Их могли увидеть, Никий мог спросить, что у него за дела с центурионом. Теренций каждую ночь поджидал возвращения Никия, наблюдал за Палибием из-за угла дома, но вокруг центуриона всегда находились солдаты, и Теренций не решался.
Наконец случай представился. Однажды ночью Палибий проводил Никия до самых дверей дома (солдаты остались у ворот). Они о чем-то долго разговаривали. Потом Никий ушел, а Палибий остался один, и вид у него был задумчивый. Теренций вышел из-за угла и, стараясь держаться в тени, поближе к цоколю, подошел к Палибию.
Тот сначала не обратил на него никакого внимания — центурион преторианских гвардейцев не должен замечать какого-то там слугу. Но Теренций не уходил, и Палибий строго и вопросительно посмотрел на него. Посмотрел и отвернулся. Тогда Теренций произнес, собрав остатки решимости
— Я — Теренций.
Палибий уставился на него так, словно заговорила собака или камень, и Теренций повторил, униженно улыбнувшись:
— Я — Теренций.
— Что из того, что ты Теренций? — сказал наконец центурион, причем довольно громко (от этого Теренций вздрогнул и испуганно огляделся).
— Мне нужно сказать тебе...
— Говори,— презрительно усмехнувшись, разрешил Палибий и добавил еще презрительнее: — Ты что, шпион?
— Я — Теренций,— еще раз быстро проговорил Теренций,— бывший слуга сенатора Аннея Сенеки, я был у него...
Услышав это, Палибий оглянулся по сторонам (правда, без испуга, но настороженно) и уставился на Теренция тяжелым взглядом больших, чуть навыкате глаз:
— Ну? — буркнул он, не меняя выражения лица и не шевеля губами.
— Он сказал, чтобы я передал тебе...— заговорил Теренций срывающимся голосом и стал вытаскивать свитки, спрятанные под одеждой.— Передал тебе...
Край свитков уже показался из-под одежды, когда Палибий, несмотря на свою массивность, ловко перепрыгнув через три ступени, схватил Теренция за руку и прижал его к стене. Край цоколя больно врезался в поясницу, и Теренций невольно вскрикнул.
— Молчи! — прошипел Палибий, снова оглядываясь.— Не здесь!
— А где? — сдавленно, едва слышно от того, что центурион давил на него всей массой своего тела, сумел выговорить Теренций.
— Приходи, когда стемнеет, к решетке садов Мецената, со стороны пустыря. Как стемнеет — понял? — Говоря это, Палибий, кажется, еще сильнее надавил на Теренция.
— А-а,— простонал Теренций, хотя хотел сказать «ага».
— Ты что, слабоумный? — прошептал центурион, чуть ослабив давление.
— Нет. Просто я... Мне больно.
— Понятно! — И Палибий отпустил Теренция.— Теперь уходи, быстро!
Теренций боком, скребя спиной по стене и едва перебирая ногами, отошел и скрылся за углом. Там он опустился на землю и поджал ноги. Поясницу ломило, а перед глазами плавали разноцветные круги. Он услышал, как Палибий что-то кричал солдатам, потом раздался скрежет открываемых ворот и удаляющиеся шаги множества ног.
— Проклятый... проклятый!..— шептал Теренций, упав на бок и пытаясь встать.— О боги, за что! О боги!
Наконец, кряхтя и сдерживая стоны, он все-таки сумел подняться и медленно, часто останавливаясь, дошел до входа с противоположной стороны дома.
Он уснул только на рассвете — его мучили боль и страх. Сказал себе, что ни за что не выйдет ночью к садам Мецената и никто, никто не сможет его заставить сделать это. Твердо решил пойти и во всем признаться Никию, но тот уехал из дому раньше, чем Теренций встал.
Ближе к вечеру решимость пойти и признаться явно ослабела, а грозное лицо центуриона Палибия так и стояло перед его глазами. Он и сам не понимал, как это произошло — все сделалось как бы само собой, помимо его воли,— но, когда стало темнеть, он закутался в плащ и, спрятав свитки под одеждой, вышел из дома и направился в сторону садов Мецената.
Когда Теренций подошел к ограде у пустыря, было совсем темно. Ноги уже не держали его, и он просто опустился на землю. Сидеть почему-то казалось не так страшно, как стоять во весь рост, и он, прислушиваясь к темноте, думал с надеждой, что так его, может быть, не смогут заметить.
Он не разгадал звука приближающихся шагов, но весь затрясся, услышав над самой головой:
— Это ты, что ли?
Неясный силуэт чего-то огромного навис над ним, а голос повторил:
— Ты, что ли?
Он не ответил, да и сил не было произнести хоть слово. Затаив дыхание, он испуганно смотрел вверх. Тут чьи-то сильные руки схватили его за одежду и, рывком подняв, поставили на ноги.
— Ты онемел, старик, или действительно слабоумный? — пророкотал голос, по которому Теренций наконец узнал Палибия.— Ну, говори, тебя послал Никий?
— Никий? — простонал Теренций.— Какой Никий?
Он и в самом деле не понял, о ком его спрашивают.
— Слышишь,— обратился Палибий к кому-то, стоявшему, по-видимому, сзади, и при этом тряхнул Теренция, оторвал его ноги от земли,— он не знает, кто такой Никий! Твой хозяин! — прогромыхал Палибий, дыша на Теренция смесью вина и чеснока.— Твой хозяин, болван!
— Нет,— выдохнул Теренций и попытался шевельнуться, но центурион крепко держал его.
— Кто тебя послал? Отвечай, или я задушу тебя, как цыпленка.
Не приходилось сомневаться, что центурион легко исполнит свою угрозу. Теренций и не сомневался. И он уже не выговорил, а выдавил жалобно:
— Анней, Анней. Сенека.
— Откуда ты знаешь его?
— Я — его управляющий.
Тут Палибий ослабил железную хватку своих каменных пальцев, и Теренций сумел вдохнуть хоть немного воздуха. Центурион тряхнул его еще раз и наконец отпустил. Теренций упал на землю, непроизвольно прикрыв руками голову, ожидая удара, но Палибий неожиданно дружелюбно произнес:
— Ладно, старик, рассказывай.
Теренций рассказал все, что знал, потом достал свитки и передал их центуриону.
— Марк, посвети! — приказал тот кому-то, и тут же из-за его спины вышел человек с факелом.
Палибий склонился над свитками, а Теренций, щурясь от яркого света, все никак не мог понять, почему до этой минуты он видел лишь полную темноту. Может быть, единственно от страха? Впрочем, теперь ему было не до размышлений такого рода — он осторожно посмотрел по сторонам, прикидывая, сможет ли бежать. Нет, это казалось невозможным, и Теренций лишь коротко вздохнул.
Наконец, сунув свитки под одежду, Палибий сказал неведомому Марку:
— Все в порядке. Кажется, старик и в самом деле был у него.— И, пригнувшись к Теренцию, спросил: — Ну что, старик, страшно расставаться с жизнью? — Не дожидаясь ответа Теренция (который снова весь сжался), он раскатисто захохотал. Потом кивнул своему спутнику и, уже уходя, бросил: — Ладно, живи, старик. Мы еще встретимся!
Свет факела исчез в одно мгновение, будто его носитель провалился под землю, а Теренция окутала такая непроглядная темнота, что показалось — он уже умер.
Он просидел там долго, пока не почувствовал озноб. Именно озноб указал ему, что он еще жив. Он поднялся и, спотыкаясь на каждом шагу, побрел прочь.
Проплутав какое-то время в темноте, Теренций наконец вышел на дорогу. И тут же почувствовал, что за ним кто-то идет. Не было сил остановиться и прислушаться. Но уже через несколько шагов звуки за спиной стали отчетливыми, и чей-то голос осторожно позвал:
— Теренций!
Голос этот будто толкнул его в спину — он побежал. Но от усталости, страха и слабости в ногах бежал медленно, раскачиваясь из стороны в сторону. Тут голос за спиной окликнул его:
— Да постой же! — И чья-то сильная рука больно ухватила за плечо.— Да постой же! — повторил голос.— Это я, Симон!
— Симо-он! — простонал Теренций и, пошарив руками в темноте, уже падая, ухватился за шею Симона.
Глава восьмая
Последние несколько месяцев были ознаменованы энергичной деятельностью Нерона. Он несколько раз выступал в сенате, дважды ездил в провинцию инспектировать войска (даже побывал там, где проходила линия соприкосновения римских войск с парфянами). Это был совсем другой Нерон, даже Поппея смотрела на него с уважением. В отсутствие императора она поначалу мучила Никия своими приставаниями — заставляла его заниматься с нею этим по нескольку раз в день, но потом вдруг словно бы охладела к нему: смотрела безразлично, не принимала.
Никий был рад — ее желания утомили его и, разговаривая теперь с Нероном, он чувствовал себя значительно свободнее. Но прошло время, и он ощутил, что ему не хватает Поппеи и что ему почему-то неприятно видеть ее рядом с императором. Дошло до того, что она стала сниться ему почти каждую ночь. Он стонал, метался, внезапно просыпаясь, шарил по простыне руками, потом долго не мог заснуть — ругая Поппею, не в силах отогнать ее образ, постоянно стоявший перед глазами.
Не выдержав этой пытки, как-то, улучив минуту, когда она осталась одна, Никий сказал ей с мукой на лице:
— Я не могу без тебя! Что случилось, Поппея?
Она посмотрела на него холодно:
— Разве Нерон не похвастался тебе, что я зачала и ношу под сердцем,— она приложила ладонь к животу,— его ребенка?
И больше ничего не добавила, отвернулась и стала как статуя. Он постоял некоторое время, с просительным выражением лица глядя на нее, потом поклонился будущей жене императора и ушел.
Нерон сказал ему, лишь только вернулся из очередной поездки:
— Я хочу жениться на Поппее, Никий. Она родит мне сына.
— Да, император.— Никий опустил глаза.
— Ты меня плохо понял,— проговорил Нерон с каким-то особенным выражением, так что Никий вздрогнул.— Ты меня плохо понял, я сказал, что хочу жениться на Поппее.
Теперь Никий понял. Он поднял взгляд, прямо посмотрел в глаза Нерону и кивнул утвердительно:
— Прости, принцепс, я внимательно слушаю тебя.
Нерон прошелся по комнате из угла в угол, потом сказал резко и сердито, что у него есть сведения, будто Октавия изменяла ему. Он остановился перед Никием:
— Ты знаешь, с кем? Говори.
Никий задумался на некоторое время, перебирая в уме возможных претендентов. Нерон терпеливо ждал.
— Дорифор,— наконец произнес Никий.— Это Дорифор.
— Дорифор? — удивленно переспросил Нерон и добавил, пожав плечами: — Но ты же знаешь, что он...
Нерон не договорил, удивление так и не исчезло с его лица, а Никий сказал спокойно:
— Ну и что, принцепс? Ведь они могли заниматься этим в какой угодно форме, вряд ли Дорифор посмел бы отказать Октавии. Кроме того, Дорифор — префект Мизенского флота, ты сам назначил его.
— Я тебя не понимаю,— поморщился Нерон.
— Мизенский флот — большая сила. Это не толпа, которая громила статуи Поппеи и восхваляла Октавию. Если бы офицеры Мизенского флота...
— Достаточно,— остановил его Нерон,— не продолжай, я все понял.— И, пройдя к столу и опершись на него руками, сказал, не оборачиваясь: — Я никогда не доверял ему. Действуй, Никий.
Когда-то грек Дорифор был любимцем и любовником Нерона. Однажды император потехи ради решил жениться на нем и даже справил настоящее свадебное торжество. Никия тогда еще не было в Риме, и он знал обо всем таком только из разговоров придворных. Дорифор ему никогда не нравился. Он был напыщенным, высокомерным и, кажется, откровенно тупым. Красота его казалась Никию какой-то болезненной.
Но Нерон питал к нему слабость и, когда его заменила Поппея, Дорифора назначили префектом Мизенского флота. Назначение это вызвало ропот и среди офицеров, и среди сенаторов, но император настоял на своем. Он даже придумал на этот счет шутку, и сам радовался ей больше всех:
— На флоте нечего делать женщинам, а наш Дорифор, как известно, их и не жалует!
Больше всего, по понятным причинам, Дорифора не любила Поппея, и со времени своего назначения он ни разу не появился при дворе.
Никий сам отправился в Мизены. Дорифор не изменился, остался таким же напыщенным и глупым. Встретил Никия высокомерно, будто не Никий, а он все еще был любимцем императора. Впрочем, Никий сбил с него спесь довольно быстро, сказав, что император недоволен им и послал Никия сообщить, что он смещается со своего поста. А кроме того, необходимо проверить сведения о злоупотреблениях, имевших место среди офицеров Мизенского флота. И если эти сведения подтвердятся, Дорифор будет предан суду.
— А тебе известно,— добавил Никий в конце своего сообщения,— какое наказание в таких случаях выносит суд?
— Да,— кивнул побледневший Дорифор и спросил плачущим голосом: — Что же мне делать, Никий?
Никий холодно пожал плечами, показывая, что ничем помочь не может, и попросил принести счета и другие бумаги. Дорифор побледнел еще сильнее, руки его дрожали, а в глазах стоял ужас. Он униженно стал просить Никия помочь ему, сказав, что готов сделать для него все, что угодно.
— Неужели все, что угодно? — спросил Никий с насмешливой улыбкой.
Префект Мизенского флота схватил руки Никия и прижался к ним губами, бормоча срывающимся голосом:
— Все! Все, что ты скажешь.
И тогда Никий сказал, чего он хочет от Дорифора, добавив, что командовать флотом он, конечно, уже не останется, но сможет безбедно жить где-нибудь на островах, к примеру на Сардинии.
— На Сардинии? — переспросил Дорифор.— Безбедно?
Никий подтвердил. Тогда Дорифор ответил, что согласен, и, всхлипнув, зарыдал, упав головой на стол.
В тот же день Никий вернулся в Рим, везя в своей повозке не перестававшего плакать Дорифора.
Короткое время спустя — в этом вопросе Нерон был нетерпелив — созывается некое подобие совещания при принцепсе, куда приглашаются близкие Нерону придворные и несколько влиятельных сенаторов. Бледный, изможденный, словно бы перенесший пытки Дорифор (хотя его никто пальцем не тронул) выходит вперед и начинает отвечать на вопросы Нерона о его связи с Октавией. Он рассказывает не только о том, каким образом Октавия принудила его к сожительству, но и как происходили их интимные встречи. Он рассказал, как Октавия плясала перед ним совершенно голая, имитировала половой акт сама с собой и даже оправлялась перед ним, чтобы возбудить еще больше несчастного префекта. Никто не требовал от Дорифора всех этих подробностей, но он, то ли назло Нерону, то ли считая, что таким образом лучше выслужится перед ним, то ли от непроходимой глупости, ему присущей, не только рассказывал все это, но и пытался все изображать, делая непристойные телодвижения, а один раз даже хотел обнажиться.
Все присутствующие, за исключением лишь некоторых отъявленных развратников, смотрели на Дорифора с брезгливостью, и только Нерон слушал его с откровенным удовольствием, время от времени задавая уточняющие вопросы, на которые Дорифор охотно и пространно отвечал. Нерон даже спросил его, хотя это было совершенно излишним:
— Но говорят, что ты не можешь спать с женщиной, Дорифор. Правда ли это?
— Правда, принцепс,— скорбно кивнул Дорифор.
— Тогда поясни, как же у тебя получилось?
Дорифор тяжело вздохнул и, глядя на принцепса взглядом оскорбленной невинности, ответил:
— Сам не знаю, принцепс, как это у меня получилось. Но Октавия делала такое, что могла бы заставить и мертвого. Вот я сейчас расскажу.
Он уже готов был излагать свои мерзости и дальше, но его остановила Поппея, все это время молча сидевшая рядом с Нероном.
— Я думаю, достаточно,— холодно произнесла она, посмотрев на Нерона.
— Ты думаешь,— император несколько растерялся, но, сумев взять себя в руки, проговорил величественным тоном, обращаясь к Дорифору: — Достаточно, Дорифор.— И, оглядев присутствующих, добавил: — Суть дела ясна, вина Октавии доказана, и новые подробности вряд ли добавят к этому что-либо существенное.
Присутствующие облегченно вздохнули, а Октавия, резко поднявшись, покинула зал, где проходило собрание.
Уже на следующий день был обнародован указ принцепса, где говорилось, что Нерон дознался: Октавия, дабы располагать флотом, соблазнила его префекта, чем нанесла оскорбление императору и всему римскому народу. За это преступление она заточается на острове Пандетерие.
Народ воспринял указ с тихим ропотом, но никаких волнений на этот раз не случилось, тем более что все возможные меры, чтобы не допустить беспорядков, были приняты заранее. Никий слышал, что один из сенаторов, присутствовавших при допросе Дорифора, сказал другому, удрученно качая головой:
— Да, достаточно взглянуть на несчастную Октавию всего один раз, чтобы представить, как она танцевала обнаженная перед этим ублюдком Дорифором. Значит, у нас в Риме слишком плохи дела, если не находят более приличного способа удалять мешающих жен.
Покосившись на Никия, сенатор замолчал, и они быстро удалились. А Никий подумал, что дела в Риме и в самом деле не очень хороши, если такое говорят во дворце принцепса, не очень-то опасаясь доноса.
Несколько дней Нерон не принимал его, и Никия охватило беспокойство. Впервые за все время пребывания в Риме он почувствовал настоящую опасность.
Вдруг поздно вечером Нерон прислал за ним. Встретил он его словами:
— Знаешь, Никий, никогда не думал, что Дорифор так легко признается.
— Я и сам удивлен,— благоразумно ответил Никий.
Нерон, прищурив глаза, внимательно на него посмотрел. «Не смотрит, а осматривает»,— мелькнуло у Никия.
— Знаешь, Никий,— продолжил Нерон, с заговорщическим выражением оглянувшись по сторонам,— скажу тебе между нами — Поппея недовольна.
— Недовольна? — Никий умело изобразил удивление.
— Представь себе,— заговорил Нерон шепотом,— а ведь все это делалось только ради нее. Пойми этих женщин! Все зло от них. Если бы не наслаждение, которое они дают, да еще умение рожать, то, думаю, род человеческий вполне бы обошелся без женщин. А? Как ты думаешь?
— Не знаю, принцепс.
Нерон вздохнул.
— Вот видишь, в своей собственной семье император далеко не всегда властитель.— Он сделал паузу, посмотрел на дверь комнаты Поппеи.— Она не просто недовольна, Никий, она недовольна тобой.
— Мной? — Никий побледнел, причем совершенно естественно; не ожидая ничего хорошего, посмотрел на Нерона. Подумал: «До чего же неприятное у него лицо». Вспомнил, как Нерон веселился, когда Дорифор рассказывал все эти мерзости про Октавию, и лицо Нерона показалось ему уже совершенно противным.
— Да, Никий, тобой.— Нерон снова вздохнул.— Сам не понимаю, что с ней такое случилось — наверное, беременность так действует на нее, у женщин это бывает. Я говорил, но разве ей что-нибудь докажешь... И вот что я подумал: почему бы тебе не уехать из Рима? Поменяешь обстановку, посмотришь новые места.
— Куда? — еле слышно выговорил Никий.
— Куда хочешь,— быстро сказал Нерон.— Ну, например, куда-нибудь на острова. Ты бывал на островах?
— Я? На каких, принцепс? — Никий уже понял и весь сжался внутри.
И он не ошибся, Нерон сказал:
— Да вот на Пандетерии, к примеру. Ты ведь не был там? А там так замечательно. Поезжай, я прикажу дать тебе свой корабль. Поверь, это будет чудесное путешествие.
— Я должен буду...— глухим голосом начал было Никий, но Нерон его перебил:
— Да, да, Никий, отдохни, развейся, если увидишь Октавию, передавай ей привет. Ты понял меня? — В глазах Нерона появился холодный блеск.— Ты знаешь, что такое привет не простившего неверную жену мужа? Я хочу, чтобы ты сделал это. Но не так, как с моей матерью в первый раз, а наверняка. Постарайся, чтобы она не очень мучилась, мне не хочется быть жестоким.
«Но я не убийца!» — хотелось вскричать Никию, но, встретившись с ледяным взглядом Нерона, он опустил голову.
— Возьми с собой Палибия,— продолжал Нерон самым деловым тоном,— вы с ним хорошая пара. К тому же он опытен в таких делах. Не задерживайся там долго, ты же знаешь, как я скучаю без тебя. К тому времени недовольство Поппеи, я уверен, пройдет — женщины ведь так переменчивы! Прощай, Никий.— Нерон приветственно поднял руку, а Никий, поклонившись, пошел к дверям.
Ему все время хотелось оглянуться, но он сдерживал себя, боясь увидеть на месте Нерона какого-нибудь мерзкого Дорифора.
Глава девятая
В тот вечер Симон увел Теренция за город, и они долго разговаривали при свете костра. Симон устроил себе здесь временное жилище, шалаш из веток. Все сетовал, что вынужден перебираться с места на место и нигде не может проводить больше нескольких дней.
Теренций вдруг попросил Симона разрешить остаться с ним навсегда. Симон удивленно на него посмотрел:
— Ты не знаешь моей жизни, Теренций, ты не сможешь выдержать ее.
— Смогу! — жалобно воскликнул Теренций.— Лучше так, чем... Я больше не возвращусь туда.
— Хорошо, там будет видно,— сказал Симон и принялся готовить еду.
Теренций ел с жадностью. Плакал, восклицал что-то несвязное и ел опять. Симон не торопил его с рассказом, смотрел на Теренция так, будто тот был ребенком: кивал снисходительно, говорил, что все будет в порядке.
Теренций поел, согрелся и постепенно успокоился, виновато глядел на Симона. Тот сказал:
— Расскажешь?
Теренций кивнул, но потом еще долго сидел, опустив голову, не решаясь начать. А когда начал, рассказывал довольно спокойно и толково, только время от времени останавливался и поглядывал на Симона со страхом.
Когда закончил, спросил:
— Симон! Симон! Скажи, что же мне теперь делать?!
Погруженный в раздумья Симон только вздохнул. Наконец поднял голову и, пристально глядя на Теренция, уверенно выговорил:
— Тебе нужно быть с ним.
— Но как же, Симон...— В глазах Теренция снова блеснули слезы.— Ты же знаешь... как же я могу...
— Тебе нужно быть с ним,— повторил Симон с такой настойчивостью в голосе, что Теренций не посмел возразить и даже утвердительно кивнул.
Только некоторое время спустя Теренций осторожно заметил:
— Но ты же знаешь, Никий теперь...
Он остановился, выжидательно глядя на Симона.
— Ну? — буркнул тот.— Договаривай.
— Он ведь убийца,— произнес Теренций, глядя на Симона не столько со страхом, сколько с удивлением.
— Это не наше дело,— сказал Симон.
— Не наше? — Теренций был обескуражен.— А чье? Чье это дело, Симон?
— Учителя Павла.
— Но ведь он... Он ведь умер, Симон.
Симон посмотрел на него исподлобья:
— Учитель Павел не может умереть. Как и Иисус. Он просто ушел, но он... с нами.
Симон проговорил это с такой уверенностью, что Теренций вздрогнул и невольно посмотрел по сторонам.
— Только он может знать, для чего Никий в Риме,— между тем продолжал Симон,— мы не имеем права об этом рассуждать. Ни ты, ни я, ни кто другой.
— А Онисим? — едва слышно спросил Теренций.
— Что? Что Онисим?! — резко отозвался Симон.
— Но ведь он сам, он сам убил его.
— Этого мы знать не можем!
— Но я видел...
— Этого мы знать не можем,— повторил Симон, и в голосе его Теренций почувствовал угрозу,— Это может знать только учитель Павел,— Он помолчал и добавил с особенной твердостью: — А еще Иисус и сам Господь. Ты понял это, Теренций?
— Да, Симон,— сказал Теренций, сглотнув,— я все понял. Но только...
— Ну, договаривай.
— Я не знаю, но тогда...— Теренций виновато улыбнулся.— Когда ты встретил меня на дороге, ты сам сказал, что Никий...
— Я заблуждался,— перебил его Симон.— Судил о том, о чем не должен был судить. Учитель Павел сказал мне, чтобы я оставался при Никии во что бы то ни стало, и, значит, он предполагал, что у меня могут возникнуть сомнения. Учитель Павел знает все и обо всем. Он сам послал меня, и мне нужно делать то, что он поручил. И тебе нужно делать то же. Или ты не считаешь, что тебя послал учитель Павел?!
— Нет, нет, Симон,— быстро сказал Теренций,— считаю. Я не видел учителя Павла, но раз ты говоришь...
Они помолчали, потом Симон спросил:
— А кто это Гай Пизон, к которому писал Сенека? Ты знаешь его?
— Нет, он никогда не был у нас... У Аннея Сенеки. Я не помню, чтобы он приезжал.
— Хорошо. Тогда скажи об этом Никию, он сам разберется.
— Про Гая Пизона? — с надеждой спросил Теренций.
Симон усмехнулся:
— И про Гая Пизона тоже. Но главное, скажешь о заговоре все, что говорил тебе Анней Сенека.
— Но не лучше ли...— Теренций умоляюще посмот на Симона,— сказать Никию, что Сенека просил меня передать кое-какие послания, а я подсмотрел... Подсмотрел, что одно из них для Гая Пизона. Зачем же говорить ему все, он и без того поймет...
— Ты боишься? — снова усмехнулся Симон.
Теренций замахал руками:
— Не за себя, не за себя, Симон.
— Да? А за кого же?
— Я не знаю,— Теренций опустил глаза.— Ведь Сенека,.. его могут... могут убить...
-г- Это не твоя забота, Теренций,— холодно и жестко проговорил Симон,— делай то, что должно, и не думай о последствиях, учитель Павел думает за нас.
Последнее Симон произнес с такой уверенностью, что Теренций и сам поверил, что учитель Павел не умер и думает за них. Он вздохнул и выговорил с трудом:
— Хорошо, Симон, я сделаю, как ты хочешь.
— Тогда иди.
— Сейчас? Но я...
— Да, сейчас,— твердо произнес Симон и встал,— нельзя терять ни минуты. Кто их знает, может быть, они начнут уже сегодня.— И он протянул Теренцию руку.— Вставай.
Теренций медленно, с обреченным лицом подал руку. Симон рывком поставил его на ноги и, загребая ногою песок, стал тушить костер.
Симон проводил Теренция да самого дома Никия. Было уже совсем поздно, но Никий еще не приезжал.
— Дождись его и поговори,— сказал Симон, взяв Теренция за руку и сильно сжав.— Я буду рядом, теперь я всегда буду рядом.
— Ты всегда будешь рядом?
— Всегда,— твердо, с какою-то особенной уверенностью произнес Симон.— Скажи об этом Никию.
И, более ничего не добавив, он быстро отошел и скрылся в темноте. Теренций некоторое время стоял, глядя ему вслед, потом вздохнул и медленно вошел в ворота.
Никий вернулся уже на рассвете. Теренций ждал его у лестницы. Тот сказал, заметив его:
— А, Теренций! Ты все еще не спишь?
Вид у Никия был усталый, он хотел пройти мимо, но Теренций проговорил жалобно:
— Мой господин!
Никий удивленно оглянулся:
— Что с тобой, Теренций? Ты не болен?
— Нет, мой господин, но я хотел...
Никий устало нахмурился:
— Что там у тебя? Может быть, поговорим завтра, я очень утомился.
— Завтра? — с надеждой переспросил Теренций, но, вспомнив Симона, вздохнул.— Нет, мой господин, я должен... я должен сейчас.
— Ну ладно, Теренций,— Никий зевнул, прикрыв рот ладонью,— пойдем.
Когда они вошли в спальню Никия, Теренций сразу же за порогом упал на колени. Никий посмотрел на него с сердитым удивлением:
— Ты что? Сейчас же поднимайся!
— Не могу! — простонал Теренций.
— Не можешь? Это почему?
— Не могу! Я достоин смерти! — Теренций всхлипнул и хотел обнять ноги Никия.
Тот успел сделать шаг назад.
— Да говори же! — вскричал он.— Что случилось? Может быть, солнце упало на землю или парфяне уже в пяти стадиях от Рима?
Теренций медленно поднял голову, по его морщинистым щекам текли слезы.
— Анней Сенека! Анней Сенека! Я был у него.
— Ты был у него,— повторил Никий и, пригнувшись, внимательно вгляделся в лицо Теренция.— Значит, ты был у него,— произнес он снова с особенным значением.— Понятно,— он задумчиво покачал головой,— я так и думал. Успокойся, Теренций, и расскажи все по порядку. И знай заранее, я ни в чем не обвиню тебя.
Он отошел и сел на край ложа, сложив руки на коленях.
— Подойди, никто не должен слышать того, что ты скажешь.
Теренций подполз к нему, не поднимаясь с колен. Никий молча наблюдал за ним.
Прежде чем начать рассказ, Теренций повздыхал, повсхлипывал, поерзал коленями по полу, снова не решаясь поднять головы. Наконец начал, упершись взглядом в ноги Никия. Они были неподвижны. Оставались неподвижны даже тогда, когда Теренций назвал имя Гая Пизона. Дернулись только раз, когда он сказал о Палибии.
Теренций закончил, потом, помолчав, добавил:
— Я рассказал все Симону из Эдессы, это он заставил меня открыться. Еще он просил передать тебе, что всегда будет рядом.
— Что значит «всегда»? — нарушил молчание Никий, проговорив это глухим, чуть с хрипами голосом.
Теренций осторожно поднял голову:
— Я не знаю.
Никий рывком поднялся.
— Вставай, Теренций.— Он взял его за плечи и помог встать.— Ты ни в чем не виноват.
— Я достоин смерти, мой господин,— прошептал Теренций, уронив голову на грудь.
Никий взял его за подбородок и, глядя в глаза, повторил:
— Ты ни в чем не виноват, мой Теренций, и ты доказал свою преданность. Я доволен тобой.
Теренций смотрел в глаза Никию, не веря своим ушам. Ему хотелось плакать, и он едва сдерживался, часто-часто моргая. Ему хотелось обнять Никия, прижаться лицом к его груди, но он только повел плечами и непроизвольно дернул головой.
Глава десятая
Два дня спустя Никий сказал Теренцию, что ему надо уехать и он берет его с собой.
— Мы совершим морскую прогулку,— пояснил Никий, несколько странно глядя на Теренция, испытующе и вопросительно одновременно,— на остров Пандете-рий. Ты никогда не бывал там?
— И даже не знал, что такой существует.
— Существует, Теренций, существует. Там теперь живет Октавия, бывшая жена императора. Ты, наверное, слышал о ее связи с Дорифором?
Теренций кивнул, почувствовал, как кровь отлила от лица.
Заметив это, Никий усмехнулся:
— Ты правильно меня понял, Теренций: император посылает меня убить Октавию. Я хочу, чтобы ты сопровождал меня в этой поездке. Мы возьмем с собой твоего соратника, центуриона Палибия. Надеюсь, ты не против?
— Нет, мой господин,— прерывающимся голосом ответил Теренций, чувствуя, как язык прилипает к небу.
— Тогда собирайся.
Никогда Теренций не предполагал, что может услышать от Никия что-либо подобное. Еле передвигая одеревеневшие ноги, он вернулся в свою комнату, сел на край ложа и просидел так долго, бессмысленно глядя перед собой. Никий не просто так сказал ему о приказе убить Октавию. Но зачем он открыл ему это?
Все дни морского путешествия Никий был необычайно весел, а Теренций подавлен. Веселость Никия казалась, правда, несколько лихорадочной, а подавлен-ность Теренция тяжелой и глубокой. Когда Никий обращался к нему, он не всегда сразу мог понять, чего от него хотят,— смотрел на хозяина неподвижно и испуганно, порой кивая невпопад. Но Никий ни разу не выразил недовольства непонятливостью слуги. Напротив, состояние Теренция только веселило его.
— Не думал, Теренций,— смеясь говорил он,— что ты так плохо переносишь морские прогулки! Дело, для которого мы едем, требует сил! — И, обращаясь к центуриону Палибию, почти всегда находившемуся рядом, Никий спрашивал: — Разве я не прав, Палибий?
Палибий недовольно пожимал плечами:
— Как я могу сказать, если не знаю, зачем мы плывем туда?
— Бедный Палибий! Он не знает, зачем мы плывем на остров! Конечно же не отдыхать. Неужели ты еще не догадался? Полно, Палибий, ты мне всегда казался более сообразительным!
Палибий стискивал зубы и опускал глаза.
— Нет, нет, Палибий,— не отставал Никий,— ты должен сам догадаться. Не говори ему, Теренций, пусть он сам. Ну же, ну же, Палибий! Хочешь, я подскажу тебе? Вспомни нашу первую встречу — твои солдаты тогда хорошо поработали мечами! Ну, догадался?
И, глядя в злое лицо Палибия, Никий заливался смехом, а отсмеявшись, снова принимался подтрунивать над центурионом.
Эту забаву он повторял несколько раз в день. Иногда Теренцию казалось, что Палибий не выдержит, бросится на Никия и разорвет его на куски: тяжелый взгляд центуриона говорил именно о таком желании. Но Никий словно бы нарочно продолжал свое, насмешки над Палибием делались уже совершенно жестокими. Он говорил, будто уверен в том, что центурион нравится женщинам, что он вводит в них кое-что с такой же легкостью, с какой вонзает меч в сердце врага.
— Может быть, я ошибаюсь, Палибий, но мне кажется, что ты с удовольствием проткнул бы меня ме-чом. Только я не враг, Палибий, и не женщина, хотя твое умение протыкать очень скоро мне понадобится. Ну, скажи, скажи, что ты думаешь обо мне!
Центурион стоял неподвижный и бледный, как мраморная статуя.
— Знаешь, Теренций,— отходя и рассматривая центуриона, обращался Никий к Теренцию,— когда мы вернемся, я попрошу императора назначить Палибия на новое место службы. Мы установим его на нос самого мощного военного корабля. Уверен, враги не вынесут его грозного вида,— мы будем выигрывать сражение с одним-единственным кораблем.
Как-то вечером, спускаясь в свою каюту, Теренций наткнулся на Палибия. Ни слова не говоря, тот схватил своей мощной рукой Теренция за горло и, прижав к поручням лестницы, стал душить. Теренций не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, глаза его налились кровью и, казалось, вот-вот вылезут из орбит, а рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы. Когда сознание уже почти покинуло его, проклятый Палибий ослабил пальцы. Теренций со свистом втянул воздух, хотел крикнуть, но Палибий угрожающе прошипел, брызгая слюной:
— Молчи!
Опять сжал горло Теренция и отпустил только тогда, когда у того угрожающе затряслись руки. Он отнял свою руку — Теренций упал на ступеньки лестницы, хрипя и кашляя. Когда он несколько пришел в себя, Палибий присел перед ним на корточки и сказал, криво усмехаясь:
— Ну, старик, теперь говори! Говори, если не хочешь стать кормом для рыб: что задумал твой мерзкий хозяин?
Теренций готов был выложить все, но не успел ответить, откуда-то сверху раздался насмешливый голос Никия:
— Доблестный Палибий, если тебе захотелось поиграть с моим старым слугой, ты мог бы спросить моего разрешения. Или ты посчитал это излишним?
Палибий быстро встал, Теренций с трудом повернул голову. Никий стоял на верхней площадке лестницы, улыбаясь напряженно. Спустившись на несколько ступенек, он протянул руку Теренцию, помог подняться. Теренций держался за горло обеими руками, вздрагивал и икал.
— Он не тронет тебя больше,— произнес Никий, положив руку ему на плечо,— он не посмеет. Кроме того, я открою ему то, что он хочет узнать. Ты ведь хотел узнать, мой Палибий, цель нашей поездки? Я правильно тебя понял?
Палибий стоял, угрюмо насупившись, рука его лежала на рукояти меча. Никий сказал, ткнув в меч пальцем:
— Пока не меня, пока не меня, Палибий. Может быть, в другой раз, но не сейчас. Ведь я посланник самого императора! Но у тебя найдется работа более важная, чем душить несчастного старика. Ведь мы едем на остров для того, чтобы убить Октавию, и я хочу, Палибий, чтобы ты самолично сделал это.
— Начальник преторианцев не сказал мне, я не знал...— начал было Палибий глухим голосом, но Никий его перебил.
— Он тоже не знал,— проговорил он угрожающе-насмешливо,— как и все в Риме. Когда ты убьешь ее, Палибий, мы скажем, что она, к примеру, сорвалась со скалы. Кстати, ты не помнишь, есть на Пандетерии скалы?
— Я не был там,— сквозь зубы процедил Палибий.
— Это не важно, в случае чего мы придумаем что-нибудь другое. В Риме охотно верят тому, во что хочется верить императору. Разве не так, Палибий?
— Я не убийца.— Палибий сказал это, исподлобья глядя на Никия.
— Вот как! — Никий изобразил на лице крайнюю степень удивления.— А кто из нас убийца? Я или вот он? Кто-то должен исполнить приказ императора.
— Я не убийца! — повторил Палибий упрямо.
— Ты сделаешь то, что я тебе прикажу,— с угрозой в голосе сказал Никий.— А сейчас возьми Теренция и отнеси его в каюту.
Палибий не двинулся с места, а Теренций, испуганно глядя на Никия, простонал:
— Я сам, мой господин... могу...
Никий не обратил на его слова никакого внимания:
— Я жду,— сказал он Палибию,— Или ты подчинишься, или я привезу тебя в Рим закованным. Ну!
Не сводя с Никия горящего взгляда, Палибий шагнул к Теренцию, легко поднял его и понес. Теренцию было больно от мощной хватки центуриона, но он опасался и терпел. Войдя в комнату, Палибий бросил Теренция на ложе, что-то прорычал сквозь зубы и вышел, хлопнув дверью.
До конца их плаванья Теренций видел его только издали. Палибий теперь находился среди своих солдат, не поднимался на верхнюю палубу и не общался с Никием. В свою очередь, Никий словно забыл о нем — сидел, задумчиво глядя на море, и казался Теренцию несчастным.
Пальцы проклятого центуриона оставили следы на горле Теренция. Он осторожно прикасался к горлу, морщился от боли, а более всего от унижения и обиды. Обиды не на Палибия (этот грубый солдафон вел себя вполне логично), а на Никия. Тот ни разу не заговорил с Теренцием о происшедшем. Теренций снова чувствовал себя ненужным, жалким и жалел, что не настоял и не остался с Симоном из Эдессы.
Пандетерий появился так неожиданно, будто всплыл со дна моря. Зеленый, живописный, тихий, он казался безлюдным. Только когда корабль подошел к маленькой пристани, несколько человек выбежали навстречу—с удивлением смотрели на богато украшенное императорское судно.
Солдаты выстроились на корме, готовые сойти на берег, но Никий, подозвав Палибия, сказал, что к дому Октавии они отправятся лишь втроем: он, Те-ренций и Палибий. Палибий не ответил ни «да», ни «нет», с откровенной злобой глядел на Никия и не двигался с места. Никий не стал дожидаться выражения его согласия и под неподвижными взглядами солдат сошел по мосткам на пристань. Теренций торопливо последовал за ним. Команда, высыпав на палубу, глазела на них.
Тут с Теренцием случилось нечто совершенно неожиданное. Уже ступив на доски пристани, он повернулся и посмотрел сначала на строй солдат, потом на матросов, облокотившихся на поручни. Посмотрел просто так, непроизвольно, лениво. И, уже отводя взгляд, вздрогнул. Вздрогнул, испугался посмотреть снова. Ему показалось, что он увидел Симона. Даже не показалось — он уверен был, что видел, только словно бы не самого Симона, а лишь его глаза. Теренций так испугался, что не сказал себе: этого не может быть, шел, весь напрягшись, за Никием, уперся взглядом в его спину.
Лишь пройдя несколько шагов, он обернулся, услышав приближающийся сзади топот. Их догонял Палибий. Он пробежал мимо Теренция (толкнул бы его плечом, если бы тот не успел посторониться), поравнялся с быстро идущим Никием и что-то стал ему говорить. Теренций расслышал только: «...мне приказано было!..» Никий не ответил, не замедлил шага, даже не глянул на Палибия. Тот было остановился, посмотрел на ожидавшую их повозку, потом на корабль и все-таки, не решившись уйти, побрел вслед за Никием.
Их встретил претор местного гарнизона и несколько чиновников, мало похожих на римских. Никий сказал, что он приехал к Октавии по поручению императора Нерона, и подал претору бумагу. Но тот, подобострастно улыбаясь и передав свиток одному из чиновников, повел Никия к повозке.
Никий с претором уехали, а через некоторое время появились еще две повозки — в первой размести-лись Палибий с Теренцием, во вторую сели чиновники.
Теренций не смотрел на Палибия, хотя тот не отводил от Теренция взгляда. Мгновениями Теренцию казалось, что вот сейчас он бросится на него и схватит за горло. Правда, старый слуга страшился этого меньше, чем того, что Палибий вдруг заговорит. Но тот тяжело молчал и только давил Теренция взглядом, прижимая к спинке сиденья.
Дом, где жила Октавия, не походил на дворец, приличествующий жене императора Рима, хотя и оставленной, но выглядел довольно уютным среди буйно разросшейся вокруг зелени, как видно, не знавшей руки садовника. Никий с претором ждали их под навесом у входа; несколько женщин, наверное служанки, то появлялись в проеме дверей, то исчезали. Когда Палибий с Теренцием подошли, Никий сказал, обращаясь к претору:
— Надеюсь, ты правильно понимаешь волю императора?
Тот замахал руками, ответил, широко раскрыв глаза:
— Как тебе будет угодно!
— Мне будет угодно, чтобы ты ждал меня здесь и проследил, чтобы никто не помешал нашему разговору.
Претор закивал с преданным выражением на лице, а Никий, взмахом руки приказав Палибию с Теренцием следовать за ним, вошел в дом.
Никий шагал так уверенно, будто не раз уже бывал в этом доме и хорошо знал расположение комнат. Служанки со страхом смотрели на приезжих, прячась по углам. У самой двери их встретил старый слуга Октавии.
— Как доложить госпоже? — спросил он с поклоном.
— Убирайся! — коротко бросил Никий, оттолкнув слугу, и, распахнув дверь, вошел.
За ним вошел Палибий. Теренций, уже переступая порог, перехватил взгляд старого слуги, в глазах кото-рого застыл ужас. Войдя, он плотно прикрыл створку и, хотя Никий не приказывал ему этого, привалился к ней спиной.
В центре небольшой комнаты стояла молодая женщина. Теренций никогда не видел Октавию и, несмотря на страх и бившую все его тело дрожь, с любопытством разглядывал ее. Она не была красавицей. По крайней мере, Поппея выглядела значительно эффектнее. Маленького роста, с круглым лицом и близко поставленными (как и у ее отца императора Клавдия) глазами, она не казалась женщиной из царствующего рода. Впрочем, внешность ее искажал испуг. Страх был во всем: в лице, в фигуре и, казалось, даже в складках длинного, без единого украшения платья.
— Октавия,— обратился к ней Никий с легким поклоном,— ты должна...
Он не договорил, покосился на Палибия. Тот смотрел мимо его лица.
— Ты должна...— повторил Никий неуверенно, глядя на Октавию исподлобья.— Ты должна...
— Умереть? — прошептала она едва слышно.
— Но ты понимаешь, что...— зачем-то стал говорить Никий, вряд ли сам понимая, что он хочет сказать, но Октавия вновь спросила, уже громче, переведя взгляд с Никия на Палибия и обратно:
— Умереть? Ты хочешь, чтобы я умерла?
— Я не питаю к тебе зла, Октавия,— пояснил Никий,— я всего лишь слуга моего императора.
— Убийцы! — проговорила Октавия и вдруг крикнула так громко, что, наверное, слышно было во всем доме: — Убийцы! Убийцы! А-а! — и бросилась к окну.
Она сделала ошибку — сдвинулась с места. Если бы осталась стоять, то Никий не посмел бы тронуть ее. А сейчас он поступил так же, как хищник, преследующий жертву, которая не может защищаться,— он бросился за ней.
Бросился так стремительно, что она успела добежать только до окна, но не успела снова крикнуть — он зажал ей рот и стал отрывать от рамы, за которую она уцепилась. Несмотря на хрупкость, держалась она крепко, и Никий, повернувшись к Палибию, прохрипел:
— Помоги!
Палибий сделал шаг в его сторону и остановился.
— Помоги! — повторил Никий еще более сдавленно, но в это мгновение пальцы Октавии разжались, и они с Никием повалились на пол: она на него.
Полы платья задрались, обнажив ноги. Палибий уставился на них как завороженный.
— Веревку! — крикнул Никий, извернувшись и протянув свободную руку (ладонью другой он зажимал Октавии рот) к Теренцию.— Вяжи ее!
Теренций и сам не понял, что с ним такое произошло — его как будто толкнули в спину,— в два прыжка он достиг лежавших Октавию и Никия, сорвал тесемку, на которой крепились кисти с обеих сторон ложа, и, бросившись на ноги Октавии, ловко связал их у лодыжек.
— Руки! — приказал Никий, и Теренций сделал то же самое с руками женщины.
Никий спихнул Октавию на пол и встал тяжело дыша. Теренций, стоявший рядом, увидел, как она широко раскрыла рот, и, ожидая пронзительного крика, почему-то вопросительно посмотрел на Никия. Лицо Никия сморщилось так, будто крик уже раздался и оглушил его. Но — крика не последовало. Октавия только со свистом вдохнула и закрыла рот. В лице ее был ужас, кажется, она уже плохо понимала, что с ней такое происходит. Никий потянулся к ложу, взявшись за конец, рывком сорвал покрывало и бросил его на голову Октавии.
— Все! — услышал Теренций и почему-то вздрогнул, а Никий, не оборачиваясь, махнул Палибию рукой.— Теперь ты, Палибий!
Палибий не двинулся с места, и Никий, протянув руку, сильно толкнул его в плечо:
— Ты что, оглох? Я же сказал: теперь ты!
— Что? — Палибий вскинулся, непонимающе посмотрел на Никия.— Что ты сказал?
— Кончай ее! — бросил Никий, ткнув в сторону Октавии указательным пальцем.
— Не могу! — прошептал Палибий.— Я не...
Наверное, он хотел сказать, что он не убийца (по крайней мере, так это понял Теренций), но не успел договорить.
— Кто ты такой, это мы сейчас посмотрим,— нервно усмехнувшись, бросил Никий.— Обнажи меч!
Палибий рывком выдернул меч из ножен, направив острие на Никия.
— Не меня,— хладнокровно проговорил Никий,— ее.
Палибий был в нерешительности, острие его меча заметно ходило из стороны в сторону.
Никий шагнул к нему, едва не наткнувшись на меч,— Палибий потянул меч к себе.
— У тебя нет выбора, Палибий,— тихо, но четко и с очевидной угрозой сказал Никий.— Если меня, то тебе не будет пути в Рим. Если ее — я попытаюсь заступиться за тебя перед императором.
— Заступиться? Но я...
— Императору все известно, Палибий. Перед отплытием я передал ему все списки. Возглавляет заговор Гай Пизон, а ты стоишь в списке в третьем десятке. Но имей в виду, даже те, которые стоят в пятом десятке, не смогут избежать смерти. Я все знал, когда брал тебя с собой, и мог выдать тебя еще в Риме. Ты хорошо понял меня, Палибий?!
Палибий, оцепенев, неподвижно смотрел на него. Никий медленно протянул руку, дотронулся до лезвия меча, повернул его так, что острие было теперь направлено в его грудь:
— Решайся, Палибий! Ты видишь, я не боюсь смерти. Тебе стоит сделать всего одно движение.
Лицо Палибия исказила гримаса боли, руки его заметно дрожали. Лежавшая на полу Октавия дернулась и простонала.
— Хорошо, тогда сделаем по-другому.— Никий повернулся к двери и громко сказал: — Войди, Симон!
Дверь тут же отворилась, и в комнату вошел Симон из Эдессы. Теренций испуганно уставился на него, непроизвольно выговорил:
— Ты?!
— Это он, Симон,— ответил за Симона Никий.— Он же сам сказал тебе, что будет всегда рядом.— И, обратившись к Симону, бросил, указав рукой на Палибия: — Убей его, Симон.
Симон коротко кивнул и, вытащив меч, поднял его и шагнул к Палибию. Меч выпал из руки центуриона, звонко ударился о плитки пола. Симон уже занес меч над его головой, когда Никий крикнул:
— Стой!
Симон вопросительно взглянул на Никия, нехотя опустил меч. Никий пригнулся, поднял упавший меч, подал его центуриону, рукояткой вперед, тихо и ласково произнес:
— Погоди, Симон, он сделает то, что я хочу, ведь он так боится смерти. Ну! — Никий взял руку Палибия и вложил в нее рукоять меча.
Теренций смотрел на них, дрожа всем телом, он забыл об Октавии, лежавшей у его ног.
Палибий сжал меч, невидяще посмотрел по сторонам. Наконец взгляд его остановился на женщине на полу. Не спуская с нее взора, он шагнул к ней, едва не опрокинув Теренция, успевшего посторониться. Некоторое время он стоял над ней, потом, медленно повернув голову, посмотрел на Никия.
— Да,— кивнул тот.
Палибий переступил через Октавию (так, что женщина оказалась между его ног), примерился и с силой воткнул лезвие меча ей в грудь. Она дернулась, он вытянул меч и воткнул снова, в то же самое место. Разогнулся, снова посмотрел на Никия. Тот одобрительно кивнул.
Глава одиннадцатая
Теренцию казалось, что он уже никогда не сможет стать прежним Теренцием, то есть видеть мир таким, каким видел его раньше. В то короткое время, пока он стоял рядом с лежавшей на полу Октавией, мир перевернулся перед его глазами и уже не хотел вставать на прежнее место. Ощущение перевернутого мира было таким реальным, что Теренций чувствовал себя чуть легче тогда, когда ложился и смотрел на мир как бы снизу вверх. Он даже выгибал шею так, чтобы все предметы вокруг казались перевернутыми, а он как бы смотрел на них, стоя вверх ногами. Вот тогда он ощущал некоторое успокоение и мог заснуть.
Но это получалось только ночью, потому что в присутствии Никия и других он не мог себе позволить лечь. Он страдал от этого, но приходилось терпеть. Когда Никий спрашивал его ласково — после происшедшего на Пандетерии Никий стал с ним неизменно ласков, но теперь это не радовало Теренция,— так вот, когда Никий спрашивал:
— Что с тобой, Теренций, мне кажется, что ты спишь. Очнись, мы ведь возвращаемся домой,— Теренций только несмело улыбался, невидяще озирался по сторонам и вздыхал.
Впрочем, Никий не донимал его расспросами. То веселье, которое было в нем, когда они плыли на остров, сменилось грустной сосредоточенностью. Он редко выходил теперь на палубу и почти весь день проводил у себя в каюте, приглашая Теренция только тогда, когда ему становилось что-нибудь нужно.
С Симоном из Эдессы, так неожиданно появившимся в комнате несчастной Октавии, Теренций тогда не сумел перекинуться ни единым словом. Сразу после убийства он вышел в дверь, и Теренций его больше не видел. Наверное, Симон вернулся на корабль другим путем. Если вернулся и если... вообще явился. Теренций не хотел думать об этом, боясь, что сойдет с ума, но и по дороге к пристани, и уже в море он все озирался по сторонам, ища взглядом Симона. Искал, но не находил. У Никия же он боялся спросить о Симоне. Больше всего боялся того, что Никий удивленно на него посмотрит и скажет:
— Не понимаю, мой Теренций, о чем ты?
Но еще больше страданий доставлял Теренцию центурион Палибий. Именно тогда, когда он видел Палибия, он еще тверже уверялся, что мир перевернулся. Центурион теперь неизменно обращался к Теренцию с заискивающей радостью. Он улыбался, завидев Теренция издали, и, если последний не успевал скрыться, подходил и спрашивал:
— Тебе не нужна моя помощь, Теренций? Скажи, если что нужно и если — да не допустят этого боги! — кто-нибудь обидит тебя. Знай, центурион Палибий отдаст за тебя жизнь! — При этом Палибий делал строгое лицо, быстро оглядывался по сторонам и сжимал рукоять меча с такой силой, что костяшки его пальцев белели.
Теренций ничего не отвечал, неопределенно качал головой и старался найти предлог, чтобы поскорее уйти. А Палибий в свою очередь словно бы нарочно искал предлог, чтобы его не отпустить. Обычно предлогом был Никий: центурион восхвалял его качества с надоевшей высокопарностью. Никий у него был и могущественный, и доблестный, с умом, отмеченным богами... И еще, и еще — Теренций просто путался в определениях.
Сначала Теренций думал, что центурион просто сильно напуган и опасается разоблачений Никия. Это казалось вполне понятной причиной такого поведения. Но Теренций чувствовал, что здесь еще что-то, еще одна причина.
Однажды Палибий спросил его:
— Скажи, мой Теренций, почему твой господин не боится смерти?
Теренций пожал плечами и ничего не смог ответить. Но Палибий не отставал:
— Скажи, прошу тебя, ведь ты знаешь его хорошо.
Мне или любому другому солдату умереть ничего не стоит — это наша профессия. Но все мы боимся. А он? Ведь ему есть что потерять — власть, богатство, близость ко двору. Скажи, почему он не боится?
Теренцию хотелось ответить: «Потому что он христианин». Но он опять только пожал плечами.
После этого разговора с центурионом, ночью, он стал думать о Никии. Он любил его по-прежнему и был предан ему так, как настоящий слуга должен быть предан своему господину, но... Но ему больше всего хотелось вернуться к Аннею Сенеке и доживать свой век в его имении. Он не мог забыть той минуты, когда Никий набросил покрывало на голову несчастной Октавии. Именно это его действие, а не приказание Палибию убить ее больше всего смущало Теренция. И конечно же он не знал — почему.
В последний день их плавания Никий позвал Теренция к себе, попросив принести что-то, и, когда Теренций, исполнив приказание, готов был уже покинуть каюту, вдруг остановил его.
— Постой, Теренций, я хочу, чтобы ты ответил мне на один вопрос.
— Я слушаю, мой господин!
Никий поморщился:
— Нет, Теренций, я спрашиваю тебя не как слугу, а как друга. Ведь ты мне друг?!
Теренций со смущением посмотрел на Никия и не успел ответить, тот спросил:
— Скажи мне откровенно: я такое же чудовище, как и император Нерон? А? Ответь, прошу тебя.
— Нет,— сказал Теренций твердо.
— Ты думаешь, что я хуже?
И Теренций, сам не понимая, как это случилось, ответил:
— Да.
Никий подошел к Теренцию, молча обнял его и поцеловал.
— Мне нет спасения,—„шепнул он в самое ухо и тут же, взяв Теренция за плечи, развернул и подтолкнул к выходу.
У двери своей каюты он увидел Палибия. Центурион поманил его к себе и, когда тот подошел, взял за руку и произнес:
— Мы скоро прибудем в Рим, Теренций. Я хотел тебе сказать, что восхищаюсь Никием. И еще: ты видел, как я ударил ее мечом? Эту мерзкую Октавию?
— Да, да,— раздраженно ответил Теренций, безуспешно пытаясь вырвать руку.
— Так вот,— продолжил Палибий, глядя на Теренция восторженно-безумным взглядом,— не тогда, а потом я почувствовал радость. Не могу тебе объяснить лучше, но я никогда не чувствовал прежде, что служу величию Рима, а когда убил ее, почувствовал, что служу.
— Пусти,— сказал Теренций, дергая руку,— мне больно.
— Я понял, что служу величию Рима,— не слыша его и еще сильнее сжимая пальцы, проговорил Палибий.— Это Никий научил меня, это он. А еще говорили, что он связан с христианами! Это неправда, Теренций, и я убью первого, кто скажет мне об этом. Скажи, и я убью тебя.— Он поднял руки и, держа их над головой Теренция, добавил: — Вот этими самыми руками.
Теренций толкнул дверь, юркнул внутрь и что было сил навалился на нее с другой стороны. И услышал зловещий шепот Палибия:
— Я убью любого, кто скажет! Каждого! Каждого, ты слышишь меня?!
Ночью того дня, когда они прибыли в Рим, Теренций не мог уснуть. Страх ни на мгновенье не отпускал его. Казалось, он слышит в коридоре крадущиеся шаги. Он вставал, подходил к двери и, прислонив ухо, слушал. Сердце со страшным стуком билось в груди, мешая слышать. Он возвращался к ложу, бесшумно ступая босыми ногами, но, лишь только ложился, вновь различал шаги и вставал опять.
Задремав ближе к утру, он вдруг открыл глаза и рывком сел на постели. Скрипнула дверь — он понял, что теперь это уже не чудится ему. Некоторое время вошедший неподвижно стоял в темноте. «Скорей бы!» — мелькнуло у Теренция, хотя он и сам не понял, что имеет в виду. Так же он не понял, как это проговорилось вслух:
— Скорей... бы!
И тут он разобрал слова:
— Это я, Теренций,— и узнал Симона.
— Симон! — воскликнул он, протягивая в темноте руки.
— Тише,— сказал Симон, подходя,— нас могут услышать.
Теренций поднялся и, тут же натолкнувшись на Симона, обнял его, а почувствовав слабость в ногах, опустился на колени.
Они долго говорили в темноте. Симон сказал, что теперь живет в доме Никия, но тайно, ни одна душа не должна знать об этом. Он поведал о разговоре с Никием перед отплытием на Пандетерий, о том, как он взял его с собой, рискуя, потому что Симона могли опознать.
— Я поверил ему, Теренций, а он мне. Ты понимаешь, что это значит!
Теренций кивал в темноте, хотя Симон не мог этого видеть. Когда он встал, чтобы уйти, Теренций схватил его за одежду и вдруг горячо прошептал:
— Но ведь он убийца, Симон! Тебе нельзя служить ему!
— Можно,— каким-то странным тоном ответил Симон и, помолчав, добавил: — Можно, потому что он сказал мне, что все равно убьет чудовище!
— Чудовище? Ты имеешь в виду...
— Да, да,— быстро сказал Симон,— именно его я и имею в виду.
— Но ты не должен верить ему.— Теренций нащупал в темноте руку Симона и, сжав, дернул вниз.— Он с ними, а не с тобой. Он не убьет чудовище, потому что он сам...
— Молчи! — приказал Симон.
— Нет, нет,— почти простонал Теренций,— я знаю, он с ним, он их!
— Он наш! — Симон рывком высвободил руку.
— Но ваш Бог не позволяет убивать! А он убил женщин, убил Онисима, он...— Теренций задохнулся и не смог продолжить.
Он чувствовал, как рука Симона легла на его плечо:
— Успокойся, Теренций, наш учитель Иисус говорил, что принес нам меч, а не мир, а ведь он знал истину.
— Но ты же сам видел Октавию... как он, Никий, как он...
— Мы должны победить! — сказал Симон, и его пальцы больно сжали плечо Теренция.
Глава двенадцатая
Когда Никий вошел, Нерон встретил его молчанием. Сидя в богато украшенном кресле, предназначенном для официальных приемов, он некоторое время разглядывал Никия, не приглашая подойти. Поппея стояла рядом, положив руку на плечо императора,— взгляд ее оставался холоден и неподвижен.
Наконец Нерон произнес:
— Мы рады видеть тебя здоровым, Никий, ты можешь подойти,— и, когда тот подошел, император поднял голову и, взглянув на Поппею (она не пошевелилась), добавил: — Но разве я приказывал тебе возвращаться так скоро? Тебе нужен отдых — или ты плохо понимаешь желания своего императора?
— Прости, принцепс, я вынужден был вернуться.
— Вот как! — недовольно произнес Нерон и снова поднял голову.— Ты слышишь, Поппея!
— Ты видел Октавию? — спросила Поппея.
— Она умерла.— Никий увидел, что ни один мускул не дрогнул на ее мраморном лице.
— Да? — озабоченно произнес Нерон.— Как же это случилось? Мне всегда казалось, что она обладает хорошим здоровьем.
— Я убил ее,— прямо глядя в лицо Нерона, проговорил Никий.
Нерон, как видно, не ожидал такого ответа и, как видно, лишь от смущения спросил:
— Сам?
— Нет, это делал центурион Палибий, но я отдавал приказ и стоял рядом.
Нерон засопел, недовольно поерзал в кресле, потом сказал-, глядя на Никия исподлобья:
— Ты знаешь, Никий, что я могу сделать с тобой?
— Да, принцепс,— кивнул Никий,— но ты не сделаешь этого.
— Что-о? — вскричал Нерон, схватившись за подлокотники, как бы желая встать, но не встал.— Ты смеешь говорить со мной... Я сейчас кликну стражу, и ты пожалеешь... пожалеешь, что родился на свет! — Он посмотрел на дверь и уже было открыл рот, чтобы позвать солдат, когда Поппея произнесла:
— Подожди, он что-то хочет сказать.
— Я ничего не желаю слушать! — Нерон рывком поднялся и крикнул.— Эй, солдаты! Кто там!..
Хлопнула дверь за спиной Никия, послышался тяжелый топот, он быстро посмотрел на Поппею, взгляды их встретились, и он почувствовал, что она поняла его.
— Говори! — быстро сказала она, останавливая солдат движением руки.
Нерон удивленно посмотрел на нее, перевел взгляд на Никия. И тогда Никий сказал:
— Пусть они уйдут, это дело государственной важности.
Несколько мгновений Нерон колебался, потом хмуро взглянул на солдат, пошевелив пальцами. Этого было достаточно, солдаты покинули комнату.
Лишь только закрылась за ними дверь, Никий выговорил медленно и отчетливо:
— Гай Пизон готовит заговор. С ним Анней Сенека, несколько сенаторов, большинство офицеров твоей гвардии. Их много, они хотят убить тебя.
— Убить меня?! — с гримасой крайнего недоумения, делая ударение на последнем слове, воскликнул Нерон, оглядываясь на Поппею.
Она впервые за весь разговор дрогнула: в глазах отразился страх, правая рука, что еще недавно царственно лежала на плече Нерона, легла на живот.
— Этого не может быть.— Нерон шагнул к Никию и встал вплотную. В лице его сквозь недоумение и страх проглядывала надежда — он словно ждал, что Никий подтвердит, что это не так, этого ни в коем случае не может быть.
Но Никий произнес твердо:
— Это так, император!
— Но это!..— Нерон схватил Никия за одежду на груди, приблизил его лицо к своему так близко, что оно расплылось в глазах Никия.
— Это так! — едва слышно, но не менее твердо произнес Никий.
Нерон с силой толкнул Никия в грудь:
— Кто? Кто велел сказать тебе это? Почему ты говоришь это, почему?!
— Потому что я люблю тебя.
— Но...— Император нервно взмахнул рукой, осмотрелся вокруг, будто внезапно ослеп, попятился и упал в кресло.— Но это же...— Он не договорил, обхватил голову руками.
Никий подумал, что если бы Нерон мог видеть себя со стороны, то он, наверное, был бы доволен своей игрой.
Поппея пришла в себя скорее. Она строго сказала, протянув руку в сторону Никия:
— Имена! Имена заговорщиков! Главное — офицеров гвардии!
Никий достал из-под одежды и протянул ей список, который составил накануне. Но Поппея не успела его взять — неожиданно резким движением Нерон выкинул руку и перехватил свиток. Торопливо развернул и углубился в чтение.
Когда он поднял голову, лицо его стало бледным, а взгляд мутным. Он хотел что-то произнести и уже поднял было руку, но не произнес, а рука мертво упала на подлокотник кресла. Поппея подошла, пригнулась к Нерону, заглянула ему в лицо, что-то зашептала быстро и гневно (Никий расслышал только: «...быть сильным» и «...этих пауков».). Сначала император оставался неподвижным и словно бы не понимал, что ему говорит Поппея. Потом кивнул раз, и другой, и третий — с каждым разом все увереннее и четче. Наконец она разогнулась и отошла за спину Нерона, а он сказал, потрясая свитком:
— Я раздавлю гнездо этих мерзких пауков!
Поппея пригнулась к уху императора и что-то еще прошептала ему, указывая глазами на Никия. Нерон кивнул и поманил Никия рукой:
— Подойди.
Никий подошел, чуть склонившись вперед. За лицом Нерона белело лицо Поппеи — мрамор был теперь не мертвым, а живым, у виска билась синяя жилка, похожая на прилипший кусок нитки, прежде он ее не замечал. Неожиданно мелькнуло: «Родная». Сам не осознавал, о ком это — о нитке или о женщине.
— Я верю тебе.— Нерон глядел на Никия исподлобья. Взгляд был тяжелый, вязкий, таким взглядом не смотрят, когда говорят, что верят. Никий кивнул. Нерон продолжил: — Скажи, кого ты считаешь верным из офицеров преторианской гвардии? Назови одного или двух — я не верю спискам.
— Центурион Палибий,— уверенно ответил Никий.
Брови императора поползли вверх. Он положил свиток на колени, провел пальцем по строчкам, остановился, ткнул в одну:
— Но он в этом списке. Я не понимаю.
— Я вписал его, чтобы быть точным, и еще потому, что он не нравится мне. Но он солдат и сделает то, что ты желаешь, лучше других.
— Лучше?! — в гневе воскликнул Нерон и отбросил список в сторону.— Я желаю, чтобы ни один не ушел живым.
— Палибий будет неистов, принцепс.
— Неистов?! Он знал, но не открылся, как я могу доверять ему?
— Так же, как мне, принцепс.
— Что это значит? — вскричал Нерон, обернувшись к Поппее.
Она холодно улыбнулась:
— Это значит всего-навсего, что Никий узнал о заговоре раньше тебя, а центурион, как я поняла, раньше Никия.— Она перевела взгляд на Никия.— Я правильно объясняю?
— Да, божественная,— кивнул Никий.
Он назвал ее «божественная», так обращаются к жене императора, а она еще не была женой. Губы ее дрогнули, словно она хотела переспросить — не ослышалась ли? Никий быстро закрыл и открыл глаза — подтвердил: правда.
— Верь Никию, Нерон,— сказала она строго,— он один может спасти империю.
Некоторое время Нерон недоуменно смотрел на Никия, словно позабыв тему разговора. Потом проговорил, вспомнив:
— Да, центурион... Палибий... Хорошо, делай, как знаешь. А эта старая ворона, Анней Сенека, мой благословенный учитель, он что, тоже замышлял против меня? У тебя есть доказательства?
— Мой слуга Теренций ездил к нему. Тот открылся ему и передал письма для Гая Пизона.
Нерон был непритворно удивлен:
— Открылся? Слуге? Я не понимаю.
— Теренций был когда-то управляющим в его имении, Сенека ему доверял всецело.
— Управляющим у Аннея? А как он попал к тебе? — Нерон подался вперед так сильно, что руки, которыми он держался за подлокотники кресла, вывернулись как под пыткой.— Как он попал к тебе? Отвечай!
— Случайно, принцепс, об этом долго рассказывать.
— Значит, ты знал Сенеку еще до того, как попал ко мне? — с угрозой произнес Нерон.
— Знал,— неожиданно для самого себя ответил Никий.
Неизвестно, чем бы закончился этот разговор, если бы не вступила Поппея:
— Мы теряем время, Нерон,— выговорила она раздраженно,— Ты всегда сумеешь удовлетворить свое любопытство, если мы останемся живы.
— Ты считаешь это любопытством! — зло отмахнулся Нерон.
— Я считаю, что мы теряем время,— в тон ему ответила Поппея.— Убей Никия, если ты не доверяешь ему, но разве у тебя есть кто-то, кому ты можешь доверять больше?! Никий не римлянин, он будет убивать патрициев с удовольствием. С удовольствием плебея — разве не этого ты хочешь, Нерон?
Некоторое время Нерон оцепенело смотрел на нее, потом тихо и как-то особенно спокойно выговорил:
— Да, я хочу видеть их всех мертвыми.
— Ты увидишь их такими,— усмехнулась Поппея и, обращаясь Никию, добавила: — Ведь ты тоже этого хочешь, Никий?
Никий промолчал, а Нерон сказал:
— Ладно. Пусть Палибия срочно пригласят ко мне. А ты,— он ткнул указательным пальцем в грудь Никия (в какое-то мгновенье ему показалось, что пухлый палец Нерона легко пройдет насквозь),— ты поедешь к моему учителю. Напомни ему, что он зажился на свете и что пора уходить. Он так много писал о необходимости бесстрашия человека перед лицом смерти, что, надеюсь, с любопытством заглянет в это лицо.— И, повелительно взмахнув рукой, бросил: — Беги, Никий, беги!
Глава тринадцатая
Эти последние слова Нерона — «беги, Никий, беги!» — продолжали звучать в ушах Никия и тогда, когда ехал в носилках, и тогда, когда он вернулся домой. Вряд ли император вкладывал в них то значение, какое Никий теперь имел в виду, но — кто знает!
Как бы там ни было, а необходимость бежать сделалась манией. Он уже не думал, как и куда, думал только: «Сейчас, сию же минуту!»
Скорее случайно, чем осмысленно, он сразу направился в дальнее помещение дома, где теперь тайно жил Симон из Эдессы. Когда Никий вошел, Симон лежал на подстилке у окна (подстилка служила ему ложем — какое-то грязное и скомканное тряпье), лежал, закинув руки за голову. Увидев Никия, он рывком поднялся, настороженно спросил:
— Что?
— Все,— сказал Никий, вздохнув, и устало провел ладонями по лицу.
— Ты говорил с ним?
— Да, говорил.
— Ты не решился убить его? — Симон подошел совсем близко; почувствовал тяжелый запах его дыхания, Никий опустил голову. Симон тронул его за плечо.— Ты боялся?
Никий отрицательно покачал головой:
— Не в этом дело.
— А в чем? Тебе помешала стража?
Никий поднял глаза, внимательно, как никогда прежде, вгляделся в грубое лицо Симона, казалось, вырезанное из куска старого дерева — глубокие морщины, неровная кожа, похожая на кору, чуть приплюснутый нос с торчащими из ноздрей кустиками черных жестких волос. Почему-то вспомнил лицо Нерона — гладкая кожа, чуть припухшие веки, капризно изогнутые губы (у Симона рот походил на грубо прорезанную щель),— вспомнил и, вздохнув, ответил:
— Еще не время,— а про себя подумал: «Бежать. Немедленно». И сразу же, встретив пронзительный взгляд Симона: «Разве они позволят!»
Ему ничего не хотелось объяснять, и он, глядя в сторону, глухо проговорил:
— Он еще может убить много влиятельных римлян. Никто не сможет сделать это кроме него. Ты понимаешь, Симон?
Последнее прозвучало как извинение. Симон недовольно фыркнул, отошел к окну и сел на свое тряпье, обхватив руками колени.
— Ты обманываешь меня,— сказал он,— ты не хочешь его убивать.
«Не хочу»,— хотелось ответить Никию, но он, подойдя и присев перед Симоном, ответил:
— Не в этом дело. Чем больше он убьет влиятельных римлян, тем быстрее...
— Я не верю,— перебил его Симон.— Ты уже говорил, но я не верю.
— Но почему же? Разве учитель Павел не объяснил тебе...
Симон опять перебил:
— Учитель Павел умер.
— Да, конечно,— примирительно выговорил Никий.— Но учитель Павел знал все и обо всем лучше нас с тобой. Или ты сомневаешься в этом и уже не веришь тому, что говорил учитель?
— Учитель Павел умер,— упрямо повторил Симон,— А я не могу верить тебе так же, как учителю. Я вижу, что ты не хочешь сделать то, для чего тебя послали в Рим,— убить чудовище, отомстить за кровь наших братьев. Тебе понравилось жить в роскоши, есть хорошую пищу, жить в этом дворце,.. Ты предал нашу веру, Никий, и заслуживаешь смерти даже больше, чем это чудовище, потому что он не знает, что творит, а ты предал.
Никий резко поднялся:
— Что ты мелешь, опомнись!
Симон медленно поднял голову, взгляды их встретились. В черных, блестевших ненавистью глазах Симона Никий увидел смерть — так близко он никогда ее не видел. Симон, не сводя взгляда с Никия, подсунул руку под тряпье и медленно вытащил меч. Никий стоял, не в силах пошевелиться, словно завороженный взглядом Симона. Он видел, как тот достает меч, понял, что еще несколько мгновений, и он будет лежать на полу в луже крови — как Агриппина, как Октавия. Симон оперся свободной рукой о пол, привстал — и вдруг тряпье под ногой скользнуло, он неловко дернул рукой, меч ударил о плитки пола с тупым скрежетом. Этот звук вывел Никия из оцепенения — он бросился к двери и, толкнув ее, выскочил наружу.
— Ко мне! Ко мне! — закричал он сдавленно, ткнул рукой в грудь выбежавшего навстречу слугу, услышал топот и, задыхаясь, побежал на него.
Кто-то встал у него на пути. Он кинулся было в сторону, но чьи-то сильные руки обхватили его, сжали и оторвали от пола. Он дернулся, пытаясь освободиться, но вдруг услышал у самого уха:
— Это же я, Палибий! Ты что, не узнаешь меня?
Никий поднял голову, чуть отстранился, разглядывая расплывавшееся перед глазами лицо, болезненно улыбнулся, узнав центуриона. Палибий осторожно поставил его на пол, а Никий, лишь только почувствовав ногами твердь, вытянул руку и, указывая в конец коридора, прошептал (силы покидали его):
— Там, там... он хотел убить меня!
Лицо центуриона сделалось каменным, он махнул вбежавшим за ним солдатам охраны, приказывая идти туда, куда указал Никий, и, осторожно обойдя его, зашагал следом.
— Никого,— сказал он, вернувшись через некоторое время.— Наверное, бежал через окно. Не беспокойся, я прикажу усилить охрану. Ты не знаешь, кто это был? Ты успел разглядеть его?
— Не-е-т,— почти простонал Никий.
— Наверное, это люди Гая Пизона,— предположил Палибий, с едва заметным снисхождением глядя на Никия,— Стоило только сунуть палку в этот муравейник...
— Уже? — перебил его Никий.
Палибий помотал головой, не понимая.
— Разве их... Разве их уже взяли?
— Всех! — самодовольно отрезал Палибий.— Кое-какая мелочь ускользнула, но от центуриона Палибия все равно не уйдет никто. Не представляешь, как эти трусы тут же все стали валить друг на друга.— Он упер руки в бока и, откинув голову, захохотал,— Как только сдерешь с патриция тогу с синей полосой, так он тут же превращается в плебея.
— Но так быстро, прошло всего...— Никий не договорил, удивленно глядя на Палибия.
— Император приказал — центурион Палибий сделал,— самодовольно пояснил Палибий.— Я отобрал верных солдат, а эти крысы даже не умеют сбежать вовремя.— Палибий пригнулся к Никию и заговорщицки ему подмигнул.— Скажу тебе по секрету, император намекнул мне, что хоть я пока еще и центурион, но скоро...— Он выставил свой толстый палец и выразительно потыкал им вверх.— Понимаешь?
Никий кивнул и даже заставил себя улыбнуться дружески, хотя улыбка все же вышла натянутой. Развязность центуриона не возмущала, а пугала его. «Бежать!» — снова подумал он и снова кивнул.
— Ну ладно,— сказал Палибий,— еще не все сделано. Ты знаешь, ведь я пришел за тобой.
— За мной? — Никий сглотнул, дернув головой.
— Конечно,— бодро заявил Палибий,— нам предстоит небольшое путешествие. Император приказал мне сопровождать тебя.
Когда центурион сказал «сопровождать», у Никия несколько отлегло от сердца, все-таки сопровождать — это не доставлять и не конвоировать. Никий хотел осторожно спросить куда, но Палибий опередил его:
— Эта старая крыса, Сенека, конечно, никуда не денется, его и ноги уже не носят, но император приказал ехать теперь же, а если император приказывает Палибию...— Он многозначительно помолчал и добавил, оглядевшись по сторонам: — Еще мне приказано доставить к принцепсу твоего Теренция. Ты не знаешь, зачем он ему нужен?
— А разве ты не знаешь? — в свою очередь неожиданно спросил Никий, пристально посмотрев в глаза Палибия.
Центурион не сумел скрыть смущения.
— Что ты имеешь в виду? — спросил он глухо.
— Только то, мой Палибий,— уже вполне естественно сумел улыбнуться Никий,— что вы двое, ты и Теренций, имеете самые большие заслуги перед империей в раскрытии коварного заговора. Уверен, император оценит это высоко.
Палибий недовольно посопел, пожевал губами, выставил правую ногу вперед, убрал, выставил левую. Наконец сказал, глядя повыше глаз Никия:
— Скажи, ты уверен в нем?
— В Теренции? Как в себе самом.
Палибий поморщился:
— Я не об этом. Просто я подумал, что он может... что может...
— Что он может? Говори же, Палибий!
Палибий вздохнул, но все-таки выговорил:
— Что он может наговорить не то, что нужно. Со страху, конечно.
— Не то, что нужно? — повторил Никий, сделав удивленные глаза.— Разве он должен говорить еще что-нибудь, кроме правды? Я тебя не понимаю — что же он должен говорить?
— Ничего,— глядя в пол, хмуро отозвался Палибий и снова шумно вздохнул.
Никий приказал слуге позвать Теренция. Теренций вошел, с опаской поглядев на центуриона.
— Я слушаю, мой господин! — поклонился он Никию.
— Насколько я понял со слов центуриона,— сказал Никий, подходя к Теренцию и прямо глядя в его глаза,— тебе следует ехать во дворец, чтобы дать показания по поводу известного тебе заговора.— Он обернулся к Палибию,— Его будет допрашивать сам император?
Не отрывая взгляда от пола, центурион дернул плечами.
— Но, как бы там ни было, кто бы ни допрашивал тебя,— продолжал Никий,— ты должен говорить правду.— Он увидел в лице Теренция плохо скрытый вопрос и повторил, уже чуть раздраженно: — Ты должен говорить правду, одну только правду, Теренций. Ты понял меня? Одну только правду!
— Да, мой господин, я понял, я буду говорить только правду,— сказал Теренций и опять вопросительно посмотрел на Никия.
— Тогда иди,— отрывисто, злясь на самого себя, бросил Никий,— солдаты тебя проводят.
Теренций поклонился и, повернувшись, медленно пошел к двери. Шагал он неровно, уже у порога оглянулся. Взгляды их встретились. В глазах Теренция была тоска. Никий почему-то отчетливо понял, что они видятся в последний раз. Если бы не присутствие центуриона, он, наверное, бросился бы к Теренцию, может быть, обнял его. Но он только с трудом сглотнул подступивший к горлу ком, закрыл глаза и отвернулся.
Глава четырнадцатая
Все время пути до виллы Аннея Сенеки центурион Палибий оставался хмур, а Никий задумчив. Ехали верхами, в сопровождении двух десятков всадников. Когда Никий спросил, для чего такое количество солдат, Палибий ответил, что так надежнее. Никий пожал плечами и больше к этому не возвращался.
День был прохладный, солнце светило неярко, к вечеру все пространство вокруг покрыл студеный гус-той туман — в нескольких шагах уже ничего не стало видно. Топот множества лошадиных ног позади раздавался глухо. Никий подумал, что вот сейчас самое время бежать — повернуть лошадь в сторону и скрыться в тумане. Но он медлил, то крепко сжимая поводья, то расслабляя пальцы. Ехавший рядом центурион вдруг сказал, продолжая смотреть перед собой:
— Хотел бы предупредить тебя, Никий, но не имею права.
— О чем, Палибий?
Палибий вздохнул и, потянувшись, дотронулся до руки Никия:
— Лучше не спрашивай,— и он вздохнул опять.
Почувствовав стеснение в груди, Никий проговорил как можно беззаботнее:
— Что с тобой, Палибий? Не узнаю решительного воина! Если не можешь сказать, зачем начал?..
Палибий не ответил, некоторое время они ехали молча. Вдруг Палибий, пригнувшись к Никию и настороженно покосившись назад на невидимых за туманом всадников, проговорил глухим, без выражения, голосом:
— Ты меня выручил, Никий, и я могу сказать тебе только вот что: если ты поскачешь в одну сторону, то я направлю солдат в другую. Знай это твердо, я твой должник.
Никий растерялся, не знал, что отвечать, как перевести слова центуриона в шутку, изобразить непонимание... Он сидел оцепенев, до боли в пальцах сжав поводья, а Палибий, приподнявшись в седле, крикнул зычно:
— Не отставать! — и пришпорил лошадь.
Солдаты догнали Никия, отряд тяжело проскакал мимо, но Никий так и не решился отстать, да и лошадь сама потянулась за ушедшими вперед. Он не держал ее не подгонял, она сделала все сама, и вскоре он снова поравнялся с Палибием. Центурион лишь мельком глянул на него и нахмурился.
Дом Сенеки вырос из тумана внезапно. Палибий поднял руку, останавливая отряд, сказал, ловко спрыгнув на землю:
— Иди, это твое дело,— и тут же повелительно и негромко распорядился окружить дом со всех сторон.
Один из солдат принял поводья, Никий слез с седла, несколько раз присел, разминая затекшие ноги, и, кивнув центуриону, чтобы тот следовал за ним, быстрым шагом направился к дому. Оттолкнув выбежавшего навстречу слугу, они вошли в дом.
Аннея Сенеку они застали в гостиной за массивным мраморным столом, уставленным яствами, в обществе нескольких друзей. Все они настороженно посмотрели на вошедших. Никий с трудом узнал Сенеку — последний год сильно его состарил.
— А-а, Никий,— проговорил тот слабым голосом, чуть хрипловато и приподнял приветственно старческую, с синими прожилками руку,— греческий клинок. Не думал, что ты когда-нибудь явишься ко мне в обществе столь доблестного воина. Впрочем, я ждал тебя.
— Меня прислал император Нерон! — четко выговорил Никий, но голос его все же предательски дрогнул на имени императора.
— Об этом нетрудно догадаться,— усмехнулся Сенека.— Я даже знаю, зачем ты приехал. Правда, присутствие солдат, что так отчаянно топают во дворе, кажется мне излишним. Мне всегда представлялось, что мой ученик Нерон хорошо знает своего учителя, он напрасно предполагает, что я буду бегать от него по окрестным полям, как заяц от борзых. Ведь Нерон желает моей смерти — я правильно тебя понял, Никий?
— Ты понял меня правильно,— раздраженно ответил Никий.— Твое участие в заговоре Гая Пизона...
— Мое участие в заговоре,— перебил Сенека,— не имеет никакого значения. Приговор мне был вынесен давно — странно, что его исполнение затянулось так надолго.
— Заговор открыт полностью,— сказал Никий лишь для того, чтобы не молчать,— заговорщики полностью изобличены, и все они показали, что твое участие не ограничивалось...— он запнулся, не зная, как продолжить, а Сенека произнес с улыбкой:
— Оставь, Никий, не стоит утруждать себя перечислением моих прегрешений перед императором — их больше, чем ты знаешь и чем сможешь назвать. Надеюсь, потомки поймут, что я служил Риму, а не человеку. Но сейчас'это тоже не имеет никакого значения.— Он медленно поднялся. Обвел гостей плавным жестом: — Ты позволишь мне попрощаться с друзьями?
Никий угрюмо кивнул. Из дверей справа вышла жена Сенеки, Паулина, встала у порога, прижав руки к груди и испуганно глядя то на Никия с Палибием, то на мужа.
— Нет! — выдохнула она, и еще раз, уже со стоном: — Н-е-т!
Сенека строго на нее посмотрел:
— Умей сдерживать себя, Паулина, мы не одни.
— Но, Анней!..— жалобно проговорила она.
— Перестань,— уже чуть мягче произнес муж.— Ты же не хочешь, чтобы обо мне сказали: философ Сенека умер от страха.
Паулина кивнула, потерянно глядя на мужа, но более не произнесла ни слова.
Сенека вполголоса обращался к каждому из гостей, кажется, плохо его слушающих — все они мельком настороженно поглядывали на центуриона Палибия.
Закончив, Сенека повернулся к Никию:
— Я могу надеяться, что моих друзей не будут преследовать за то, что они в такую минуту оказались рядом со мной?
— Они могут уйти,— сказал Никий,— никто не причинит им вреда.
— Их нельзя так отпускать,— недовольно проговорил Палибий,— кто-то из них мог быть замешан...
— Они могут идти,— не глядя на Палибия, с особенной властностью в голосе повторил Никий.
Центурион что-то угрюмо пробурчал себе под нос, но возразить не осмелился, а гости, осторожно кланяясь хозяину и бесшумно ступая, вышли.
— Я готов,— сказал Сенека и, подойдя к жене, обнял за плечи, прижимая ее голову к своей груди. Женщина всхлипнула, вздрогнув всем телом, он положил ей ладонь на затылок и что-то шепнул, пригнувшись к самому уху.
Постояв некоторое время, Никий молча повернулся и тоже вышел в дверь. Туман на улице сделался еще гуще. Никия била дрожь. Опершись плечом о мраморную колонну у входа, он закрыл глаза. Послышались приближающиеся шаги Палибия, он осторожно спросил:
— Ты считаешь, что он должен умереть?
— Так считает император,— проговорил Никий, не открывая глаз.
— Я не хочу этого видеть,— едва слышно пробормотал Палибий.
Никий открыл глаза — тяжелое лицо центуриона стало еще суровее.
— Я не хочу этого видеть! — повторил он на этот раз громче и решительнее.
Никий равнодушно кивнул:
— Хорошо, оставайся здесь и...— Он обвел глазами лужайку перед домом (в сумерках туман из белого стал синим).— И скажи солдатам, чтобы они так не топали.
— А? — не понял Палибий.
— Пусть они ведут себя потише — такая смерть требует уважения.
Центурион что-то хотел спросить у Никия, но, так и не решившись или не найдя слов, махнул рукой и тяжело зашагал к лужайке, уже через несколько мгновений скрывшись в тумане.
Вышел слуга, проговорил, пряча глаза:
— Хозяин приглашает тебя войти.
Когда Никий переступил порог гостиной, Анней Сенека стоял, опершись рукой о край стола, его жены Паулины уже не было в комнате.
— Я все приготовил,— Сенека кивнул на дверь.— Пойдем!
— Куда? — не понял Никий, наедине с Сенекой почувствовав себя крайне неловко.
Тот усмехнулся:
— Тебе хорошо известно, мой Никий, место, где я обычно принимаю ванну. Пойдем, я собираюсь умереть там.
И, больше ничего не добавив, он вышел. Никий стоял в нерешительности — сейчас ему хотелось бежать отсюда — из этого дома, из Рима. Но решиться было невозможно, он почему-то ощущал, что в эти минуты не принадлежит самому себе. Низко опустив голову, он сделал шаг к двери, за которой скрылся Сенека.
Он хорошо знал расположение комнат в доме и поднял голову лишь тогда, когда переступил порог ванной, где у противоположной стены располагался небольшой бассейн. От воды шел пар. Сенека стоял у мраморной скамьи, двое слуг помогали ему раздеваться. Не оборачиваясь к Никию, философ произнес:
— Знаю, моя смерть не доставляет тебе большого удовольствия, и даже полагаю, что ты ощущаешь некий род неловкости, а то и стыд. Но тебе нечего стыдиться, потому что дело не в тебе и не во мне. Вы победили, вот и все, хотя сами еще не вполне осознаете свою победу. Осторожнее, Крипе,— сказал он слуге, поморщившись. Повернулся к Никию: — Ты понимаешь, о чем я говорю? — И добавил с улыбкой: — Учитель Павел был бы тобой доволен.
— Я не понимаю,— почти прошептал Никий. Ему показалось, что у него пропал голос, но испытать, так ли это, он сейчас не решался.
— Все очень просто,— пояснил Сенека,— Наступает эра плебеев — эра патрициев закончилась. Может быть, ты присутствуешь при гибели одного из последних. Я хорошо относился к Павлу, но он плебей. Все люди не могут быть равны — это только уловка, чтобы поднять плебеев, чтобы дать им уверенность, что они тоже могут властвовать. Властвовать не хуже нас. Всякая власть уже предполагает неравенство, и, когда плебеи возьмут власть, они тоже станут делиться на властителей и рабов. Так устроен мир, Никий. Павел писал мне, что все равны перед Богом, но тогда зачем Бог создал нас столь неравными? Плебеи прекратят род аристократов и заменят их новой знатью. Но это будет плебейская знать — а ничего смешнее и страшнее плебейской знати быть не может. Мы — хранители духа, а вы можете быть лишь хранителями догмы. Вы будете выдавать ее за дух, но это всегда будет лишь мертвая догма, способная обмануть лишь те толпы плебеев, которые будут служить вам.
— Римские аристократы погрязли в разврате! — зло выговорил Никий.
— И еще в стяжательстве, и еще в роскоши,— добавил Сенека, снисходительно посмотрев на Никия.— Но они все равно остаются хранителями духа. Чистота нравов не залог духовности.
— А что залог духовности?
— Убежденность аристократов в том, что они хранители. Что они избранники. Из десяти развратников-аристократов девять чувствуют тонкость поэзии и глубину философии, и хотя бы один является настоящим философом или поэтом. Но и на тысячу праведных плебеев одного такого не отыщется. Они ненавидят аристократов потому, что не могут быть ими, вот и все. Взяв власть, они погубят дух. Посмотри, что стало с тобой, когда ты только лишь прикоснулся к власти. Ты стал простым убийцей, Никий. Впрочем, повторяю, Павел был бы тобой доволен.
— Я не хочу продолжать этот разговор,— холодно проговорил Никий.
— Я тоже,— сказал Сенека и махнул рукой слугам: — Идите, Крипе, все остальное я сделаю сам.
Слуги бесшумно вышли. Сенека стоял спиной к Никию. Его обнаженное тело казалось совершенно высохшим, желтая кожа была мертва как пергамент. При-гнувшись, он взял нож, лежавший на краю скамьи, попробовал лезвие пальцем. Осторожно ступая, стал спускаться по ступенькам в бассейн. На последней остановился:
— Знаешь, Никий, чем плебеи будут отличаться от нас? Неумением достойно лишить себя жизни. Они, наверное, будут убивать себя, но грубо, варварски и со страхом. А их учителя объявят самоубийство самым великим грехом. Объявят потому, что плебей — член стада и не имеет права распоряжаться собственной жизнью — вот так!..
С этими словами Сенека приставил лезвие к запястью левой руки и медленно потянул нож к себе. Никий отвернулся.
Сначала была тишина, потом послышался легкий плеск, и он услышал голос Сенеки:
— Иди, Никий. Ты можешь передать императору, что я сделал это. Пусть позовут Паулину, чтобы она была рядом.
Никий не сразу открыл глаза, но когда открыл, увидел голову Аннея Сенеки, возвышавшуюся над поверхностью воды — он равнодушно смотрел, как вода становится красной.
Когда Никий вышел во двор, было уже совсем темно. Солдаты зажгли факелы, но густой туман плохо пропускал свет, и их пламя виделось лишь желтыми пятнами. Центурион Палибий ни о чем не спросил — молчал и Никий. Солдат подвел ему лошадь. Дважды не попав в стремя ногой, он с трудом сел в седло. Центурион резко выкинул руку вперед, и отряд двинулся в сторону Рима тяжелой медленной рысью. Никий потерял ощущение времени, не чувствовал, сколько они прошли и сколько еще осталось. Постепенно туман рассеялся, и факелы уже довольно хорошо освещали дорогу. Справа потянулась черная стена леса, слева блеснула река. «Уже скоро»,— почему-то подумал Никий, хотя все еще не понимал, где они находятся.
Вдруг лошадь перед ним резко встала и тут же поднялась на дыбы, испуганно заржав. Неизвестно откуда выскочивший человек схватил поводья его лошади и потянул вниз. В свете факелов подскакавших сзади солдат Никий узнал Симона. Одной рукой он тянул поводья, в другой был меч. Лошадь почти села на задние ноги, Никий уцепился за гриву, припал к шее, стараясь укрыться от меча, которым размахивал Симон. Солдаты закричали, характерно звякнуло железо вытаскиваемого из ножен оружия. Симон зарычал и вдруг, выпустив поводья, упал на спину, ловко перевернулся и стал отползать к краю дороги, в темноту. Лошадь Никия бросилась в противоположную сторону — и понесла. Ветки хлестали по лицу, он обхватил шею лошади и что было сил сжал коленями бока. Наконец он сумел схватить поводья; заваливаясь назад, потянул их на себя, почти повиснув на rinx. Лошадь снова присела, он спрыгнул на землю, перехватил ее под уздцы, потянул вниз, легко похлопал животное ладонью по крупу:
— Ну, ну, успокойся!
Наконец она успокоилась, Никий прислушался. Крики и топот еще доносились до него, но с каждым мгновеньем становились все глуше и глуше.
Глава пятнадцатая
А Рим отдалялся все дальше и дальше, и Никию показалось, что он уже не живет. Не живет, не умер, но спит. И все, что видит вокруг, есть сон. Он знает об этом, но не может проснуться.
Нужно было чем-то жить. Он оказался вынужден вспомнить о ремесле, которому учился когда-то, о врачевании. Но не так-то просто извлечь из знаний пользу. Не объявишь же себя врачом просто так! Бывшие при нем деньги заканчивались, будущее выглядело туманным, время от времени он впадал в настоящее отчаянье, думал о том, чтобы покончить с жизнью, тем более что жизни в себе он больше не чувствовал. Но умереть вот так, в цвете лет, оказалось страшно. Он вспомнил последние слова Сенеки и подумал, что тот был прав — только настоящий аристократ не боится смерти. Ощущать себя плебеем, тем более после жизни при дворе Нерона, было обидно, но что стоила такая обида по сравнению с обстоятельствами, в которые он попал! Ему мог помочь только случай, и случай не замедлил явиться.
Никий добрался до Капуи. Зачем? Он и сам не знал. Просто туда вела дорога, на которую он случайно вышел. Если бы дорога вела в другую сторону, он бы поехал в другую: ему было все равно. Ехал с большими предосторожностями, Главным образом в вечернее время. Рисковал попасть в руки к разбойникам. Но быть схваченным римскими солдатами казалось ему страшнее, не говоря уже о Симоне из Эдессы, который мерещился ему в каждом встречном.
В городе он разместился на постоялом дворе средней руки. Его породистая лошадь и дорогая одежда вызвали особенное уважение у хозяина, который отвел ему лучшую комнату. Никий назвался Валерием из Александрии, приехавшим сюда по делам наследства, которое оставил ему дальний родственник отца. Хозяин принял в его деле горячее участие, посоветовал, к кому из чиновников лучше обратиться, кому сколько дать, чтобы его дело решилось как можно быстрее. Он даже сам вызвался отвести его к нужному человеку, но Никий вежливо отказался, сославшись на то, что кое к кому из местных чиновников у него есть рекомендательные письма. Чтобы не вызывать подозрения хозяина, Никий был вынужден уходить утром и возвращаться перед заходом солнца, да еще рассказывать хозяину о продвижении своего дела. Впрочем, последнее оказалось не очень утомительно. Труднее всего было днем — он бесцельно шатался по городу, не зная, что предпринять, и ничего хорошего не видя в будущем. А мрачное будущее могло наступить очень скоро — денег для оплаты жилья у него оставалось всего на несколько дней. Он подумывал о том, чтобы продать лошадь, но даже и выгодная продажа только ненадолго отдаляла конец.
Как-то вечером словоохотливый хозяин зашел к Никию в комнату, чтобы поболтать о том о сем, и, рассказывая о городских новостях, между прочим упомянул о некоем Аннее Спарсе, богатом жителе Брундизия. Спарс был родом из Капуи, здесь до сих пор обитали его дальние родственники. Человек он был известный, достиг высоких должностей в правление императора Клавдия — даже был пропретором в Сардинии,— но при Нероне попал в немилость, вынужден был уйти с государственной службы и уже много лет проживал уединенно на своей вилле в Брундизии, на самом берегу моря.
Никий выслушал рассказ хозяина довольно равнодушно — что ему было за дело до какого-то Спарса, тем более в его теперешнем положении.
Но хозяину равнодушие Никия показалось обидным. Он воскликнул с горячностью:
— Надо знать, кто такой Анней Спарс,— лучшего человека, может быть, вообще не рождала земля!
Местный патриотизм хозяина вызвал у Никия улыбку.
— Это очень почетно для Капуи,— вежливо согласился он.— Правда, сам я никогда не слышал ни о каком Аннее Спарсе.
— Этого не может быть! — искренне удивился хозяин.— О благородном Спарсе знают все!
Никий развел руками:
— Что поделаешь, это мое упущение.
Но столь примирительный ответ не только не удовлетворил хозяина, а, кажется, распалил еще больше. Он дошел до двери, выглянул в коридор, потом, плотно прикрыв дверь, снова сел рядом с Никием (которого он уже порядком утомил) и, понизив голос, с заговорщицким выражением на лице стал говорить о доблестях благородного гражданина. Оказалось, что Анней Спарс более что жизни в себе он больше не чувствовал. Но умереть вот так, в цвете лет, оказалось страшно. Он вспомнил последние слова Сенеки и подумал, что тот был прав — только настоящий аристократ не боится смерти. Ощущать себя плебеем, тем более после жизни при дворе Нерона, было обидно, но что стоила такая обида по сравнению с обстоятельствами, в которые он попал! Ему мог помочь только случай, и случай не замедлил явиться.
Никий добрался до Капуи. Зачем? Он и сам не знал. Просто туда вела дорога, на которую он случайно вышел. Если бы дорога вела в другую сторону, он бы поехал в другую: ему было все равно. Ехал с большими предосторожностями, Главным образом в вечернее время. Рисковал попасть в руки к разбойникам. Но быть схваченным римскими солдатами казалось ему страшнее, не говоря уже о Симоне из Эдессы, который мерещился ему в каждом встречном.
В городе он разместился на постоялом дворе средней руки. Его породистая лошадь и дорогая одежда вызвали особенное уважение у хозяина, который отвел ему лучшую комнату. Никий назвался Валерием из Александрии, приехавшим сюда по делам наследства, которое оставил ему дальний родственник отца. Хозяин принял в его деле горячее участие, посоветовал, к кому из чиновников лучше обратиться, кому сколько дать, чтобы его дело решилось как можно быстрее. Он даже сам вызвался отвести его к нужному человеку, но Никий вежливо отказался, сославшись на то, что кое к кому из местных чиновников у него есть рекомендательные письма. Чтобы не вызывать подозрения хозяина, Никий был вынужден уходить утром и возвращаться перед заходом солнца, да еще рассказывать хозяину о продвижении своего дела. Впрочем, последнее оказалось не очень утомительно. Труднее всего было днем — он бесцельно шатался по городу, не зная, что предпринять, и ничего хорошего не видя в будущем. А мрачное будущее могло наступить очень скоро — денег для оплаты жилья у него оставалось всего на несколько дней. Он подумывал о том, чтобы продать лошадь, но даже и выгодная продажа только ненадолго отдаляла конец.
Как-то вечером словоохотливый хозяин зашел к Никию в комнату, чтобы поболтать о том о сем, и, рассказывая о городских новостях, между прочим упомянул о некоем Аннее Спарсе, богатом жителе Брундизия. Спарс был родом из Капуи, здесь до сих пор обитали его дальние родственники. Человек он был известный, достиг высоких должностей в правление императора Клавдия — даже был пропретором в Сардинии,— но при Нероне попал в немилость, вынужден был уйти с государственной службы и уже много лет проживал уединенно на своей вилле в Брундизии, на самом берегу моря.
Никий выслушал рассказ хозяина довольно равнодушно — что ему было за дело до какого-то Спарса, тем более в его теперешнем положении.
Но хозяину равнодушие Никия показалось обидным. Он воскликнул с горячностью:
— Надо знать, кто такой Анней Спарс,— лучшего человека, может быть, вообще не рождала земля!
Местный патриотизм хозяина вызвал у Никия улыбку.
— Это очень почетно для Капуи,— вежливо согласился он.— Правда, сам я никогда не слышал ни о каком Аннее Спарсе.
— Этого не может быть! — искренне удивился хозяин.— О благородном Спарсе знают все!
Никий развел руками:
— Что поделаешь, это мое упущение.
Но столь примирительный ответ не только не удовлетворил хозяина, а, кажется, распалил еще больше. Он дошел до двери, выглянул в коридор, потом, плотно прикрыв дверь, снова сел рядом с Никием (которого он уже порядком утомил) и, понизив голос, с заговорщицким выражением на лице стал говорить о доблестях благородного гражданина. Оказалось, что Анней Спарс пострадал за свою честность и смелость — он не мог молчать о несправедливостях теперешнего правления и почти открыто высказывал то, что об этом думал.
— Это еще хорошо, что он ушел вовремя,— делая страшные глаза, шептал хозяин.— Его враги хотели, чтобы он был предан смерти.— Он сделал многозначительную паузу и, покачав головой, едва слышно закончил: — При теперешнем правлении это делается так просто.
Чтобы побыстрее избавиться от назойливого хозяина, Никий удрученно заметил:
— Да, благородство и честность теперь не в цене.
Некоторое время они молчали, потом Никий нетерпеливо поерзал в кресле. Хозяин встал и пошел к выходу. У порога остановился, с тоской посмотрел на Никия:
— И такой человек теперь умирает. Все наши врачи согласились, что нет никакой надежды.
При слове «врачи» Никий встрепенулся, жестом остановил собравшегося уже выйти хозяина:
— Разве благородный Анней Спарс так болен? — спросил он как можно более участливо.— Или он уже очень старый человек?
Хозяин вздохнул:
— Нет, не старый, но очень болен. Он заезжал сюда к родным и тут заболел. Говорят, у него что-то с грудью, он задыхается, и силы покинули его. А ведь еще недавно он был совершенно здоров — я сам видел его у дома претора Капуи.
— Ты говоришь, у него болит грудь? — произнес Никий, скорее спрашивая самого себя, чем хозяина.
Тот сделал неопределенный жест головой:
— Так говорят.
Хозяин ушел, а Никий потерял покой, он не находил себе места: шагал из угла в угол по комнате, присаживался на край ложа, сосредоточенно глядя в пол, вставал и ходил снова.
Решиться на то, что пришло ему в голову, было, страшно, но, с другой стороны, это его единственный шанс. Некоторое время спустя он вышел во двор как бы для того, чтобы подышать воздухом перед сном, и конечно же встретил хозяина, и конечно же снова «случайно» с ним разговорился. Незаметно наведя разговор на Аннея Спарса, он узнал о нем все, что знал хозяин. Оказалось, что Спарс был человеком тонким, ценил искусство и даже сам писал что-то. Хозяин сказал, что — и трагедии, и комедии, и поэмы, но это было не важно сейчас. Еще хозяин объяснил, где остановился Спарс, описал дом, рассказал историю прежних жильцов и жильцов нынешних. Судя по всему, он был неистощим и мог не останавливаться до самого рассвета, но Никий, сославшись на усталость и предстоящие с утра дела, все же сумел от него уйти.
Спал он плохо, ворочался с боку на бок. Его охватывали поочередно то страх, то надежда, но страха было значительно больше, а надежда казалась весьма туманной. Утром решимость совершенно покинула его — он долго лежал, глядя в потолок, не в силах заставить себя встать. Он бы и не встал, если бы не хозяин, приславший слугу напомнить, что завтрак уже ждет его.
Подъехав к дому, описанному хозяином, Никий долго не решался войти — богато украшенный фасад почему-то пугал его, хотя дом Агриппины, где он жил в последнее время, по сравнению с этим домом можно было считать дворцом. Наконец он заметил, что какой-то человек, дважды выходивший из дверей, смотрит на него подозрительно. «Сейчас или никогда!» — сказал себе Никий и вдруг решительно (чего сам не мог ожидать) направил лошадь к воротам.
Тот же самый подозрительно смотревший на него человек вышел к нему. Вспомнив двор императора Нерона, Никий высокомерно на него взглянул — так, что тот, несколько мгновений помедлив, все же вынужден был взяться за поводья и стремя, помогая Никию покинуть седло. Когда Никий спрыгнул на землю, человек строго-вопросительно на него уставился, а Никий растерянным взглядом окинул дом и, не глядя на слугу, спросил:
— В этом доме остановился Анней Спарс?
— Да, он здесь,— холодно отвечал слуга.
— Я Валерий Руф, врачеватель из Рима. Доложи хозяину, что я уже прибыл.
Но слуга не двигался с места, настороженно глядя на него.
— Ты что, оглох? — внезапно зло вскричал Никий, угрожающе надвигаясь на стоявшего.— Ты думаешь, я буду бесцельно торчать здесь по твоей милости вместо того, чтобы идти к больному?!
Гнев Никия возымел действие: человек крикнул, из дома выбежали двое слуг, он бросил им поводья и, торопливо размахивая руками, побежал к дому. Никий медленно пошел за ним. Едва он поднялся на площадку у входа, как из двери вышла пожилая женщина — худая, с бледным лицом и запавшими от бессонницы глазами. Она вежливо спросила у Никия, что ему угодно. Никий ответил, что сенатор Публий Рутелий, узнав об опасной болезни Аннея Спарса, послал его из Рима в Капую, чтобы осмотреть больного. (Никий назвал первого пришедшего на ум сенатора. Впрочем, он в самом деле был знаком с ним.)
— Публий Рутелий? — переспросила женщина несколько недоуменно.— Но я не знаю такого.
Никий нетерпеливо пожал плечами:
— Но его, конечно же, знает Анней Спарс. Публий сказал мне, что они друзья. Можно спросить у самого Аннея.
Женщина покачала головой и удрученно вздохнула:
— Наверное, это так, но я не могу спросить у Аннея, он совсем плох.— Она помедлила, вглядываясь в лицо Никия, потом, решившись, указала рукой на дверь.— Пойдем, я проведу тебя. Врачи говорят, что нет надежды, но...— Она не договорила и снова указала на дверь, приглашая Никия войти.
Первый этап был удачно пройден, может быть, самый трудный. Окажись Анней Спарс в лучшем состоянии, обман обнаружился бы сразу. А теперь у Никия все еще оставалась надежда.
Пройдя вслед за женщиной через несколько комнат, он вошел в помещение,. где на широком ложе лежал больной. Это оказался мужчина лет пятидесяти с небольшим, с крупными чертами лица и редкими седыми волосами, сейчас слипшимися и потными. Голова была высоко закинута, тяжелый подбородок оброс щетиной, большие руки безжизненно лежали поверх одеяла. Он дышал тяжело и часто, со свистом вдыхая и выдыхая воздух. У Никия стеснило грудь — не от сострадания к больному, а из страха за самого себя. Хотелось повернуться и бежать отсюда подальше.
— Вот,— сказала женщина, и Никий, вздрогнув, посмотрел на нее. В ее глазах стояли слезы. Она подняла руку и, приложив ладонь ко лбу, всхлипнула, потом повторила срывающимся голосом: — Вот.
Никий обошел ее и пригнулся к больному, как бы внимательно прислушиваясь к его дыханию, и вдруг, решительным движением сдернув одеяло, прислонил ухо к его груди. В груди Аннея Спарса клокотало. Он подумал: «Поздно», то ли имея в виду состояние больного, то ли то, что поздно отступать. И, распрямившись, сказал женщине самым решительным тоном — так говорят только знающие себе цену врачи и люди, привыкшие повелевать:
— Мне понадобятся две дюжины перепелиных яиц и кувшин молока ослицы.
Женщина, не понимая, смотрела на него.
— Молока...— произнесла она, едва шевельнув губами.
— Молока ослицы,— чуть раздраженно повторил Никий и добавил, нахмурившись: — Я надеюсь поставить его на ноги, но при одном условии — ни один местный врач не должен переступать порога этого дома. Знаю я этих..,— Он не договорил, но потом уже мягче произнес, указывая рукой на дверь.— Нельзя терять время, это должно быть доставлено мне еще сегодня.
Женщина болезненно улыбнулась, покивала и быстро вышла из комнаты, а Никий почувствовал, что ноги плохо держат его, и осторожно присел на край ложа, аккуратно сдвинув ногу больного.
Глава шестнадцатая
Время вдруг пошло стремительно, Никий перестал его замечать.
Перепелиные яйца и молоко ослицы доставили очень быстро, к вечеру того же дня. Ждать, пока яйца протухнут, не было времени (да и смысла тоже) — с каждым часом состояние больного делалось все хуже. Никий разбил яйца, смешал их с подогретым молоком, добавил туда меду и с помощью слуг смазал грудь и шею Аннея Спарса получившейся смесью. Несколько часов спустя смесь застыла, образовав плотную корку. Ночь прошла тревожно: больной бредил, стонал. Несколько раз Никий сам поил его теплым молоком с медом. Утром корку на груди смыли не без труда и тут же намазали смесью снова. Давно не молившийся Никий в эту ночь молился истово и горячо. Призывал Бога, вспоминал учителя Павла, просил сотворить для него чудо.
На третью ночь у больного начался бред. Женщина, встретившая Никия (она оказалась хозяйкой дома, дальней родственницей Аннея Спарса), плакала, спрашивала у Никия поминутно:
— Он умирает?! Умирает?!
Никий, как мог, спокойно отвечал, что нет, не умирает, что лечение идет своим ходом и такое состояние вполне объяснимо. Она плохо слушала, горестно трясла головой, рыдала еще громче. Никий приказал слугам увести ее и не пускать к больному. Подошел к постели находившегося в бреду Спарса, сказал вполголоса:
— Не умирай! Очень прошу тебя, не умирай!
И тут случилось странное — больной как будто услышал: перестал бредить, повернулся к Никию и внимательно на него посмотрел. Никий вздрогнул и в страхе попятился.
Все это продолжалось лишь несколько мгновений: Анней Спарс снова стал бредить, пот градом катился по его разгоряченному лицу. Но Никий почувствовал, что происшедшее не случайность, что Бог услышал его и подал знак. И он упал на колени там, где стоял, и воздал хвалу Богу.
С этой минуты он непоколебимо верил, что Анней Спарс не умрет. Уже под утро его сморил сон, и он уснул там, где молился, на полу у ложа. Спал, словно провалившись в немую темноту, а проснулся внезапно — поднял голову, прислушался со страхом. Было тихо, ему почудилось, что больной не дышит. Он не мог заставить себя встать, от вчерашней уверенности не осталось и следа. Он ощутил такой приступ страха, что тело стала бить мелкая дрожь, и он не в силах был унять ее.
Тут он услышал скрип половиц и оглянулся — в комнату вошла хозяйка. Она не смотрела на него, ее неподвижный взгляд был устремлен на ложе. У Никия перехватило дыхание, он ждал, что сейчас раздастся страшный крик. Но крика не последовало, вместо него он различил едва слышно сказанное:
— Подойди, Марция.
Голос шел сверху, от ложа, но Никий не поверил в это, пока хозяйка, в свою очередь, не позвала:
— Анней!
— Подойди,— шепотом повторил больной.
Никий поднялся только тогда, когда женщина подошла к больному и обняла его голову руками. Никий выглянул из-за спины. Лицо Аннея Спарса было бледно, глаза блестели, он смотрел на женщину и силился улыбнуться.
С этого дня больной начал быстро выздоравливать — так быстро, что все домашние смотрели на Никия как на бога, спустившегося к ним с небес. Слуги бежали исполнять любое его желание, хозяйка дома, Марция, стала по-матерински нежна. В те дни Никий редко заходил к Аннею Спарсу и задерживался ненадолго — быстро осматривал его, предписывал питье и уходил. Спарс был еще слаб, но уже разговаривал довольно легко, а Никий боялся разговора. Кто бы знал, как он этого боялся!
Но неизбежное произошло. Больной в то время уже свободно сидел в постели. Он спросил Никия с улыбкой:
— Марция сказала, что тебя зовут Валерий и ты прибыл из Рима. Кто тебя послал?
Никий замялся, вспоминая выскочившее из головы имя сенатора, но женщина, стоявшая за его спиной, произнесла:
— Публий Рутелий. Его прислал к тебе сенатор Публий Рутелий.
— Публий Рутелий? — недоуменно повторил больной.— Мне известно это имя, но я с ним совсем незнаком. В любом случае он вряд ли будет испытывать в отношении меня добрые чувства. Это странно, это очень странно. И он сказал тебе, чтобы ты...
Анней Спарс не договорил, перехватив умоляющий взгляд Никия. Некоторое время он пристально смотрел на него, потом обратился к женщине:
— Иди, Марция, я позову тебя позже.
Когда женщина вышла, он сказал, улыбнувшись, Никию:
— Ты можешь говорить со мной откровенно и без страха, и не только потому, что ты спас мне жизнь. Если не хочешь говорить, я не буду принуждать тебя. В любом случае я твой должник и сделаю все, чтобы помочь тебе, если это нужно. Прости, что я неосторожно сказал это при Марции, но я в самом деле не знаю Публия Рутелия.
— Я тоже незнаком с ним,— вздохнул Никий.— Я только слышал это имя и назвал... назвал первое попавшееся.
Анней Спарс посмотрел на Никия с нескрываемым удивлением, чуть склонив голову набок:
— Вот как!
— Я бежал из Рима сразу же после смерти Аннея Сенеки.
— Сенека умер? — поморщившись, спросил Спарс,— Я не знал этого. Рассказывай.
Рассказ для Аннея Спарса был приготовлен Никием давно, можно сказать, что он выучил его наизусть. Но говорил он сейчас вполне артистически: заикался, краснел, вздыхал поминутно. Спарс слушал внимательно и с очевидным участием.
Никий не назвал своего настоящего имени, и для Аннея Спарса остался Валерием. Он рассказал, что жил в доме Сенеки несколько последних лет в качестве его ученика и («так называл меня сам Сенека») приемного сына. Он занимался искусствами, философией, врачеванием. Будущее казалось безоблачным даже тогда, когда Сенека отдалился от дел и стал уединенно жить на своей вилле. Но неудавшийся заговор против Нерона все разрушил — и мечты, и надежды — и поставил даже жизнь Никия под угрозу. На виллу прибыл центурион с отрядом преторианских гвардейцев с приказом императора для Аннея Сенеки — принять смерть. Перед тем как уйти из жизни, Сенека успел сказать ему об Аннее Спарсе, назвав его человеком благородным и добродетельным. Сенека пояснил, что это наилучшее убежище для Никия, ведь ученика опального философа вряд ли оставят в покое. А Спарс живет уединенно, его подзабыли в Риме, и никто там Никия искать не будет. Он бежал, направляясь в Брундизий, но здесь, в Капуе, остановившись на постоялом дворе, узнал от словоохотливого хозяина, что Анней Спарс тяжело заболел и лежит в доме своей родственницы и что врачи говорят, будто нет никакой надежды на выздоровление. Тогда Никий, серьезно занимавшийся врачеванием, придумал историю о Публии Рутелии, явился в дом и взялся за лечение.
— Прости,— сказал Никий в заключение,— я проник в дом обманно, но как я мог открыться Марции!
— Ты великий врач, хотя и молод,— проговорил Анней Спарс.
Никий скромно пожал плечами:
— Просто Сенека интересовался медициной и научил меня кое-чему.
— Неужели Сенека еще помнил меня? — с недоверчивым удивлением произнес Анней Спарс,— Мы, правда, встречались когда-то и я был горячим поклонником его таланта, но... Такой великий человек, как он, и такой скромный гражданин, как я! Невероятно!
Никий почувствовал, что Анней Спарс не вполне верит его истории, но, как бы не заметив ничего, стал рассказывать о Сенеке, присовокупляя такие подробности, которые мог знать лишь человек, в самом деле живший в доме старого философа. Анней Спарс слушал с живым интересом, и постепенно его недоверие исчезло — Никий был так открыт, так наивен. Кроме того, так хорошо образован. Да и вряд ли человек, замысливший зло, стал бы с таким самоотречением спасать будущую жертву.
По-видимому, так или примерно так думал Анней Спарс, глядя на Никия. Наконец он сказал несколько высокопарно:
— Близкий к великому философу человек и мне как сын. Мы поедем в Брундизий, ты будешь жить у меня, Валерий. Поверь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы жизнь твоя стала приятна и безоблачна. Жена моя умерла, детей у нас не было — теперь ты будешь моим сыном.
Глаза Никия наполнили слезы. Дело было, конечно, не в словах Аннея Спарса, а в том, что внутреннее напряжение спало и столь мучительное ожидание разрешилось теперь так великолепно.
Анней Спарс истолковал его слезы по-своему. Он сказал с отеческой строгостью:
— Ты не должен благодарить меня, Валерий. Во-первых, ты спас мне жизнь, а во-вторых, я лишь исполняю свой долг перед великим философом.— Тут на его лице явилось озабоченное выражение.— Но мы должны быть осторожны, Валерий, ищейки Нерона могут выследить тебя. Я не боюсь за себя, я презираю римских палачей. Моя жизнь не особенно ценна, но ты молод, талантлив и не должен попасть им в руки. Может быть, тебе некоторое время придется не покидать дома. Не думаю, что год или два, ведь дни этого мерзкого правления сочтены, но все же!..
Никий с благодарностью заверил благородного Аннея Спарса, что будет осторожен и станет неукоснительно следовать его советам и наставлениям. Спарс так растрогался, что нежно обнял Никия и всхлипнул.
Две недели спустя, когда Анней Спарс совершенно окреп, они отправились с Никием в Брундизий, приняв все возможные меры предосторожности и строго предупредив Марцию.
Вилла Спарса располагалась в живописном месте на самом берегу моря. Она не была столь же великолепна—и снаружи, и внутри,— как вилла Аннея Сенеки, но вполне добротно выстроена и богато обставлена. Спарс выделил Никию несколько комнат в правом крыле дома, приставил слуг. Он в самом деле обращался с ним как с сыном и ничем не стеснял, если не считать их бесед об искусстве, философии и политике, которые он очень ценил, несколько злоупотребляя временем Никия и несколько утомляя его. Спарс был человеком благодетельным, но не высокого ума. Он с неизменной восторженностью выслушивал Никия и восторженно же говорил сам. К сожалению Никия, говорить он любил значительно больше, чем слушать. Но это неудобство было вполне терпимым, тем более что Никий со временем научился уклоняться от таких бесед, ссылаясь на научные занятия (которыми, впрочем, почти не утруждал себя).
Дом стоял на скале, окна спальни Никия выходили на море, и если стоять у окна, особенно в сумерках, то могло показаться, что плывешь на корабле в открытом море. Это тоже было неудобством, даже хуже бесед о философии с Аннеем Спарсом, но Никий понял это позднее.
С некоторых пор он стал страшиться вида моря, так же как и его плеска и рокота. С морем у него оказались связаны лишь самые дурные воспоминания. С морем было связано неудавшееся покушение на Агриппину и путешествие на остров Пандетерий, где они с центурионом Палибием убили несчастную Октавию. Шум моря, особенно в шторм, не давал ему уснуть и лишал душевного покоя. Время от времени наплывали страшные воспоминания, переходившие в видения, тоже страшные и невероятные. То он видел плывущую к берегу Агриппину и себя, бьющего по голове уцепившегося за борт лодки Кальпурния. Сразу же после удара кровь из головы несчастного начинала бить фонтаном, и все море вокруг окрашивалось в красное — от берега до самого горизонта. И Агриппина теперь плыла в крови, и руки, когда она вытаскивала их из воды во время гребка, тоже были в крови. Или он видел, как поток крови течет из дверей дома Октавии — по лестнице, потом по двору, к ногам Никия. Он хочет убежать, но не может сдвинуться с места. Вот кровь достигает его ног, вот поднимается до колен, вот он уже по горло в крови. Он бьет руками и выплевывает красную жижу, чувствуя ртом характерный солоноватый вкус.
Он не подходил к окну, приказывал плотно закрывать ставни и занавешивать окна изнутри. Только сделав все это и плотно прикрыв ладонями уши, он мог уснуть.
Впрочем, со временем эти видения делались все слабее и мучили его уже не каждый день. Но все равно смотреть в окно на море он так и не научился.
Жизнь в доме Аннея Спарса была скучна, а порой и тосклива. Часто Никий не находил себе места, слоняясь из угла в угол. Он говорил себе: «Неужели я буду навсегда погребен здесь и никогда не увижу Рима, никогда не увижу Нерона?» Он часто думал об императоре, иногда это становилось как мания. «Я люблю, люблю, люблю Нерона!» — повторял он в отчаянье и уже не понимал, любит он его или ненавидит. Любовь и ненависть смешались в одно — горькое и радостное чувство одновременно. Чтобы уйти от дум о Нероне, он заставлял себя вспоминать учителя Павла, Сенеку, но ничего не получалось: он любил Нерона, а их не любил. Только с Нероном у него была настоящая жизнь, а с ними... Он не думал о них плохо, он просто не хотел о них думать, а когда заставлял себя, чувствовал раздражение.
Анней Спарс много говорил о Нероне, и, хотя в его рассказах присутствовала неизменная ненависть к прин-цепсу, Никий слушал с удовольствием. Время от времени Спарс получал сведения о жизни в Риме, и тогда Никий жадно ловил каждое его слово.
Даже тогда, когда Спарс сказал ему о смерти Поппеи (она умерла от того, что Нерон ударил ее, беременную, ногой в живот), он не ощутил никакой особенной ненависти — лишь интерес, смешанный с грустью, и при этом не подумал, что, может быть, император таким образом убил собственного ребенка Никия. Какой там еще ребенок! Нерон был его единственным ребенком. Только его, Никия, и больше ничей. «Дитя человеческое»,— вспомнились Никию слова учителя Павла, но при этом он почему-то думал не об Иисусе, а о Нероне.
Как-то до них дошли известия о страшном пожаре в Риме. Город выгорел дотла. Ходили упорные слухи, что город приказал поджечь сам Нерон и что, взоб-равшись на крышу самого высокого дома, он, глядя на пожар, читал отрывок из своей поэмы о взятии Трои. Анней Спарс с возмущением рассказывал о злодеянии и о бездушии императора, а Никий, внешне изображая согласие, восхищался Нероном. Кто бы еще решился делать то, что делал этот взрослый ребенок!
Чтобы жениться на Статилии Массалине, Нерон приказал убить ее мужа, Аттина Вестина. Спарс возмущался, заламывая руки и брызгая слюной, а Никий думал: «Как же еще он должен был поступить? Ему нужна стала новая игрушка, и он просто отобрал ее, вот и все!»
Так прошло около двух лет: время тянулось медленно, но минуло незаметно. Никий не раз думал о том, чтобы уехать в Рим. Порой желание становилось почти невыносимым, хотя он понимал, что его там может ожидать.
Однажды из поездки в Брундизий Спарс вернулся радостно-возбужденным.
— Все,— объявил он,— теперь Нерону конец. Галльские легионы восстали, Гальба объявил себя императором и скоро будет в Риме.
— И что же станет с Нероном?! — не сумев скрыть страха, с искаженным болью лицом, дрожащим голосом выговорил Никий.
Но в своей радости Анней Спарс ничего не замечал. Он самодовольно улыбнулся:
— Ему конец, вот и все! А как он умрет, меня не интересует, хотя было бы справедливо, если бы он принял смерть в мучениях.
Никий не мог этого слышать спокойно — чтобы Анней Спарс не видел его лица, он отвернулся. Положив ему руку на плечо, Спарс проговорил почти что нежно:
— Ты очень впечатлителен и добр — тебе жалко даже это чудовище! Но вспомни, кто сделал так, что ты живешь здесь, как в тюрьме (хотя я и делаю все для того, чтобы ты этого не замечал)? Со смертью Нерона ты сможешь выйти из своего заключения.
Никий посмотрел на Спарса, заставил себя сказать:
— Прости, не знаю, что со мной случилось. Прости, ты прав.
Прошло еще несколько дней, из Рима доходили все более тревожные слухи. Анней Спарс открыто радовался скорому падению Нерона, а Никий все не решался ехать.
Однажды под вечер Никий увидел, как его слуга разговаривает у ворот с каким-то человеком — в облике незнакомца было что-то знакомое. Сам не зная зачем, Никий перегнулся через раму окна, чтобы разглядеть лицо этого человека, бывшее в тени. В ту же минуту человек повернулся и посмотрел в его сторону. Взгляды их встретились — Никий узнал Симона из Эдессы. Они смотрели друг другу в глаза всего несколько мгновений: Никий отпрянул назад, резко задернул занавеску. Когда через некоторое время он выглянул вновь, у ворот уже никого не оказалось — ни слуги, ни Симона.
На вопрос Никия слуга объяснил, что этот человек приходит во второй раз.
— Он ищет родственника, какого-то Никия. Я ему сказал, что такого здесь никогда не было, но он пришел опять. Чудак какой-то! Если он явится еще...— продолжил было слуга с решительным видом, но Никий его перебил:
— Он не явится.
За обедом Анней Спарс снова говорил о Нероне. Он был в хорошем настроении, шутил, называл императора дрянным кифаредом, превозносил доблесть Гальбы и даже прочитал стишок, где говорилось о том, что жалкий актеришка на троне умер от того, что галльский петух клюнул его в непотребное место. Прочитав стишок, он захохотал, довольный, но вдруг смолк, почувствовав тяжелый взгляд Никия,— тот смотрел на него с ненавистью.
— Что с тобой? — нахмурился Спарс.— Тебе что-то не нравится?
— У меня просто болит живот,— сказал Никий и, поднявшись, вышел из комнаты.
Он решил этой же ночью бежать в Рим. Единственный человек, который мог помешать ему, был Симон. Но другого выхода не оставалось — если он останется здесь, Симон все равно рано или поздно доберется до него.
Он лег засветло, а к полуночи был уже на ногах. Приготовил дорожную сумку, взял простыню, разорвал на четыре куска; дождался, пока все уснут в доме, и, достав заранее приготовленный нож, осторожно покинул комнату.
Войдя в спальню к Аннею Спарсу, он на цыпочках подошел к ложу, одной рукой занес нож, другой тронул за плечо спящего. Тот вздрогнул, открыл глаза, Никий увидел в них ужас.
— Что! — выдохнул Спарс и попытался подняться.
— Это тебе от кифареда! — быстро проговорил Никий и с силой воткнул нож в грудь Аннея Спарса.
Тот даже не вскрикнул, только дернулся дважды и затих. Никий тщательно обтер лезвие ножа концом покрывала, сунул его в ножны у пояса и вышел.
Пробравшись в конюшню, он оседлал лошадь, намотал на копыта куски простыни и вывел лошадь за ворота. Постоял, прислушиваясь,— чудилось, что Симон вот-вот выскочит из темноты, схватит повод лошади,— но, кроме плеска волн, ничего не услышал. Сел в седло только у кромки воды — теперь не о чем было беспокоиться, вода слижет все следы.
Он даже не обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на дом, где прожил почти два года. Он уже не думал ни о доме, ни о его хозяине, Аннее Спарсе, лежавшем на собственном ложе с кровавым пятном на груди,— сердце его было не здесь, а в Риме.
Глава семнадцатая
Никий не узнал Рима — казалось, что по улицам бродят сумасшедшие. Не было видно ни одного солдата (даже у ворот), зато многие горожане бродили, размахивая оружием. Только и разговоров было что о скором падении Нерона. Никий не уловил ни одного голоса сочувствия, зато поношения слышались со всех сторон. Говорили, что Гальба с легионами уже в двух переходах от города, а Нерон заперся во дворце и дрожит от страха. Статуи императора были повреждены и обезображены непристойными надписями. На одной из них Никий прочел тот самый стишок, что с таким удовольствием цитировал ему Анней Спарс. Никий со злорадством подумал, что тому уже никогда не придется больше произносить подобные мерзости.
Когда Никий подъехал к дворцу, он с удивлением увидел, что площадь перед ним совершенно пустынна — ни толп взбесившегося народа, ни солдат. Люди обходили площадь, словно проклятое богами место. Дворец казался покинутым. Некоторое время Никий не мог решиться. В какой-то момент он даже думал повернуть назад, но, вспомнив, что ехать ему некуда, направил лошадь к парадному входу. Бросив ее у лестницы, он взбежал по знакомым ступеням и, толкнув тяжелую дверь, вошел внутрь. В помещении было пустынно, его шаги гулко раздавались в пустоте. Не сразу решившись, напряженно прислушиваясь, он осторожно пошел вдоль галереи, ведущей в покои императора,— статуи римских богов смотрели на него, казалось, с выражением тоски и скорби. Вдруг он услышал позади какой-то посторонний звук, остановился. Это были шаги, они приближались. Человек ступал по-хозяйски, твердо. Никий огляделся, думая, куда бы спрятаться, но тут из-за колонны показался человек в богато украшенных доспехах. Никий едва не вскрикнул, узнав центуриона Палибия. Тот подошел так, будто расстался с Никием только вчера. Приветственно поднял руку:
— А, это ты? Пойдем, он будет рад тебя видеть.
— Кто? — Никий попятился и остановился, упершись в стену.
Лицо центуриона выразило крайнее удивление:
— Император, кто же еще? Разве ты шел не к нему?
— Он здесь?
— Еще здесь,— усмехнулся Палибий.— Придворные уже несколько дней не приходят сюда, наверное, готовятся торжественно встретить Гальбу. Каждый из них будет орать на каждом углу, стараясь перекричать другого, каким противником нынешнего принципата он был всегда и как пострадал от Нерона.
— А солдаты? Слуги?
— Эти разбежались кто куда, у поверженного героя не может быть ни слуг, ни воинов. По крайней мере, так заведено у нас в Риме.
— Но почему же остался ты? — Несколько успокоившись, Никий подошел к Палибию поближе.
— Сам не знаю,— помолчав, вздохнул центурион.— Кто-то же должен остаться. Для такого солдата, как я, всегда найдется работа при любом императоре — махать мечом я умею, а у Рима много врагов, но, знаешь...— Он развел руки в стороны, словно недоумевая.— Знаешь, мне жаль его. Не могу понять почему, но жаль. Но,— он махнул рукой,— пойдем, он ждет меня.
Никий остался у двери в императорские покои, а Палибий, коротко постучав, вошел. Дверь осталась полуоткрытой, Никий услышал, как Нерон тревожно спросил:
— Ну что? Что, Палибий?
— Я принес плохие вести, принцепс,— ответил Палибий.— Мне передали, только что закончилось совещание в сенате. Они постановили предать тебя смерти по обычаю предков.
— Проклятые! — простонал Нерон и вдруг, спохватившись, спросил едва ли не с интересом: — А что это значит, по обычаю предков? Как они собираются казнить меня?
— Я не смею, принцепс.
— Говори! — срывающимся на фальцет голосом прокричал Нерон.
Тогда Палибий объяснил (голос его звучал вполне ровно):
— Голову осужденного зажимают в специальные колодки, а самого секут розгами по спине, пока не наступит смерть.
— О-о! — снова простонал Нерон.— Я не вынесу этого, я не вынесу этого, Палибий! Может быть, мне выйти на форум и обратиться к народу? Или нет — ехать в казармы преторианцев и поднять их!.. А, Палибий, скажи!
— Поздно,— сказал Палибий.— Ты просто не дойдешь до форума, а казармы преторианцев давно пусты.
— Но что же делать?!
— Ты должен уйти.
— Уйти? Но куда, Палибий, куда?
— Мне тяжело говорить тебе это, но ты должен принять смерть.
— Ты хочешь, чтобы я умер? — воскликнул Нерон так, словно не вполне понял, о чем сказал ему центурион.
— Я хочу, чтобы ты избежал позора,— ответил тот.
— Но я не могу, я не хочу этого, и никто не смеет, никто не смеет...— Он не договорил, наступило молчание, потом Никий услышал всхлип.
— Здесь Никий,— произнес Палибий.— Ты позволишь ему войти?
— Никий? — спросил Нерон отрывисто.— Какой Никий?
Не отвечая, Палибий позвал:
— Войди.
Никий вошел. Сидевший в кресле Нерон поднял голову. Лицо его казалось опухшим, на глазах слезы, волосы растрепаны, одежда в беспорядке. Некоторое время он молча смотрел на Никия и вдруг, протянув к нему руки, проговорил жалобно:
— Никий, Никий, как же я ждал тебя!
Никий смущенно взглянул на Палибия, тот указал глазами на Нерона. Никий приблизился. Нерон крепко обнял его и заплакал, дрожа всем телом и уткнувшись в грудь Никия лицом. Подошедший сзади Палибий шепнул на ухо Никию:
— Уговори его.
Нерон, как видно, услышал. Резко поднял голову, оттолкнул Никия, упал в кресло, поднял руки, словно заслоняясь от кого-то:
— Нет! Нет! — потом сказал, обратившись к Никию и указывая пальцем на центуриона: — Скажи, скажи ему!..
Никий оглянулся на Палибия, тот кивнул, прикрыв глаза.
— Ты должен! — неожиданно для самого себя твердо выговорил Никий.— Ты должен сделать это, принцепс!
— И ты, Никий! — простонал Нерон и, прикрыв лицо ладонями, уронил голову на грудь.
Некоторое время он сидел так — безмолвно, не шевелясь. Тишина прерывалась лишь скрипом калиг Палибия, когда он переступал с ноги на ногу. Наконец император медленно поднял голову. В лице его уже не было прежней растерянности.
— Хорошо, я сделаю это,— глухо проговорил он.— Только не здесь, мне нужно выехать из Рима.
— Но, принцепс!..— начал было Никий, но Палибий перебил его, выступив вперед:
— Здесь недалеко, между Соляной и Номентанской дорогами, на четвертой миле от Рима, усадьба моего приятеля, вольноотпущенника Фаона, мы можем поехать туда.
— Да? — вскинулся Нерон, и в лице его мелькнула надежда.— Едем, Никий, едем сейчас же.— Он посмотрел по сторонам, словно ища слуг, но, вспомнив, что никого нет, махнул рукой. — Одеваться, Никий, одеваться!
— Приготовь его,— шепнул Палибий Никию,— я схожу за лошадьми.
Центурион ушел, Никий принес из соседней комнаты длинный плащ с капюшоном, тщательно укутал Нерона. Тот стоял неподвижно, то бормоча под нос что-то нечленораздельное, то всхлипывая.
— Мы можем идти, принцепс.— Никий указал на дверь.
— Постой! — Нерон ухватил Никия за рукав, заглянул в лицо.— Скажи мне, Никий, я мужественен? Я отважен?
— Да, принцепс,— твердо ответил Никий.— Я никогда в этом не сомневался.
— И ты по-прежнему любишь меня?
И Никий ответил:
— Да.
Вернулся Палибий, доложил, что все готово и можно ехать. Они вышли к задней части дворца, там их ждали три оседланные лошади. Ни Никий, ни Палибий не подумали поддержать Нерону стремя — он ничего не заметил, проворно вскочив в седло.
Самым трудным оказалось выехать из города. Улицы были заполнены кричащими толпами. Никий слышал, как один горожанин сказал другому, указывая на них:
— Они гонятся за Нероном.
Другой, уже у самых ворот, попытался схватить поводья лошади Палибия, ехавшего впереди.
— Эй, солдат,— крикнул он,— что там слышно о Нероне?
Палибий грубо оттолкнул ногой наглеца, а Нерон еще ниже наклонил голову.
Город остался позади. Странно — особенно после толчеи на улицах,— но дорога была совершенно пустынна. Только когда уже проехали полпути до усадьбы, Палибий, приблизившись к Никию, кивнул за спину и сказал тихо, чтобы не услышал император:
— Посмотри.
Никий оглянулся. Держась примерно в двух стадиях, за ними ехал одинокий всадник.
— Думаешь, за нами? — шепнул Никий Палибию. Тот пожал плечами:
— Теперь все равно.
У поворота к усадьбе Никий оглянулся опять — всадник следовал не отставая, но и не приближался. Вдруг Никий подумал о Симоне, вгляделся, приложил ко лбу ладонь. Но солнце било в глаза, и ничего рассмотреть было невозможно.
Съехав с дороги, они поскакали по узкой тропинке, ведшей к усадьбе. С обеих сторон росли кусты густого терновника, острые шипы рвали одежду. Когда они добрались до задней стены виллы, у всех троих одежда свисала клочьями. Нерон слез с лошади, сел под стену, с гримасой боли потрогал глубокие царапины на лице и руках. Почти простонал, оглядывая своих спутников:
— Мне больно, надо перевязать.
Никто ему не ответил. Палибий прошел вдоль стены, позвал негромко:
— Сюда!
Никий помог Нерону подняться. Палибий полез первым. Взобравшись на стену, протянул руки Нерону; Никий подсаживал снизу — тело императора показалось ему тяжелым и мягким. Никий залез на стену, когда Нерон и Палибий были уже на той стороне. Он посмотрел на тропинку, по которой они ехали, и никого не увидел. «Не он»,— сказал себе Никий и спрыгнул вниз.
Палибий сказал, что к дому идти опасно, и указал на конюшню, стоявшую возле стены. Палибий приоткрыл скрипнувшие ворота, заглянул внутрь, махнул остальным.
Конюшня оказалась пуста, в углу лежала тощая подстилка, прикрытая грязным плащом. Нерон лег на нее, тяжело дыша и высоко закинув голову, Палибий с Никием молча стояли над ним.
— Я голоден, я хочу пить,— капризно выговорил Нерон.
Палибий ушел и скоро вернулся, неся небольшой кувшин с водой и кусок черствого хлеба. Горло кувши-на было отбито, ко дну прилипла грязная солома. От хлеба Нерон отказался, но взял кувшин и, поморщившись, сделал несколько глотков, пролив воду на грудь. Поставив кувшин на землю, произнес, горестно покачав головой:
— Вот напиток Нерона!
Центурион Палибий проговорил, не скрывая раздражения:
— Медлить нельзя, принцепс. Они каждую минуту могут быть здесь!
— Кто, Палибий? — голос Нерона звучал жалобно.— Я не понимаю!
— Медлить нельзя, принцепс,— вместо ответа повторил Палибий.— Мужайся!
Нерон приподнялся на локтях, с трудом встал на колени. На глазах его были слезы, когда он говорил:
— Какой великий артист погибает!
— Надо решиться,— нетерпеливо твердил Палибий.
Нерон с укором посмотрел на него, протянул руку:
— Дай меч.
Взяв его, он ткнул рукоять в землю, приставив острие к груди. Чуть раскачиваясь и прерывисто дыша, он несколько раз пытался броситься на меч, но распрямлялся, лишь только острие касалось груди.
— Нет, не так,— пробормотал он и, поправив меч, приставил острие к горлу и снова добавил: — Какой великий артист погибает!
Вдруг он отбросил меч, поднял глаза на Палибия:
— Помоги мне!
Палибий опустил голову, толкнул Никия плечом:
— Не могу. Сделай ты!
Никий испуганно посмотрел на Нерона. Тот простонал:
— Помоги!
— Делай! — шепнул Палибий.
Никий, как и Нерон, встал на колени, поднял меч. Попытался приставить острие к горлу императора, но рука дрожала и острие ходило из стороны в сторону.
Нерон осторожно, чтобы не обрезать пальцы, взялся за лезвие, приставил к горлу, под самый подбородок. Вдруг он прислушался, повел глазами в сторону ворот. И тут Никий уловил топот лошадей, отряд всадников тяжело проскакал где-то за стеной. Нерон посмотрел на Никия, прошептал едва слышно:
Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает!
Рука Нерона дрогнула, скорее от неожиданности, чем намеренно, ткнув мечом в горло. Меч вошел легко. Нерон, выпучив глаза, повалился на спину, кровь хлынула из раны. Никий бросился к нему и, схватив край плаща, на котором лежал император, заткнул рану.
— Поздно! — услышал он над собой голос Палибия.
Нерон открыл глаза, выговорил с трудом, но внятно:
— Вот она, верность! — И тут же голова его откинулась в сторону. Он был мертв.
— Пойдем, Никий,— тревожно проговорил Палибий, тронув Никия за плечо,— пора!
Никий отрицательно помотал головой:
— Уходи, я останусь.
Палибий постоял над ним всего несколько мгновений, потом Никий услышал удаляющиеся шаги и скрип ворот. Он не повернул головы, смотрел на мертвого императора и плакал, не вытирая слез.
Позади снова послышался скрип и осторожные шаги.
— Ты все же вернулся, Палибий! — сквозь слезы сказал Никий.
Ему никто не ответил, он медленно повернул голову. Перед ним стоял Симон с обнаженным мечом в руке.
— Вот я и добрался до тебя! — зло выговорил Симон и, шагнув к Никию, встал над ним.
— И до него тоже.— Никий кивнул на мертвого императора.
— Это ты убил его?
Никий поднял голову, посмотрел на Симона с улыбкой:
— Я любил его.
— Ты умрешь! — воскликнул Симон.— Встань!
Никий молча поднялся, шагнул к Симону:
— Бей!
Симон неожиданно попятился, выставив меч перед собой, Никий сделал еще шаг. Симон ткнулся спиной в стену конюшни. Никий подался вперед.
— Не подходи! — выговорил Симон, отводя меч и со страхом глядя на Никия.
Рукоять меча уперлась в доски. Никий поднял руку, взялся за лезвие, приставил острие к горлу, под самый подбородок, проговорил глухо:
— Вот так умирает римлянин! — И резко бросился вперед.
Симон закричал, выпустил меч, схватил оседавшего на землю Никия, прижал к груди:
— Нет! Нет!
Но тот уже не подавал признаков жизни. Симон присел, осторожно положил тело Никия на землю, резко прижал ладони к лицу, всхлипнул и замер.
Когда услышал во дворе топот и крики, даже не пошевелился.
КОММЕНТАРИИ
ИМАНОВ МИХАИЛ АЛИЕВИЧ родился в 1952 году в городе Норильске Красноярского края, в 1982 году закончил Литературный институт им. Горького в Москве, а в 1985 году в издательстве «Современник» вышла его первая книга — роман «Действующее лицо», который получил премию имени Горького.
Позднее книги Михаила Иманова выходили в издательствах «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Ковчег» и др. В издательстве «Армада» издан его исторический роман «Гай Иудейский». На сегодняшний день он является автором более 10 книг. Тематика его романов самая разнообразная, но непременно в каждом из них отражен самобытный взгляд автора на «вечные» проблемы человеческого бытия.
Стр. 11. Анней Луций Сенека (ок. 4 до н. э,— 65 г. н. э.) — римский писатель, политик и философ, воспитатель Нерона, позднее принявший Смерть по его приказу, несколько лет реально руководил государственными делами. Представлял оппозиционные императору Клавдию круги знати. Если Клавдий в период своего правления вел планомерную и спокойную работу по укреплению чисто монархических институтов власти и расширению их социальной базы, то Сенека и его сторонники, приведя к власти Нерона, стремились восстановить главенствующее положение сената и магистратур в системе административного управления империей. Впоследствии Нерон избавился от всех своих наставников.
Сенека был ярким представителем позднего стоицизма (от г р е ч. stoâ — портик (галерея с колоннами в Афинах, где учил основатель стоицизма философ Зенон). Стоицизм возрождал учение Гераклита об огне-логосе. По мнению стоиков, все существующее было телесно — с различной степенью грубости или тонкости материи, все вещи и события повторяются после каждого периодического воспламенения и очищения космоса. По этике стоицизма, мудрец должен не бояться смерти, следовать бесстрастию природы и любить свой «рок»; все люди — граждане космоса как мирового государства, стоический космополитизм уравнивал в теории перед лицом мирового закона всех людей — свободных и рабов, римлян, греков и варваров, мужчин и женщин. Римский стоицизм оказал сильное влияние на развитие раннего христианства.
Стр. 12. ...в последнем письме к Павлу...—Имеется в виду апостол Павел (лат. Paulus), в христианской традиции «апостол язычников», не знавший Христа во время его земной жизни и не входивший в число 12 апостолов, но в силу особого призвания и чрезвычайных миссионерско-богословских заслуг почитаемый как «первопрестольный апостол» и «учитель вселенной» сразу после Петра и вместе с ним. Павел родился в малоазийском г. Тарсе (в Киликии), был воспитан в строгой фарисейской традиции, получил прекрасное образование и пылал ненавистью к первым христианам. Однако на пути в Дамаск он испытал чудесное явление «света с неба», что и стало поворотным пунктом его биографии. Он принял крещение и начал широкую проповедь христианства (Антиохия, Киликия, Кипр, Македония, Афины, Коринф, Эфес, Испания и др.). Павел творил чудеса в доказательство правоты нового вероучения; несмотря на неблагоприятное предсказание, он отправился в Иерусалим, где его схватили иудеи, позже отослав в Кесарию к римскому наместнику и далее в Рим. В Риме, проповедуя, он прожил два года. О казни Павла в новозаветных текстах не сообщается, последующее предание относит ее приблизительно к 65 г.: он был казнен в Риме вместе с апостолом Петром.
Павлу приписывается авторство 14 посланий, входящих в Новый Завет, существует также апокрифический «Апокалипсис Павла» — на славянском языке апокриф известен под названием «Слово о видении апостола Павла», или «Хождение апостола Павла по мукам».
Триклиний — обеденный стол с ложами по трем сторонам для возлежания во время еды, а также само помещение, в котором стол находится.
Стр. 14. Туника — одежда из льна или шерсти, род рубашки, носившейся под верхней одеждой.
Назареями в начале развития христианства называли евреев, принявших Христа.
Палатин (от лат. Palatinus) — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим.
Стр. 19. Клавдий (Тиберий Клавдий Нерон Германик) — римский император с 41 по 54 г., из династии Юлиев-Клавдиев. Он был немощен телом (в детстве перенес паралич), и предыдущий император Гай Калигула держал его при себе на положении шута. Так же относилась к нему порой и римская знать, хотя проводимая им политика не давала к тому никаких оснований: Клавдий объявил о возврате к политической системе Августа (63 г. до н. э.— 14 г. н. э.), вел разумную финансовую политику, улучшил снабжение Рима продовольствием, укрепил монархические структуры — сенат и магистратуры потеснила придворная внесенатская администрация, созданная на основе управления личным хозяйством императора; распространил права римского гражданства на жителей провинций. Но император оказался слишком привязан к своим женам и вольноотпущенникам — его отравила. 13 сентября 54 г. последняя, четвертая жена Агриппина.
Стр. 20. Александрия — город, основанный в Египте в 332 — 331 гг. до н. э. Александром Македонским. При Птолемеях (305 — 30 гг. до н. э.) столица Египта и центр эллинистической культуры. Завоевана Римом. Один из главных центров раннего христианства.
Стр. 26. Претор (л а т. praetor) — римское высшее должностное лицо, осуществлявшее преимущественно судебные, правовые функции.
Стр. 30. Агриппина, последняя жена Клавдия, была дочерью Германика и сестрой Калигулы (а также его любовницей), вокруг нее группировались враждебные Клавдию представители знати. С их помощью Агриппина расчистила дорогу к власти своему сыну от первого брака Луцию Домицию Агенобарбу — будущему императору Нерону. Но пять лет спустя ожесточенная борьба между Агриппиной и наставниками императора привела к тому, что Нерон приказал убить свою мать.
Стр. 33. при императоре Гае...— Имеется в виду Калигула (Гай Цезарь Германик, 12—41 гг. н. э.), римский император из династии Юлиев-Клавдиев. Первые мероприятия молодого принцепса сенат встретил с одобрением, но затем он превзошел все худшие ожидания римлян: заявил, что порывает с традициями предков, растратил казну на увеселения и празднества, претворил в жизнь грандиозные, но бессмысленные замыслы, затем объявил себя живым богом и женился на родной сестре. Он прослыл в Риме безумцем. Безумная же налоговая политика, возобновление судебных процессов об «оскорблении величия», враждебность по отношению к сенату и отказ сотрудничать с ним привели к заговору против императора — он был убит 24 января 41 г. командирами преторианских когорт.
...евреи не хотели подчиняться Риму, и их восстания переросли в настоящую войну,— Непродуманная религиозная политика Калигулы привела к серьезным волнениям в провинциях, особенно В Иудее, на усмирение которой были отправлены войска. Иудея получила свое название от имени Иуда — имени четвертого сына Иакова (географически это южная часть Палестины); с 63 г. до н. э. она была подчинена Риму, с 6 г. Иудея стала прокураторской провинцией со столицей в Кесарии. Население исповедовало иудаизм — монотеистическую религию с культом бога Яхве, которая требовала отказа от языческих культовых традиций. Собственно Иудейская война (66 —/ 79 гг.) началась при императоре Нероне также на религиозной почве: в 66 г. в Цезарее произошло столкновение между эллинизированной частью населения, поддержанной прокуратором Гесием Флором, и сторонниками иудаистского «завета». В ответ на это римский гарнизон в Иерусалиме был перебит, и восстание охватило всю Иудею. Нерон направил против восставших войска под командованием Тита Флавия Веспасиана, будущего основателя новой династии римских цезарей.
Стр. 42. ...судьба... выступала... в лице... преторианцев,— Первоначально преторианцы были личной охраной римских полководцев, позднее стали императорской гвардией; они пользовались различными привилегиями, а в эпоху империи сделались крупной политической силой и играли ведущую роль в дворцовых переворотах.
Афраний Бурр — префект претория, после смерти Клавдия представил Нерона своим солдатам, и те провозгласили его императором; в дальнейшем Афраний Бурр реально участвовал в управлении государством, умер в 62 г.
Стр. 43. ...последним словам императора Юлия,— Имеется в виду Гай Юлий Цезарь (102 или 100 — 44 гг. до н. э.) — великий римский полководец и диктатор, успевший перед смертью бросить своему убийце-соратнику ставшую впоследствии знаменитой фразу: «И ты, Брут?» Император Нерон также успел сказать перед смертью фразу «для истории».
Стр. 47. Двухрасторочнейших самых...— цитата из «Одиссеи». Цит. по изданию: Гомер. Одиссея. Пер. В. А. Жуковского, адаптация Г. Б. Федорова. М.: Советская Россия, 1983.
Стр. 50. Тиберий (Тиберий Клавдий Нерон, 42 г. до н. э,— 37 г. н. э.) — римский император, стал императором в 55 лет, сумел добиться улучшения финансового положения империи, почтительно относился к сенату. Ввел судебные преследования по Закону об оскорблении величия. В политике опирался на преторианцев. Как полководец зарекомендовал себя в сражениях с германцами, паннонцами, даками. В возрасте 70 лет, после смерти матери, от которой всю жизнь был зависим, сломленный жизнью, больной и раздражительный, он удалился на о. Капри, где и окончил свои дни. Последние годы его правления изобиловали жестокостями и террором — Рим с радостью воспринял известие о его смерти.
Стр. 68. Софокл (ок. 496 — 406 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург, один из трех великих представителей античной трагедии, занимавший по времени жизни и характеру творчества место между Эсхилом и Еврипидом. Основа его мировоззрения — утверждение, что человек свободен совершать любые самостоятельные поступки, но отвечает за каждый свой шаг. Классические образцы жанра — трагедии «Царь Эдип», «Антигона», «Электра» и др.
Еврипид (ок. 480 — 406 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург, младший из трех великих афинских трагиков. Соединял крайний рационализм с психологизмом, ему свойственны необычное по тем временам стремление изобразить мелочи бытия и интерес к частным судьбам людей («Медея», «Ипполит»),
Стр. 70. Когорты (от лат. cohors) существовали в Древнем Риме начиная со II в. до н. э. Подразделение легиона численностью 360—600 человек (легион, в свою очередь, состоял из 10 когорт).
Стр. 84. Стола — нижняя женская одежда знатных римских дам из тонкого полотна, напоминала греческий хитон.
Стр. 98. Понтифики — важнейшая жреческая коллегия в Древнем Риме, ведала общегосударственными религиозными обрядами, составлением календаря, списка консулов и др. Должность верховного (или великого) понтифика (pontifices maximus) в период империи оставалась за императором.
Отец нации — самое почетное звание, которое присваивалось римскому императору.
Стр. 109. Манипула (или манипул) — древнеримская войсковая единица, состоящая из двух центурий (около 200 человек).
Стр. 116. Этруски — древние племена, населявшие в 1-м тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова, создали развитую цивилизацию, предшествовавшую римской и оказавшую на нее большое влияние. В V — III вв. до н. э. были покорены Римом. Родовая этрусская знать соперничала с римской.
Принципат (от лат. principatus) — древнеримская форма монархии, при которой сохранялись республиканские учреждения, но власть фактически принадлежала одному человеку — принцеп-су (первому в списке сенаторов); принципаты просуществовали с 27 г. до н. э. до 193 г. н. э.
Стр. 124. Также скажи, отчего...— цитата из «Одиссеи». См: Гомер. Одиссея. Пер. В. А. Жуковского, адаптация Г. Б. Федорова. М.: Советская Россия, 1983.
Стр. 130. Терманик Юлий Цезарь (15 г. до н. э,— 19 г. н. э.) — римский полководец, племянник Тиберия, отец Агриппины и Калигулы. В 12 г. н. э. стал консулом, успешно воевал на стороне Тиберия в Германии, неоднократно участвовал в походах на Рейн, где и получил свое прозвище. Был отправлен с миссией на Восток — там, в Антиохии, заболел и умер.
Стр. 131. Фарсал — греческий город, где существовала крупная христианская община.
Стр. 134. Центурион — командир центурии, военного подразделения Древнего Рима, насчитывавшего в разное время от 60 до 100 солдат.
Стр. 140. Петр и Иаков,— Имеются в виду святые апостолы, ближайшие ученики Христа, причем центральное место среди всех двенадцати апостолов занимает Петр, первым провозгласивший Иисуса мессией; церковь называет Петра первым римским епископом.
Петр происходит из города Вифсанда в Галилее (первоначальное имя Симон), до встречи с Христом занимался рыболовством вместе со своим братом Андреем. Христос увидел братьев на море Галилейском и позвал обоих за собой, прибавив: «Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Именем Петра открывается перечень двенадцати апостолов. Петру Христос предназначает ключи небесного царства. По преданию евангелистов, Петр непрестанно свидетельствует Христу свою любовь и преданность, но когда Иисуса схватили и привели к первосвященнику Каиафе, трижды отрекается от учителя, а затем раскаивается. Петр — первый из апостолов, кому является по воскрешении Христос, и Христос облекает его пастырской властью — после троекратного вопрошения о любви, снимающего троекратность отречения. В дальнейшем Петр проповедует, крестит новообращенных, совершает чудесные исцеления. Ирод Агриппа I, царь Иудейский, заключает апостола Петра в темницу и казнит апостола Иакова, но Петра спасает ангел.
Проповедническая деятельность Петра разворачивается преимущественно на Востоке: по традиции считается, что Петр — учитель иудеев, а Павел — язычников и что Петр некоторое время занимал антиохийскую кафедру. Существуют апокрифы «Деяние Петра», «Евангелие от Петра», «Откровение Петра» и др., согласно которым Петр, предупрежденный учениками, пытается бежать из Рима, но по воле Христа возвращается и принимает мученическую смерть на кресте, будучи перевернут вниз головой, дабы не уподобиться Богу в роде смерти. Он гибнет вместе с апостолом Павлом примерно в 65 году. В западной, католической иконографии апостол Петр часто изображается отдельно, в восточной, православной — только вместе с апостолом Павлом.
Стр. 153. Коринф — греческий город, знаменитый центр эллинизма, где в середине I в. н. э. проповедовал апостол Павел.
Стр. 156. Ирод I Великий (ок. 73 — 4 гг. до н. э.) — царь Иудеи, властолюбивый, ловкий и жестокий политик, оказал важные услуги римлянам, которые и возвели его на престол. В христианстве ему приписывается избиение младенцев при известии о рождении Иисуса Христа.
Стр. 159. Всадники — привилегированное сословие богатых, но незнатных граждан Рима; к всадникам принадлежали землевладельцы, военные, ростовщики, крупные торговцы и др.
Стр. 162. Странное слово...— цитата из «Одиссеи».— См.: Гомер. Одиссея. Пер. В. А. Жуковского, адаптация Г. Б. Федорова. М.: Советская Россия, 1983.
Стр. 173. Царь Эдип — герой греческого мифа, в наиболее полном варианте изложенного в трагедиях Софокла «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне». Эдипу суждено было убить отца и жениться на собственной матери.
Стр. 183. Триумф (от л а т. triumphus) — торжественное вступление в столицу Рима полководца-победителя с войском, процессия двигалась торжественным маршем от Марсова поля на Капитолий. Триумф устраивался лишь по решению сената.
Стр. 227. Стадий — единица измерения расстояний у многих древних народов; величина различна, но в среднем от 185 до 195 см.
Стр. 232. Калиги — обувь воинов Древнего Рима, полусапоги, преимущественно солдатские, до половины покрывающие голень. Позднее этим словом обозначали обувь епископов и сандалии богомольцев.
Стр. 238. Большой (или Великий) цирк находился между Палатинским и Авентинским холмами, арена его в длину составляла 640 м, в ширину — 130 м, с трех сторон — одной короткой и полукруглой и двух боковых длинных — ее окружали ярусы «седалищ», над которыми возвышались павильоны. После пожара в Риме Нерон выстроил Большой цирк почти заново, сделав его более роскошным. Последние скачки в нем прошли в 549 г. В
Риме существовали также цирк постройки 220 г. до н. э., в котором император Август давал народу представление охоты на крокодилов — среди арены, заполненной водой, цирк Каракаллы и собственно цирк Нерона, где чаще всего происходили жестокие казни христиан.
Стр. 331. Кифаред — певец, сказитель, поэт, мастер игры на кифаре (от г р е ч. kithara), струнном щипковом инструменте древних греков, родственном лире.
Стр. 359. Портик (от лат. porticus) — галерея на колоннах или столбах, обычно перед входом в здание.
Стр. 376. Префект — в Риме административная судебная или военная должность, а также лицо, ее исполняющее.
Стр. 386. Парфянское царство, простиравшееся к юго-востоку от Каспийского моря, было извечным соперником Рима на Востоке. В период правления Нерона началась очередная война с парфянами.
Стр. 438. В 68 г. против императора восстал наместник Лузитанской Галлии Гай Юлий Виндекс, к нему присоединился наместник Испании Сервий Гальба. Рим оказался во власти собственных войск, различные группировки которых боролись между собой за то, чтобы возвести на престол своего ставленника.
Стр. 448. Коней, стремительно скачущих...— цитата из «Одиссеи»,— См.: Гомер. Одиссея. Пер. В. А. Жуковского, адаптация Г. Б. Федорова. М.: Советская Россия, 1983.