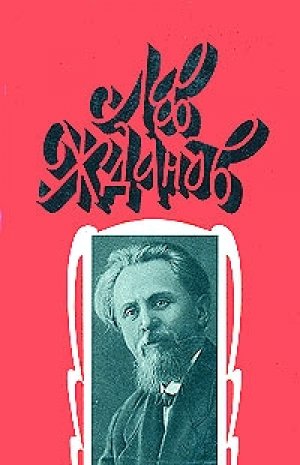
ОТ АВТОРА
В этой книге, как и в остальных моих исторических романах, придумана, искусственна только разговорная форма, а события изложены в их неприкосновенной — исторической правде.
Для справок я решил отмечать те источники, те исторические факты, из которых черпал основы и материал для своей правдивой не только по духу, но и по мелким подробностям повести.
Если же русская жизнь и в 1712, и в 1912 годах поражает иногда своим внутренним сходством… так это уж вина не моя, а нашей родной истории!
Затем считаю необходимым коснуться еще одного вопроса.
Когда первые две части этого исторического романа печатались в журнале «Былое-Грядущее», мне приходилось слышать из среды читателей голоса, выражающие сомнения относительно уместности того повышенного аромата чувственности и жестокости, который словно бы и не вяжется с красивым барством даже времени Петра, не говоря уже о позднейшем веке Екатерины, так сходном с утонченными нравами Версаля, с теми самыми, после которых наступил 1793 год!..
Но этим моим судьям я должен только указать на общий характер нашей народной и придворной жизни в началеXVIIIстолетия. Она была вся пропитана именно любострастием самого грубого свойства, смешанным с тупой жестокостью, а на верхах все это было завернуто в волны кружев, закутано в парчу богатых нарядов, усыпанных драгоценными камнями. Надо всем «избранным» русским обществом витал острый запах пролитой крови, алькова и крепких духов, амбры и мускуса.
И если не поставить себе заранее крайне неблагодарной задачи набелить, подрумянить и облагообразить духовно наших дедушек и бабушек, исказить их души и характеры гораздо сильнее, чем мушки и притиранья изменяли их лица, — тогда автору приходится отбросить современную щепетильность, наш утонченный пуританизм, позволяющий творить всякие мерзости только скрытно… И остается, рисуя цельных людей началаXVIIIвека, брать для изображения и настоящие, незатушеванные, тона и краски чистые, не смешанные с белилами лицемерия…
Надеюсь, что эта смелость будет прощена автору ради вечного искания истины, присущего человечеству.
С.-Петербург. Февраль 1913 г.
Л. Ж.
Часть первая
СИБИРЬ НА ОТКУПУ
Глава I
В «ПАРАДИЗЕ»
— Давно вы уж здесь, в России, Минхен?
С этим вопросом плотный, почти багровый лицом, здоровяк, молодой голландец Каниц обнял за талию и привлек к себе красивую рослую девушку — немку лет семнадцати. Минна была дальняя родственница хозяина и помогала ему, разнося напитки гостям в особенных двух комнатках матросской австерии «Четырех фрегатов», которая помещалась во вновь отстроенной крепости Петра и Павла, очень близко от домика, где жил со своею «новобрачной» сам державный хозяин и создатель города.
И сейчас грузная, мощная фигура Петра первою бросалась в глаза среди десяти — двенадцати человек, наполнявших заднюю комнату австерии. «Капитан», как его величали собеседники, сидел за столом, в дальнем углу комнатки, где табачный дым так и ходил облаками при скудном освещении, и в этих облаках все сидящие вокруг Петра казались порою одетыми туманом. Очертания лиц и фигур для постороннего наблюдателя сглаживались, почти сливались. Темнели и выдавались только спины, затылки или белели воротники и жабо на груди. Выделялись руки, когда они поднимались и подносили к усам кружки и стаканы. Поблескивали кое у кого большие круглые стекла очков. Затем, когда дым на время рассеивался, поднимался к потолку, рваными, косматыми полосами тянулся и через двери уходил в соседнее помещение, уносился в одно раскрытое окно, выходящее на канал, — тогда вся пирующая компания теряла свои призрачные очертания. Темные морские куртки лоцманов или шкиперов, нарядные кафтаны приспешников царя, бритые и бородатые лица — все это снова выступало из тумана и даже при недостаточном освещении могло поразить взгляд художника смесью тонов, красок и резким различием типов.
На фоне глянцевитой кафельной печи, к которой он прислонился спиной, Петр темнел, словно изваяние, в своем неизменном коричневом кафтане. Царь что-то толковал по-голландски резиденту Нидерландских Штатов и, пользуясь пролитым из кружки элем, даже чертил ему на столе течение какой-то реки, порой обращаясь за справками к другому голландцу, шкиперу, сидевшему тут же рядом и сосавшему свою пипку, чередуя затяжки табака с глотками крепкого эля.
За плечом шкипера виден был восточный профиль Шафирова.
Маслянистые красивые глаза вице-канцлера были устремлены на графа Григория Дмитриевича Строганова, с которым он беседовал, но острый слух ловкого карьериста ловил звуки голоса «капитана»: не услышит ли он чего-нибудь, что может пригодиться ему самому или тем сильным покровителям, которые сумели незначительного служаку, переводчика Посольского Приказа Яшку довести до положения вице-канцлера и любимца московского царя?
Граф Григорий Строганов, несметный богач, видевший многое на своем веку, старым, изнеженным лицом напоминающий лица римских императоров или первосвященников, лениво потягивает ароматное и легкое кипрское, посасывает полные губы, обрамляющие почти беззубый рот, и, лукаво прищурясь, рассказывает о напрасных попытках одной цыганки пробудить в нем искру страсти, за что ей была обещана крупная награда.
— А что если бы графиня проведала? — тонко улыбаясь, вставил Шафиров, услужливо оправляя подушку, нарочно для старика графа брошенную Минной на твердую скамью.
— Графиня?.. Ей есть кого ревновать, — открыто кивая на «капитана», небрежно ответил Строганов. — Да и не возьмет она на себя труда греть мои старые кости… Хе-хе… У ней не нужда в деньгах… Она — графиня Строганова, а не пройдоха какая, что из грязи в князи попала! — пустил мимоходом стрелу граф и опять стал сообщать подробности своей пикантной истории.
Развалившись и расстегнув дорогой кафтан, убранный тончайшими кружевами, «друг души» Петра Меншиков пьет свой рейнвейн, прислушивается к циничным рассказам старого развратника и в то же время отвечает короткими, но дельными замечаниями толстому, небольшому ростом человеку с пушистыми, как у кота, усами, князю Матвею Петровичу Гагарину, генеральс-президенту Сибирского Приказа и губернатору московскому.
— Опять ты с английским табаком, Петрович? Не до него нам… Опасаемся, как бы не приняли нас в прутья над Прутом… Реваншу достичь надо… Довольно, гляди, и без того ты нажил с англичанина твоего, с лорда Перегринуca… без мала десять лет, как он всю продажу табаку и у нас, и в твоей Сибири залучил в свои руки. На много тысяч рублей этого зелья в бочках через один Архангельск провозят. Были мы тамо с капитаном, так я осведомлялся… Жаден твой маркиз Фонкар. Мало благодарностей от него и видели. А он уже новых вольгот ищет… Погоди… дай срок…
— Оно мне и не к спеху… Пишет приятель. Вот я и сказал тебе по дружбе… Тоже недаром будем для маркизенка себя трудить! — веско намекнул Гагарин.
— Даром не даром, да не в час, — так ничего не возьму! И дела не выйдет, и лишняя свара с капитаном… А у нас по своим делам немало с ним розни бывает. Сам знаешь: горяч он, мой друг сердечный, и на руку тяжел…
— Пока знать не доводилось… А слыхать — слыхал…
— Не доводилось, — с кривой усмешкой повторил балованный любимец, часто получавший «собственноручные мемории» от гиганта царя, — ин ладно… Узнаешь его руку, какова она легка во гневе…
И даже слегка нахмурясь, временщик полуотвернулся от Гагарина, совсем заинтересовавшись рассказом графа Строганова, который сейчас передавал самые гнусные подробности своего последнего похождения. Но через минуту Меншиков полуобернул голову к князю и негромко сказал ему через плечо:
— Слышь, князенька… и то на тебя новая реквизация готовится… По военным подрядам проруха…
— Какая еще проруха? Никоторой и быть не могло… Знаю я: просто господину главному интенданту военному досадно, что я более его самого поставляю на войска… вот он, прохвост… мошенник…
— Не горячись, князенька… Этим не поможешь… Вспомни: давно ль пеню семьдесят тысяч серебрецом уплатил?.. И еще уплатишь…
— И уплачу… и уплачу… Мне что? Плевать! — совсем багровея и приходя в раздражение, фыркая в усы, бормотал толстяк князь. — Эти тысячи мне что? Ничего! От пыли да сору только сундуки свои поочистил… Вот он и весь штраф-то!.. А капитану, вестимо, денег и на удачную войну не хватало… А тут, как прищемили хвост да фалды…
— Ну, ну, потише! — сразу понижая голос и взглядом останавливая приятеля не меньше, чем словами, внушительно шепнул Меншиков. — И то, слышь, звонят, что ты царевичу первый друг стал, на его сторону переметываешься… От сего всякие и напасти на тебя пошли, коли истину сказать! — почти на ухо уже закончил он, склонясь к Гагарину.
Тот сдвинул брови, дернул было плечами, хотел заговорить, но оглянулся кругом и заметил, что кроме Шафирова и Ягужинского, сидевшего напротив, сам Петр обратил внимание в их сторону.
Сдержавшись, Гагарин только невнятно пробормотал что-то вроде проклятия и поднес к губам стакан, опорожненный уже больше чем наполовину.
Рядом с Ягужинским, по другую сторону общего стола, сидел уже полупьяный, всешутейший князь-папа Зотов, напоминая своим расплывшимся лицом и непомерно толстой фигурой престарелого Силена.
Кафтан у Зотова был расстегнут, и ожирелая, дряблая грудь старика, принявшая почти женские очертания, лежала чуть ли не на брюхе, которое так и выпирало из-за стола и очень стесняло всешутейшего.
Зотов ни с кем не разговаривал, никого не слушал, никуда не глядел. Сосредоточенно, в молчании, осушал он кружку за кружкой, громко посапывая при этом. Затем ставил пустую кружку и стуком призывал Минну, поспевавшую повсюду с обычной веселой, вызывающей улыбкой, от которой так и поблескивали ее крупные, ровные, белые зубы.
Вице-канцлер Головкин с бледным одутловатым лицом, важный, сосредоточенный, пучил свои оловянного цвета глаза на всех окружающих, видимо, мало что сознавал и только тянул стакан за стаканом из граненого графина с тминной настойкой, поставленного перед ним.
Он и в минуты опьянения не терял того внушительного вида, с каким порою составлял важную меморию Петру или дипломатическую ноту какому-нибудь из западных «потентатов» как руководитель тогдашнего Министерства иностранных дел.
И только когда красивая голландка проходила мимо канцлера, не меняя выражения и цозы, он начинал щекотать ее пальцем куда ни попало, прибавляя по-немецки — У-у!.. Гладкая… Хрустит, небось, все тело у тебя, где ни тронь?..
— А вот мы сейчас увидим! — задержав красавицу, подхватил моложавый на вид, с женственным лицом, но с холодными злыми глазами военный, генерал Василий Долгорукий, сидевший тут же.
И смелой, привычной рукой он расстегнул корсаж девушки, причем несколько крючков с треском отлетело совсем. С довольным хохотом поймал он край груди и стал целовать.
С таким же веселым громким смехом оттолкнула ловеласа Минна, которую в эту минуту позвал сам «капитан».
— Еще кружечку мне и гостям… Ого… да нельзя ли такого яблочка на закуску? — пошутил гигант, протягивая руку с трубкой к раскрытому корсажу.
— Сейчас все подам! — не переставая смеяться, покорно ответила девушка.
И, переходя от гостя к гостю, от объятия к пьяному поцелую, она не имела даже охоты и времени исправить беспорядок туалета.
Августовская звездная свежая ночь глядела в раскрытое оконце комнатки, где происходила пирушка. Но никому не было дела ни до светлых, трепетно мерцающих звезд на далеком синевато-изумрудном небе, ни до свежего дыхания ветерка, налетающего с реки и с моря. Все шумели, говорили в одно и то же время, волновались своими мелкими и крупными интересами… И многоголосая, разноязычная беседа далеко уносилась в заснувшую ночную тишину, вырываясь в раскрытое оконце душного, дымного покоя вместе с клубами табачного дыма.
— Как оно ни плохо, а и доброго немало послал нам Господь! — своим хриплым, глуховатым баском говорил «капитан» князю Куракину, который сейчас беседовал с Петром, заменив вышедшего из-за стола резидента. — Вот Выборг взят нами… Это крепкая подушка парадизу моему. Санкт-Питербурх твердо упереться на ту крепость может. Далее Финлянды тоже у нас в руках… Сия страна, почитай, нам и не надобна… Да было бы что уступить после Швеции, когда час мириться приспеет… вот…
И обыкновенно неразговорчивый, необщительный Петр сейчас пустился в самые подробные объяснения своих ближайших планов Куракину, которого часто посылал полномочным послом к соседям-государям. Выпитое вино и хорошее настроение духа развязали язык и сердце гитанту-правителю, который за последнее время особенно часто стал задумываться и хмуриться, очевидно, утомленный целым рядом военных неудач и неустройством внутри государства.
— Оно верно, капитан. Да вот слухи слывут: дорого нам больно и неудачи и удачи наши обходятся.
— Дорого?.. Жеребенка купить али родить — и то денег да крови стоит. А мы царство куем. Где же дурням понять! — вспыхнув, отрезал Петр. — Ну да ладно же. Силой, если не согласием Фортуну госпожу к нам передком повернем… Уж мы ее тогда… удовольствуем!..
И он пристукнул по столу кулаком, словно угрожая этой упрямой кокетке Фортуне.
— Кабы еще нам дома не вредили люди… даже самые ближние… Легче бы все пошло… И слухов слыло бы поменее! — невольно цокосясь на соседний покой, пробормотал «капитан».
Там, окруженный тоже приближенными к Петру людьми, сидел царевич Алексей, который на другой же день должен был ехать за границу, чтобы в Торгау встретиться с нелюбимой им Шарлоттой Бланкенбург Брауншвейгской и обвенчаться с этой рябой, сухопарой, некрасивой принцессой, у которой ум и душа были намного прекраснее ее телесной оболочки.
Как раз о невесте и толковал сейчас Алексей с юным графом Головкиным, сыном канцлера, отделясь со своим собеседником от остальной компании.
Оба они сидели на подоконнике раскрытого окна, будто желая освежить головы от хмеля, и толковали вполголоса.
Князь Григорий Федорович Долгорукий, посол Петра в Варшаве, у посаженного снова на королевский трон Августа Саксонского, нарочно приехал обсудить подробности встречи его с Петром и находился тут же. Князь Волконский, в чине полковника, из денщиков Петра, губернатор Архангельский, еще два полковника, денщики, Яков Елчин и Юрий Пашков, генерал-майор Лихарев, посол Петр Львович Толстой, князь Юрий Трубецкой, почти все назначенные состоять в свите цесаревича и Петра при будущем торжестве бракосочетания, собраны были в любимой австерии «капитана» выпить отвальную. Кроме них было еще человек десять случайных приглашенных, приятных царю собеседников или нужных людей, как голландский резидент и австрийский посланник, находившийся в комнате, где сидел сам Петр.
Алексей всеми силами души восстал против предстоящего брака, но, запуганный отцом, не смел ему сопротивляться даже в таком деле, как собственная женитьба.
Зная характер юноши, Головкин, руководимый какими-то тайными соображениями и планами, не прямо, но окольными путями старался восстановить Алексея и против невесты, и против отца.
— Пропала моя головушка! — хриплым, возбужденным голосом, напоминающим голос Петра, только еще более глухим и слабым, негромко жаловался сверстнику графу Алексей. — Поженят, обвенчают с этим пугалом огородным, сухопарую жердь долговязую в жены навяжут. Да лучше бы мне конюхом родиться, чем порфиру надеть на всю жизнь не по своей воле жить… А и то сказать: не порфиру, гляди, саван мне приготовят скоро мои друзья-недруги… Теперь особливо… Метресса отцова ныне в матушки законные мои попадет… Дите у их, сын тоже свой, гляди будет… Разве допустят меня до трона? Ни в жисть… Как-никак, да изведут!.. Оттого и венчают на завали, лишь бы с рук меня сбыть!..
— А ты бы все же потише, ваше высочество. Хотя здесь и вполпьяна все, да не безухие… А затем прими в рассуждение: как брачный договор утвержден? Сказано в пункте первом, что брак сей сочетается к пользе, утверждению и наследству Российской монархии… а также к вящей славе и приращению Брауншвейгского дома…
— Во, во… Им, куцым, и будет прибыль. Видал я, каки у них там палацы да маентки. Конюхи у отца лучше живут, чем вельможи. Теснота, нищета… У нас спеси меньше. Зато простор и благодать! Что нам к чужим ходить? Свои невесты найдутся, не беднее этой выдры… Уж ежели батюшке нужно на мне калым наживать… А помочь какую нам немцы подадут? Враги они нам, предатели. Еретики безбожные. Не похуже тех самых турок, против которых отцу помогу обещают… Так зачем же меня…
Вдруг, заметя, что к ним подходит Елчин, давно уж поглядывавший на двух приятелей, о чем-то оживленно толкующих, Алексей сделал совсем пьяные глаза и слегка заплетающимся языком заговорил:
— И такая это, я скажу тебе, девка… толстая да горячая… как привалился я к ей, ровно на печь попал… Право…
Сначала молодой Головкин раскрыл было на мгновение широко глаза, но, почувствовав за спиной, что кто-то приближается, тоже принял совсем опьянелый вид и громко и горласто захохотал, повторяя при этом:
— Ловко… Любо… Сделай милость, удостой… Позволь хотя взглянуть на девку твою новую, десятипудовую… Ха-ха-ха!
— Что глядеть?.. Можешь и попотеть… Мне не жалко для друга…
И оба мимо Елчина, проводившего их взглядом, весело смеясь и разговаривая, прошли и заняли места за общим столом.
Еще порядком даже не усевшись, Алексей своими красивыми, хотя и усталыми, припухшими глазами с нескрываемым презрением и злобой, не поднимая почти постоянно приопущенной головы, уставился исподлобья на сухого чистенького старичка в богатом кафтане, князя Бориса Юсупова и крикнул ему:
— Гей, ты… Лукавый татарин! Князь Астраханский! Подь-ка сюды!..
— Ахти!.. Никак меня кликать изволишь, ваше высочество? Иду… бегу! Что приказать изволишь, милостивец?
И богач вельможа на самом деле с холопской замашкой, трусцой, сорвавшись с места, поспешил к царевичу, умилено осклабляясь и щуря косые свои хитрые глазки.
— Ничего не прикажу… Дельце у нас есть к тебе, Николаич… Ты тароват, сказывают… Вот приятелю моему сиятельному деньжонок наскорях да ненадолго понадобилось. На метресок да на карты все просвистал… Изрядный профит обещает. Ты дай. А я в деньгах тех порука. Слышь?..
— Как не слышать? Слышу! Твои рабы, твои слуги, государь-милостивец, ваше высочество… А слышь, одна беда! Денег сейчас и в помине живых нет. Что было, все пороздал приятелям… И безо всякого профиту, так, по доброте сердечной. Чай, знаешь меня, радостный… Всякому бы я угодил… по доброте, по простоте моей сердечной!.. Да нечем… Сам в займы пошел… Он в послы досылает, твой яснейший батюшка… Дай Бог ему многолетия и здравия… Все расходы… А откуда их поверстать?..
— Ах ты, тать… Лукавец… Сколько тебе ежеден одне вотчины твои подмосковные дают? Опять же — земли заимочные твои на Урале да… Перечесть разве?.. Для кого копишь?.. Сын ведь один… Ему все… Девкам-дочерям кинешь что-ничто на венец… И все… Ну, да леший бы тебя побрал… Своих нет — кого не знаешь ли?.. Ты и так, слышь, через чужие руки даешь… А приятелю нужда… Говорю тебе…
— Клевета людская… Ни через чьи я руки не даю ни рублика… А людей знаю, пришлю денежных… Завтра кого ни будет… Авось ты, графчик, с ним сладишься! — обращаясь к самому молодому Головкину, сладко проговорил Юсупов.
— Выходит, своего подручного подошлешь, ваше сиятельство? — довольно пренебрежительно спросил Головкин, знавший, что князь-ростовщик не обидчив, особенно в виду какого-нибудь барыша — Ин, ладно! Только пораней, гляди. Нам и в дорогу после обеда пускаться надо. «Капитан» не любит у нас промедлений, знаешь.
— Когда угодно, и придет мой приятель. Он парень не спесивый… Лишь бы сам встал, голубь мой… Придет рано…
И потирая худые, выхоленные руки, Юсупов уже готов был отойти.
Но Алексей решил не расставаться так скоро с князем, которого инстинктивно не любил до отвращения.
— Постой, не спеши… Еще что спрошу, князь…
— Что повелишь, милостивец? Приказывай, ваше высочество.
— Знать бы я очень хотел… Вон, слывете вы, Юсуповы, богачами несметными. А все оттого, что больше одного сына-наследника в каждом колене не выживает… Все мрут, кроме одного… Да и тот остается, кто на весь род больше и лицом и душой походит… Кто кремнем больше кажется… Верно ли?..
— И верно, и нет, ваше высочество… Сам рассуди: смерть выбирает ли? Иному давно пора умереть либо заживо сгнить, а он живет, как дуб матерой; старый — молодые побеги глушит… А иной — и молод, да хил, жить не умеет, не смеет… Зеленый, слабый… И чахнет до сроку… Так и у нас в роду… Правда: больше одного сына в колене живым не остается… А уж кого смерть убирает, ее воля… Смерть сильней всех владык земных…
— Так ли?.. А не помогают ли ей у вас в роду, корысти да жадности ради? Слышь, толкуют: водица у вас родовая такая водится… «Наследничья» зовется… Как у кого из братьев женатых первый сын родится, он сам или другие кто остальных братьев и изводят понемногу… Следов нет… и делить ничего ни с кем не надо… Только земель да денег, у вас прикопляется… Правда ли?
— Совсем уж клеветы, государь мой, ваше высочество!..
И, желая прервать неприятный разговор, Юсупов, низко поклонившись, пошел на свое место, ничем почти не выдавая глубокого раздражения своего. Только мелкими, еще острыми и крепкими зубами прикусил он край тонкой, бескровной губы да левой рукой подергивал на ходу седые, свисающие надо ртом усы.
Алексея так и передернуло от приступа непонятной злобы, пьянившей его сейчас сильнее вина. И без того острый; подбородок юноши как-то натянулся, совсем обострился от напряженных на шее мускулов. Так бывает у волка, когда он оскалился и готов укусить врага. Даже обычное осторожное, трусливое выражение лида царевича заменилось другим, суровым, жестоким, напоминающим выражение, часто мелькающее на лице гиганта отца, только менее страшным.
— А слышь, правда ли, князь, что некоторые весьма знатные особы для своих удобств обращались к тебе, просили одолжить малую толику той «водицы наследничьей»?.. А скажи, будь друг! — совсем глухо и хрипло, спросил Алексей уходящего князя.
Но Юсупов, делая вид, что не слышит, занял свое место и стал наливать в чарку из сулеи, наполненной дешевым вином.
— Не желаешь отвечать?.. Твоя воля… Хоть угости нас за будущие профиты! — не оставляя старика, опять заговорил Алексей. — Вели подать чего ни есть хорошенького…
— Пока чего дождешься, милостивец, государь мой… Вот, не побрезгуй, ваше высочество… Сулеечка, почитай, и не почата. Хорошее винцо… Старое, духовитое… Откушай, изволь.
И снова сорвавшись с места со своей сулеёй, он стал наливать из нее в свободные стаканы царевичу и Головкину.
— Пить ли? — все прежним, глумливым тоном, поднимая к свету стакан, спросил Алексей. — «Водицы наследничьей» сюда не капнуто? А?..
Ничего не отвечая, Юсупов только с укоризной покачал головой, сам отпил немного вина и, с поклоном подавая дополненную чарку царевичу, сказал:
— По старому обычаю… Отведавши, прошу милости испить, государь мой, ваше высочество.
— Не стану я! — совсем резко оттолкнув чарку, грубо бросил Алексей и, отвернувшись к Головкину, что-то стал ему шептать на ухо.
И эту обиду проглотил родовитый вельможа, сильнее только закусил губы и, забрав свою сулею, вернулся с нею на место.
Как раз в это время Минна, неся шесть полных кружек, появилась в этой комнате, шуткой отделалась от молодого князька Юрия Трубецкого, совсем раскрывшего ей корсаж, и, вся красная, улыбающаяся, появилась в последней угловой комнате.
Тут-то и перенял ее Каниц, давно уже жадными глазами следивший за соблазнительной красоткой.
Четыре кружки она поставила на места и с двумя остановилась около земляка, который показался ей, очевидно, привлекательнее всех остальных.
Когда Каниц привлек Минну за талию, она, освободя одну руку от кружки, кое-как запахнула корсаж и, глядя прямо в голубые, довольно выразительные глаза молодого офицера, слегка прислонилась к его кудрявой голове своей горячей, трепещущей грудью.
— Давно вы приехали в Московию, Минна? — переспросил ее юноша.
И голос у него вдруг сорвался и зазвенел, как будто легкое прикосновение этого молодого, красивого тела опьянило Каница больше, чем все вино, выпитое до сих пор.
Волнение Каница мгновенно передалось девушке.
Не отвечая на тот вопрос, который он ей задал словами, а повинуясь немому моленью, беззвучному призыву, Минна нагнулась, крепко прижалась горячими губами к сразу пересохшим губам юноши, затем поднесла последнюю кружку, оставшуюся у нее в руке, ко рту, отпила, молча дала отпить Каницу. А другой рукой, обняв кудрявую голову, сильно прижала ее к своей груди и сделала движение, словно желая увести его куда-то за собой.
Каниц мгновенно вскочил и пошел к дверям.
Двинулась было за ним и девушка.
— Минна! Что же меня ты совсем позабыла, красавица?.. — вдруг прозвучал громкий оклик «капитана». — Или к молодым больше тянет? А здесь — стаканы пустые… Похлопочи, девушка. А тогда уж пойдешь с молодыми фертиками по углам шептаться… ха-ха…
Девушка невольно слегка вздрогнула, остановилась и, быстро, с тревогой поглядев на Каница, уже готового перешагнуть порог, двинулась в дальний угол комнаты, откуда властно призывал ее одиноко теперь сидевший гигант.
Почти половина стола в этом углу опустела: кто за поздним временем отпросился у «капитана» и совсем ушел, чтобы завтра встать пораньше и приняться за дела, другие сгруппировались за вторым небольшим столом, где граф Строганов проигрывал огромные ставки в ландскнехт.
Оставшись один, «капитан» потускнелым взором блуждал от лица к лицу, от фигуры к фигуре и с особенным удовольствием любовался молодой красоткой, без устали продолжавшей услуживать гостям.
Когда же Каниц остановил ее и они стали пить из одной кружки, гримаса досады так и передернула лицо гиганта.
Когда Минна подошла и хотела взять его пустую кружку, он так же, как за несколько мгновений назад Каниц, обхватил стан девушки, притянул ее совсем к себе на колени и, ничуть никого не стесняясь, стал целовать ее прямо в губы.
— Не спеши… Я и подождать могу… Вот как ты устала… Лицо красное, глаза горят… Отдохни немного… — на своем смешном немецко-голландском языке стал ласково уговаривать «капитан».
Она сначала осторожно, молча, хотя и настойчиво старалась высвободиться из железных рук великана гостя. Но видя, что все попытки напрасны, заметив, что брови его уже начали сдвигаться и хмуриться, девушка подчинилась неуместной ласке с покорностью овцы и с застывшей, деланной улыбкой ремесленницы.
И только избегая взора Каница, который сейчас же вернулся, сел за дальний стол и теперь горящими глазами смотрел на нее, Минна отвернула голову к стене, почти совсем уткнувшись лицом в плечо «капитану»; из-за высокого стола видны были только по грудь эти оба мощных торса, близко слившихся друг с другом.
Бледнея и краснея попеременно, юноша глядел на сцену, переходящую за грань самых вольных шуток.
Гиганта раздражал этот немой укор. Но хмель и близость Минны заставляли на время забыть и пренебречь всем остальным… И он все сильнее и дольше целовал губы, шею, грудь красавицы.
— Неужели же он так забудется… При всех позволит себе?.. — рвущимся от волнения голосом, совсем громко спросил Каниц у Брюсса, следившего за игрой в карты, но не принимавшего в ней участия.
Обернувшись на мало знакомый голос офицера, Брюсс окинул изумленным взглядом смельчака. Но на лице юноши лежала такая смесь негодования и внутреннего страдания, что старик решился успокоить и остановить неосторожного.
— Наконец, так пристыдить девушку! — не выждав и ответа, торопливо продолжал негодующим тоном Каниц. — Какая бы она там ни была… Неужели же он решится?..
— Он?! — спокойно, негромко заговорил Брюсс. — Эхе! Дружище! Бранденбургская София-Шарлотта — не такой девке чета… И целая свита была за дверьми, рядышком… А капитан разве не пошел на нее в атаку, будучи так же сильно под Бахусом… Вот как и теперь… Еле отбоярилась немочка. Наполовину отпросилась, наполовину пообещала всего потом… Тем лишь и увернулась. Он на сей счет совсем не стеснительный. «Бабы, — говорит, — к делу не относятся. Щелкай их, как орехи, — все сыт не будешь!»
— Но это же неучтиво наконец! — не вытерпев, совсем громко произнес неуспокоенный голландец. — Общую прислугу задерживать у себя одного…
И юноша опять в упор поглядел на парочку, которую в этот миг все присутствующие намеренно не тревожили даже взглядами.
Гигант, весь занятый своей мимолетной подругой, ничего не мог сейчас ответить. Но его небольшие, глубоко сидящие, огненные глаза из-под нависших бровей с такой злобой и негодованием сверкнули на юношу, что тот невольно поежился от страха.
И тут же, словно устыдясь минутной слабости, Каниц снова, еще упорнее, вызывающе-дерзко стал глядеть на обоих.
Гигант отвел глаза и, нахмурясь, продолжал ласкать девушку. Прошло около минуты.
Потом, внезапно столкнув се с колен, он откинулся к стене, словно бы желая передохнуть от усталости.
Минна, неловко оправляя корсаж, не поднимая глаз выскользнула в соседнюю комнату, как будто за вином.
Настала временно относительная тишина, нарушаемая только звоном золота, которое перебрасывали на игорном столе.
— А теперь, — неожиданно громким, хриплым баском обратился гигант к Каницу, — и ты, молодой человек, вон ступай из компании.
— Как?.. Вон?.. Почему?.. За что?.. — невольно поднимаясь с табурета и багровея до корней волос, спросил опешивший голландец.
— А за то… не ходи пузато!.. — вставил русскую поговорку в свой голландский говор капитан. — Вести себя не умеешь. Глядишь, куда не надо, когда не следует… Небось, девчонки и на тебя хватило бы! Всю ее не зацелуют… А позавистничал не ко времени и некстати — так за хвост да и вон! Таков у нас обычай!
И, не заботясь о дальнейшем, «капитан» стал спокойно раскуривать свою угасшую коротенькую трубку.
Широкая, крутая грудь низкорослого, но сильного голландца так и заходила ходуном, кулаки сжались. Он сделал решительный шаг вперед.
Все присутствующие, побросав игру и разговоры, невольно обратили внимание на сцену, которая так шумно и внезапно стала разыгрываться перед их глазами.
Меншиков, Виниус, артиллерийский надзиратель, хозяин горных дел и Сибирского Приказа, сибирский царевич Арслан, Василий Алексеевич Ягужинский и еще кое-кто помоложе сделали движение, как бы готовясь стать на защиту «капитана». Остальные насторожились и стояли за Каницем, чтобы остановить его, когда понадобится.
Но остаток благоразумия не позволил горячему юноше переступить границу дозволенного.
Похрустывая пальцами, остановился он шагах в четырех от гиганта и с деланным спокойствием произнес:
— Не знаю, как у вас, в… Московии… но во всех христианских просвещенных странах так не обходятся с приглашенными гостями. Я ничего зазорного не делал. Вел себя, как подобает образованному дворянину. Между тем как вы себе позволяете…
— Молчать!.. И вон пошел! Без всяких разговоров! — выпрямляясь во весь свой грозный рост, загремел «капитан» таким голосом, каким, должно быть, в разгаре полтавской баталии отдавал приказ бомбардирам.
Кровь отхлынула у Петра к сердцу, и лицо стало иссиня-бледным, страшным, как у мертвеца. Углы рта задергались, голова тоже стала дергаться в одну сторону, вся припадая к плечу.
Окружающие знали, что означает такое подергиванье, и у многих руки похолодели от страха.
Кто-то взял за плечи Каница, пытаясь повернуть и вывести из комнатки. Но силач голландец встряхнулся, как бульдог, идущий на медведя и почуявший на спине постороннюю тяжесть. Державшие его два человека так и отлетели в сторону. Сделав еще шаг к столу, Каниц остановился совсем близко против гиганта. Голубые спокойные глаза теперь горели бешеным огнем. На губах показались окаины из клейкой, быстро пересыхающей пенистой слюны. Хрипло, с трудом проговорил он:
— Ннно… Я еще сношу… Я еще помню… Ннно… Я могу забыть и тогда…
Он не успел кончить. Сразу понизив свой сильный голос, отчего звуки стали еще грознее, гигант только сказал:
— Смерд… Раб… Грозишь… мне… Да я…
Блеснула сталь обнаженного оружия. «Капитан» уже занес его над головой Каница, который даже не успел и тронуться с места. Еще миг — и удар раскроил бы курчавую широкую голову голландца.
Но Меншиков, стоявший ближе всех к гиганту, так и кинулся к нему, обхватил его за шею, дернул за руку и сталь, просвистав мимо уха Каница, врезалась в толщу дубовой столешницы и разломилась на несколько кусков с протяжным, жалобным звоном.
Человек шесть других также быстро облепили голландца, сразу протрезвевшего в эту минуту смертельной опасности, и почти без всякого сопротивления с его стороны вывели юношу из комнаты и из австерии на улицу, где он остался и стоял, тяжело дыша, подставляя пылающую свою голову порывам свежего полночного ветра, залетающего со стороны Невы. На него устремились любопытные взгляды кучки гайдуков и кучеров, которые в ожидании господ сбились в кружок, калякали и курили трубки. Заметив это, голландец нервно передернул плечами, глухо выругался и быстро зашагал прочь от австерии по глухому пустынному плацу.
Молчание, которое воцарилось на миг в обеих комнатах после ухода Каница, сразу сменилось шумом, говором.
Царевич Алексей, тоже привлеченный шумом и, стоя в дверях, наблюдавший за всей сценой, счел нужным подойти к отцу.
— Не повредили вы себе чего, батюшка? — спросил он.
— Ничего… Делайте все свое… Оставьте меня в покое! — ответил Петр.
Огромным усилием воли он уже овладел собою, спокойно опустился на скамью, задымил своей трубкой и только частыми глотками холодного пива пытался утолять жар и сухость, перехватившие ему горло.
Хмель, раньше туманивший сознание, очевидно, прошел у «капитана», и ему стало неловко. Он словно досадовал на себя за все, что здесь произошло.
Исполняя приказ хозяина, гости опять принялись за вино и карты. Только Меншиков, подсевший теперь к Петру, осторожно проговорил:
— Вздор оно все, капитан мой любезный!.. Кабы парень не из посольства, и сам бы я ему взбучку задал добрую… А вот…
— Понимаю… понимаю. Не надо и оговаривать. Благодарен тебе, что удержал… Плут ты за последнее время объявился, Алексаша… Из-за мелкой корысти, ваша милость и княжеское сиятельство, вы и себя и маестат наш мараете… А сметки в тебе завсегда больше всех… Так-то, друг ты мой сердечный… Только за то многие грехи твои и спускаю… до поры до времени… Гляди, Алексаша…
И, по-дружески погрозив ему, Петр обратился теперь к Строганову, который, присев на самом краю стола, не мог прийти в себя от испуга:
— Будет тебе пыхтеть, Григорий Дмитриевич!.. Подсядь-ка сюды лучше… Поговорим о деле… А там скоро и по домам пора… Чу! Да никак петел крепостной наш с заневскими перекликаться стал… Засиделись и то…
— Твой слуга, государь… государь мой, господин капитан! — поправился Строганов, вспомня, что Петр не терпит величаний, кроме как по чину.
— Не слуги мне — друга, помощника надобно. Знаешь, старик, одна война не кончена — другую, с турками, в этом году повести довелось. Тяжело государству, тяжко всей стране. Значит, и мне не легче. Особливо в деньгах сейчас нужда велика. А у вас, сиятельный граф, их куры не клюют. Ссуди малость… Да, впрочем, нет! Куды!.. Ты и себе жалеешь, слышно, передать лишнее. Что уж искушать старика. Дело я тебе предложу. Знаешь: на губернии все царство поделено… Каждая — свой пай в казну приносит {Еще в 1708 г. Петр разделил всю Россию, исключая Малороссию, на 9 провинций, или губернаторств, обложенных известными сборами. Московская платила 1 150 000 р., С.-Петербургская — 489 т.р., Архангельская — 375 т.р., Казань и Астрахань — 345 тр., Нижний — 260 т.р., Сибирь — 222 т.р., Воронеж — 155 т.р., Киев — 115 т.р., Смоленск — 83 т.р. Всего — 3 191 600 р. Общий доход москов. налога — 9-10 миллионов при населении в 14 миллионов.}. И самая богатая, самая прибыльная Сибирская. Конца-краю в ней нет… Золото, серебро. Торговля с Хивой… Народ там все богатый… Бери ее на, откуп… А нам в зачет сотню-другую тысяч отсчитай… А?.. Идет?..
— Хе-хе… Шутник ты, государь… государь мой, господин капитан… Хе-хе… куры не клюют, а мошну проклевали… Все и выкатилось… Хе-хе!.. В чужих карманах считать легко, конечно!.. Все больше завистники благовестят про клады про мои, про казну несметную… А что и есть, все в делах тоже, в обороте, как и у тебя, государь мой!.. Это — одно. Другое: стар я в губернаторы да в воеводы садиться. Покой мне надобен. Не слуга уж я тебе! Уволь уж… Силы все покойному батюшке твоему, царю-государю Алексею свет Михалычу, и брату ж твоему, и тебе же, государь… мой, все мною отдано, что было дорого… Али и последнее отнять поизводишь? — подчеркнул старик, намекая на то, о чем все говорили не стесняясь, то есть на близость молодой красавицы графини с «капитаном».
Недавняя бурная вспышка, очевидно, истощила энергию гиганта, и он только легкой, сожалительной улыбкой ответил на намек старика, затем, словно не заметив ничего, продолжал:
— Ну, как знаешь… А дело выгодное…
— Еще ли не выгодное!.. — вмешался в разговор князь Матвей Петрович Гагарин, вместе с Виниусом подсевший поближе, как только речь зашла о Сибири. — Я край знаю… И Андрей Андреевич знает тако же… — указывая на Виниуса, мягко, плавно заговорил князь, искательно поглядывая на «капитана». — Золотое дно — Сибирь! — не мимо молвится. Слышь — два ста тысяч за нее да с нее оброку тобой, капитан, положено?
— Двести двадцать и две ровнехонько! — поправил Петр.
— Ха!.. Сущая плевая безделица!.. Втрое взять можно, людей тамошних нимало не обременяя. Мне доподлинно дела сибирские известны и каковы сибиряки в достатках своих. Не один десяток лет и на воеводстве, и в Приказе Сибирском сижу. С шестьсот девяносто третьего, когда в Нерчинск послан был, по сие время — осемнадесять лет протекло, почитай… Зря не скажу, капитан.
— А почему же ясачный сбор так умалился в краю? Половины недобирает Сибирский Приказ, чего ранее имел. Что за причина?
— Воруют очень, дело простое, капитан. И главные начальники, и меньшие, до прикащиков и служивых людей доходя. Все обирают оброчных кочевников. Те и разбегаются, и бунтуют. Все от воровства… Да беда еще невелика. Поисправить порядки… а лучше скажу: беспорядки повывесть, служилый люд подтянуть… Ковшом тогда золото греби. По курганам, по могильникам клады Кучума поискать да найти — и того хватит на десятки лет: не 200 тыщ — втрое даст Сибирь-матушка!
— Шестьсот тысяч, значит?.. Ну, это уж и много сразу. Край новый, как конь необъезженный. Тамошний народ крови немало своей проливает, за нас с язычниками, с дикарями неверными и немирными бьется, Руси дорогу на простор, к морю-океану, к Востоку богатому проторяет… Пусть и живут полегче покудова там мои сибирские ратники. А вот если ты так ручаешься… Не хочешь ли: вноси тысяч сотни четыре в год — и бери ее всю на исправление, садись там в Тобольске губернатором… Первым!.. Князеньку Михалку Черкасского не можно никак в счет вставить. Бабник и бражник, а не краю начальник был… Я еще с ним сведу счеты… Пусть с дороги отдышется!.. Да и достальные все по России не лучше… Веришь ли, Петрович, — одно горе мне с ними? Доныне, Бог ведает, в какой печали пребываю, ибо губернаторы мои, господа, — зело раку последуют в происхождении своих дел. Задом наперед тянутся. Говорил, писал им всем немало. Пожду еще. Потом буду не словом, а руками с оными поступать. Ты вот не такой. Ты делец. Я тебя знаю. Бери!.. Что же, идет? По рукам?..
И широкая, рабочая рука «капитана» протянулась к Гагарину. Тот, словно не решаясь, подал свою пухлую, жирную, небольшую руку с холеными пальцами, с обточенными, хотя и не совсем чистыми ногтями и сказал:
— Больно скоро ты меня на слове поймал, капитан… И взяться боязно… Да и отказ дать неохота… А много ли в зачет первого году у меня сейчас потребуешь?..
— Много — не много… В Польшу, брату нашему, крулю Августу досылать надо… Да войскам, что на севере… Да полкам, что на юге… Милорадовичу графу который поехал за Балканы, братцев славянских наших на османов подымать. Да… Э, и перебирать — так досада… Сколько отсыплешь от бедности своей? Сам назначь.
— Сотни две тысяч наскребу, ежели сроку месяц-другой от государя и капитана моего получу.
— Да что ты?.. Это можно… Это я спасибо еще скажу… Молодец, Петрович! Хоть и ославили тебя Добычником, а душа в тебе прямая, русская!. — обрадованный, похвалил Гагарина Петр.
— Как не быть душе? Чай, как-никак, — Рюрикович я, капитан, а не из проходимцев каких али из иноземщины новой, наносной… — с достоинством ответил Гагарин.
Но попытка придать себе величавый вид плохо удалась толстенькому, короткому человечку и только вызвала сдержанную улыбку у многих из окружающих.
— Ну, сново-здорово! Пошел стары хартии разбирать! — совсем уже весело заговорил Петр. — Кому нужда, какого корня яблочко? Лишь бы само некоряво да не с червоточинкой… И съедят на здоровье, и спасибо скажут, хоть бы цыган его подал!.. Так я думаю… Так, значит, кончено! Завтра дам мой указ в конзилию министров. Тебе — две недельки для сборов. И с Господом в путь. В Тобольск… А теперь можно и выпить для успеха и общего благоденствия… Минна! Девушка! Куды закатилась? Всем свеженького вина подавай. Да получше! Новый губернатор Сибири угощает нынче. Правда?
— Коли не правда, капитан! Чем прикажешь и сколько повелишь!.. Неси, Миннушка, али как тебя там!.. Неси, девушка… Спрыснем покупочку!.. Хе-хе…
И Минна, призвав на помощь дядю, который проводил всех посторонних гостей и уже сводил за стойкой итоги, стала подавать на столы бутылки и чистые стаканы для вина, пока все гости столпились вокруг Петра и Гагарина, поздравляя обоих с окончанием дела, так же неожиданно завершенного, как и затеянного.
Глава II
У ГАГАРИНА
К рассвету только попал домой князь Матвей Петрович. Но он не лег спать, а в опочивальне, убранной с восточной роскошью, беседовал со своим врачом и личным секретарем Сигизмундом Келецким, которого приказал разбудить и пригласить вниз из комнатки на антресолях. Там помещались главные лица многочисленной свиты, наполняющей почти весь обширный дом-дворец князя в новом столичном городе, в С.-Петербурге.
Но при всей роскоши отделки и при всем просторе здешний дом мог показаться жалким в сравнении с московским гагаринским дворцом, где стены высоких покоев были выложены янтарем, мраморами, где в зале потолок был из зеркальных стекол, за которыми плавали дорогие разноцветные рыбки… Там в спальне князя стоял киот с образами, ризы которых были густо украшены жемчугом и драгоценными камнями, ценимыми почти в полтораста тысяч рублей, а по теперешним ценам — и во все полмиллиона.
Батистовая рубаха на жирной волосатой груди и шлафрок из драгоценной индийской шали были распахнуты. Князь полулежал на пуховике, сбив к ногам шелковое покрывало. На восточном столике перед ним стоял серебряный, старинной чеканки, небольшой жбан, из которого Гагарин наполнял хрустальный стакан холодным квасом со льдом и утолял жажду и тошноту, вызванную ночной попойкой.
Обсосав влажные усы, на которых остались следы квасной пены, Гагарин поглядел на Келецкого, вот уж с полминуты сидевшего молча и как бы размышлявшего о том, что сообщил ему князь, и спросил:
— Ну, как думаешь, Зигмунд?.. Разумно я сделал, что поймал быка за рога, или нет?
— А разве же ясно — вельможный ксенже не хцял того сам? Разве ж из пол-року мы о тем не хлопотали бардзо усердно? — вопросом на вопрос ответил уклончивый наперсник.
— Так-то оно так. Да не о том я тебя спрашиваю. И ты хорошо разумеешь, о чем я говорю. Все выходит по-моему, как я задумал, как вел. И ты немало помог мне во всех оказиях, какие представлялися. А вот ныне, когда игра сыграна… Когда не чужой, недружелюбец нам, хозяином будет в богатой Сибири… Когда моя она… и может, на долгие годы… Может… может, на очень долго?!. Раздумье и берет… Знаешь меня, Зигмунд. Пожить люблю. И людям не мешаю. А там что? Тобольск хоша бы взять? Столицу тамошнюю. Бывал в ней. Домов и тысячи не начтешь…
— Теперь побольше будет…
— Ну, полторы… Народу — тысячи три кроме черни… Дворца нет, даже дома нет для меня сносного. Три каменных домишка на весь город. Кругом — тын деревенский, стены деревянные… Туды же крепость!.. Киргизы ль подбегут, свои ли взметутся, — и кинуться, укрыться некуды… Опасное место… Людишки темные, грязные, вечно пьяные, кто побогаче… Бабы не хуже мужиков пьют… Сорочки по месяцу не меняют… Тьфу! Красятся… Показно, густо так… Лапищи во какие, словно у медведицы… А ты знаешь: я кругленьких, вертлявеньких люблю, чтобы она, как арабский конек под седельцем, играла… Что же мне делать там? Ни собраний и ассамблей, ни дам, ни удовольствий никаких… Правда: прибыльное место. Так у меня и своего немало… Вот и думаю: не отказаться ль?.. За недугом, мол, за негаданным-нежданным… Ты мне его придумаешь… А?.. Как скажешь?..
— Кеды наияснейший пытает, я только скажу цо княж, много лет там жили — и плохо не было… Есть там же ж и беленки румяненки, черноглазенки… Бардзо отличны. Ходят они два раза в недзелю до байни. Можно сказаць, чтоб чтыре раза шли и кошулю цо раз меняли… И з собой привесть можно. И вызвать потем можно… Ханы дикие в своих кочевках мешкают… А сколько у их пенкных тых перепелучков?! Вам ли не достаць, чего захцеце?..
— Положим, правда… Да тоска… С кем мне там время делить?..
— А ту з кем?.. Знакомцув много. А щирых приятелев машь, яснейший ксенже?..
— Правда, нету… Кому нужда или корысть, тот и гнет тебе спину… Да ведь и там так будет…
— Значит, все одно… Зато там сам найяснейший ни пред кем уж не загнется.
— Ты на кого намекаешь?.. На капитана?.. Я и перед ним не гнусь. Он помнит и знает, что я — Рюрикович в двадесять и третьем колене. Начальник роду нашего, Михайло, княж Иванов сын — Гагара, прапраправнук Ивана Всеволодовича, удельного князя Стародубского… А род капитана тогда только с нашим родом ровняться да брачиться стал… И то сказать еще: как сам он навеселе, все ходит за боярином Тихоном Стрешневым да допытывается: «Старый! Ужель мне тебя батькой звать?..» Что же мне перед ним гнуться так очень?..
— Не пшед ним… А сан его такий… Кеды ж наияснейший будет в Сибиру, то и сами…
— Будем не меньше саном?.. Твоя правда. Вот это одно и манит меня… Что старше, то больше почет я любить стал… Да и тут надоело… Столько путаницы… И с доброхотами моими, и с ворогами… и с царем, и с царевичем… Хотел бы ему от души помочь… Да чем?..
— Чем?.. Може там увидице, яснейший ксенже…
— Там?.. Увижу?.. Не пойму… Говори прямо…
— Можно сказаць! — слегка понижая голос и невольно оглядываясь, сказал Келецкий. — И в Сиберии, как наияснейший сам вешь, немало доброхотов цезаревичу знайдется… Венц, як тут… Хто по старей вере хочет жиць, туды уходзе. А у цесажа уж давнейше нездровье… и бардзо опасне… Может и длуго жиц… Может и помереть одним разом… Хто знает, який тестамент цесаж ваш зложил? Хто по нем застемпит на трон? И регентство можно… и… Вшистко можно ждаць…
— Да, всяко может случиться… Не так Катерина Алексеевна, как мой кум и благодетель, пирожник бывший, ныне — «друг сердечный» государя… с государыней вместе… Алексаша высоко метнул… Хитро петли вьет… От него всяко станется. Надо готовым быть, твоя правда, Зигмунд…
— Не моя то правда, а Господа нашего Иезуса! Hex бедзе похвалене Имя Го!.. Так, я муве…
— Понимаю… Не всероссийским — так хоша сибирским царем можно будет поставить старшего наследника… Ловкая затея… И не то, чтобы уж очень оно хитро было… А, знаешь, умен ты, поляк! Я еще нынче вот, недавнушка… Поздравляли меня с назначением… Подошел и царевич наш. Да потихоньку и шепчет: «И ты меня покидаешь, Петрович? Правду молвят: „Кому счастье — доля, с поклоном все прут. А у бездольного — все други, знай мрут“… Тогда я и шепчу на ответ: „Спокоен бы ты был, царевич. За твоими делами, тебе на помочь еду туды“… Он просиял даже, веселый отошел. А по правде сказать, не то было у меня на уме… Нынче же вечером доброхоты шепнули мне было, что гневается капитан, презирать стал на дружбу мою с царевичем… Я, штобы от греха подале, сунулся в Сибирь… Да, видно, сам Бог хочет, чтобы и тут я пригодился бедному царевичу… Поглядим… Умное ты мне слово сказал, Зигмунд… Я тут на досуге подумаю. Можешь идти, ежели сон клонит…
— Не!.. Кеды яснейший позволит, я еще цось скажу…
— Говори… говори…
— Кроме старинных русских, много шведув и немчув есть в Сиберии. Пленные и торговы людзи… Их надо к себе пшиволац (призвать)… Они много пользы зробют… И надо всяку христианску веру в Сиберии не заброняц… И католицтво… и…
— Знаю, знаю твои составы… Сам из братьев иезуитов, хоть и отнекиваешься… Да мне все равно. Человек ты умный, скромный… Мне зело полезен бывал не раз и при телесных недугах, и когда смута душевная приспевала… Я не дикарь… Что ж, могу понять каждого, хотя бы и чужого по вере. Не бойся! Никого не прижму… И вашим миссионерам католическим тоже позволю язычников обращать… А тебе, конечно, твои ксендзы за то спасибо скажут…
— Не о тем я… Не про себе думка… Я за яснейшего пана и за цезаревича думаю… Ежели пшийдзе час цо зробить, все западны потентаты будут видець, что вшелька вяра христианска в Сиберии волима… Як мыслишь, наияснейший: бендон помогац вам и цезаревичу ве всем, чи не?..
— Ну, вестимо, вестимо: скорее помогут, если за нас да за наши затеи с царевичем ваше „святое братство Иезуитское“ все станет… Сила немалая!.. Иные государи на Западе и то жалиться стали, что жмут их ксендзы да патеры… Ничего. Нас они не прижмут. А помочь могут, твоя правда. Так надо и их ранней подмаслить… Не забуду слово твое!.. Выйдет по-твоему… Пиши генеральс-аббату твоему, что обещаю я в Сибири все вольготы и католикам, и всяким христианским людям. Не стану пытать, вешать али на кострах жечь… как… Ну сам знаешь, про кого думка…
— Вам, вам; наияснейший ксендже! — совершенно просияв от такой легкой победы над упрямым порою, хотя и безвольным Гагариным, с низким поклоном проговорил Келецкий. — Жиче наилепшего, вельможный муй ксендже… Пора и спаць найяснейшему…
И с новым глубоким поклоном Келецкий ловко, бочком вышел из опочивальни.
Гагарин, которому даже жарко стало от вереницы дум, волнующих сейчас его душу, сбросил с себя шлафрок, раскинулся на постели и, устремив глаза в одну точку, видел сны наяву… Новый блестящий двор там, далеко, на Востоке… Безвольный юный властелин, обязанный всем ему, Гагарину… И даже власть такого временщика и любимца, как Меншиков, меркнет перед влиянием и властью его, Матвея Петровича… Одна дочь, княжна еще молода, не замужем… Кто знает?.. Она может разделить корону далекой Сибири с Алексеем… И тогда — благодетель и тесть молодого государя — не он ли, Гагарин, будет настоящим господином всей необъятной богатой страны?.. Кто тогда сравнится с ним по могуществу и по силе, как уже сейчас никто не может сравниться по родовитости и чистоте крови!..
Грезил наяву Гагарин. А утро, пробиваясь сквозь опущенные гардины, заставило померкнуть свет восковых свечей, догорающих в золоченом канделябре, и бледнело сияние тяжелых лампад, трепетно мерцающих в углу пред образами…
Часть вторая
У ВОРОТ СИБИРИ
Глава I
В ТАЙГЕ
Хмурое осеннее небо на сотни, на тысячи верст раскинулось над Приуральем, над уральскими горными кряжами и дальше, над дикими утесами, непролазными лесными урманами и бесплодными тундрами необъятной Сибири.
Октябрь в самом начале. По сю сторону Урала солнце еще ласкает и греет усталых, заморенных летнего страдою людей золотыми лучами «бабьего лета». А там, за Рифеем, или за Каменным поясом, как тогда называли Уральский хребет, — там уже зима совсем надвинулась над землею и готова засыпать все кругом безотрадной, сверкающей снежной пеленою… Холодный ветер с Ледовитого океана, не задержанный ничем в своем быстром налете, мчится предвестником буранов, и свищет, и воет, и грозит притихшей земле, полуобнаженным лиственным лесам, треплет сухие былинки на обнаженных полях, пашнях и лугах…
Все дрожит и трепещет под холодным дыханием северного гостя. Все живое и растущее на корню сжимается, мертвеет или уходит в глубокие норы, в теплые жилища.
Только хвойные деревья: пихты, лиственницы, кедры сибирские, вековые сосны да ели, которые тесной толпой стройных великанов стоят густыми рядами и кучками на пространстве сотен и тысяч верст, — только они, спутавшись корнями и ветвями, наежили навстречу вихрю свою иглистую, вечно зеленую одежду, переливающую различными оттенками… Они скипелись в девственную, непроходимую чащу, где и зверю тропы нет, где топору не прорубить себе дороги. И словно подсмеиваясь над яростью северного вихря, покачивают только своими островерхими куполами. Так важно, степенно раскачивают вершинами… А в самом низу, у корней, и выше, где стройными колоннами темнеют вековые стволы, — там тишина, как в храме, и полумгла, как на глубине моря. Редко-редко пронесется протяжный треск, словно могучий выстрел. Отжившее дерево, не выдержав напора вихря на опушке бора или даже не снося собственной тяжести, надломится, навалится на соседей-великанов да так и останется полулежать у них на плечах, пока совсем оно не истлеет и не стряхнет его вниз новым порывом северной бури…
Если подняться на крыльях ветра и глянуть сверху на весь необозримый простор земель, пролегающих от Урала до Великого океана и от Ледовитых морей до границ многолюдного, загадочного Китая, — с этой высоты глаз различит огромные светлые пятна, словно моря зеленеющей хвои; темные острова лиственных полуобнаженных лесов, изломы и провалы горных отрогов и цепей, круглые и островерхие вершины сопок и отдельных гор… Излучистыми широкими прогалинами между лесов и гор сибирские реки катят свои волны, отливающие под хмурым небом цветом новой стали.
Кое-где по берегам этих мощных, широких и глубоких потоков пятнами плесени, темными кучами, словно лишаи на здоровом теле матери земли, виднеются поселки людские, деревеньки, городки, острожки (крепостцы) и целые города, не уступающие по виду и многолюдству любому богатому селу на Волге или на Каме-реке…
А в самом море зеленой хвои, спрятавшись между стволами вековых великанов, укрытые под их раскидистыми вершинами, притаились одинокие скиты, выселки, отдельные заимки, где несколько отважных пахарей-охотников из коренных сибиряков живут на диком приволье, далеко-далеко отбившись от всех остальных людей.
Еще дальше, по окраинам вековых лесов, по берегам Ледовитого океана и Белого моря, по извилистым побережьям Камчатского полуострова, на соседних островах, на просторе вечно обнаженных, никогда не оттаивающих тундр, — там изредка пятнами чернеют переносные легкие юрты и вежи кочующих инородцев, вечно угрюмых закаленных детей этого сурового края земли.
Гораздо больше, чем людьми, эти все горы, леса и тундры Сибири заселены разным пушным и диким зверем: соболями, куницами, бобрами, медведем и лисицею… Олени многотысячными пугливо-чуткими косяками бродят по простору полуоледенелых равнин и гложут серый любимый свой мох — ягель, обгрызают молодые побеги жалких и чахлых кустарников, прозябающих кое-где на безлюдном просторном побережье Ледовитого океана. Земля гонит из плодоносных недр своих зеленые побеги. Но, встреченные леденящим дыханием полярного ветра, они пригибаются к родной земле, у нее ищут и помощи и защиты.
Зверье в Сибири уходит от людского жилья. Где гуще поселились люди, там меньше звериных и птичьих следов кругом… Но человек — самое хищное существо на земле. Он губит все живое не только для своего насыщения, для прикрытия себя от холода и непогоды… Он умеет наживаться, богатеть, истребляя без счету и без конца всех случайных своих одетых теплой, пушистой шкуркой лесных соседей…
Серая белка, рыжая и темно-бурая лисица, серебристый лоснящийся бобер, атласистый соболь — все они гибнут сотнями тысяч от стрел и метких пулек сибиряка-промышленника, охотника-зверолова…
Чуя свою гибель, избегая опасности, звери уходят все дальше и дальше, в глушь, в непроходимую, девственную чащу урманов и болотных порослей… А человек все дальше и дальше надвигается туда же следом за ними…
— В Сибири соболя людей ведут… А куды? Бог весть! — толкуют «сибиреня», местные старожилы. И тут же добавляют: — У нас, где черный лист, там и человеческий свист… А где одна хвоя, там леший воет.
Правда, в море зеленых хвойных лесов не видно человеческих поселков. Только извилистая, чуть заметная тропа зверолова бороздит лесной простор. Человеку нет свободного пути в зеленой чаще… И даже северному ветру нет пролета в заповедную глубину вековечных лесов… Над вершинами да сторонкой проносится он и стонет, свищет над вершинами молодецким протяжным посвистом!..
Из Приуралья, из России сейчас один только путь, словно в сказке, пролегает и ведет в эту заповедную, богатую и опасную страну, в привольную Сибирь.
Раньше, лет полтораста тому назад, много путей вело в этот благодатный и дикий край. С юга, от Урала-реки, с севера, от Печоры и Двины, от Архангельска и от Вологды, от Вятки и от Камы с Соликамском — отовсюду был проторен широкий путь на Сибирь. Но теперь подошли другие времена.
Частые заставы поставлены по всей пограничной черте между Россией и Зауральем. Только через Верхотурье и Шуйскою яму прямо на Обнорский ям, минуя Вологду, и никак не иначе попадают в Сибирь и обратно купцы, служилые люди, частные лица и царские посланцы к разным князькам, ханам и контайшам калмыцким, к киргизам и к другим полусвободным кочевым племенам, чьи «земляцы» тесно граничат с сибирскими землями, подвластными московскому государю, великому князю и сибирскому царю Петру Алексеевичу.
Строгий таможенный досмотр производится в Верхотурье всему, что из России вывозится через Сибирь в Китай или ввозится из Китая и Сибири в пределы России.
Есть целый ряд «заповедных товаров», которыми могут торговать только казна или особые от нее поставленные агенты-скупщики.
Лучшие соболиные шкурки, стоящие 100 р. за 40 штук, бобры и лисьи меха ценой свыше полтины за штуку; рога оленя марала, корень женьшеня, золото песком и в слитках (самородное) — все это частные лица не могут покупать или продавать свободно.
Промышленники и купцы, случайно раздобыв или купив что-либо из «заповедных товаров», обязаны объявить о них в Приказной избе первого русского поселения, куда попадут. Там сдают они всю добычу по цене, назначенной от казны. За утайку таких «заповедных» товаров с целью продать их частным лицам или за рубеж по более выгодной и дорогой цене таможенные пристава отбирают у виновных все их добро, все «пожитки», сажают несчастных в тюрьму, бьют батогами… Да мало ли что можно сделать по закону с людьми, которые смеют думать о собственной выгоде больше, чем о благе и доходах казны государевой?!
Трудна охота за сибирским пушным зверем, за чуткими маралами, тяжела добыча целебных корней женьшеня, губительны отважные походы для розысков блестящего золотого песку…
Опасен единственный, «тесный путь» через Верхотурье, на котором купцов с их обозами сторожат и пограничные объездчики, и вольные ватаги разбойных людей, мало уступающие по жестокости и жадности служилым людям…
Но жажда наживы велика у торговых московских людей. И, все снося, все преодолевая, тянутся они непрерывным двойным потоком: в Сибирь и обратно через «узкие врата», через уездный городок, через острог верхотурский.
А северный ветер, проносясь над землей вслед за караванами, тоже проникает в небольшие ворота с башенкой, прорубленные в высоком деревянном тыну. Тын этот окружает весь острожный городок, крепостцу Верхотурье на берегу холодной шумливой реки, бегущей по каменистому руслу, мимо лесистых темных берегов.
Одиноко стоит Верхотурье, как и все сибирские большие и малые города и остроги. На десятки и сотни верст кругом не видно другого людского поселка. У самого городка еще разбросано несколько не то пригородов, не то ближних посадов и деревень. А дальше — одни леса и скалы, между которыми змеею вьется и блещет холодная речная гладь…
Только вдоль Сибирского большого тракта прерывистою цепью, чаще, чем где бы то ни было, расселились, разбросались одинокие избы с огороженными дворами, где проезжающие находят ночлег и приют в темные, ненастные ночи, в осенние и зимние непогодные дни… Кое-где темнеет не один, а сразу два-три таких постоялых, заезжих двора, образуя небольшой, затерянный в лесу, на крутом речном берегу или прямо в степи торговый выселок.
На один лад, без лишних затей, но прочно построены избы таких «дворов». Стены сложены из вековых сосен и лиственниц, обширные дворы с амбарами, кладовыми и кладоушками тоже покрыты и огорожены от налетов стужи, от набега лихих людей, своих, русских и кочевых туземцев. Все они не прочь напасть врасплох и пограбить соседей, особенно осенней порою или в самый разгар летних работ, когда мужики в поле, за работой.
Но и на полевые работы местный народ идет с опаской: ружья, топоры берет с собой, забирает рогатины — отбиться от зверя лесного, от рыси наглой, от людоеда-медведя одичалого и от калмыцких или киргизских ватаг, которые в самую страду рыщут вблизи русских поселков, выглядывая себе добычу полегче.
На крутом повороте реки, верстах в полутораста от Верхотурья, у самого летнего перевоза темнеет над проезжей дорогой один из таких постоялых дворов.
Свежие срубы, новые крыши — очевидно, все это недавно создано здесь руками человека.
Воет ветер, проносясь над коньком крыши, заглядывает, забирается в трубу и с протяжным стоном вылетает оттуда, опять уносясь на простор. А вслед за ветром из окон избы, прикрытых ставнями, со двора, с задворков усадьбы несутся на простор разные голоса и звуки… Треньканье двух балалаек, рокот бубна, обрывки веселой песни, блеяние овец; глухое мычанье коровы, стук лошадиных копыт о переборки конюшни, смежной с самым жильем.
Сквозь прорезы ставень колючие тонкие лучи света вырываются и пронизывают влажную, тяжелую тьму ранней осенней ночи.
В большой горнице с полатями, где все неровно и слабо озарено светом лучины, потрескивающей в голбце, шумно и душно.
Обычно с курами ложатся спать не только деревенские люди, но и горожане в этих краях. И просыпаются чута ли не с первой утренней зарею.
Сейчас же время близко к полуночи. А за длинным столом, словно на свадьбе, сидят мужики и бабы. В переднем углу — не молодой, но крепкий и круглый, как репка, купец в тонкой суконной поддевке нараспашку, в шитой косоворотке. Его красное, потное лицо лоснится, глаза блестят. Целые еще зубы, как у волка, поблескивают, когда он смеется, причем его толстенькое брюшко так и колышется. А смеется купец почти беспрерывно, по всякому случаю. Он что называется «весел во хмелю».
Рядом с гостем сидит огромный, широкоплечий седой старик в пестрядиной рубахе и домотканых портах, с ключами за поясом — хозяин постоялого двора Прокл Савелыч. Ему лет за 70. Но только седина и багровый, почти бурый цвет лица выдают Савелыча. Глаза старика сверкают не менее, чем у его сыновей и внуков, зубы так и белеют сильным двойным рядом, когда старик медленно расправляет свои седые усы, чтобы, не омочив их, пропустить стаканчик пенного.
По другую сторону купца сидит молодая красивая бабенка в праздничном наряде, Василида, сноха Савелыча, и, жеманясь, взвизгивая, принимает угощения и любезности тароватого гостеньки, своего соседа, то и дело подливающего ей из сулеи меду в тяжелую кабацкую чарку. Муж Василиды, молодой, здоровый, но забитый и безличный на вид белобрысый мужик, прислуживает отцу и гостям.
Кроме краснолицего и тароватого, очевидно, купца, здесь сидят еще несколько проезжих обозников, возчиков, приказчиков и купцов, едущих в Сибирь или возвращающихся обратно домой, в Россию. Все пьяны и веселы, заигрывают с Василидой, перебрасываются шутками, пьют все, что ни подадут на стол, и громко, не слушая и перебивая друг друга, рассказывают про свои дела, про различные приключения и страхи, испытанные в пути; они то целуют и обнимают, то ругают друг друга, не придавая никакого значения ни ругани, ни поцелуям.
Двое из приказчиков помоложе, добыв из своих пожитков балалайки, затренькали на них плясовую. Третий помогал им, колотя в небольшой бубен, вроде остяцкого, купленный где-нибудь по дороге.
Девочка лет пятнадцати, Софьица, сестра Василиды, черноглазая, смуглая и темноволосая, вся рдея от радости, от выпитой чарки меду, от общего внимания, заигрываний и похвал, носится в пляске по свободному пространству избы, поднимая то одного, то другого плясуна из молодежи. Но парни никак не могут угнаться за сильной, неутомимой плясуньей. Хмель вяжет ноги… И Софьица со смехом, с ужимочками деревенской кокетки, в то же время с чистотой ребенка поднимает и тормошит все новых партнеров. Самой ей, видимо, хотелось бы плясать и смеяться без конца.
— Да будет тебе, Софьица… Присядь, погляди… Заморилась, чать? — обратилась к девушке Василида в то самое время, когда сосед купец, окончательно размякнув, облапил красивую бабенку и стал взасос целовать ее белую полную шею.
— Заморилась?! Гляди, хто, да не я!.. Э-эх, хто за мной, тот и мой!.. Валяй, Петенька, чаще играй… Степ, ошшо разок, покружим в кружок. Любо… Ушел милый за водой… Да кинул девицу с бядой!.. Ходи!..
— Ходи!.. — срываясь с места и начиная обхаживать вприсядку девушку, отозвался Степан, красивый молодой парень, которого подмывали и плясовые напевы, и задорная красота плясуньи.
— Любо! Лихо! Здорово! — дергая в такт руками и раскачиваясь на месте, подхватил краснощекий гость-купец. — Вина давай… пенного! Браги… пивка холодного… Все пейте… За все плачу… У нас ли мошны не хватит? Во какая… Здоровая…
И, бахвалясь, охмелелый старик вытащил с трудом из-за ворота толстый кожаный кошель, потряс им в воздухе и брякнул о стол так, что лобанчики и серебряные рубли, завязанные в коже, издали резкий, жалобный звон.
Большинство из застольников и внимания не обратило на эту сцену. Но у Савелыча глаза так и заискрились. Насторожились еще два-три человека: бедно одетый прохожий бобыль — мужичок, сидящий на отлете, с краю стола; здоровый мужик, извозчик-сибиряк из другого обоза, не того, с которым ехал бахвал-купец, да еще двое проезжих — бедняки, попавшие случайно в компанию кутящих богатых купцов.
— Ты вот што… Ты кису-то попрячь. Сгодится ошшо!.. — наставительно, даже отводя руку купца, произнес Савелыч и сейчас же крикнул сыну:
— Митяй! Что там закоченел? Гоноши воровей… Пивка свеженького господину Петру Матвеичу, купцу именитому енисейскому… А ты, слышь, Василида, с поклоном подавай!..
— Рада радостью! — звонко отозвалась бабенка, у которой тоже глаза так и разбежались при звуке серебра и золота.
— Не, буде!.. Попито!.. Не стану сам! — вдруг поднимаясь и обхватывая за плечи Василиду, пробурчал купец. — Спать пора. Слышь… петел поет… Пора… На утре, на зорьке, трогать надоть… Фе-е-дь! — заорал он на рябоватого малого, одного из тех, кто играл на балалайке. — На зорьке в дорогу готовьсь…
— Готово все, дяденька… Не сумлевайтесь! — ответил парень и с особенным жаром стал пощипывать певучие струны.
— Ладно!.. Я спать завалюсь… — продолжая опираться на Василицу, сказал купец. — Уж, хозяюшка, не прогневайся… У-у… Пыха, утеха моя… Проводи гостя… уложи старика… Одарю…
— И без подарков — твои слуги! — ответил за сноху Савелыч и подтолкнул ее, чтобы она вела гостя на покой.
Видимо, застыдясь и оробев, бабенка как-то искоса поглядела на мужа, который стоял тут же со свежим жбаном пива в руке.
Митяй собрался было что-то сказать. Но его остановил строгий взгляд отца. Еще раз толкнул Савелыч слегка бабенку, и она, опустив голову, повела в светелку раскрасневшегося, опьянелого старика купца. Навалившись на нее всей тяжестью, пьяный что-то нашептывал своей проводнице и довольно хихикал, даже захлебываясь порой от удовольствия.
Муж, поставя жбан, двинулся было за ними.
— Митяй! Ты куды?.. А здеся хто же потчивать станет гостей дорогих? Оставайся… Я сам пойду погляжу, когда надоть буде… — остановил сына Савелыч, внимательным, острым взглядом провожавший купца и сноху.
Митяй поежился, побледнел еще больше, став совсем бесцветным, и остался прислуживать гостям, которые, очевидно, не думали расходиться.
Посидев еще немного со всеми, Савелыч поднялся во весь свой могучий рост, чуть не задевая за потолок головой, прошелся по избе, заглянул на палати и незаметно для остальных вышел в сени, откуда небольшая лесенка вела в светелку.
Ступени затрещали, когда на них тяжело ступил старик-богатырь. Он остановился и стал прислушиваться. Хмельной купец за дверьми, в светелке, все повторял, о чем-то упрашивая бабенку:
— Ну, потщись… Ну, постарайся… Ну, как же?.. Неужто ж никак?.. И бросить?..
— Пусти… Оставь! — молила в ответ Василида. — Сам видишь: спьянел больно… Впусте все… Пусти ж ты меня… Не замай, не мытарь занапрасно…
— Спьянел?.. Може, правда… Кваску бы… Очухаюсь… Вот тоды… Озолочу… Красуля… Пыха… Утеха моя… Уте…
— Ладно!.. Квасу я тебе… Скорехонько… Пусти, лих! — обрадовавшись, заговорила торопливо бабенка. — Да не бось… Вернусь. Вот те Бог!
— Гляди… озолочу… — уже совсем заплетающимся языком еще раз повторил купец.
Дверь раскрылась, и Василида, красная, с растрепанными, влажными от пота волосами, прилипшими ко лбу и к вискам, запахивая сорочку, оправляя сарафан, показалась на лестнице.
Наткнувшись на свекра, она так и охнула в испуге:
— Господи….. Богородица… Мамонки!.. Хто тут… Вы, батюшка?..
— Я, сношенька… нишкни… Не торопись, ясочка… Под сюды…
И он усадил ее на широкий ларь, стоящий под самой лестницей, куда почти внес на руках Василиду.
— Пусти… некоды, миленькой… Слышь, квасу ждет лихой мой… Гляди, и Митянька насунется… Ох… измаял меня окаянный… Зря разворошил… — неожиданно с горячей жалобой, припадая на могучую грудь свекра, прошептала Василида.
— Ладно… Сочтемся с им, с ахальником… Пущай заснет… Ты подожди… Я хошь и постарше… Я заспокою тебя… ясочка… Не заморю зря… Милая…
И совсем не по-отечески стал он ласкать и целовать красивую сноху, тоже горячо отвечавшую на эти ласки…
— Ну, слышь… А теперя смекай! — выпуская ее из обьятий, тихо заговорил Савелыч. — Квасу ему неси… Я пожду тебя здеся…
Выскользнув из-под лестницы, Василида в темноте нащупала дверь, взяла жбан из покоя, где сидели все гости, налила квасу из бочонка, стоящего в сенях, и вернулась к свекру.
— Что льешь-то, родименький… Жив-то буде аль нет? — шепотом спросила она, услышав, что свекор что-то плеснул в жбан с квасом.
— Кое не жив?.. Один он што ли? Сколь много народу с им… И чужих немало… Пои, знай, не бось… А а посторожу… Недаром же он допек тебе. Пощупаем его мошну-то… А наутро встанет, как встрепанный… Не бось!..
Успокоенная, Василида быстро опять поднялась в светелку и подошла к постели, на которой уже храпел купец, не дождавшись квасу.
— Спит… Как быть? — спросила она свекра, голова которого показалась теперь из-за двери.
— Влей в пасть маненько… Ишь, как раскрыл жерло-от!.. Поперхнулся?.. Ладно… Живет… Проглонул?.. Добро… Слава те Осподу… Теперя можно…
И, смело подойдя к спящему купцу, лицо которого внезапно приняло синевато-багровый оттенок, Савелыч стал шарить у него на груди, доставая мошну на гайтане, а Василида, вся дрожащая, похолоделая, стояла у приоткрытой двери и прислушивалась, не идет ли кто.
Снизу неясно доносился шум голосов. Внезапно прозвучал громкий крик Софьицы. Должно быть, ее обидел кто-нибудь вольной выходкой и девочка испугалась слишком смелой ласки. Но сейчас же послышались другие, успокаивающие голоса.
Петухи завели вторую перекличку.
Савелыч уже развязал тугой узел на мошне пьяного гостя и успокоительно кивнул Василиде, которая при вопле Софьицы кинулась было к свекру.
— Не съедят девчонку… у всех на очах… Пощупал хто-нихто покрепче — вот и орет… Митяй тамо… Сторожи, знай…
Мошна была раскрыта, и дрожавшие пальцы старика жадно погрузились в гущу золотых и серебряных монет, которыми кожаный кошель был набит почти до отказа. Две или три щепотки уже были отправлены Савелычем в свой карман. Пальцы, словно непроизвольно, потянулись за новой щепотью, когда сильнейший стук раздался в ворота постоялого двора. Колотили изо всей мочи, чем-то тяжелым, так сильно, что даже слегка вздрогнули стены этой отдаленной светелки.
Свекор и Василида застыли на минуту от невольного испуга. Савелыч быстро завязал по-старому мошну и сунул ее за ворот рубахи спящему.
Еще через миг Василида уже была в избе, внизу, ласково улыбаясь всей пьяной ватаге, тоже потревоженной громким стуком. Митяй, давно стороживший и ожидавший появления жены, так и впился в нее укоризненным взором.
А Савелыч, торопливо пройдя крытым двором к широким воротам, закричал сердитым, угрожающим голосом:
— Ково черти носят в ночь, за полночь?! Не пущу, хошь подохните тамо, окаянные… Народ, гостей мне пужаете… Местов нетути… Все полным-полно…
— Отворяйте, собаки!.. Алеуты!.. Моржи распроклятые!.. Живее, пока и ворота, и вы сами целы ошшо… Отворяйте, сучьи дети… — ответным криком донеслось с улицы.
Голоса были хриплые, грубые. Кричали или пьяные, или очень озябшие и усталые люди.
И тут же сильные удары, как бы наносимые тараном, стали опять потрясать самый раствор надежных ворот.
Почти все работники Савелыча, вскочив спросонок, толпились за спиной старика. Их озарял слабый свет зажженных лучин в руках у двух-трех пирующих, которые выбежали из горницы, потревоженные таким необычайным шумом.
— Да что же энто за грехи? Тати вы или грабители? Што так ломитесь в ворота силом? Так, гляди, и у нас стреча припасена… Гей, Митяй, беги, неси, что у меня в опочивальне стоит, раздам малым… А я свой самопал возьму… Да прихвачу вон энто… Да в светелку сбегаю, погляжу, хто там за воряги такие спокою добрым людям не дают?.. Слышь, и впрямь, тати… Без телег… Без обозу… Одни конные, чуть…
С этими словами старик захватил тяжелый старинный топор-дроворуб, переделанный из стрелецкой секиры, зажег толстую смолистую ветвь, приготовленную для освещения двора ночью, воткнул ее вместо факела в расщелину между бревен и пошел наверх в светелку, умышленно громко крикнув рабочим:
— Хватайтесь за дубье, робятушки! Разбирайте топорье, рогатины… Ружьишки вам подаст сынок… Сломят ворота, ворвутся, тут их стреляйте, окаянных. Не задарма же грабителям шкуру отдавать.
И поспешными, широкими шагами он двинулся по лестнице наверх в светелку.
Когда старик ушел, за воротами наступила сравнительная тишина. Слышно было, как топтались, переступали и пофыркивали верховые кони, позвякивали уздечки и оружие… Шесть или семь голосов о чем-то негромко толковали, переговаривались.
К рабочим торопливо вернулся Митяй. Он нес три старинных пищальных ружья, большую роговую пороховницу и небольшой мешок пуль.
Парни живо вооружились. Трое стали заряжать свои самопалы. Остальные стояли наготове с топорами и рогатинами в руках.
Несколько обозных приказчиков достали с возов, стоящих тут же, ружья, кистени, топоры — все оружие, каким приходилось запасаться, пускаясь в дальний путь по этим диким краям.
Таким образом, человек пятнадцать стояли наготове на крытом дворе осажденной усадьбы.
— Митянь, аль и впрямь разбойники? — спросила Софьица у свояка. — Василида боится… Попряталась… Сказывала, чтобы я поспрошала у тебя…
— Не знаю… Надо быть… Тятька бает… Почитай, што так… Без возов, чуть подъехали… Альбо тати, альбо служилый народ… Верхами, слышь… И пужают… грозятся, ругаются. Некому иному быть!.. Да батько поглядит… Ен в светелку пошел…
Софьица, как мышка, движимая любопытством, кинулась по лестнице следом за Савелычем.
Старик успел уже распахнуть небольшое оконце светелки и, перевесясь почти по пояс, старался разглядеть, кто стоит у ворот. Ветер сразу ударил ему в лицо вместе с редкими колючими не то снежинками, не то крупицами инея, какие целую ночь носились по всему простору болот, лесов и полей, одевая все густым белым покровом. Полог кровати, на которой лежал опоенный купец, вздулся, запузырился, как парус, и совсем покрыл спящего.
Когда глаза Савелыча привыкли к темноте и перестали щуриться от ветра и снежинок, старик различил внизу восемь конных фигур, двух спешившихся всадников и, кроме того, две лошади были под вьюками, как это делают местные инородцы: тубинцы, киргизы…
В мутной предрассветной мгле осенней непогодной ночи рысий взор старика успел заметить, что всадники — не инородцы, одеты почти одинаково, в широких азямах, в островерхих шапках, с пищалями за плечами; у иных были еще пики в руках. Разбойники, как знал старик, никогда не щеголяли одинаковой одеждой. Среди них всегда находились и простые мужики, и беглые ратники, и туземцы.
Чтобы лучше убедиться в своей догадке, Савелыч громко крикнул вниз:
— Што вы там за люди? Толком бы баяли, ничем ломиться в ворота.
— Вот мы те потолкуем! Сломим запоры… А нет, всю твою нору воровскую, барсучью подпалим с четырех концов — чхнешь тады! — крикнул снизу раздраженный, повелительный голос. — Мы — служилые люди ево царской милости, государя царя Петры Алексеевича… А ты нас татями обзываешь?! Добро, пожди!.. Отопри только!.. Будешь знать, собака!..
— Ладно, не лайся… Я сам полаяться могу!.. «Служилый народ!..» Ноне што ни воряга, што ни насильник, то и служилым слывет; так и зовется. А пусти его, он те горло перережет. Вон, омет поблизу… Дерни соломки пук, зажги… Погляжу я на вас, каки вы служилые люди? Тады и пушшу, честь честью. А не то…
— Шут с ним! — заговорил другой из всадников. — Кроши огонь, жги солому… Пусть поглядят, бобры трусливые, кто у ворот стоит… Правда, и им за шкуру сала заливают лихие людишки… Вот они с опаскою…
— Ладно! — согласился первый из говоривших. Блеснули искры на кресале, ударившем звонко о кремень. Вспыхнул пук подожженной соломы, и Савелыч мог убедиться, что у ворот его избы стоит отряд объездчиков-пограничников, а не разбойничья ватага…
— Вижу, кого Бог послал… Бегу отпирать!.. Пождать малость прошу честных гостей… — торопливо прокричал старик и бросился вниз, чтобы растворить ворота.
Василида, вынырнувшая откуда-то из боковупш и вместе с Софьицей слушавшая все переговоры, метнулась прочь с пути свекра, но вслед ему успела спросить:
— Впрямь ратники?.. Стречать, что ли-ча?..
— Стречайте обе… Слышала, чай, злыдня… Что пытаешь? — на ходу бранчливо ответил старик и через несколько мгновений сам широко распахнул обе половинки ворот и с поклоном запричитал: — Просим милости гостевать, гости дорогие… Вся изба ваша, кормилицы вы наши!.. Пожалуйте рабов своих великою милостью…
Но прежде чем в темном прорезе ворот показался кто-либо из приезжих, порыв ледяного ветра ворвался в загороженное, наполненное людьми пространство, бросил всем стоящим впереди целыми горстями колючего инея в лицо, заколыхал длинное красноватое пламя смолистого факела, затушил пучки лучины в руках у двух рабочих, светивших непрошеным гостям.
Не замеченными среди наступившей темноты двое пеших и один всадник появились на крытом дворе, и один из них, оттолкнув Савелыча, схватился за половинку ворот, как бы опасаясь, чтобы их не захлопнули внезапно.
— Што за темь напустили?! Стой все, не шелохнись! — крикнул один из вошедших.
И все невольно вздрогнули от неожиданного властного и громкого оклика.
— Въезжайте, робя, без опаски! — крикнул тот же голос остальным всадникам, которые тесной кучкой сбились у самых ворот, выжидая, что скажут посланные вперед товарищи. — Жалуй, Весиль Антоныч, беспечно…
— Тут мы, — первым въезжая по бревенчатому насту, отозвался коренастый, сухощавый брюнет лет сорока. Его черная вьющаяся борода и усы теперь казались совершенно седыми от снежного налета.
— Здорово, мужичье да купцы, господа почтенные. Свету поболе несите… Где изба? Поморозили нас, проклятые… Да убрать все это дубье и ружьишки… Ну!..
И всадник, очевидно, атаман всей шайки, навел на кучу работников и приказчиков, стоящих в выжидательном положении, тяжелый пистолет, который еще за воротами достал из-за пояса.
С глухим говором стали уходить в глубину двора работники, скрываясь за дверью людской кухни и унося топоры, рогатины и вилы. Вооруженные приказчики двинулись к бвоим возам, складывая на места припасенное оружие.
Савелыч уже раскрыл дверь, ведущую в сени и в горницу, и с поклонами зазывал непрошеных гостей. А Василида стояла на пороге с подносом в руках, уставленным чарками и сулейками с хлебным вином и медом.
— С холоду обогреться прошу перво-наперво! — пригласил Савелыч.
И тут же поспешил к тому всаднику, который разогнал его челядь. Он собирался сойти с коня и, медленно высвободив из стремян свои озябшие, окоченелые ноги, с трудом занес правую на круп лошади, чтобы слезть с седла.
— Ин, помогу те малость, дай, господин! — услужливо предложил старик, затем, не ожидая ответа, почти снял, как ребенка, и поставил на землю старый великан своего сердитого и довольно грузного гостя.
— Спаси тя… Не трудись, и сам бы слез… Не на сопку бегчи… А обогреться нам всем надо, это правое твое слово… Загинь я, Васька Многогрешный, коли мы не промерзли до самой до печенки. Всю ночь блукаем… Добро, што навел нас Господь на твой дворишко… Ну ка, хозяйка, пригубь сама первая малость… не приворот ли в чарке? Мы люди дорожные, про все осторожные… Вот, ладно, — сплюнув, продолжал он, видя, как Василида сделала добрый глоток из полной чарки. — Теперь долей, водолей, а я одолею!..
Приняв первую чару, он подождал, пока все его товарищи, тоже сошедшие с лошадей, разобрали стаканчики, и медленно осушил весь довольно объемистый стакан.
— У-у, сразу огнем по суставам да по жилам водка прошла! — тряхнув головою, сказал Многогрешный. — Ну, братцы, теперь и в избу можно. Ты, Сенька, другую чару пей, всех коней примай, на место поставь… Пусть тебе челядь тут подсобит… А после у ворот настороже останься… да, слышь…
И, пригнувшись к уху Сеньки, Многогрешный внушительно стал ему что-то шептать.
— Слышу… Не прогляжу… Никого не выпущу! — почти громко ответил начальнику высокий, худой, как жердь, казак с красновато-бурым, загорелым лицом и широкой, выпуклой грудью, обличавшей в этом тощем человеке огромную силу.
Захватив поводья коней, оставленных товарищами, он громко заорал:
— Черти, кто тут есть? Убирайте скотину, не то я вас…
Несколько рабочих, которых уже успел кликнуть в это время старик, быстро явились на зов и поставили к яслям прозябших голодных коней, которые сейчас же принялись за корм, обильно отсыпанный им в кормушки.
Закончив заботу о конях, сторожевой казак выпил подряд еще целых три чарки, закусил от громадного ломтя хлеба, круто посыпанного солью, который ему принесла Софьица, и с куском в руках, нахлобучив на брови меховую шапку, плотно закутавшись в мохнатую бурку, уселся на пороге закрытых теперь ворот, громко чавкая и похрустывая челюстями, куда отправлял кусок за куском своего увесистого ломтя.
— А народишку у тебя, хозяин, немало гостюет! — заметил Многогрешный, окидывая взглядом большую горницу, довольно хорошо теперь озаренную двумя смоляными факелами и несколькими пучками горящей лучины, куда провел нежданных гостей Савелыч.
Все девять казаков-объездчиков заняли места за большим столом, посадив в переднем углу Василия Многогрешного. Проезжие гости, купцы и приказчики, уступили им места. Иные разместились на лавках, стоящих вдоль стен, другие полезли на полати где и раньше виднелось несколько копошащихся фигур. А некоторые и совсем ушли на двор наведаться к своим возам, хорошо ли они увязаны, не подбирается ли к ним кто под шумок. Из морозной ночной темноты сразу попав в теплое светлое помещение, подбодренные водкой, иззябшие казаки оживились, усталь как рукой сняло. Они и забыли, что всего четверть часа тому назад валились с коней от озноба и устали. Теперь им хотелось шуметь, говорить, плясать, как, должно быть, плясали и шумели здесь все эти люди до прихода нежданных гостей, казаков.
— Што ж притих весь народ? Али нас так спужались? — спросил Многогрешный, обращаясь ко всем. — Так мы страшны одним лиходеям, злым людям, ворогам земли и его царского величия, государя Петра Лексеича… А ины люди — живи себе, да здоровей, да мед-вино пей-попивай… и нам подавай… Ха-ха-ха!..
И черноволосый, живой Василий залился довольным смехом.
— Только чтой-то у вас парней много, баб мало. Это не к умолоту!.. — заговорил он снова, охватывая за плечи Василиду, которая наливала ему новую чарку вина и подавала закуску.
— Ничего, гостенька! На что я годна, постою и одна… А чего не могу, на то не погневайся, в ином месте поищи! — увертываясь с легкий смехом, ответила бойкая бабенка. — Вон девонька мне поможет, чего может! А она плясать горазда! — указывая на Софьицу, помогающую ей служить, сказала лукавая бабенка. И, выходя из горницы, поманила за собой мужа.
— Митька, гляди, больно не хмурь харю-то… Видишь: пьяный, озорной народ. Али жисти твоей и моей тебе не жаль? Потерпи. Авось меня не убудет… Слышь!
— Терплю я… давно… — каким-то глухим, сдавленным голосом отозвался муж. — А, слышь, и на топор у меня руки таково чешутся… Слышь…
— Вот что, Мить… Уйди ты лучше со двора куда, слышь? Христом-Богом тебя молю… Уйди ты хоть на эту ночь…
— Уйти?.. Уйти тебе… А ты?.. Ишь… Уйти, баешь?..
— Вы тут что? — вдруг послышался за спиной у них голос Савелыча.
Он тоже вышел из горницы в темные сени, где его сын и невестка вели беседу, и, двинувшись на голоса, отыскал их.
— Да вот, слышь, батя! — поспешно отозвалась бабенка. — Митяю сказываю, по дому помог бы мне что…
— Помог бы тебе? Сама здорова, себе поможешь… К гостям ступай, подавай, чего спросят… А мне с Митькой тут надо…
Василида быстро юркнула в горницу, а старик обратился к сыну:
— Зипун одевай, тулуп возьми, пимы… Доху ли невелику вздень… Коня я тебе за хату через лаз выведу… К куму скачи… К утру поспеешь… Пущай сюда со всеми ребятами своими да с припасом воинским поспешает. Чует мое сердце: добром у нас с гостями нашими не кончится… Старший их почал уже к купцам привязываться… Спросы да расспросы: хто да откедова? Получил бы свое, да и отстань… А он — нет… Авось к обедам кум с подмогой подоспеет. Они теперь с морозу разомлеют, спать завалятся… Авось до полуден заснут. Мы будить не станем… А тут и кум со своими… Будто ненароком, проездом… Оно все лучше будет… Скачи… Поспевай…
— Тятенька, да ты бы ково…
— Ну, не шамаркай… Коли тебя шлю, перечить мне не станешь ли? Не знаю я, что делаю?.. Снаряжайся… Сторож-то приворотный ихний, кажись, уже свалился… Пойду погляжу… Снаряжайся да к лазу приходи… И кремневик возьми… Неравно на зверя али на лихова человека в пути набежишь. Все оборона…
И, не слушая никаких возражений, старик двинулся к воротам.
Казак, оставленный там настороже, действительно сморился и спал, громко похрапывая на весь двор. Но он, как сторожевой пес, лег поперек ворот и, не сдвинув его, их нельзя было отворить.
— Ладно, сторожи в пустое место! — пробурчал Савелыч и повернулся к стойлам, где десятка четыре крепких мохнатых сибирских лошадок дремали на подстилке или стояли, понуря голову, и жевали, пофыркивая, заданный им корм.
Лошади самого Савелыча стояли за особой загородкой, в углу стойла. Здесь стена лошадиной теплушки выходила прямо в поле. Небольшое оконце, прорезанное в этой стене, теперь было заткнуто пуком соломы.
Легким пинком ноги поднял старик буланого конька, мирно дремлющего у кормушки, на ощупь нашел и снял со стены попону и стал седлать его седлом, тут же приготовленным в углу. Кинув затем поводья на шею оседланной лошади, Савелыч подошел к стене, выходящей в поле, уперся ногами покрепче в землю и на высоте своего роста вытащил поперечное бревно, аршина два длины, из стены, которая казалась такой крепкой и неподатливой на вид.
За первым бревном последовало второе… третье… И скоро нечто вроде калитки зазияло в разобранной стене, причем дремлющие кони зашевелились, поднялись и стали вздрагивать от внезапно налетевшего холода.
А те, что не спали, бросили еду и стали чутко прислушиваться, словно стараясь разгадать, что творится там, за перегородкой, в углу их спокойной до этих пор теплушки.
— Ты, что ли-ча, Митяй? — негромко спросил старик, заметя, что из окружающей темноты надвигается на него какая-то черная фигура.
— Я, тятька! — ответил сын, тепло одетый, туго подпоясанный, с теплыми рукавицами и тяжелым кремневиком в руках.
— Ну, с Богом!.. Я выведу коня… Садись и катай… Да сам не мешкай и кума проси поспешить.
— Ладно! — выходя из пролома в поле за стариком, отозвался Митя.
На воле было гораздо светлее. Парень сел на коня, подобрал поводья и мелкой рысцою двинулся в путь, раскачиваясь сам на седле и маяча своим длинным ружьем за плечами.
Проводив сына взглядом, пока можно было видеть за кустами, подбежавшими здесь к самой избе, старик вернулся в теплушку и принялся закладывать лаз.
Вдруг новые две фигуры прошмыгнули сюда со двора и направились к выходу в поле.
— Стой!.. Кто вы?.. Куда вы? — окрикнул старик, загораживая им дорогу.
Но остановить он успел только одного. Другой прошмыгнул мимо Савелыча, грузно перекинулся через бревна, уже закрывавшие низ потайного выхода, и скрылся в кустарнике, где только сучья захрустели под его тяжелыми шагами.
— И штой ты, пусти, Савелыч. Нешто не опознал? — торопливо, вполголоса заговорил перехваченный мужик. — Али тебе корысть какая, коли мы попадем объезчикам в лапы?.. И то они грозятся, что наутро обыск учнут, у всех листы пропускные есть ли да отписки приказные, подорожные… А у нас, сам ведаешь, какие отписки… Пусти же… Мы последили за твоим Митянькой… Вот и норовим уйти за добра ума… Оставь, слышь…
И второй из оборванцев, который во время пирушки сидел в углу горницы, алчно поглядывая на пирующих, почуяв, наконец, что могучий старик не сжимает ему руки своими железными пальцами, метнулся к выходу и исчез вслед за первым.
В это мгновение еще два мужика из той же компании появились из-за перегородки, где, притаясь, ожидали, как пойдет дело. Молча пробежали они мимо старика, нырнули в дыру и, согнувшись, стали убегать между кустами.
— Ну, оно и лучше, что эта рвань сбежала! — подумал Савелыч, спешно закрывая потайной лаз. — Из-за их и сам в ответ пойдешь… Сыск чинить хотят! Туда ж! Известно, какой сыск у служилого люда! У казаков, у насильников! Содрать, что мога, с торговых людей… Ин, ладно… Поспрятать кое-что надо-таки…
Заложив последнее бревно так, что и следа не осталось от широкого проема в стене, Савелыч торопливо перешел в горницу.
Здесь он застал настоящее сонное царство.
Хмель и тепло взяли свое. И постояльцы, кутившие тут, и нагрянувшие после казаки-объездчики — все спали, пристроясь кто куда, на лавках, на полу, подостлав азямы и полушубки, на полатях и даже под столом. Огни догорающих факелов тускло освещали картину, сливаясь с бледными лучами зимнего рассвета, который глядел в щели ставень.
В одном углу на нескольких попонах и тулупах раскинулся Василий Многогрешный, без всякого стеснения принудивший и Василиду улечься с ним рядом. Даже теперь, во сне, он обнимал ее одной рукой.
Василида, истомленная, с черными кругами под опущенными веками, тоже спала, тяжело дыша от вина и грубой обиды, которой подверг ее насильник казак вместе с противными ласками.
Иногда она даже вздрагивала и стонала во сне, а по ее молодому, красивому, но измученному сейчас лицу пробегала гримаса омерзения. Как будто и во сне она переживала то, что пришлось пережить полчаса тому назад наяву…
— Проклятые!.. — сквозь зубы прошептал старик.
Руки у него сжались, и глаза забегали кругом, словно ища, что ухватить. Чем перебить всю казацкую эту ватагу, нагло ворвавшуюся в мирную обывательскую усадьбу?
Но старик быстро овладел собой, только зубы, здоровые еще и крепкие, заскрипели у него против воли и лицо покрылось багровыми пятнами.
Стараясь не задеть спящих, подобрался он к снохе, осторожно разбудил ее и, дав знак идти за ним, вышел из горницы.
Быстро поднялась бабенка, оправила сарафан, повойник, сбитый в сторону, убрала пряди волос, выбившиеся из-под него, и с потупленной головой поспешила вслед за свекром.
— Ключ бери, открой подвалье, погляди по пути, не бродит ли кто ненароком поблизости… А я скоро приду, из светелки туда же кое-что повынести надо… — шепнул снохе старик, едва Василида успела прикрыть за собою двери.
— Неуж купец?.. Неуж купца хоронить хочешь?
— Ду-у-ра!.. Без меня его похоронят, когда час придет… Дрыхнет твой купец, не пужайся… Есть что и получше его, старого бражника, у нас в светелке… Ступай… Ну!.. Рожа бесстыжая… всесветная!..
Ничего не ответив на незаслуженную обиду, Василида прошла крытым двором на второй, открытый, но обнесенный таким высоким, прочным тыном, какие бывают только в «острожках» в небольших сибирских крепостцах.
Среди этого двора насыпной холм, поддержанный треугольным срубом изнутри, служил входом в подвалы Савелыча.
Едва Василида вошла в первую незапертую часть подвала, служащую погребницей, к ней навстречу кинулась Софьица.
Девушка до этого времени притаилась за большой пустой бочкой из-под кваса. Одежда на ней была вся изодрана, лицо исцарапано, на оголенных плечах и на груди виднелись красные пятна — следы грубых казачьих пальцев, сжимавших нежное девичье тело без всякой осторожности и пощады.
— Ты, сестрица?.. Ищут они меня? — со страхом зашептала иззябшая перепуганная девочка.
— Нету… Дрыхнут… А тебе-таки удалось урваться, болезная?
— Урвалась-таки, урваласи… ох… Только уж как? И сама не помню, сестричка! А что они, аспиды? Все дрыхнут? Подпалить бы их… Убежать бы мне куды, родимая…
— Куды бежать? Зимно, морозно. Поколеешь. На вот ключ. Отомкни подвалье-то. Свекор сюды нести чтой-то сбирается… Помоги. А я к Мосейке к мому сбегаю. У стряпки он в куфне с Наташкой. С вечера не побывала я у малого. Что с ним — не знаю. Сердечушко щемит, ровно беду чует.
Сунув ключ девушке, Василида быстро пошла к небольшой закопченной двери в углу двора, где помещалась людская кухня и теперь спал в коляске двухгодовалый мальчик, сын ее.
Когда бабенка закрыла за собой скрипучую дверь, с печи стала спускаться стряпка, пожилая, грязная баба.
Кое-как плеснув из ковша на лицо водой и осеня лоб крестом, она взяла ведра и пошла принести воды. Со скамьи в углу поднялась другая девушка, лет семнадцати, некрасивая, рябая и слепая на один глаз. Машинально она протянула было руки, чтобы поколыхать стоящую рядом люльку ребенка. Но, увидя мать, наклонившуюся над сыном, потянулась, зазевала, прикрывая рот рукой, и сиплым голосом заговорила:
— Ништо. Спал тихо твой Мосейка. Соски, почитай, и не просил. Ты побудь с им. Я скоро!
И, зевая, почесывая свои взлохмаченные, слипшиеся пряди волос, заплетенных на две тонкие косички, девка вышла из кухни.
Ребенок спал и раскидался от духоты в своей неприхотливой постельке. Одна его полненькая розовая ножка была закинута за борт колыбели.
Внимательно разглядывая спящего мальчика, Василида как-то безотчетно прильнула к этой, ножке губами и впилась в нее долгим, нежным, но осторожным в то же время поцелуем.
Грудь у нее заходила ходуном, словно бы давно сдерживаемые рыдания теперь стремились прорваться на волю.
— Маинька… Сиси… — просыпаясь внезапно, с улыбкой протягивая руки к матери, потребовал ребенок.
Выхватя его из колыбели, Василида села, прижала мальчика крепко к груди и беззвучно залилась слезами.
Мальчик сперва с удивлением смотрел на светлые капли слез, которые быстро, одна за другой так и скатывались по щекам на подбородок и на грудь матери.
Потом, как будто почуяв, что его матери тяжело, что это слезы глубокого горя, слезы надорванной, измученной души, ребенок стал зажимать Василиде глаза, мешая плакать, отирал ей слезинки и кончил тем, что сам заревел на всю кухню.
— Нишкни, нишкни, родимый… Вот, на сиси… Помолчи! Вот попляшу я с тобой! — стала теперь утешать ребенка мать. — Агу, агунюшки… Смейси, мой душонок… Хохотунчик… Слушай песенку!..
И она принялась напевать, приплясывать с малюткой, стала улыбаться ему, хотя слезы неудержимо так и катились из воспаленных глаз, окаймленных черными кругами от бессонницы, от устали и от муки душевной и телесной.
В это время Савелыч подошел к подвалу с тяжелым мешком на плечах, который вынес из светелки.
Увидя Софьицу, ожидающую его у приоткрытой двери, он весь потемнел, нахмурился.
— Эк, они тебя, окаянные… Погибели на них нет, на иродов… Ну, добро… Ты, слышь, подь, одень што иное, поцелее. Я и сам тута справлюсь. Да углядел я: тамо стряпка по воду пошла. Гляди, не выпустит ее идол, что при воротах поставлен настороже… Краше б она и не тормошила его… Пусть подоле подрых бы… Перейми стряпку-то, коли поспеешь…
Софьица поспешила исполнить приказание старика.
Савелыч, не опуская тяжелой ноши, сошел в подвал, прикрыл за собой дверь извнутри на засов, зажег светец и лопатой, стоящей тут же, словно наготове, стал в одном углу разгребать плотно убитую землю.
Скоро открылась подъемная дверь в другой, потайной, подвал. Вернее, то была большая яма, «похоронка», где на случай грабежа или пожара старик приберегал все наиболее ценное из имущества.
Теперь из мешка он вынул несколько шкурок собольих, лисьих и песцовых, все запретный товар высокой цены и качества. Потом добыл небольшой, обитый моржовой кожей и окованный ларец, очевидно с деньгами.
Все это он опустил в «похоронку», закрыл снова дверь, засыпал ее землею, утоптал… И через полчаса даже следов не осталось того, что тут хранится что-нибудь на глубине двух-трех аршин под землею.
Когда старик вернулся в горницу, весь двор был уже на ногах.
Казак, спавший у ворот, разбуженный стряпкой, выпустил ее к соседнему ключу набрать воды. Но сам, видя, что день занимается, что рабочие Савелыча уже завозились в конюшне и во дворе, решил побудить начальника и товарищей.
Хмурые, не выспавшись, не отдохнув порядком, поднялись они вместе со всеми проезжающими, случайными гостями Савелыча.
— Где хозяин? Бабенка куды сбежала? — крикнул Васька Многогрешный, едва раскрыл глаза и встал со своей походной постели.
Когда прибежала Василида, он потребовал вина опохмелиться, хотя и вчерашний хмель еще туманил ему сознание и вязал язык.
— Как будет твоя милость? Не позволишь ли нам со двора съезжать? — робко подойдя к столу, где сидел Многогрешный со всеми товарищами, спросил один из приказчиков, которого отрядили остальные постояльцы.
— А вот раней догляжу ваши столицы да товары… Нет ли самовольных торгашей, али товаров запретных?.. Тоды и убярайтесь ко всем чертям на кулички! — угрюмо ответил Многогрешный.
Сейчас же пятеро из стрельцов пошли к возам, где заставили хозяев развязать свои тюки и помещения, так старательно и прочно увязанные.
Пока приказчики с помощью работников Савелыча возились у товаров, два пожилых купца показывали все бумаги и документы Многогрешному, а тот сидел и ломался перед ними не хуже верхотурского воеводы, которого видел на Приказе.
— Писано: «Едет купец Григорий Осколков с троима возами, а при них два приказчика да четыре возчика»… Хто буде из вас Гришка Осколок?
— Я Осколков!. — степенно кланяясь, ответил первый широкоплечий пожилой брюнет с благообразным лицом и окладистой бородой.
— Ладно. Далей: «купец вологодской Ванька Савватеев с чотыре воза и один приказчик да двое возчиков при нем». Ты, что ли-ча?
— Мы, мы и будем… А приказчики и челядь — при возах… Погляди, коли желаешь… Все, как прописано…
И рыжебородый юркий купец стал учащенно отвешивать поклоны объездчику. А сам, сунув руку за пазуху, достал оттуда, очевидно, заранее приготовленный сверточек с рублевиками и положил их на стол перед Многогрешным.
— Энто што же? За што же? Кажись, пока не за что! — спросил последний, в то же самое время загребая и пряча сверток в карман.
— А так, значит, как оно водится… Для ради знакомства. Прими, не погребуй. Выезжать совсем станем, ошшо поклонимся. Лих бы несильно нам возы растрясали. Увязать апосля — кака работа! — сам ведаешь.
— Ладно. Федька, подь скажи: не очень бо тамо наши… Пусть поглядят товарищи, што надыть. А зря — не ломать тюков. Что получче, чай, при себе купцы господа берегут. Найдем, коли пошарим.
Пока один из казаков пошел исполнять приказание начальника, Многогрешный продолжал прочитывать подорожные пропускные столбцы:
— «Петька Худеков с двома возами, да двое приказчиков, да двое возчиков из Пекингу, из китайского городу». Энто кто же будет? На полатях, тамо, што ли, сидит, к нам сюды не жалует? Ась?
И стрелец кивнул на полати, где темнели две-три фигуры, очевидно не решавшиеся слезть и предстать пред очами объездчиков.
— Не. На полатях — подьячий какой-то… И с двумя полоненными из Апонии, слышь, из самой… А наш Петра Матвеич спит еще в светелке… Туды его с вечера хозяюшка моя свела… Больно хмелен был старик. Вот, на покой и ушел, — отозвался Савелыч.
— Ничево. И до светелки твоей дойдем-доберемся. Все в свой черед. Видно, гусь закормленный, коли при одном при ем, при двух возах — четыре души приписано. Издалека едут… Из самово Китая, слышь, города… Поглядим, пощупаем! Вы вон двое только туды сбираетесь. А он уже оттеда… Вот ево нам и цадоть… Поезжайте со двора. Вас отпустят… С Богом…
Пока обрадованные оба купца, отдав поклоны, стали натягивать на себя верхнюю одежду и подпоясываться, Многогрешный крикнул людям, сидевшим на полатях:
— Гей, вы тамо!.. Ползи суды, к свету… Што за люди? За какими делами и куды путь держите?.. Каки ваши будут письма, прописки да отписи?
Повинуясь оклику, с полатей слез и приблизился к столу человек лет тридцати пяти на вид, худощавый, светловолосый, с курносым носом и темными бегающими глазками, которые особенно пытливо, почти враждебно вглядывались в каждого, с кем встречался их хозяин. Одет он был чисто, но довольно бедно, так, как одевались в то время приказные попроще.
За ним слезли и стали поодаль еще два человечка маленького роста, одетые наполовину по крестьянски, в лаптях, в простых рубахах и портах, но в потертых кафтанах с камзолами, которые были им очень велики. Косые узенькие глазки, смуглые обветренные лица, черные жесткие волосы, словно из тонкой проволоки, — все говорило о монгольском происхождении человечков. Но в то же время они не походили ни на тунгусов, калмыков или прибрежных айянов, ни на китайцев, которых хорошо знали в Сибири.
— Что за люди?! Откуда? Ты сам хто? Слышь, давай ответ! — прикрикнул Многогрешный на приказного, стоящего впереди.
Тот так и упал на колени, добивая земной поклон.
— Твой раб, государь милостивый! Холоп твой, Ивашка Нестеров, челом тебе бьет. Вот, тута все наши приписки и сказни! — подавая казаку два темных свертка желтоватой бумаги, продолжал он. — А эти двое апонские люди из града Эдо. Больше их было. Всех одиннадцать человек на бусе {Бус — большой бот.} на ихнем бурею прибило к нашим берегам. Семеро померло с нужды да с хвори, покуль наши их нашли. Четверо осталось… Отписано было про них государю-батюшке. И приказ пришел: везти их в Питербух-город без мешканья.
— Где же все время пребывали энти апонцы? Почему не четверо их? Куды теперя едешь с ними? Ась?
— Поизволь поглядеть в столпчик: тамо прописано. К Верхотурскому воеводе мы из Якутского посыланы. А оттель — куды Бог пошлет, коли не к самому царю-батюшке… А раней придется нового нашего воеводу и губернатора всей Сибири повидать: князя Матвей Петровича света Гагаринова.
— Нешто едет новый воевода? — всполошившись, спросил казак.
— Едет, слух слывет, к Верхотурью подъезжат уже… А двоих апонцев из четвертых потому везу, что достальных двое изменник Данилко Анциферов увозом увел, в те поры как смерти предал атамана Атласова и сам с товарищи мятежом замутился.
— Данилко Анциферов? Атласова атамана убил? Чево байки плетешь? Гляди, кабыть тобе языка я к пяткам за то не вытянул.
— Язык мой, воля твоя. А я правду баю… Было дело воровское. Той Данилко со товарищи заводили круги… И знамена выносили. И спор у их пошел тута так, што картами да бердышами били один другого под знаменами. И назвали Данилку атаманом… И ушли из Нижнего Якутского острогу. Только теперя уже тот вор, изменник окоянный Данилко, пойман и с товарищи, Казна осударская у их отымана… Вот, лих, не доспели разыскать, куды он подевал полоненных двоих апонцев. Розыщут их — за нами следом к царю пошлют, слышь… А над мятежными суд учинен. Недолго им еще ходить по белу свету…
— Ну и вести!.. Тута, в тайге живучи, и не спознаешь ничево, пока людей не стретишь… — задумчиво проговорил Многогрешный. — Поймали товарища! А давно ль мы с им на неверных, на воровских князьков, на тубинцев да иных разбойников хаживали. Ин, добро. Кому повисеть суждено, тот не утонет, не мимо сказано… Вы што же, — обратился он к двум японцам, стоявшим в выжидательной, но бесстрастной позе, — и впрямь по-нашему малость разумеете, по-русскому? Как вас звать? Хто таки будете? Говори.
— Моя — Такаки-сан! — приседая, отозвался первый японец. — Акацуто-сан, — указывая на товарища, прибавил он.
— «Сам», «сам». Ишь, каки ободранцы бояре… Все «сам»… Я сам с усам, гляди, нос не порос! А хто же там у вас самый главный в Эдо в городке? Набольший господин? Разумеете по-нашему, по-русски?
— Русья знай… знай! — оскаливая белые, мелкие, островатые, как у рыбы, зубы, — залепетал японец. — Иэдо — тако… тако…
И он развел широко руками, желая показать обширность города.
— Иэдо, а! Кароси се… Ц-ц-ц-ц!.. Оцина кароси… Тамо зиви Даиро-сан… Киото зиви — Тайкун-сан…
— Син-му-тепо-сан-дайро… Садаи-сан… Биво-но Са-цан-сан. Киото-Яма!
И для большей ясности японец мимикой изобразил кого-то, сидящего важно, с повелительным видом, как будто на троне.
— Кеота, значит, ваш государь зовется. Разумею. Ну, мы с вами апосля ошшо покалякаем. Чай, не спешишь, как вон господа купцы. А мы раннее их пощупаем. Разыщи-ка мне, товарищ, энтаго… Худекова, што в светелке где-то! — обратился Многогрешный к одному из казаков, который возвратился со двора, от возов.
— А покеда, хозяин, вина ошшо давай да борошна каково ни на есть. Вчерась устатку и поисть-то до сыти не привелося.
Савелыч поспешил исполнить приказ казака. Остальные появились со двора, осмотрев наскоро возы, и тоже уселись за стол.
Когда через четверть часа старик купец, спавший в светелке, еще полуочумелый от пьянства и снадобья, данного ему ночью Савелычем, появился внизу, там шел уже пир горой.
— А, вот он, купец почтенный Петра Матвеич, свет, Худеков по прозванию… И толсты же Худековы живут по вашей стороне! — встретил вошедшего шуткою Многогрешный. — Чарочку с нами для похуданья…
Подвыпившие казаки все рассмеялись.
Непроспавшемуся старику было не до шуток. Поглядев угрюмо на зубоскалов, он проворчал:
— Черти бы с вами пили, оголтелая вольница. Для ча сбудили меня? Я же не приказывал. Федька, племянник где? Слышь, хозяин? Што за порядки у тебя? Всяка голытьба проезжающим покою не дает… Пошто так?! А?..
— Не посетуй, господин купец, — с поклоном отозвался Савелыч. — Объездчики. Службу свою правят. Листы досматривают. Што с ними поделаешь?
— Да уж не погневись, твое торговое благолепие… Ты мошну толстишь, а мы царскую службу справляем… Вот и побудили тебя… Уж, не серчай на холопишек на своих! — глумливо подхватил Многогрешный, задетый обращением купца. — Волей-неволей, а придется нам пощупать брюхо твое толстое, Худековское… Не больно ли щекотен только? Не заплачь, гляди.
— Сам не заревел бы. Я тебе не всякий! Ишь, зубоскал, цыган… И ково только берут на службу царскую, прости Осподи… У тебя же все листы мои, хозяин. Казал бы им…
— И то казал, — начал было Савелыч.
— Вот они, вот, листы-то твои… Да не в их дело. Сам ли чист ли? Все ли тобою объявлено было в Якуцком да Тобольском Приказах. Знаем и мы вашего брата!.. Половину товара, который похуже, объявите, пошлину платите. А что почище, запретный товар — так пригоните схоронить, што и черт не снюхает. Да я — посерей черта?.. Знаешь, с кем говоришь? Казацкий есаул я, Василий Многогрешный, вот!.. Не я ли походом в запрошлый год на тубинцов, на воров хаживал?! Сотни со мной не было. А мы их, татей, розбойных людей более полтыщи до смерти побили, вдвое их поранили; самого князца Шандычку прибазарили до смерти. Шесть али седмь сот голов одного бабья и детишек аманатами да в полон взято!.. Добра, скота — не перечесть!.. Вот хто я. А ты со мной так смеешь… Вот подожди: сыщем на тебе какое воровство против указов государевых — не то запоешь… Все пожитки твои на казну да на себя отберем. А самого — скорым судом на глаголя алибо просто на осину… Не дыбься больно потому… Вот как!
И тяжелым кулаком Многогрешный пристукнул по столу, как бы желая усилить значение своих слов.
Хмель и раздражение сразу покинули купца. Он почуял, какая опасность грозит ему, и совсем другим тоном, с поклонами заговорил:
— Не гневись, атаман Василий, свет, не ведаю, как по батюшке?.. Спросонку да с похмелья старик я… Сам видишь… Дай уж пропущу чарочку, как ты поштовал. Освежу малость башку… А во всем — мы твои слуги… Я сам со всею челядью… Вестимо, слуга государев — всему голова и начальник. Дело зазнамое… Не серчай… Прости уж…
— Простить?! То-то… А вот я погляжу: как выйдет дело?.. Не о чарках речь пойдет. Ну-ка, ответ держи: заповедных товаров не везешь ли? Скрытно чево при себе али на возах не держишь ли?..
— Нет… што ты, милый человек… Не имеется тово… Сдается все, чисто у меня переписано… — как-то нерешительно ответил Худеков и сейчас же быстро добавил: — Дозволь Федьку, племяново покликать. Ен у меня за всем глядит… Ен все тобе…
— Я и сам собе догляжусь… Не тревожь себя и Федьки… Вижу уж я, по речам да по уверткам чую, што ты за птица… Ну-ко, товарищи, пошарьте круг купца… А вы поспрошайте Федьку, на чем они с дядей ехали.
Весь багровый, дрожа от негодования и злобы, отступил старик купец, когда один из казаков двинулся к нему для обыска.
— Стой! Не смей… не рушь меня… Я… я сам… я самим болярином воеводой Ондрей Ондреичем Виниюсом посылан… Ты в столпцы погляди… Тамо прописано… Не дам себя срамить… Вот сам все покажу, что есть на мне… Вот… Кошель с деньгами. Серебро и золото. Перечти, запись мне дай, как закон велит… Вот книжка моя. А в ней — записи долговые… Расчеты все… Дела торговые, кои мне одному ведать надлежит… Вот туда, сбоку, кармашек в ей, в книжке… Сверточек невелик… Женке подарок… камушки-невелички, самоцветы… Малу толику зенчугу хинскаго… Не на продажу вез, женке моей… Все едино… Перепиши… Боле нету. Ничего нету… Перепиши. Мыто возьми… Пеню бери… Бери, што хочешь. Достальное мне отдай и отпусти меня… Ехать надо… Я не беглый… Видишь: купец стародавний. Который год езжу. Впервой на таку беду напоролся.
— Што за беда? Еще полбеды… Гляди, не написаны товары сразу нашлись-таки: самоцветы да зенчуг… Все первосортное… Все ценное. Где одно было, еще нет ли? Уж не взыщи: поглядим, пошарим… Гей, што стал? Досмотри, Фомка, купца именитого. Помоги ему еще хто, коли одному не под силу со стариком справиться.
Второй казак кинулся на помощь. Старик стал бороться. Кафтан не выдержал, затрещал, полетели клочья. Обозленные пьяные казаки скрутили назад руки старику, связали их туго полотенцем, сдернутым со стола, и стали грубо обшаривать, не обращая внимания на то, что купец с пеной у рта топал ногами, кричал, осыпал их угрозами, бранью и проклятиями.
— Глотку, гляди, надорвешь… Шарь, шарь, робя… В кафтане… Ворот рубахи оглядывай… В подкладке, где чево не зашито ли? На кресте, на шнуре, на гайтане не подвязано ль?.. Ладонка? Пори ладонку… Ничего нет? Трава?.. Добро… Шарь далее… Чулки стащи… Там нету ли?.. Промок пальцами… Всюды гляди… Так… Не кричи, старичок… Не стыдись, мы не бабы, не сглазим…
Вдруг зоркий глаз Василия заметил, что одно плечо старика, случайно обнаженное в борьбе, обхватила крепкая розоватая шелковинка, почти сливающаяся с окраской кожи, он сам встал из-за стола, отвел от ребер левую руку Худекова, которую тот все прижимал поплотнее к телу, и, дернув под мышкой, вытащил оттуда небольшую ладонку, обшитую темной замшей.
Хрипло застонал старик, увидя ладонку в руках у грабителя.
— Стой… Сжалься… Отдай… Все бери… Деньги… товары… все… Еще прибавлю… Не раскрывай… Отдай… Не трожь… Царское добро то… Не смей… Самому царю везу, по указу… Вещь заветная… Не смей…
— Ой ли? А я такой уж смелый… Дай погляжу. Авось не ослепну!..
И быстро, ловко концом небольшого ножа подпорол Василий нежную замшевую оболочку, под которой прощупывался какой-то твердый предмет.
Прежде чем добраться до него, пришлось казаку развернуть листа три тончайшей китайской бумаги. И вдруг при лучах солнца, скупо проникающих сейчас в горницу, перед глазами у всех засверкал кровавым блеском огромный рубин величиною с голубиное яйцо, чудной воды и окраски.
Даже эти полудикари, ничего не смыслящие в самоцветах, поняли, что перед ними лежит камень огромной цены.
— Вот энто так товарец! — после некоторого молчания проговорил наконец Василий.
Нестеров, сидевший все время в конце стола и как бы безмолвно поощрявший действия казака, сейчас так и пожирал глазами драгоценный камень.
— Цены ему нет! — подтвердил он рвущимся от волнения скрипучим голосом. — Гляди, да он еще не простой, а со знаками… Заговоренный, видно… Гляди… Вот как талисманы бывают…
И прыгающим от нервного напряжения пальцем подьячий указал на одну из граней рубина, где ясно были видны начертанные кем-то два иероглифа {Судьба этого рубина довольно необычайна. Он попал в руки князя Гагарина, потом перешел к Меншикову, от него к Екатерине I и теперь украшает одну из русских корон. (См. «Обвинительный акт князю М. П. Гагарину»).}.
— Заклятый… заклятый камень, — быстро заговорил старик, словно обрадовавшись новой мысли, проскользнувшей в уме. — Не трожьте ево… Хто силом возьмет — на гибель себе возьмет… Кровью заплатит за красный камень… Кровью…
— Ничего… Видали мы ее, крови, немало. И своей и чужой. Не привыкать стать… Ты, чай, тоже не добром таку вещь у людей отнял… Хто отдаст? И не подумает!.. Царская вещь, подлинно… Царю ее и свезем…
И казак завернул камень опять в бумагу, достал свой кошель, висящий на груди, и стал укладывать туда сокровище.
— Эх, один конец! — вдруг как-то визгливо выкрикнул купец, на которого после обыска перестали обращать внимание и даже развязали руки. Быстрым движением ухватив нож, брошенный на конец стола Василием, он так и ринулся на грабителя и успел ткнуть его в плечо.
Измученный борьбой старик только прорезал кафтан Василия и поцарапал слегка кожу. Тот вздрогнул, ухватил руку с ножом и отшвырнул Худекова далеко прочь.
Казаки сначала было опешили, но сейчас же кинулись снова на купца. Он увернулся от них отчаянным порывом, тем же ножом полоснул себя по горлу и повалился на пол, громко хрипя и обливаясь кровью из широкой, хотя не и глубокой раны.
Казаки невольно отступили.
Савелыч и Нестеров подняли старика и при общем молчании унесли его вон из горницы, уложили снова в светелке на той же кровати, где он пролежал всю ночь.
Савелыч, как опытный знахарь, успел скоро остановить кровь и перевязать рану купца, впавшего в беспамятства и от волнения, и от сильной потери крови.
Пока они возились с Худековым, внизу шла целая оргия.
Василий Многогрешный, и без того опьяненный своей сказочной удачей, дал полную волю себе и своим товарищам. Стол уже был заставлен сулеями, жбанами. Притащили и бочонок с вином, который нашелся на возах у Худекова. Товары старика кучами сбросили с возов и стали делить между собой. Есаулу его часть принесли в горницу, отобрав лучшие меха и куски парчи, шелку, камки китайской.
Все женщины, какие нашлись в усадьбе, — и старая стряпуха, и одноглазая Наташка, и сама Василида с Софьицей, которую-таки разыскали казаки, — вынуждены были принять участие в разгуле насильников.
— Ау, девица! Ау, красная… Теперя не убежишь от меня! — привлекая на колени плачущую, трепещущую девочку, объявил Василий.
— Как же, красавчик, — заговорила Василида, желая хоть как-нибудь выручить сестру, — а меня уж никуды?.. А улещал, што тебе я больно по сердцу… Так не гоже… Пусти ее… Я к тебе подсяду лучше, слышь, желанный!
— Вот к им садись, к товарищам… Им тоже баба не помеха… Больно у вас насчет бабья круто на подворье. Вон у тех у обеих — всево три глаза. Да твоих два — выйдет пять… Берите товарищи…
И, толкнув Василиду прочь, он плотнее прижал к себе Софьицу. Казаки не заставили повторять предложения. Двое сейчас же овладели Василидой и наперерыв старались приласкать и «утешить» ее, «покинутую», как они говорили.
Василий, вконец потеряв самообладание, выведенный из терпения сопротивлением Софьицы, грубо кинул ее тут же на лавку и грозил, что свяжет ей руки, если она станет еще царапаться и кусаться.
— Пусти!.. Христом Богом тебя молю! — замолила девочка.
— Пусти ее… Не губи, — стала просить и Василида.
— Пущу, коли пора придет! — не обращая внимания на вопли баб, отрезал Василий и пьяными грязными губами прильнул к груди девочки, с которой успел сорвать почти всю одежду.
Неистово закричала Софьица и забилась в истерическом вопле.
Крик этот услыхал и Савелыч. Он кинулся вниз, инстинктивно захватив заряженное ружье, стоящее всегда наготове в светелке.
Распахнув дверь в горницу, он невольно отшатнулся назад, увидя, как зверски расправляются казаки с Василидой и Софьицей. Беззащитные, обессиленные, они только стонали и плакали, подвергаясь самому грубому поруганию от пьяных полудикарей.
Василий, возбужденный, весь пылающий, сейчас оторвался от Софьицы и, крикнув:
— Чей черед? — отошел к столу, где стал наливать себе чару меду.
Глаза Савелычу застлало туманом.
— Што ж энто кум не едет со своими?.. Што Митьки нету? — машинально прошептал он.
В то же время, словно против воли, навел ружье, грянул выстрел, и Василий, вторично раненный, но уж более серьезно, с проклятием повалился на пол.
Несколько казаков кинулись к окнам, словно желая бежать. Другие метнулись на выстрел к дверям, но попасть в них сразу не могли, так как густой дым заволок почти всю горницу.
Савелыч в это время, пользуясь суматохой, успел кинуться прочь и скрылся со двора.
Товарищи, уложившие Василия на лавку, перевязали ему кое-как три раны, нанесенные картечью в голову и в грудь. Остальной заряд, не задев никого, вошел в стену.
— Сыщите подлого старика, — прохрипел Василий, — зарубите ево! Да… Бабенку проучить надоть… Она подучила… И с девчонкой…
Еще что-то хотел приказать он, но не успел, потеряв сознание.
— Мы за есаула расплатимся! — грозя обеим перепуганным женщинам, крикнул старый седой казак с калмыцким лицом, подручный Василия, Федор Клыч. — На воз несем ево. Надо в город, к лекарям. Пусть отходят. А это чертово гнездо и со всеми, хто в ем, сожжем дотла!
— Сожжем окаянных! — подхватили остальные.
— Гляди же, ни с места, змея… И ты, — крикнул Клыч Василиде и Софьице, оглушая обеих двумя ударами кулака.
Затем пинком ноги оттолкнул девочку, которая, падая почти навалилась на него, и вышел из горницы.
Через четверть часа несколько возов выехало из ворот усадьбы. В крытом возке, на котором ехал прежде Худеков, уложили казаки Василия.
Рядом с ним сел Нестеров, заявивший, что он умеет лечить и кровь заговаривать. Купец и его племянник уместились на простом возу. Едва умолил парень не сжигать старика.
Все тронулись, когда заметили, что нет Клыча.
— Где Федька?.. Федька… Клыч!..
— Подождите. Иду… Тута надо еще… — отозвался пьяный дикарь из глубины двора.
Быстро пробежал он в горницу, где были заперты обе несчастные женщины.
— Говорите, суки: куды старик ваш убег? Не то, видишь?!
И он поднял высоко над головой Мосейку, которого разыскал на кухне, забытого, покинутого Наташкой, убежавшей в лес от близкой гибели.
Отчаянно вскрикнула Василида, кинулась к ребенку и вырвала его из рук казака.
— Не дам… Убей, не дам младенчика!
— Не дашь ли?.. Где сила?! — грубо вырывая снова ребенка, глумился казак.
Напуганный ребенок залился громким плачем.
— Ослеплю… Удавлю… Не дам! — вне себя, кричала Василида и кинулась на палача, стараясь вырвать одной рукой ребенка, а другой вонзаясь ему в глаза.
Софьица, сначала пораженная тем, что перед ней творилось, теперь тоже поспешила на помощь сестре, царапала, кусала разбойника, тащила из рук у него малютку…
— А, ведьмы… Вы так-то… Так вот же вам! — с пеной у рта пробормотал обозленный разбойник, отшвырнул от себя обеих, взметнул над головой ребенка… Миг — глухой стук, треск, как от раскола костей… И к ногам матери полетел мертвый ребенок с головкой, раздробленной об угол печи.
Не взглянув на обеих остолбеневших от ужаса женщин, палач быстро вышел и замкнул снаружи на засов двери.
Подожженная еще раньше казаками часть двора, где стояли стога соломы и помещался сеновал, уже стояла вся в огне.
Вскочив на последнюю телегу, ожидающую его, казак стегнул коней и укатил за всеми остальными.
Софьица, услыхав стук копыт по дороге, пришла в себя, кинулась к окенцу, выбила его и стала звать Василиду.
— Уйдем, сестрица… Сгорим… Слышь, как полыхает.
Но та стояла, подняв с пола ребенка, прижала его к себе и тихо баюкала, словно не замечая, что вся одежда на ней уже взмокла от крови, бегущей из раздробленной головки мальчика.
Вдруг дверь раскрылась. Дым ворвался в горницу, и среди дыму вошел Савелыч.
— Пробегайте скорее, покуль можно. Уехали все изверги…
— Нейдет она… Словно ополоумела… Мосейку ей убил казак… Она нейдет! — крикнула старику Софьица на ходу, быстро пробегая в сени, и вышла за ворота.
— Извели… И младенчика убили?.. Ну, ин ладно… Не я, так Господь им помстит… Он видит! — стиснув до боли зубы, пробормотал старик.
Осторожно взяв за руку сноху, он повел ее, повторяя:
— Идем, болезная… Идем… Уйти надоть… Сгорите обе…
И покорно вышла за ним Василида из избы, край которой стал уже загораться снаружи.
Часть третья
НОВОЕ ПО-СТАРОМУ
Глава I
ПРИЕЗД
Ранние непогоды и вьюги со снегами, бушевавшие надо всем необозримым простором северо-западной Сибири в первых числах октября, так же быстро пронеслись, как и налетели…
— Это молодик-месяц снегами обмывался! — толковали старики и старухи, увидя тонкий серпок новой луны, который вдруг заблестел на небе, то появляясь, то исчезая среди тяжелых, разорванных туч, быстро и грозно бегущих на запад от северного края небес, темного и холодного, как угроза смерти.
Еще на западе горели края этих туч, среди которых, садилось за далекими вершинами лесистых гор усталое солнце, а серп луны уже быстро стал подыматься в небе, словно желая подглядеть, куда уйдет-закатится багровый, пылающий солнечный диск.
И в эту пору, 6 октября 1711 года, выехал из Верхотурья на большом дощаннике новый «хозяин» Сибири, губернатор Матвей Петрович Гагарин. Целая флотилия меньших судов и лодок провожала его довольно далеко. Потом часть лодок и баркасов вернулась обратно; остальные, занятые свитой и багажом князя, следовали за передовым неуклюжим, но прочно построенным судном, какое и пригодно для плавания по быстрой, капризной Туре-реке и дальше, по многоводному Тоболу.
На этой передовой барке, кроме довольно тесного и душного помещения в рубке и под палубой, был устроен на средней палубе большой шатер, украшенный коврами, дорогими мехами. И вся барка была убрана красным сукном, а на мачте и на корме развевались по ветру расписные флаги с государственным гербом и с собственным, гагаринским, на котором красовались медведь, дуб и гагара.
После ненастья дни настали погожие, ясные; только по ночам мороз затягивал тонким ледком лужицы на берегу, оставшиеся после растаявшего снега… Красивые берега Туры, быстро катящей свои плещущие струи мимо скал, поросших лесом, сейчас были особенно живописны, когда листва чернолесья, смешанного с хвойными порослями, приняла всевозможные оттенки, от золотисто-желтого до ярко-красного, как кровавая листва на осинах.
Теперь, когда ветер стих и не шумел в прибрежных лесах, не разбивал с рокотом холодные волны реки о крутые скалистые берега, тишина царила вокруг. Кликали только запоздалые стаи перелетных птиц, быстро проносясь порою к югу высоко в небесах; в прибрежных кустах трещали сороки, посвистывали снегири и клесты… И, разрезая эту тишь и покой, громко неслись порою звуки военных гобоев, целого оркестра, который взял с собой Гагарин в новое место своего служения. Барка, на которой помещался оркестр, шла на некотором расстоянии от передовой, и звуки долетали сюда очень отчетливо, как это всегда бывает на воде, но в то же время смягченными и новыми казались они, словно их извлекали не из грубой «груди» деревянного гобоя, а из другого, более гибкого, музыкального инструмента.
Когда дорога, проложенная по правому, более ровному, берегу Туры и ведущая от Верхотурья на Туринск, Тюмень и Тобольск, подходила ближе к реке, на ней видны были небольшие отряды драгун, которые сухим путем сопровождали речной караван для большей безопасности. Лошади Гагарина и его экипажи были также отправлены вперед по берегу вместе с камердинером и несколькими слугами, чтобы приготовить как следует губернаторский дом к приезду князя. Но на одной из задних барок везли парадную карету Гагарина и его новую заграничную коляску, которых нельзя было пустить по ужасной дороге, соединяющей названные города.
А между тем на всем ее протяжении видны были целые толпы людей из соседних с трактом сел и городов. Ямские работники, посадские и слободские люди, пашенные и оброчные крестьяне, каждая артель на своем участке, чинили и чистили дорогу по указу великого государя и по приказу губернатора Сибири князя Матвея Петровича Гагарина для «проезду его губернаторского», для чего «довелося по большой летной дороге, по которой ставлены поверстные столбы, по грезям, болотам и баяракам мосты мостить самые добрые, гати чинить, а по рекам и по речкам для переправы сделать плоты»… Так писал из Верхотурья воевода, или комендант, по новому наименованию, Иван Иваныч Траханиотов соседнему, Туринскому, воеводе-коменданту Митрофану Алексеевичу Воронцову-Вельяминову. А тот дальше переслал указ до самого Тобольска через Тюмень…
В три сажени было наказано расчищать дорогу, но для скорости ее пока чистили в две сажени. И вдоль всего пути забелели новые «поверстные» столбы, причем преж-=няя, долгая, «сибирская» верста в тысячу сажен была поделена пополам, и таким образом вместо прежнего расстояния между Тобольском и Ворхотурьем, исчисленного в триста шесть верст, получилось «новых» шестьсот двенадцать верст. Вместо арабских цифр, как было раньше, Гагарин, любитель старины, приказал метить версты по-славянски, буквами.
Рабочие, завидя караван, сбегались толпами у самого берега, с поклонами и громкими приветами встречали и провожали барки. Гагарин тогда выходил из своего шатра и приветливо-снисходительно кивал им своей жирной головой. В Туринске, хотя и поздно, проплыли барки мимо городка, все население высыпало на берег приветствовать нового хозяина Сибири. И даже дремавшие в вечернем сумраке колоколенки местных церквей вдруг заговорили, ожили, залились веселым праздничным перезвоном, как бывает при встрече владыки митрополита или самого государя.
Гагаринская флотилия уже подплывала к небольшой приречной слободе, служащей летом пристанью для Тюмени, которая раскинулась подальше от реки, на сухом и лесистом ровном нагорье. Здесь, отделясь от каравана, поспешили вперед две-три лодки, чтобы пополнить запас печеного хлеба для свиты, запастись свежей рыбой и живностью для стола Гагарину. Быстро по течению неслись лодки, подгоняемые, к тому же, каждая четырьмя веслами, не считая кормового гребца-рульщика. И двух верст не отъехал караван вниз по реке от слободы, как лодки уже стали нагонять его, нагруженные провиантом, который заранее был там принесен по распоряжению передовых гонцов, едущих по берегу верхами.
Одна из этих лодок, вместо того чтобы пристать с кормы и зачалить себя веревкой к задней барке, на которой устроена была поварня и кладовая, опередила весь ряд судов и приблизилась к тому, где помещался сам губернатор. Кроме груза и трех гребцов на ней виден был еще четвертый человек, пассажир, который уселся на мешках, сваленных на дно лодки.
Как только лодка настигла дощанник, человек поднялся, замахал рукой и крикнул:
— Слово и дело государево за мной!.. Известить надоть самово государя-боярина, князя-воеводу Матфея Петровича Гагарина.
Калецкий, который вместе с несколькими другими лицами из ближней свиты князя стоял уже на корме, ожидая приближения необычайного пассажира, обратился к прапорщику Нефедьеву, заведующему военным конвоем губернатора:
— А надо его пусциц!.. Може, цо важно?.. Он нех тут бендзе… А я спрошу у князя…
Пока нежданного гостя подымали на палубу, Келецкий успел вернуться, получив распоряжение Гагарина.
— Нех пождет тут. И жеб един чловек стоял караулем… А я буду пытать, хто он есть. А потом и допущу его на очи губернатора.
Затем, обратясь к прибывшему, он спросил очень ласково, в то же время стараясь своими сверлящими глазами поймать взгляд юрких, бегающих глазок этого человека:
— А хто ж ты есть, пане?.. И цо маш за дело?..
— Ивашка, Петров сын, Нестеров, приказный от якуцкого воеводы господина Дорофея Афанасьича Трурнихта, посланный с двомя апонцами в столичный град Санкт-Питербурх к самому царю-государю-батюшке! — низко кланяясь, смиренным, сладким голоском доложил спрошенный. — Челом бью пресветлому господину моему… Как звать-величать, не ведаю… не взыщи, батюшке.
— Я есм близки секретариуш вельможнего князя-губернатора… Я слыхал про тех японцув… Про них же писано было аж до Петербургу… То об них, пан Ян… Неструф, хочешь вельможному господину губернатору слово молвиць?.. Где же ж те самы япанезы? Почему ж ты, пан, без них?..
— А так што, государь мой, милостивец, пан секретарьюш, оставил я тех моих апонцов в городу в Тобольске до приезду государя-батюшки, князя Матфея Петровичева. Как их милость соизволят… Сейчас в Питер везти али погодить… А слово мое не до них касаемое… а самое великое и тайное!.. И самое поспешное!.. Уж поизволь, сделай милость, сдоложить о том его княжеской милости… Я для скорости да ради тайности и не стал дожидаться в городу приезду ево высокой чести, наустречь поспешил… И уж не погневись, ваша милость секретарская: акромя самого князя-милостивца никому своих речей поведать не могу…
Еде раз внимательно оглядел Нестерова Келецкий, пожал в раздумье плечами и проронил неохотно:
— Добже… Пожди мало, я пойду доложу…
— Уж не взыщи… уж потрудись ради дела государева, не ради меня, раба твоего, холопишки последнего! — часто кланяясь, причитал приказный вслед Келецкому, пока тот не скрылся за шатром.
Гагарин, захваченный неожиданным появлением приказного и заявлением о тайном деле государственной важности, приказал немедленно привести Нестерова в шатер.
— Только раньше пошарьте у него, не припрятано ль чего по наущению врагов моих, чтобы повредить мне! — приказал князь. — Небось, и прежний воевода Тобольский, и все злодеи государевы, воры и расхители казны рады много дать, чтобы я не доехал до Тобольска, не обрушил кары и мзды на ихние головы… Знают, что еду «чистить» воровское их гнездо…
Приказ был исполнен точно и усердно; и когда минут через десять Нестерова втолкнули в шатер, так, что он почти кубарем подкатился к месту, где на низенькой тахте, устроенной вместо постели и устланной мягкими собольими и бобровыми мехами огромной цены, как в теплом гнездышке, полулежал и нежился после завтрака князь, затягиваясь трубкой, на бедном приказном весь наряд был в полном беспорядке. Он одной рукой его одергивал и оправлял, а другой старался получше натянуть на ноги свои пимы, потому что и за голенища этих мягких теплых сапог заглянули два казака, которые и сейчас стояли у поднятой полы шатра, зорко следя за Нестеровым.
А юркий человечек ухитрялся в это самое время усердно отбивать земные поклоны перед Гагариным и умильно причитал:
— Светлейший, всемилостивейший государь-милостивец, яснейший князь-воевода, свет Матфей Петрович, раб твой последний, холоп Ивашка челом бьет!.. Не вели казнить, вели слово молвить!
— Мне он сказал, — кивнув на Келецкого, стоящего у тахты, лениво заговорил Гагарин, — ты японцев провожаешь к царю… Где они теперь… в Тобольске?.. Почему ты их там оставил?.. И что хочешь мне поведать, какое слово государево… Сказывай.
Нестеров, не вставая с колен, ближе придвинулся к князю и, косясь на казаков, стоящих позади, пробормотал еще внятно:
— С глазу бы на глаз надоть… дело великой тайности… Тебе одному да Богу! Вот, видит Господь!..
И он стал часто-часто осенять себя широким крестом. Переглянувшись с Келецким, Гагарин обратился к нему по-французски.
— Он, сдается, совсем не опасен… Пусть люди уйдут. А ты останься.
Казаки скрылись по знаку Келецкого.
— А мой лекарь и секретарь тайный не уйдет! — решительно обратился к приказному Гагарин, видя, что тот с тревогой ждет ухода Келецкого. — Что я могу знать, то и он может. Самое важное дело… Говори!..
— Ох… изволь… О-ох, лучше б… Да уж коли твоя милость, господине, так желает… Я уж…
— Ну, не мямли! — нетерпеливо окрикнул князь. — Дело толкуй, за чем пришел…
— Единым духом, твое светлое сиятельство. Единым духом. Только духу дай набраться. Впервое пред такой высокой особой привел Бог предстать, — тараторил Нестеров, а сам словно обыскивал глазами вельможу, соображая, в каком он сейчас настроении, и что он вообще за человек, и как лучше приступить к важному делу, которое могло принести и счастье и несчастье приказному, как он это давно смекнул своим сметливым умом.
Уловив новую тень неудовольствия на полном, румяном после сытного завтрака с винами, лице князя, Нестеров весь так и дернулся, словно взлететь хотел с земли, осел снова на пятки подогнутых под себя ног и заговорил. Он подробно передал свою встречу с есаулом Многогрешным и его шайкой объездчиков, вернее грабителей. Особенно расписал находку камня редкой красоты и несметной цены.
Как только речь зашла о рубине, Гагарин насторожился и даже переменил свою позу, сел по-восточному на тахте, забыв свою трубку с душистым табаком. Заискрились глаза и у Келецкого, нервно заходили ноздри его тонкого, длинного носа.
Но Гагарин прямо загорелся от рассказа приказного доносчика. Все знали, что, наряду с женщинами, чуть ли даже не сильнее, чем их, князь любил драгоценные камни. Начал он их собирать еще в юности, потом, восемнадцать лет тому назад, в 1693 году, попав воеводой в Нерчинск, близко к заветному Китаю, откуда вывозились самые редкие самоцветы, он пополнил свое собрание и продолжал обогащать его, так что теперь в России не было равного ни у кого, не считая, конечно, царских сокровищниц.
Поэтому, услыхав о рубине сказочной величины, да еще не простом, а «заклятом», т. е. талисмане, князь не мог сдержать своего волнения, несмотря на выразительные взгляды и покашливанье сдержанного Келецкого, который следил все время за доносчиком и чуял, что с ним надо быть очень настороже.
— Так, так. Видимое дело: царский клад. Ты прав, Иван. Иваном тебя звать? Ты прав. Ты приказный? Едешь в Петербурх? Ну, там награду получишь за свою службу, когда отвезешь этих апонцев. А потом ко мне возвращайся. Я тебе хорошое место дам у себя. Я умных людей люблю. Ты умно сделал, что прямо ко мне, что никому. А где же теперь этот разбойник, Васька-есаул? Он, чай, не подумает везти государю камень. Продаст его за великую цену кому ни на есть. Ранен он, ты говоришь? А купец этот где, у которого он отобрал? Говори же. Что молчишь? Какой ты нудный!.. Живее!..
— Вот как есть про то и хочу доложить твоей милости! — чувствуя уже себя совершенно свободно, присев теперь на корточки на ковре у тахты, деловито начал Нестеров, отбросив прежний умильно-рабский тон. — Купец-то не доехал и до Арамильской слободы… Крови он много потерял от пореза, оттого и помер. Прикащик, племянник евонный, с возами да с товарами еле упросился у Васьки-разбойника… На икону божился, что жалобы не донесет… И с остатками товара неограбленного отпустил ево Васька на Верхотурье… «Ежели, — сказывал ему, — ежели ты помянешь про нашу стречу, быть тебе под кнутом и ноздри рваны, и все отберется, потому вы с дядей твоим вместе закон порушили самый строгий, обводные товары, запретные государевы воровски везли, нигде не объявляя. А за ту вину — смертная казнь, сам знаешь!» Так парню толковал Васька. А парень и сам знает, что все правда! Рад, што сам цел и жив… Тихо до дому доедет… Скажет, што от хвори дядя помер в пути…
— Ну… ну… А этот… Васька где… и камень?..
— И Васька тута… и камень с им! — почти шепотом заговорил Нестеров. — Меня он с апонцами как отпускал к Тобольску, при мне нарошно своему близнему казаку Федьке Клычу приказывал… Мол, «я недужен, так бери от меня государев клад и свези царю-батюшке. Чем он тебя да меня пожалует, то и ладно»!.. Так он молвил… И при мне Клыч этот с тремя товарищами словно бы в путь пустился… А я — на Тобольск… А Васька тут же недалече пристал… в Салдинской слободе… Самая она разбойная слобода тута словет…
— Знаю, знаю, ну?..
— И поп тамо, на Салде… Отец Семен, всем ворам и разбойникам потатчик и заводчик. Почитай, толкуют, и притон у нево воровской… Слышно, што и прислан он был сюды из-под самова Киева не то на приход, не то в ссылку за дела за разные нехорошие… И с женкой, и с дочкой, лет семнадцать, почитай, уж будет… не то двадцать все…
— Знаю, знаю… Слыхал я про этого попа, когда еще сам в Нерчинске сидел… И в Тобольске проездом бывал… Так, ты говоришь, у него кроется этот Васька?
— Не то штоб у ево самово… А есть на погосте на салдинском… усадебка невелика, вдова тамо проживает, ошшо не старуха… И просвирня она у попа Семена, а иные бают, што и за жену… Потому овдовел теперь поп-то… А баба нужна… А у той женки, у Панфиловны, слышно, и корчма водится, и девки гулящие живут… Даже из Тобольску к ней заезжают люди, до блуду охочие и до вина, особливо из духовенства… Словно бы в гости к попу Семену… А замест того — дым коромыслом идет у вдовы… у Панфиловны…
— Ну… ну! — нетерпеливо понукал Гагарин доносчика, вошедшего во вкус со своими разоблачениями.
— Так вот в байне у Панфиловны и притулился тот Васька-вор… И шведа-лекаря к нему звали… И тот самый казак, который словно бы в столицу поехал клад государю отвезти, туды же вернулся скорехонько… и с товарищами… Я все сведал… Сам словно нищий пришел, подвязался, в отребья приоделся… да от других нищих все узнал. Их за людей не считают, от них ничего не кроют… Нищие-то все и знают, што где деется, по дворам шатаючись… Да ошшо ребятенков я выспрашивал, што на дворе у Панфиловны… Дашь им сосулечку, альбо паточник… Они тебе все и несут, — сияя от своей находчивости, докладывал добровольный сыщик. — Вот я и прознал за наверно, што Васька тамо и, стало, камень-самоцвет при ем. Вестимо дело, пока жив, он ево не то Клычу, отцу родному не поверит ни на миг единый!..
— Ну, конечно! Ну, разумеется, — невольно вырвалось сразу у Гагарина и его врача-секретаря.
— Вот я и кинулся к тебе, государь-милостивец!.. Пока не оздоровел да не ушел Васька-вор, изловить ево надоть и отнять клад-то! Неужто ево неумытому рылу такими миллионами владеть?! — с искренной завистью и злобой вырвалось теперь и у доносчика.
— Нет! И быть тому нельзя! Я не позволю того! — быстро, решительно отозвался Гагарин.
— То же есть царска регалия… Потребно и сдать ту вещь его царскому величеству! — дополнил умный Келецкий решительное, но двусмысленное заявление князя.
— Да… Конечно, надо государю! — подтвердил тот, поняв поправку секретаря. — Ну, пока ступай, голубчик… Скажи, чтобы тебя там покормили, вина дали… Ты, вижу, устал… Наверное, голоден!..
— Второй день, почитай, маковой росинки во рту не было… Сломя голову гнал, тебя бы на пути перенять пораней, государь мой, милостивец! Ваше княжеское сиятельство!.. Тут только подъезжаю к слободе, а твой караван и вот он… Я в лодку прыг и челом добил тебе, батюшко, кормилец!..
— Еще раз спасибо за верную и усердную службу!.. Ступай… А мы тут подумаем, как без шуму да повернее изловить этого разбойника-душегубца Ваську и головорезов его… Ступай…
С земными поклонами, пятясь спиной к выходу, выкатился из шатра Нестеров. Келецкий вышел за ним, дал приказ накормить нового члена свиты и обращаться с ним хорошо.
А Гагарин, усталый от допроса и пережитых волнений, протянулся на своей тахте, снова раскурил полупотухшую трубку и замечтался о неожиданной находке, о дивном рубине, который посылает ему судьба при самом вступлении в обладание Сибирью. Конечно, он и не подумает отослать камень Петру, если только рубин попадет в руки его, Гагарина.
«Это доброе предвещание на пороге новой жизни!» — подумал он, потягиваясь на своем мягком, теплом ложе, поправил подушки, лежащие под головой, затих и стал прислушиваться к журчанию и плеску быстрых волн, ударяющих о бока барки, к легкому свисту и шуму ветра в снастях мачты, на которой был поднят парус, благо ветер попутный, в корму… И прислушиваясь к этим звукам, убаюканный ими, князь сразу заснул. Келецкий, осторожно заглянувший минут через десять в шатер, увидел сомкнутые глаза, услышал глубокое, ровное дыхание, осторожно опустил полу шатра и приказал окружающим:
— Же б было тихо! Князь почивать изволит!..
И до того полный порядок и спокойствие царили на барке, а теперь совсем замерли, притихли люди. Даже здоровяк лоцман у рулевого штыря стал осторожнее двигать тяжелое, скрипучее правило… Только шум ветра и плеск воды о борты судна по-прежнему нарушали тишину, баюкая задремавшего вельможу.
А Келецкий, оглянувшись, видя, что все в порядке, прошел в жилое помещение барки, защищенное от ветра и непогоды и теперь тоже богато убранное сукном и коврами. Здесь сидели у небольшого окошечка, затянутого слюдою, две женщины, единственные во всей ближней свите Гагарина: его «экономка», панна Анельц Ционглинская, стройная, полная женщина среднего роста, лет двадцати двух с белой кожей, с нежным румянцем на щеках. Две тяжелые косы каштанового цвета спускались по спине. Лицо ее нельзя было назвать правильно красивым: черты его были не совсем соразмерны и слишком крупны для женщины. Но общее выражение затаенной страсти, веселья и игривой ласки постоянно лежало на этом лице, крылось в углах губ полного, пунцового рта, искрилось в больших, слегка на выкате, темно-синих глазах, зрачки которых, расширяясь в минуты оживления или страсти, делали их совсем черными… и это выражение, эта затаенная чувственность и женственная покорность, написанная на лице, влекли к панне Анельце мужчин больше, чем влечет холодная красота других женщин. Сейчас «экономка», вернее, одна из постоянных наложниц князя, что-то плела тонким крючком слоновой кости.
Против нее, по другую сторону небольшого столика, покрытого тяжелой шелковой скатертью, сидела старая фаворитка, француженка — «лектриса», как она числилась по штату, m-lle Алина Дюкло, и, гадая заграничными, красиво разрисованными картами, раскидывала их на всяки лады, выкладывала из них разные решетки, колеса, подобия ромбов, шестиугольников и других математических фигур, беспрерывно считая, пересчитывая карты и нашептывая какие-то таинственные слова, похожие на заклинания.
Полька с большим интересом следила за действиями своей подруги, с которой жила очень мирно, как мирно порою уживаются в гареме разные жены одного паши.
Как и можно было ожидать от избалованного, причудливого во всем, сластолюбивого князя, его «лектриса» представляла полную противоположность панне Анельцеа «экономке».
Живая, маленькая, нервная, пухленькая, но казавшаяся худощавой благодаря породистой стройности и гибкости стана, с детскими ручками и ножками, с невинным личиком монастырской пансионерки, с звонкой и быстрой речью, с причудливой волной золотисто-рыжеватых кудрей, она казалась созданной из огня и блеска рядом с положительной, медлительной немного в движениях и словах пышной и женственной сарматкой.
Но все это было только внешностью девушки, которая успела в галантном Париже конца XVII века пройти всю школу страстей и разврата, попав в водоворот любовных приключений еще девочкой одиннадцати лет, и в течение семи-восьми лет, пока она очутилась в доме Гагарина, вполне завершила свое многостороннее «образование» приличной распутницы, творящей крайние мерзости под маской гувернантки, модистки, лектрисы, а не явно, как это делают менее сообразительные остальные развратницы, уличные проститутки и явные кокотки.
Мечтой мадемуазель Алины было составить себе хорошее состояние, вернуться на родину, выйти замуж за какого-нибудь бравого военного и дожить в почете и довольстве остаток жизни. Но излишняя нервность порою выбивала из колеи расчетливую содержанку, и она гораздо медленнее приближалась к заветной цели, чем могла бы по своим внешним данным и по тонкому, холодному уму, который светился в ее серых, стальным блеском отливающих глазах…
При входе иезуита обе женщины оживились. На обеих он влиял как мужчина, но различным образом. У панны Анельци к чувственному вожделению примешивалось полное, благоговейное обожание Келецкого как патера и наставника. Она одна знала, что Келецкий — лицо духовное, тайно исповедовалась ему, получала отпущение грехов и тут же заново грешила и со своим исповедником, и с Гагариным, и еще изредка с другими, кто умел повлиять на пылкое и чувствительное сердечко панны. Келецкого она обожала до того, что без раздумья совершила бы по его слову какое угодно преступление, не пощадила бы чужой и своей жизни.
Француженка относилась к нему не так.
Правда, она не знала наверное, кто такой этот всеведущий человек, врач, секретарь, начитанный правовед и богослов, который порою вступал в споры и побеждал самых прославленных, начитанных православных попов и светских любителей Священного писания, каких много было в русском тогда обществе…
Она не задавалась вопросом, как и чем умеет влиять тихий, незначительный, чужой наемщик на причудливого, избалованного, самовластного Гагарина, на Анельцю, на нее самое, на всех в доме. Француженка не допытывалась, какие тайные пружины и цели мешают сдержанному, гладко выбритому, услужливому человеку, общему любимцу и поверенному, что ему препятствует использовать это огромное влияние для скорейшей наживы… Почему он так скромен в своих аппетитах и желаниях, так нестяжателен, почти бескорыстен?.. Отчего старается всех обязать, всем услужить и сам почти не требует взамен услуг, уступок или выгод, тайных и явных?..
«Наверное, недаром он прикидывается таким святошей!» — решила француженка и успокоилась на этом.
Влекло ее другое к иезуиту: общность душ, убеждений или, вернее, отсутствие всяких убеждений, презрение ко всему, что считается обычным, обязательным и даже священным для большинства людского «стада»!
Так и Келецкий и Алина называли окружающих, и на этом они сошлись. Себя они тоже не считали выше окружающих, а только умнее.
И если иезуиту приходила блажь пережить острые ощущения самого извращенного распутства, он осторожно прокрадывался ночью или днем в комнату «лектрисы» и после оргии уходил, весь потрясенный, почти убегал от этой ненасытной вакханки, испытывая стыд и отвращение в душе, но в то же время довольный, что он мог дерзнуть на то, на что дерзнет не всякий… Жгучие ощущения садизма и извращенной похоти казались патеру привлекательным, как грех, и такими же преступными. А он решался на преступление… И, успокоенный, снова надолго избегал заглянуть в комнату «лектрисы». Но она спокойно относилась к таким перерывам. Правда, редкие, мимолетные ласки очень чувственного, но изношенного Гагарина, только разжигали огонь в этом маленьком, хрупком на вид, но неутомимо-чувственном теле француженки, не давая ни малейшего разрешения ее ненасытным желаниям;
Но Алина сумела устроиться в этом отношении, действуя очень осторожно и ловко.
Ни один из тех, кто окружает князя, ни знакомые, ни чиновники, ни даже многочисленные приживальщики — словом, ни один человек из «общества» не мог бы похвастать малейшим знаком расположения со стороны детски чистой на вид, по-мальчишески резвой и беззаботной девушки. Гагарин даже предлагал желающим большие пари, обещал уплатить крупные суммы, если они сумеют «подкатиться», как он выражался, к его малютке Алиночке.
Девушка понимала, что эта кажущаяся чистота и строгость нрава привязывают к ней Гагарина сильнее, чем ее женские прелести, и те вялые ласки, на какие был он еще способен, несмотря на свой далеко не старый возраст.
И ни одна сплетня, ни один двусмысленный намек не мог прозвучать о ней в том кругу, где вращалась она и сам Гагарин.
Но зато сильные, красивые слуги князя, его конюхи, форейторы, лакеи, особенно молодые, не испорченные парни, быстро знакомились с альковом «чистой» и робкой «лектрисы».
Тут она давала полную волю своим вечно сдавленным, кипучим желаниям, ненасытным, извращенным страстям… И при этом была вполне уверена, что никто не узнает ничего. Одно слово со стороны соучастника — и его, конечно, первого постигнет жестокая кара за попытку соперничать с самим князем. Кнуты, ссылка, солдатчина — это самое легкое, что ждало дерзкого раба, сорвавшего запретный плод с того самого куста, с которого порой лениво срывает яблочко, тронутое червем, рука их вельможного господина.
Эти грубые, но здоровые парни, их сильные объятия и могучие ласки были для француженки насущной пищей на том пиршестве любви и страстей, какою считала она земную жизнь. Келецкий являлся острой приправой к этому сытному столу, а Гагарин служил как бы неприятным добавлением, которое надо порою глотать, чтобы иметь в избытке все остальное, приятное и желанное, все мучительное, но такое сладкое, от которого и потом долго горела голова девушки, пылали щеки и громко стучало в стальные планшетки высокого корсажа, предназначенного, чтобы лучше сохранить девственные формы нежной груди француженки.
Усевшись между обеими, Келецкий обратился к Алине.
— Гадаете, очаровательная… Ну, что же выходит?..
Француженка стала ему толковать расположение карт, хотя он прекрасно знал все способы гаданья и даже учил им обеих женщин.
А экономка в это время негромко, словно про себя, проговорила по-польски:
— И как это скучно, если два челорека говорят, а третий не понимает…
— Что же делать! — с ласковой улыбкой обернулся к ней иезуит, услыхав тихий, ласковый упрек. — К сожалению, Алина по-нашему, по-польски, не говорит. А по-русски вы обе плохо изъясняетесь…
— Што… што! — вмешалась Алина, уловив слово «по-русски». — Я панимай на рюсь. Я не кавариль карашо… Только всо панимай. Мошна кавариль…
— Не, не, не! — заторопилась Анельця, видя признаки неудовольствия на лице своего идола. — Прошу говорить по-французски. Я же тоже понимаю… Это я так!..
И мирно потекла беседа, а барка все дальше и дальше скользила, уносимая вперед быстрым течением Туры…
Прошло уже три дня однообразного, медленного плавания. Караван наконец вступил в русло широкого, но тоже быстрого Тобола, и к концу пятого дня забелели вдали зубчатые стены, зазолотились маковки пятнадцати церквей Тобольска, этой тогдашней столицы Сибири, расположенной на правом высоком берегу Иртыша, где небольшая речка Курдюмка впадает в многоводный Иртыш с востока, почти напротив Тобола, впадающего сюда же с юго-западной стороны.
Четко обозначился город на высоком мысу с его валами, темнеющими впереди белых стен, с башнями и бойницами на стенах. Высоко поднялась над другими большая каменная палата, построенная над главными воротами крепости недавно при помощи пленных шведов, мастеров, которые очень много очутилось в Сибири и преимущественно в Тобольске после начала Шведской войны.
Здесь и прокормить дешевле стоит пленников, и бежать им отсюда почти невозможно. Да и много пользы могли они принести своими знаниями в новом полудиком краю. Это больше всего принял в расчет Петр, посылая сотнями и тысячами пленных шведов, эстов, ливонцев, финнов сюда со всеми их чадами и домочадцами. Опустелые мызы и дома заселялись в завоеванном краю русскими посельщиками, а сосланные в Сибирь пленники здесь заводились наново, устраиваясь удобно на просторе, находя широкое применение для своих знаний и способностей в окружающей неразвитой среде и невольно прививая свои привычки и способы культурного общежития наивным, но смышленым и способным сибирякам-старожилам.
Так как здесь было слишком далеко от других государств, не считая степных, буддийских и магометанских князьков, опасаться измены со стороны пленных шведов и немцев нельзя было, и их принимали даже на городовую и военную службу, не говоря о том, что они являлись по преимуществу и лекарями, и рудознатцами, и инженерами — строителями крепостей, и архитекторами…
Кроме крепостных стен и нескольких церквей, в Тобольске пока было немного каменных зданий. В Кремле, еще не отстроенном, а только намеченном, высился губернаторский «дворец», такой же неуклюжий, казармообразный, как и губернская палата или канцелярия губернатора, как магистрат, «частный» дом и Гостиный двор, с «важной», особой палатой, где взвешивались и учитывались привозные товары, и с длинными амбарами для склада товаров. Все это выглядело прочно, безвкусно и плоско, так как при постройке принималось во внимание сбережение времени, труда и кирпича, думали только о необходимом просторе для помещения, а не о внешнем виде жилища.
Особняком стоял еще один, последний, каменный дом столицы — «архиерейские палаты», кроме главного дома, состоящие из большого количества сараев, кладовых, людских и келий, поварен и амбаров, построенных частью из кирпича, частью из вековых сосен и лиственниц. И потому даже деревянные постройки митрополичьего двора казались рядом небольших «городков» или крепостцами, поставленными здесь и там на пространстве земли около полутора десятин, которое занимала архиерейская усадьба.
Самый же Тобольск со всеми посадами и пригородом был построен из дерева. В эту пору в нем насчитывалось тысячи две дворов, с населением около пяти тысяч, считая русских и туземцев-мусульман, у которых даже было построено свои две деревянные мечети в том углу города, где они селились особым мирком. Больше двух тысяч драгун и солдат также имели квартиры в самом Тобольске и по окрестным посадам, слободам и деревням.
Но это был люд пришлый, не имеющий своего угла. Иные роты уходили на охранную службу в крепостцы и городки по Иртышу, в разные концы огромной губернии, другие возвращались оттуда на отдых; являлись новые кадры по набору или присланные из разных краев Сибири. Проезжали еще через город целые караваны и обозы торгового люда из России, направляясь и в дальний Китай, и в Калмыцкие степи, и в Якутск, а также тянулись изо всех этих концов на Туринск и Верхотурье по пути в Россию.
Еще в 1704 году Петр прислал строжайший указ, чтобы под страхом смертной казни никто не мог выезжать из Сибири в Россию или из России в Сибирь иначе, как через Верхотурье. Здесь была устроена главная таможня и досматривались все товары, с которых полагалось брать пошлины, и довольно высокие, в царскую казну.
И потому, начиная с осени и всю зиму, когда замерзали реки и болота, когда «баяраки», т. е. буераки и овраги, заносило твердым настом снега и открывался почти прямой легкий путь между городами, целые длинные вереницы обозов тянулись со всех концов к Тобольску; а уж ближе к Верхотурью, к этим «узким вратам» Сибири, обозы прямо запружали порою путь, и медленной, широкою волной, потоком лошадей, верблюдов, саней, кибиток и людей все это катилось через Верхотурье к селу Ростесу в Соликамском уезде; и только в пору большой Ирбитской ярмарки часть общего потока на время вливалась в этот небольшой городок, вернее, в торговую слободу, окруженную высоким, крепким частоколом и «надолбами», т. е. заборами, чтобы, как гласил указ, присланный из Сибирского Приказа на Москве, «и приезжим торговым и сибирским, всяких чинов людям, не явясь к таможне и не заплатя пошлин, из той ярмонки уехать было невозможно. А ежели такие люди в поимке будут, тем людям чинить жестокое наказанье, а те их товары брать на нас, великого государя, бесповоротно».
Те же суровые кары применялись и в остальных городах Сибири, через какие приходилось следовать торговым людям. Но строгий закон применялся очень редко, хотя нарушали его почти все. Он служил только средством наживы для бесчисленных начальников, начиная от воевод и кончая последним приказным, или ратушным писцом, или казаком-объездчиком, который мог остановить каждый воз, осмотреть его и в случае обнаружения контрабанды должен был представить товар и хозяина в таможню или в комендантский Приказ.
Стоило откупиться торговцу, и он провозил сколько угодно товаров, платя за них в таможню для виду едва лишь десятую часть высоких царских пошлин, мог вывозить и привозить запретные товары, которые по закону надо было сдавать в таможенные, царские кладовые, получая за них сравнительно невысокую, ниже продажной, цену. А казна уже от себя вела торг этими лучшими запретными товарами, получая от такой монополии доход, равный почти тому, какой давал винный и пивной откуп.
С октября обычно начинался большой торговый приезд к Тобольску. И потому, когда на пятый день под вечер разукрашенная барка Гагарина причалила у города, когда разом зазвонили колокола всех церквей и городское духовенство с митрополитом Иоанном во главе, все власти тобольские, все воеводы главнейших сибирских городов, нарочно созванные в Тобольске к этому дню, явились встретить нового губернатора, особенно большие толпы народу темнели по всему берегу, за рядами драгун, солдат и местных казаков, выстроенных шпалерами от берега и почти до самого собора. Громкими криками встретила толпа Гагарина, который, весело улыбаясь, приветливо кланялся во все стороны.
Приложившись ко кресту и почтительно приняв благословение митрополита, Гагарин поцеловал ему руку. Вся свита затем, начиная с Келецкого и обеих женщин, также исполнила этот обряд. Чтобы не оскорбить религиозного чувства окружающих, и патер иезуитов, и неверующая француженка, и ярая католичка Анельця принуждены были выполнять чуждые им обычаи.
Приняв доклад коменданта, Гагарин поздоровался с почетным караулом и войсками, стоящими вдоль его пути. Громкий дружный воинский ответ прорезал нестройные, перекидистые крики народные. В то же время над головами толпы высоко в воздухе грянул двойной удар, словно ухнули две гигантские груди:
— У-у-х-пах-пах!..
Это две пушки, стоящие на стенах, над воротами, дали салют. И сейчас же две другие пушки, поменьше, выставленные перед самыми воротами, отозвались более высоким, звонким ударом. Отголоски выстрелов и дымки, клубами выкатившиеся из пушечных зевов, разносились и таяли на просторе речном, тонули в чащах лесных, подбегающих к берегам Иртыша и Тобола.
Кони драгун и казаков, непривычные к пушечным залпам, дернулись, заплясали под всадниками, которые их сдерживали твердой привычной рукой. Женщины, дети в толпе вскрикнули от неожиданности и испуга. Но сейчас же все успокоились, и дружный залп мушкетов, грянувший за пушечным, ударами тысячи бичей прорезавший холодный ясный воздух, уже не встревожил никого, только пробудил многоголосое лесное вечернее эхо.
Дождавшись очереди, выдвинулись вперед городской и земский головы в сопровождении кучки местных и наезжих торговцев. Отвешивая земные поклоны, приветствовали они князя, поднесли хлеб-соль на тяжелом серебряном блюде и целый ворох отборных мехов, сибирских и восточных дорогих товаров, изделий, тканей на много тысяч рублей.
Ласково встретил выборных Гагарин, поблагодарил за дары и обещал принять самое живое участие в их положении и делах.
— Знаю, очень тут обижали вас злые, жадные людишки. Да мы постараемся все поналадить!
Обрадованные, сияющие отошли купцы и только сетовали между собою, что «малыми дарами» били челом такому милостивому новому хозяину края и их судьбы.
Наконец встреча у реки закончилась. Войска свернули свои развернутые ряды и поспешили к собору, где должно было совершиться торжественное богослужение. Набатчики ударили в барабаны, и под их мерную дробь быстро и довольно стройно зашагали роты. Конница была уже далеко впереди.
А у реки крестный ход снова построился прежним порядком и торжественно, медленно, с митрополитом и Гагариным во главе, двинулся за войсками при пении хора, под перезвон колокольный. Сзади духовенства и властей гражданских шел почетный караул, а затем, теснясь еще позади и по бокам, тянулись толпы от реки к собору посмотреть, что будет еще там.
В ожидании шествия в ограду храма и в самый собор не пускали никого, чтобы не было давки. Казаки цепью стояли у входов и вдоль ограды, чтобы через нее не перелезали смельчаки-зеваки.
Только небольшая толпа почетных граждан, стариков, слабых и особенно женщин, которые не хотели попасть в давку у реки, — эта кучка народу, разряженная в лучшие одежды, стояла у паперти собора, внутри охранной цепи казаков.
Когда духовенство и главное начальство, следующее за Гагариным и Иоанном, прошли в храм и заняли там свои места, первыми вошли за ними эти избранницы и избранники, причем женщины по обычаю заняли левую сторону и в первые ряды уставились те, чьи мужья занимали самое важное положение в городе.
Почти все они одеты были «по регламенту» Петра, по-немецки, только на старухах темнели прабабушкины кики и повойники и тяжело обвисали широкими складками шубейки, однорядки, телогреи, под которыми надеты были старинные сарафаны, уродливо опоясанные под мышками.
Церковь сияла огнями, как на Пасху. Были зажжены все толстые, «ослопные» пудовые свечи, все лампады… А когда пустили народ, у каждой иконы засверкали сотни маленьких, «местных» свечек, вставленных в «свещники» или просто прилепленных у подножия иконы к бортикам лампад и подсвечников, в которых горели «ослопные» свечи-великаны.
Но постепенно, по мере того как переполнялось все помещение собора, от жаркого дыхания пятисот человек, одетых в теплые одежды, воздух стал густеть и свечи, лампады горели все тусклее… Язычки пламени, раньше золотисто-желтые, стали казаться красноватыми. Лица у всех краснели, залитые потом…
Вокруг возвышенного места, приготовленного для Гагарина, направо у самого амвона и перекрытого ковром, как и митрополичье, было немного попросторнее.
Во-первых, военное и гражданское начальство, стоящее кругом губернатора, старалось оставить свободным небольшое пространство вокруг этого заветного места и свирепо оглядывалось на тех, кто, стоя позади, решался хотя бы невольно, под общим натиском, продвинуться ближе, чем следует. А кроме этого и сама толпа всеми силами сдерживала свое общее ритмическое колыхание с таким расчетом, чтобы не стеснить группы начальства с «самим» во главе.
И князь стоял на виду у всех, в расшитом золотом парчовом кафтане, в шелковом камзоле и штанах, с орденами, усыпанными бриллиантами, опираясь на трость, тоже сверкающую драгоценными каменьями. Пышные кружевные манжеты и жабо, в которых тонула голова, дополняли наряд нового губернатора, который казался особенным человеком среди остальной своей свиты в темных, нескладных кафтанах, в грубых мундирах и тяжелых сапогах или башмаках.
Сильная жара и духота быстро утомили Гагарина — человека тучного, со слабым сердцем и с признаками отдышки, растущей что ни год. Лицо его, сперва красное, даже явно побледнело. Он грузно облокотился на аналой, стоящий перед ним.
Торжественное архиерейское богослужение, поражающее своим великолепием и блеском тоболян, не занимало князя, который видел блеск московских и питерских богослужений.
Очень верующий, даже склонный к старинным формам и обрядам церкви, он не придавал в то же время большого значения таким официальным службам и, помолясь про себя сначала и поблагодарив Бога за свое благополучное прибытие, стал разглядывать окружающих, особенно толпу богато разряженных женщин, старых и молодых, пестреющую совсем напротив него.
Еще раньше, воеводствуя в Нерчинске около семи лет, то есть до 1700 года, Гагарин бывал в Тобольске проездом в Москву, гостил здесь и, как женолюб, особенно приглядывался, изучал тоболянок, имел много приключений и в этом городе, как во всех других, куда ни попадал хотя бы на короткое время.
И сейчас ему забавно было видеть знакомые лица прежних красавиц, «хорошуний» по-здешнему, постарелыми, увядшими, несмотря на густые белила и румяна, которыми по обычаю все женщины покрывали, как маской, лицо, особенно выходя из дома, являясь в люди. А рядом он видел их дочерей, уже замужних и размалеванных или еще не так сильно накрашенных по девическому обычаю. Наружностью дочери напоминали своих матерей в их молодую пору, будили колючие воспоминания в усталом сластолюбце, тревожили его воображение позабытыми ощущениями и образами, далекими картинами, вызывали в нем трепет новых стремлений и желаний: изведать и с дочерьми те радости, которые матери дарили ему десять — двенадцать лет тому назад… Породистые, рослые, грудастые и широкобедрые, эти девушки и молодые женщины не отличались красотою. Черты их — мясистые, грубоватые, выражение тупое, как у коровы, ждущей лакомого корма, — не могли удовлетворить такого разборчивого знатока женской красоты, как Гагарин.
Но неожиданно глаза его оживились и с восхищением остановились на личике девушки, которая, стоя за первым рядом важных приказных дьячих, за протопопицей, за попадьями и головихами, тянула кверху головку и тоже, не особенно отдаваясь молитве, не сводила с нового губернатора взгляда своих больших темно-карих глаз, опушенных длинными густыми ресницами и говорящих скорее о ласковом юге, о знойном востоке, чем о снегах Сибири, как сонные очи окружающих женщин и девушек. Темные, бархатные, с поволокою глаза даже немножко косили, но это нисколько не портило общей красоты овального, правильного личика, наоборот, придавало ему манящую прелесть лукавой застенчивости. Девушка совсем не была накрашена. Брови, не подчерненные сурьмой, как и ресницы, тонкой темной дугой пролегли над глазами. Смугловато-бледная свежая кожа даже и в этой духоте была окрашена лишь нежным розовым румянцем на щеках, да алел на лице небольшой рот с яркими губами, как две спелые вишни, оттененный легким темным пушком над верхнею, причудливо изогнутой губою.
Заметив, что князь залюбовался ею, девушка опустила глаза и слегка улыбнулась, причем двойным рядом ровных жемчужин блеснули зубы.
Одета была девушка по «регламенту» в верхний «кунтуш» и немецкие сапожки, в саксонский «бострок», т. е. лиф, Büstrock, и отрезную юбку. На голове темнела шапка, неуклюже, грубо, неумелыми, очевидно, руками сделанная по иноземному образцу; но даже и этот самодельный головной убор, и непривычное, плохо сшитое платье, нескладная верхняя одежда — ничто не могло затенить прелести лица девушки, соразмерности и гибкости ее небольшой, но полной, сильной фигуры.
Чтобы лучше видеть через плечи и спины женщин, стоящих впереди, она поднялась на цыпочки и вытянула шею. И Гагарин заметил, как легко держалась девушка в этом неудобном положении, словно парила над землею, успевая в то же время никого особенно не задеть в общей тесноте.
«Птичка, а не девушка… Да как хороша!» — чуть не вслух подумал Гагарин и тут же негромко обратился к дьяку Баутину, которого привез с собою из России:
— Афанасьич, вон, гляди… Вторая с краю в третьем ряду баб девчоночка… узнай мне у здешних: чья будет?.. Занятная…
Келецкий, который стоял тут, крестясь так же усердно, как и окружающие, а про себя творя католические молитвы, насторожился и тоже поглядел на девушку.
Иван Афанасьевич Баутин, толстый, осанистый заслуженный дьяк, согнувшись почти пополам, выслушал шепот и уже готовился обернуться, спросить кого-нибудь о девушке, как неожиданно из-за него скользнула по-ужиному и продвинулась поближе к князю сухощавая, юркая фигурка другого местного дьяка и заправилы, Ивана Абрютина. Он хотя и чуял, что новый дьяк и другие приказные и служилые люди, приехавшие с Гагариным, должны занять место его самого и прежних хозяев местного Приказа, но надежда еще тлела в сердце крючкодея. Он ловил движения губернатора, ища случая угодить, прислужиться, расслышал приказание, данное другому, и уже тут как тут с ответом.
Почтительно прихиляясь к уху князя, но не слишком близко, Абрютин сообщил сладким шепотком:
— Агафией девицу зовут. Дочка отца Семена, попа Салдинского… Вот ейный родитель-то… В чине сооружения…
И Абрютин очень осторожно, но умело указал на одного из священников, сослужащих Иоанну.
Это был старик лет под шестьдесят, рослый, упитанный, с отвислым брюхом, которое выделялось даже под широкими лубообразными парчовыми ризами. Особенно поражало его лицо. Ярко-красное, багрового цвета, оно было изрыто и бугристо от каких-то наростов, сильно воспаленных и, казалось, слепленных из неровных комочков сырого мяса, непокрытого кожей. Особенно выдавался нос, огненная краснота которого на конце принимала сизо-багровый, фиолетовый оттенок, бывающий только у привычных, застарелых питухов. Маленькие свинцовые глазки сидели глубоко в мясистых красных веках, лишенных ресниц; брови двумя седыми кустиками свисали с низкого, складчатого, зажирелого лба. Седые длинные усы и редковатая раскидистая борода скрывали вздутые мясистые губы и только крепкие, совсем молодые зубы уцелели и видны были, когда отец Семен возглашал, что следует по чину службы.
— Этот урод! — не выдержав, проговорил Гагарин, хотя ему не понравилась непрошенная услужливость Абрютина, его излишняя чуткость слуха.
— Конечно, по закону, ваше сиятельство! — торопливо зашептал Абрютин. — А люди говорят, которые знали их давно, что жена-покойница не больно была ласкова с отцом Семеном и здесь, а особенно еще там, в Украине ихней, откудова они сюда приехали… И што тамо венгерец какой-то важный часто у них гащивал красивой попадьи ради… Х-хе-хе… Може, и брешут на покойницу, хто знает… — оборвав тихий, беззвучный смешок, совсем иным тоном кончил приказный, видя, что его шутка не очень милостиво принята.
— Конечно, врут много… Вот и про тебя мне даже в Петербург писано, будто грабишь ты не по чину… Тоже, врут, должно!.. — оборвал дьяка Гагарин.
Но еще не успел он договорить, как того уже не было за плечом князя, где он прежде тянулся и изгибался вьюном. Словно ветром куда-то унесло дьяка. А Гагарин опять уставился без стеснения на девушку.
«Салдинского попа!.. Вот странность какая…» — подумал Гагарин и невольно перевел взор, оглядел позади себя свиту и заметил почти в самом дальнем ряду ее Нестерова, который усердно крестился, кланяясь иконам, бормотал молитвы, подпевал клиру и в то же время ни на миг не спускал глаз с Гагарина. И этот сторожкий взгляд, который теперь скрестился со взором князя, казалось, все прочел, что подумал Гагарин, что ощущал он при виде личика редкой красоты.
Служба не затянулась долго. Гагарин вышел из собора боковым ходом, потому что главный выход слишком был запружен народом, покидающим храм.
Карета, запряженная цугом шестеркой чудных вороных коней, стояла в ожидании. Лакей в раззолоченной теплой ливрее, отороченной дорогим мехом, накинул на князя легкий меховой плащ, подсадил, захлопнул тяжелую дверцу, и при новых ружейных залпах, при кликах толпы громоздкий экипаж на могучих кожаных тяжах, заменяющих рессоры, грузно покатил вперед, оставляя на острых камнях мостовой белые следы серебряными шинами своих колес. Но скоро последовало еще более удивительное событие. Одна из серебряных подков, слабо очень прибитая к копытам коня, отлетела, ударила кого-то из зевак и с чистым, протяжным звоном упала на камни.
— Серебряна подкова!.. Отвалилась!.. Гляди… — крикнул удивленный голос.
Две руки схватили «находку», но десятки других рук стали отнимать у первого его «счастье»… Завязалась свалка. И так повторилось около двадцати раз, пока новый губернатор доехал до своего жилища, потому что почти все кони растеряли по пути свои серебряные подковы, умышленно прибитые слишком слабо парою гвоздей. Этим начал Гагарин, решивший сразу ослепить своих новых «подданных» при первом появлении в столичном городе Сибири, которую недаром зовут «золотое дно»… Он решил глубоко черпнуть в ней, до самого золотого дна, но раньше счел нужным показать, что сам может швырять даже не рублями, а целыми слитками серебра в два фунта весу в виде тяжелых конских подков.
Глава II
АМУЛЕТ
Хотя Гагарин успел немного отдохнуть после утомительного богослужения в душном храме, но все же к вечернему столу он вышел медлительный, бледный, еще усталый и от пути, и от церемоний торжественной встречи. Кутаясь в своей любимый меховой халатик, сидел он, почти не говоря ни с кем из застольников: ни с ближайшими лицами своей свиты, ни с воеводами иногородними, приглашенными запросто поужинать, чем Бог послал, в губернаторский дом.
Окружающие сразу почуяли, что хозяин не в своей тарелке, и молча пили, ели, изредка перекидываясь негромким словом, торопясь скорее кончить роскошную, обильную трапезу, в которой число и количество блюд спорило с рядами отборных наливок, настоек и вина.
Сам Гагарин больше пил, чем ел, словно желая себя подогреть и разогнать угнетенное состояние духа, взвинтить усталое тело бокалами старых, крепких венгерских и французских вин.
Но на этот раз даже такое испытанное средство мало помогло. Правда, в голове у него забродило, теплота разлилась по всему телу; но даже не было желания слушать шумную болтовню или самому побеседовать с веселой компанией, как это любил князь. Наоборот, потянуло на полный отдых, в постель… захотелось, чтобы мягкая женская рука нежно помогла раздеться, лечь, баюкая и лаская… Может быть, тогда исчезнет это ощущение колыхания, которое он испытывает даже и теперь, сойдя с барки, на которой до тошноты колыхался пять дней подряд…
Ужин еще не кончился, когда он громко заявил:
— Уж прошу почтенное компанство не посетовать! Пейте, ешьте, беседуйте, гости дорогие… А я на опочив пойду. Сморило меня малость с дороги… Года уж такие!.. Не взыщите…
— Помилуйте, ваше сиятельство… Почивать извольте на доброе здоровье!..
— Много и так благодарны, ваше сиятельство… откланяться дозвольте, а мы сами…
С этим говором гости стали подыматься с мест…
— Нет, нет! — настойчиво повторил хозяин. — Если не хотите обидеть меня, сидите и кончайте ужин… Я уж по-дружески, просто, вам говорю: доброй ночи! Завтра свидимся, тогда я наверстаю свое… Сидите!..
И, оставя всех за столом, он ушел.
Одна только Анельця, следившая из соседней комнаты, чтобы все шло своим порядком в столовой за ужином, скользнула вслед за князем, которого камердинер проводил в спальню.
— А, ты тут! — благосклонно уронил Гагарин, услыхав за собой ее легкие шаги и слегка поворотив к ней голову. — Ну, входи… входи… Помоги мне раздеться и уложи…
С этими словами он переступил порог обширного покоя, отведенного под спальню, убранного почти так же, как его обычная опочивальня в роскошном петербургском дворце.
Камердинер, видя, что он лишний, стушевался, только Митька-казачок, шустрый мальчишка лет четырнадцати, красивый и наглый на вид, прошел тоже в спальню и стал у дверей, ожидая приказаний. Гагарин не стеснялся перед этим балованным и испорченным мальчишкой, как не стеснялся своей любимой борзой Дианки, которой позволял спать в углу опочивальни на особом мягком коврике…
Быстро и ловко помогла Анельця своему господину снять халат, мягкие сапоги, надеть ночную рубаху, уложила, укрыла его и даже осторожно, но умело погладила ему вытянутые ноги, приговаривая:
— Бедны наши ножки… Они же ж устали… Пусть спочинут!..
Гагарин даже прищурил от удовольствия и неги свои загоревшиеся масляные глаза и потянулся на мягкой постели. А «экономка» уже успела взять с дальнего стола хрустальный кувшин с квасом и бокал, поставила все на столик у самой постели, подвинула свечи так, чтобы свет не падал на лицо князю, и стояла, глядя ему в глаза, словно ожидая последнего, призывного знака…
Медленно поднял Гагарин свои полные желанием глаза на лицо Анельци и уж готов был сделать этот знак, но вдруг до обмана ясно у него в глазах зареяло другое женское лицо, бледно-матовое, с темными, жгучими глазами, слегка перекошенными, словно от вечного томления и восторга страсти… И грубым, неприятным показалось это крупное пылающее лицо Анельци, так не сходное с личиком красавицы поповны… Исчезло у князя всякое желание приласкать эту женщину, смотрящую на него своими выпуклыми светлыми глазами, в которых столько собачьей преданности и рабской покорности.
— Устал я нынче с чего-то… — притворно зевая, кинул он «экономке». — Иди себе почивать с Богом. И я авось засну…
Еще сильнее вспыхнуло лицо Анельци от неожиданности и обиды. В первый раз за все время ее пребывания на посту случилось что-либо подобное.
«Позвал, позволил уложить себя и вдруг — отсылает… Никогда еще так не бывало!.. Неужели совсем надоела раба своему господину и он собирается прогнать ее, подыскать себе другую?..»
Эти мысли быстро пронеслись в уме Анельци, но она ни звуком, не единым движением не посмела обнаружить своей тревоги и, низко поклонившись, повторила только:
— Спочивайге, ваша мосць!.. Добра ноць!..
Еще раз поклонилась, с почтительной мгновенной лаской коснулась губами одеяла, окутавшего ноги господина, и быстро вышла с негромким вздохом, который, словно против воли, вырвался из взволнованной груди.
Гагарин, полусидя в постели, налил себе квасу, выпил, лег и приказал казачку:
— Потуши свечи и ступай…
Митька исполнил приказание и уже направился было в соседнюю комнату, где спал всегда полуодетый, готовый явиться по первому зову, как вдруг его снова окликнул князь:
— Постой… Зажги свечи. Не спится…
Пока мальчик зажигал свечи, Гагарин вызвал в памяти образ своей «лектрисы». Эта все-таки больше напоминает лицом девушку, которая сразу овладела усталым, но вечно жадным воображением князя… И, томимый своими неясными, но тревожащими желаниями, он обратился к Митьке:
— Мамзель позови… Пусть почитает что-нибудь… Не спится мне нынче…
Быстро кинулся мальчишка за «лектрисой» с хитрой, порочной усмешкой на лице. Он хорошо знал, что значит данное ему распоряжение…
А когда француженка, в ночном пеньюаре, с какой-то книжкой в руке прошла по слабо освещенному коридору и скрылась за дверьми спальни князя, Анельця, сторожившая тут все время, вышла из-за шкапа, где она стояла, дрожа от волнения и злости, молча погрозила вслед «лектрисе» и бесшумно двинулась к своей комнатке, расположенной недалеко от двух комнаток, отведенных для второй, более счастливой, фаворитки.
Освеженный продолжительным крепким сном, вышел на другое утро Гагарин в большой приемный зал своего «дворца», где уже толпился народ чуть ли не с рассвета. Судейские чины со своим вице-президентом Родионом Ушаковым во главе, обер-комендант, стольник царский Иван Фомич Бибиков, комендант тобольский, стольник и обер-инспектор провинции Семен Прокофьевич Карпов, воеводы Верхотурья и Туринска Траханиотов и Воронцов, енисейский комендант, стольник Александр Семенович Колтовский, якутский Дорофей Афанасьевич Трауернихт и кузнецкий Лев Нарыков, иркутский Ракитин, известный грабитель, и многие другие стояли впереди остальных средних и мелких людей и людишек, пришедших по службе и на поклон новому губернатору. Были тут и «городовые прикащики», потом замененные городничими и исправниками, явились и ясачные сборщики, ямские и земские старосты, городские головы и торговые выборные, толмачи присяжные, городовые и целая кучка новокрещенных бурятских, самоедских, остяцких и других князьков, желающих ударить челом наместнику самого московского царя. Цветистой группой в своих восточных нарядах пестрели наезжие торговцы-бухарцы, калмыки, киргизы, «никанцы», или китайцы, и другие. Тут же несколько мулл от мусульманского населения Тобольска, несколько седобородых старшин стояли, как живые изваяния, а за ними в причудливых нарядах, в оленьих и лисьих мехах, разрисованные, жались в угол полудикие шаманы и темнолицые представители ясачных кочевых племен, населяющих простор этого края Сибири. Особняком, подальше видны были пленные шведы, успевшие не только освоиться среди победителей, но и занять хорошее положение в администрации, особенно по горному ведомству. Впереди других стоит Фома Блиор, боргмайстер местной коллегии.
Боярские дети, выборные от горожан, казаки, посадские, приказный мелкий люд, которому не пристало стоять впереди с дьяками и подъячими, — все эти теснятся на заднем плане длинной, невысокой, скудно обставленной приемной залы.
Капитаны и другие офицеры, начальники рот и военных частей тоже построились блестящим рядом по другой стороне залы, против гражданских высших чинов, одетые в разноцветные мундиры и затянутые в свои лосины.
Говор пониженных, негромких, сдавленных голосов совершенно стих, едва распахнулась широко дверь и в глубине соседнего покоя показалась тучная фигура Гагарина, застучали по налощенному полу высокие красные каблуки его башмаков, украшенных бриллиантовыми пряжками.
Одет он был так же пышно, как и вчера во время богослужения, только без пудреного парика, как бы следовало по «регламенту». Пропитанный многими предрассудками московской старины, Гагарин не любил надевать на голову «мертвые волосы», считая это делом нечистым и греховным. На глазах Петра, строго требующего исполнения церемониалов, князь вынужден был часто являться в пудреном парике, но дома его не носил, подобно царю. А здесь, за тысячи верст от «Парадиза» и его сурового хозяина новый повелитель края решил отменить совсем этот неприятный ему придворный обычай ношения парика.
Низким поклоном встретили вошедшего все, кто теснился в зале, желая первым попасть на вид князю. Од ответил ласковым тройным поклоном на все стороны, придав себе настолько важный и величавый вид, насколько это было доступно человеку небольшого роста и тучному чрез меру.
— Здравствую вас всех, государи мои, гражданского и воинского сословия, и торговых, и прочих чинов люди! — громко заговорил Гагарин. — Благодарствую за добрый и знатный прием, вчера мне учиненный ото всех града сего жителей и властей с духовенством купно. От имени его величества государя-царя и великого князя Петра Алексеевича всея великия и малыя и белыя России самодержца милость и привет объявляю верным слугам и подданным его, как православным россиянам, так и многим иным на землях сибирских проживающим!
— Виват царю и государю нашему! Виват губернатору князю Матфею Петровичу! — громко прокатилось по зале в ответ.
Инородцы, поняв, что надо принять участие в общем гуле, тоже закричали своими гортанными голосами кто что умел по-русски и по-своему.
Довольный дружным приемом, несколько раз кивал приветливо всем головой Матвей Петрович, а когда шум затих, снова заговорил:
— В тяжкое время поручил мне государь и повелитель наш ведать судьбу столь обширного и отдаленного края. И здесь, как мне то доподлинно ведомо, умалилися достатки и способы к проживанию безбедному и сытому, как то было в прежние годы. Зверя стало меньше, урожаи плохи, а людей прибавляется… Набегают немирные народцы и избивают не только ясачных наших людей, а и самую русскую силу ратную и мирных пашенных хрестьян… Торги оттого в умалении, и даже опасно ездить по тем богатым путям, по которым раней столько торговых людей в Сибирь и из Сибири езживало. А ко всему тому — и свои лиходеи, мздоимцы, крохоборы, а то и прямые мятежники, разбойные русские люди, и служилые, лукавцы, и подъячий народ, и до иных воевод вступительно, — весьма многие утесняют беззащитных тяглых и торговых людей, убытки им чинят и разорение великое!.. За тем я и явился к вам, чтобы то все поиначить и поисправить, обиженным суд и правду дать, обидчикам — батоги, дыбу, а то и виселицу!
Снова крик привета и радости пролетел по зале. А Гагарин, выждав тишину, продолжал:
— Прямо говорю: открыта дверь моя для всякой прямой жалобы на обиду, от кого бы та обида ни шла, от низших ли, от самых ли высших здесь людей. Торговым людям свобода в их торговых делах, ежели только оставят они свой лукавый обычай пеню скрадывать, мыта утаивать… Таким, по-старому, нещадные казни грозят. Ясачному люду от нас защита и помога, ежели верно станут свое дело править. Служилым людям утеснений не будет, да и потачки не дам же! Вперед ведайте. Вере нашей святой Христовой первый поборник и помощник обещаюсь пребывать. И прошу во всем том, кому как по делу али по службе указано, помогать мне и всякое содействие чинить. А я благодарен и памятлив буду как на злое, так и на доброе.
Новый рокот приветствий прокатился кругом.
— Еще сказать повинен нечто! — сильнее прежнего поднял голос Гагарин, как хороший актер, приберегающий эффекты под конец. — Великие неправды творились доселе в сем краю, и безнаказаны оставались злодеи. Но ныне тово не будет боле. По указу его царского величества послана будет от меня персона благонадежная и полномочная все старые вины служилых людей сыскивать, новым — препону давать и обывателям на местах огласить, что отныне по закону страна управляться будет, а не произволом старших и меньших начальников, а для пользы службы его величеству перемены некоторые произойдут. О таковых приказы мною нынче же по надлежащим местам будут выданы. Теперь же еще раз благодарю за добрую встречу и изъясненные пожелания и сам желаю всем успеха в делах и милости от Господа на укрепление сил для верного служения его царскому величеству.
Выждав, когда смолкнет очередной «виват», неизбежный после таких слов, Гагарин продолжал громко и властно:
— Тяжелое время нынче для нашего любезного отечества приспело. Война со шведом в самом разгаре, а тут Господь другую наслал, с турками… Тяжкое испытание вынес наш державный государь и целое воинство с ним на берегах Прута-реки. Возами везли наше злато в лагерь нечестивых атаманов, царица сняла с себя все свои драгие вещи и положила, как жертву, на алтарь отечества. Не только не удалося освободить братские народы христианские из-под ига нечестивых агарян, но и свои кровью завоеванные города и крепости Азов и Таганрог довелоcя отдавать поганым либо разрушить своими же руками!.. Тяжело пришлося целой земле… И мы здесь тоже не преминем участие взять в общей печали. Деньги и люди нужны для обороны царства, для зашиты веры нашей. Оно, правда, лучше было бы войны не зачинать, к ней раней не изготовясь… Тогда и тягот лишних не возлагалось бы на людей!.. Да теперь уж о том поздно толковать. Головы снявши, не плакать же по волосам… И я без сомнения ожидаю, что и здешние обитатели, православные и иные, охотно лишнюю тяготу понесут, людей на войско выставят и денег дадут, сколько по разверстке придется.
— Да уж!.. Вестимо… Землю боронить надо! — раздались далеко не уверенные и не слишком громкие голоса из среды торговых и ремесленных людей, казаков и горожан, потому что на них теперь глядел Гагарин, к ним больше всего обращал свой вопрос, звучащий приказанием.
— Вот и ладно! — приветливо кивая головой, закончил свою «программную речь» новый губернатор-наместник. — Иного я и слышать не ожидал от верных слуг и подданных его царского величества. Оно и то сказать: тяжеленько придется… Я и сам вижу… Немало уж из Сибири в царскую казну российскую всякого добра увезено, и людей много же ушло… Сколько убито алибо в полону… И сам бы я не рад еще с вас, люди добрые, лишку теребить… Да не моя воля, царская! Ей покорствовать надо! Теперь я все сказал. Кланяюсь всем и доброй службы жду его царскому величеству.
Снова поклонился на все стороны и вышел, окруженный свитой.
С говором разошлись и остальные присутствующие. По всему городу сейчас же, а там и по всей Сибири толки двоякие полетели. Очаровать сумел Гагарин всех бывших на приеме.
— Уж такой-то простой да ласковый… И обычаем на других воевод непохожий… Крестится истово, говорит понятно… К попам, слышь, да к церкви больно прилежен.
Так в один голос решили люди, слышавшие князя. И эта молва покатилась по городам, все шире и шире росла, создавая в народных рядах расположение к новому господину края. А про содержание его речей совсем иначе толковали люди.
— Новые тяготы нам из Рассеи, от царя насланы… Набор салдацкий сызнова… и денежки теребить станут… Там москвичи с турками да со шведами дерутся, а у нас затылки трещат! Ловко…
Так толковали торговые люди, посадские, казаки и вообще городской и тяглый люд. А приказные и служилый народ уж и не говорили ничего. Мрачные все ходят, только перешептываются между собою. Плохие новости им объявил в своей речи Гагарин. Ревизия большая и строгая, смена на местах, а то и отставки… Придется не только покидать насиженные, теплые местечки, но и давать отчет во всем «содеянном дурно» или не содеянном, вопреки закону и регламенту служебному…
— Мягко стелет господин губернатор, да тверденько спать нам буде ныне! — шушукаются «дельцы» приказные и иные. — Послов слышь, посылать задумал по местам… Старый сор перетряхать хочет! А его многонько, поди, всюду набралося. Правда, мы бирывали, так и главным начальникам из тех поборов было же достаточно дадено… А теперя за все про все ответ держать придется! Не ладно так!
И стали с места ломать свои хитрые головы крючки приказные, как бы замести следы былых грехов… Как отстоять прежние порядки, при которых прибыльно жилось служилому люду, несмотря на нищенские оклады, полагаемые по штатам.
Обыватели тоже волновались немало. И радовали, и пугали их толки о новых порядках, какие завести задумал Гагарин в Сибири. То, что было, они знали, кое-как научились приспособляться к продажным управителям, откупаться от всяких насильников, но все-таки вопиющие, неслыханные дела творились в богатом обширном крае, в Сибирском царстве! Недавно ещё прогремело на всю Сибирь дело бывших красноярских воевод Семена Дурново, братьев Башковских, Алексея и Мирона, которые вместе с отцом своим Игнатием совсем было хотели город целый Красноярск смести с лица земли.
Эти «правители» так зарвались в своем наглом произволе и хищничестве, что не выдержали даже привычные ко всяким взяткам и поборам сибиряки.
Четыреста лучших горожан Красноярска подали обстоятельную жалобу Петру на лютых воевод. Послан был опытный, надежный дьяк из Сибирского Приказа для разбора дела, слишком вопиющего и явного. Но не растерялись наглые грабители воеводы. Закупили, задарили они часть ссыльных в городе. Стали наемные подстрекатели по городу шнырять, слухи сеяли страшные, буда задумали воеводы до приезда следователя все дела в Приказе местном сжечь, а заодно и город спалить, а в суматохе захватить главных жалобщиков, в том же огне и спалить, в котором «концы» дел нечистых хорониться будут… А другие наемники, словно подтверждая эти наветы стали по городу бесчинствовать, избивали людей из числа подавших жалобу, называли их крамольниками, басурманами и жидами треклятыми, которые Господа Иисуса продали, яко Иуды… Пожары там и здесь начались… Слуги воевод врывались в дома жалобщиков, уводили в «верхний малый город», где были палаты воеводские и острогородской. Там вволю потешались воеводы-звери над своими врагами и умышленно пускали преувеличенные слухи о пытках и муках, каким подвергались захваченные красноярцы.
Не выдержали горожане. От жалоб и криков на базарах и площадях перешли к более решительным действиям, стали собираться с дубинами и пищалями, сговариваться начали, как бы своих отстоять, вырвать их из лап палачей и воевод-лихоимцев. Этого только и надо было Семену Дурново и троим Башковским. Они собрали толпу своих закупленных сторонников, ссыльных и служилых казаков, больше из гулящей молодежи, ищущей приключений, в засели в своем «верхнем городке», заперлись, словно в осаде от неприятеля. А в Сибирский Приказ помчались на Москву гонцы с донесением, что «бунт учинили люди красноярские супротив ево царсково величества и отложиться задумали от державы, потому-де и на воевод своих неправду клепали, а ныне открыто мятеж повели, осадили начальников, от царя поставленных, и только одно остается: прислать с Москвы и из других городов рати военныя, жилецких людей местных перестрелять, а город совсем разметать, потому он крамольный весь до последняго человека».
Долго длилась эта «внутренняя война», и только через года полтора, когда убедился царь, что дело создано грабителями воеводами, последовал его грозный указ. «И те воеводы, — стояло в указе, — Семен Дурново да Мирон Башковский с братом Алексеем и отцом ихним, Игнатием, — состав злодейский учинили и коварственным умыслом сами в осаду сели, хотя тем на всех жилецких людей того города Красноярска навесть измену и бунт безвинно. А мстили они за то, что от несправедливых окладов и взятков свары и междуусобье пошло лютое. И когда горожане тамошние челобитье подали про все взятки, воровство и раззоренье, от воевод учиненное, — те воеводы сказывали: „Весь город ваш за жалобы раззорим“! И после того неправую затейку и воровской поклеп с осадой своей учинили, на помощь себе призвав товарищей вора и изменника, Федьки Шекловитаго, кои вместо смертной казни на пашню в тот город были сосланы…» Дальше шло решение: предать суду и казни этих воевод-разбойников, что и было исполнено.
Но мало помог даже и этот суровый пример, данный Петром.
Слишком зарвавшиеся грабители, правда, понесли кару, но другие, более осторожные, продолжали свое дело, только стараясь «не зарваться»… Не помогала и частая смена воевод. Каждый только спешил скорее нажиться, зная, что через два-три года придется другому уступить теплое местечко.
И теперь слова Гагарина о «новых порядках» заставили, правда, призадуматься многих, но не очень испугали.
— Без людей же не обойтися! — толковали мудрые хапуги. — Менять нас чаще станут, пожалуй… Так и мы поторопимся сорвать, что можно… А там… семь бед — один ответ… Это — речь первая. А вторая, вестимо: новая метла гладко метет… пока голиком не стала… И самому, гляди, князеньке охота понажиться… Вот и пужает нас… А как понесем ему, што полагается, помягчеет…
И на этом успокоились немного встревоженные заправилы сибирские, разные крысы приказные и городовые…
А между тем на многих сразу же посыпались удары, «чистка» началась в первый же день вступления Гагарина в должность.
Прежние дьяки губернаторской канцелярии — Парфенов, Абрютин, Маскин — были заменены Шокуровым и Баутиным, которых привез с собою Гагарин. Кроме Келецкого, негласного «первого министра» без портфеля, большую роль стал играть вновь назначенный комендантом в Якутск полковник Яков Агеевич Елчин, тоже прибывший в свите князя, как и многие лица, теперь занявшие первые места в суде, в магистрате — всюду, где Гагарину нужно было иметь «своих людей».
Старинного приятеля своего стольника Александра Семеновича Колтовского Гагарин послал комендантом в Верхотурье. Этот город как единственный служащий воротами Сибири был особенно важен для Гагарина. Имея там верного помощника, князь мог быть спокоен, что ни один подозрительный человек с каким-нибудь опасным челобитьем не проскользнет в Россию без его ведома… А планы которые роились в голове честолюбца князя, требовали особенной осторожности и тайны.
Жестокий, жадный, но осторожный Ракитин остался в Иркутске как помощник мягкого коменданта стольника Любавскаго. Нетронут был в Енисейске обер-комендант, князь Иван Щербатов. Но отца и сына Трауернихтов Гагарин вызвал из богатого мехами, хотя и холодного Якутска и пока поручил им, как двум надежным людям, ведение своей канцелярии. Обер-комендантом остался в Тобольске Иван Фомич Бибиков, а комендантом на первое время — тот же Семен Прокофьевич Карпов, который был и раньше, но старик Дорофей Афанасьич Трауернихт, преданный друг Гагарина, уже был обнадежен, что скоро займет это место, дающее большой почет и огромные выгоды.
В надворном суде Гагарин посадил тоже своего человечка — коллежского ассесора Ивана Матвеича Милюкова-Старова; другие лица из приехавшей с ним свиты были назначены «мостовыми комиссарами», таможенными целовальниками и оценщиками пушной «казны» государевой, приносимой ясачными инородцами ежегодно в огромном количестве… Словом, всюду, где только пахло наживой, новый губернатор имел не только свои «глаза и уши», но также и «руки», готовые по первому знаку отобрать все лучшее и принести «хозяину» в надежде и на свой пай получить малую толику расхищенных казенных благ…
А затем все пошло по-старому.
Каждое утро принимал доклады и жалобы губернатор, разбирал «столпцы» и листовые бумаги, присланные из Москвы, Петербурга и сибирских городов, надписывал резолюции, диктовал ответы на более важные «номера», пришедшие из Сибирского Приказа или от царя. И большая, давно налаженная, приказно-канцелярская машина мощно поворачивала свои старые, поржавелые колеса, между которыми вставлены были только кое-где новые цевки и колесики в виде «новых», наезжих из России, людей. Но последние скоро пропитывались тем же старым духом сибирских Приказов, каким отличались и старожилы-дельцы.
— Грабь, но осторожно. Наживайся, да поживей!
Эту премудрость быстро постигали «новенькие» и легко сдружались с заматерелыми сибирскими лихоимцами и вымогателями, которые любовно вели новичков по старым, верным путям стяжания и беззакония, доходящего до наглости.
А Гагарин, видя, что сразу почище на вид стало в Приказах, что идут исправнее доходы в царскую казну, которую он рискнул взять на откуп дорогой ценою, потирал руки от удовольствия.
— Что там четыреста тысяч, мною обещанные!.. Вдвое возьму в первый же год, судя по началу! — думал жадный богач. — Только построже надо быть с этими душегубами! Пусть знают, что нельзя себе все грабить, надо и в казну хоть половину отдать!..
И сурово, хмуро глядел на окружающих Гагарин, хотя в душе был очень доволен хорошим началом своего правления, своим мудрым поведением с первых шагов в трудной роли почти неограниченного повелителя этой необъятной, богатой и полудикой страны. Со своими, со служилыми и приказными, он был донельзя требователен и строг. С военными держался ласково, почти за панибрата. А с торговым людом и простыми горожанами до черни включительно обращался совсем как добрый царек, повелитель безграничный, но милостивый.
Хлопот и забот немало выпало на долю нового «сибирского царька», особенно в первые дни, когда надо было оглядеться внимательно и ввести целый ряд перемен в систему управления, хотя бы эти перемены касались только личного состава, оставляя все прочее в покое ненарушимо.
Но и среди общей сумятицы и лихорадочной деятельности своей в эти дни Гагарин часто вспоминал о доносе Нестерова, об есауле Ваське Многогрешном и таинственном, заклятом рубине сказочной цены…
Нестеров не показывался. Он в первый же день прибытия Гагарина в Тобольск отправился снова на разведки в Салдинскую слободу, чтобы точно вызнать, как лучше захватить Ваську-вора и его кладь.
И только вечером на третьи сутки появился приказный в опочивальне Гагарина, куда велел впустить его князь, как только явился Келецкий и доложил о приходе добровольного сыщика.
— Ну что, Петрович? Как наши дела, сказывай! — ласково обратился князь к нему, едва приказный появился на пороге, следуя за Келецким.
— Слава Господу Богу, все ладно, милостивец, ваше светлое сиятельство! Зайчик не выскочит из наших рук, живьем возьмем и с потрохами! Только поспешать надоть. Нонче же ночью людей снарядить! Я все вызнал. Сказать ли?
— Сказывай, сказывай. Да присядь сам-то.
Нестеров, словно не заметя скамьи, на которую указал вельможа, по-прежнему опустился на пол у самых ног князя и, искренне волнуясь, негромко заговорил:
— Уж и как-то все ладно, как лучше быть не надоть! Один-одинешенек лежит теперя в байне-то Васька-вор. Приятель-то евонный, башка самая отчаянная, Фомка Клыч сюды приехал, в город. И не один, а с другим разбойником-головорезом, с батраком поповским, Сысойко Задор ево звать. Бают, полюбовник ён поповны-те сам.
— Что?.. Что такое?.. Что ты врешь? — вырвалось против воли у Гагарина. — Полюбовник поповны!.. Батрак какой-то разбойник, как ты говоришь!.. Откуда это?
— Ниоткуда, батюшко, князенька милостивый! — залопотал приказный, видя, что слово сказано невпопад. — Люди брехали чужие. Я и доношу тебе, государь ты мой, милостивец, по рабской обыкновенности, по усердию моему. А как я сам поглядел? Занятно было мне выведать. Так и не пахнет тем, штобы энтот Сысойка спал с ею. Девица по виду и пальцем не тронута, не то што. А уж красовита сколь, и сказать неможно. Ей бы не батрака подложить надоть, а…
— Ну ладно, не мели. Дело сказывай! — оборвал Гагарин, снова принимая более спокойный вид.
— Дело ж я и сказываю. Фомка да Сысойка, энти оба два сюды прикатили, почитай со мною вместях. Только меня не видели, как я их следил. А будь они тамо, пришлось бы и в драку пойти, штобы Ваську взять. Они бы ево даром не дали. А тут Васька-вор им сдал те самоцветы невеликие, што у Худекова отнял было. Акромя «заклятова» камня. И есть тута, в бусурманском углу, один торгаш-никанец. Он самые лучшие товары потайно скупает и от купцов от наших, и от наезжих, и ворованное из казны, от казаков либо от приказных и воевод. А сам их отсылает и в Хину и в иные страны и много прибыли имеет на том.
— Вот как! Значит, его не трогали прежде воеводы, потому что…
— Сами с им делишки вели.
— Понимаю. Ну а я порастрясу этого торгаша. Дальше.
— Раней, чем к завтрашней к ночи эти разбойники не поворотят домой. А мы нонче же нагрянем в слободу да и заберем Ваську со всеми его потрохами… Людишек надежных мне бы только хошь пять, хошь шесть… Здоров вор, хоша и недужен ноне лежит…
— Хорошо, я прикажу… И еще вот мой Келецкий с вами поедет! — проговорил Гагарин, обменявшись взглядом с секретарем.
— Вестимо, надо ево милости с нами! Дело такое, можно сказать, первой важности!.. Да што бы верного человека при том не было! Да я бы сам просил, кабы ты, государь-милостивец, не приказал… Нешто мне можно веру дать в столь важном случае? Клад, так надо говорить, цены несметной! Где ж ево поверить рукам моим рабским! — не то смиренно, не то со скрытой обидой и укором запричитал Нестеров, встав на ноги и учащенно кланяясь.
— Ну ладно… Сказано и будет. А вот еще скажи: как тебе повынюхать удалось дельце-то?.. И сам не попался при этом!.. — желая изменить направление мыслей у обиженного недоверием шпиона, спросил Гагарин.
— И оченно просто! Подговорил я тута бухаретина одного, Гирибдоску… Издавна ен в шпынях у нас послуживает. Да и сам — армяшка он, не мусульман алибо хто там иной… И носит нам вести всякие из своей бухарской земли и от мунгалов. Только на вид торг ведет, а сам рыщет, для нас вестей ищет… И ловкой, собака… Я, ему не сказываючи много, поуговорился на одно: со мною ехать, вора государева вынимать… И за помочь награду обещал…
— Дадим, дадим… Ну?..
— Ну и поехали. Ошшо одного прихватили, конюхом, а я — ровно бы работник евонный, киргиз. Да словно бы глухарь и нем от роду. Только на пальцах верчу да языком талалакаю, коли што мне надо… А сам ровно и не слышу, и говорить никак не могу…
— Умно, Петрович! Ну…
— Ну, проехали мы втроем ночью мимо слободы, а на зорьке и вернулись, словно бы от Каинска едем, от Тары… А тут у погоста и на Сысойку наткнулися. Вот мой Гирибдоска и давай лопотить, што на пути запоздал, затомился. Неможно ли где передохнуть?.. А усадебка-то вдовы-просвирни и тута. Батрак-то и говорит: «Тута пристать можно!» А мы и рады. Мой Гирибдоска в горнице спать улегся. А я уж и не сплю. По двору шнырю, то коням сена дам, то што… И все слухаю… А тут и поесть собрали. Кличут меня. А я — глухой, вестимо, как пень стою… Подошла вдова, пальцем в рот себе тычет, меня манит: мол, есть иди! Я пошел. А оба-то разбойника видят, што немой и глухой тута, свою речь смело повели. Не прикончить ли нас всех троих?.. «Купец-де с икрой, поди!» Это Клыч бает. А Сысойко ему на ответ: «Не стоит! Деньги отвозил басурманин, сам сказывал-де мне. А теперя опять в Тоболеск вертается за новыми рублями, товар скупать. Он сюды и заглянет, гляди. Тогда иное дело. А теперь скорее надо самим в Тоболеск добываться, самоцветы продать!» Я слушаю, все смекаю. Они нонче на зорьке верхами сюды покатили. И мы свою снасть наладили, в сани да почитай следом за ими. Тут я выследил, куды их понесло. Знаю я этого никанца. Там мы, коли што, и сцапаем голубчиков поутру! А теперь поспешать за главной птахой надоть!.. Пока псы, сторожа евонные, не повернули к слободе!..
— Разумно все! Ждать просто не мог я от тебя прыти такой, Петрович. Сказал раз — и снова говорю. Не сиди долго в Питере, как поедешь, ко мне поспешай. А я мое слово тебе говорю: счастье свое найдешь тута!..
— Батюшка!.. Милостивец! — кувыркнулся тут же лбом в ковер обрадованный наружно Нестеров. — Да за што милость такая? Я по правде твоему светлому сиятельству служить рад безо всякой корысти алибо што там!.. Одно слово твое милостивое — и довольно рабу твоему вековечному!..
Снова кувыркнулся приказный, отдавая земной поклон, и ринулся к руке вельможи, но сильно стукнулся обо что-то острое и твердое, что было протянуто ему в этой руке.
— Вот, возьми пока! — сказал Гагарин, невольно улыбаясь при виде того, как Нестеров отчаянно потирал себе лоб, разбитый почти до крови. — Это тебе за труды на память! Не взыщи на малости. Много больше получишь, как дело повершишь!
Просияло лицо Нестерова, он и про боль забыл. Глазки загорелись и жадно впились в то, что подавал Гагарин, словно он не решался сразу взять в руки ценный дар.
— Не стою я, милостивец! Да за што так жаловать изволишь раба твоего последнего? — причитал Нестеров, не сводя горящих глаз от большой серебряной табакерки, лежащей на ладони у князя, такой тяжеловесной, что она видимо оттягивала маленькую холеную руку вельможи. — Не мне такие дары от тебя брать, государь ты мой пресветлый!..
— Но, но, бери, что там! — повторил князь. — Есть же у тебя тавлинка, видел я.
— Есть, есть! Как не быть! — проворно выдернул плут из-за пазухи берестяную тавлинку, грубо украшенную тусклым узором из потертой фольги. — Грешен, потребляю это зелье чертово! Уж не взыщи!..
— Чего взыскивать-то? Сам потребляю… Хотя бы и не след, согласно писанию. Ибо из крови блудницы то зелье выросло… Да Бог простит и мне, и тебе по немощи нашей человеческой. Ну, давай-ка сюды твою… Так!
И тавлинка, поданная князю, очутилась у него в двух пальцах. Брезгливо морщась, он швырнул ее в пылающую печь, у которой сидел в своем любимом глубоком кресле. Крышка раскрылась, табак просыпался в огонь и ярко вспыхнул, разливая резкий запах, присущий дешевому сорту. Но скоро этот запах был унесен воздухом в трубу.
— Ну а теперь бери новую! — улыбаясь, повторил Гагарин. — Только, гляди, табаку не просыпь!..
Дрожащей рукой, краями пальцев взял было Нестеров подарок, но табакерка, слишком тяжелая почему-то, вырвалась и упала прямо на полу кафтана приказного, лежащую на ковре. Крышка со звоном отскочила и извнутри, мелодично звуча, просыпались кучей новенькие червонцы, положенные туда вместо табаку.
Онемел совершенно, окаменел от радости и неожиданности приказный, но потом снова обрел дар голоса и движения.
— Ми… ми… милостивец! — весь дрожа и кидаясь к ногам вельможи, забормотал осчастливленный бедняк. — Господи!.. Ручку… Нет!.. Ножки дай облобызать!
И действительно, мокрыми, взасос, поцелуями осыпал Нестеров бархатные сапоги, надетые на князе.
Тот с трудом брезгливо вырвал ноги из рук холопа, спрятал их под кресло от липких, противных поцелуев.
— Ну, ну… довольно! Будет! — почти строго остановил он приказного. — Собери-ка лучше свой «табак», чтобы не рассыпался совсем.
— Слушаю, слушаю, отец родной! — собрав и сложив снова в табакерку золотые, отозвался покорно Нестеров.
И против воли почти по пояс подлез под кресло, желая убедиться, не закатилась ли туда какая-нибудь монетка. Потом так же на четвереньках, вызывая смех у князя, обшарил ковер кругом себя и, наконец, убедясь, что все червонцы дома, снова по-собачьи присел у ног Гагарина, который заливался смехом вместе с Келецким, глядя на него.
— И забавный же ты! Моему Оське-горбуну не уступишь! — сквозь смех сказал Гагарин. — Видал шута моего Оську? Вот я вас спарую когда-нибудь. Он тоже мастак по-собачьи бегать… и лаять…
— Гай-гау-гау! — неожиданно очень похоже залаял Нестеров, желая вполне угодить щедрому хозяину. — Гау-гау! — залился он злым собачьим лаем и вдруг кинулся к Келецкому с разинутой пастью, словно желая схватить за ногу.
Келецкий от неожиданности вздрогнул и даже сделал было движение отскочить, но удержался. А Гагарин прямо побагровел от хохоту.
— Лихо! Добрый пес!.. Только не надо на своих бросаться! — между смехом кидал он Нестерову.
А тот уже извивался у ног Келецкого и Гагарина, то вытягиваясь, как пес на солнце, то повизгивая радостно и весело… А одной рукой просунул сзади между фалдами кафтана подхваченный гибкий чубук и ловко повертывал его во все стороны, как виляют от радости псы своим хвостом.
С вечера долго не мог уснуть Многогрешный в своей баньке, где провел уже немало дней.
Полумрак колыхался в небольшом помещении старой бани, теперь обращенной в человеческое жилье. Перед маленькой иконкой, принесенной просвирней, чуть теплилась зажженная лампадка, слабо озаряя один уголок на верхнем полке, куда поместила образ хозяйка. Но кроме того, чтобы не оставить недужного в темноте, она еще засветила ночник-каганец. В продолговатой неглубокой плошке, наполненной застывшим салом, потрескивая, горела светильня — фитиль, свернутый из ниток. Красноватый дрожащий огонек не мог совершенно разогнать тьмы, но и тьма не могла заполнить баню такой непроглядной, черной стеною, как было бы без этого огонька. Тени бегали по стенам, по углам, особенно сгущаясь там, над полком, у самого потолка, низкого и отсырелого, покрытого плесенью, как и бревенчатые стены.
Сквозь оконце, не закрытое ставнем снаружи, затянутое пузырем вместо слюды, едва пробивалось сиянье луны, выглянувшей к полуночи из-за туч. Серебристые блики легли на прорезь окна, на почернелый подоконник, на край широкой скамьи, на которой устроено ложе больному. Под ним мягкий сенник, в головах две подушки. Тяжелая, теплая доха, в которой привезли сюда есаула, покрывает его теперь, и под нею не чувствуется довольно сильный холод, царящий здесь, несмотря на то, что с вечера топили сильно печь. Щели в полу, в потолке, в старых стенах быстро выпускают тепло и дают холоду проникнуть в темное низкое помещеньице. Но тут зато спокойно. Кругом — пустырь, огороды… Река подошла почти к самым стенам баньки. Только просвирня сама да два приятеля Клыч и Сысойко заглядывают к недужному, знают о его пребывании здесь, конечно, не считая самого отца Семена и дочери его. Но тем нет нужды допытываться, что за человек таится на задах у вдовы? Почему тайно ездит к нему даже лекарь-швед, получающий по целому рублевику за каждое посещение, плату, слишком большую и щедрую по тому времени.
Вглядывается в окружающий полумрак Многогрешный, следит, как он зыблется, то редея, то сгущаясь здесь и там… Вот уж и за полночь время… Почти все сало растопилось в ночнике, плавает на его поверхности фитиль и неровно горит огонек, то замирая, то вспыхивая ярче… Лихорадка, еще не покинувшая раненого, с вечера жгла его. Теперь стало полегче. Чтобы омочить пересохшие губы и гортань, Василий протянул руку, нащупал на табурете туйяс, налитый квасом, зачерпнул ковшом, жадно осушил его, потом еще, еще, и снова откинулся на постель, протянулся, лежа на спине. Тихо кругом. Все спит. Собаки где-то лают вдалеке и даже узнать нельзя, что это лай, — такой он созвучно-протяжный, отдаленно-звонкий…
А вот и ближе залаяли собаки… Их злой, заливистый лай доносится от поповской соседней усадьбы… И псы, сторожащие двор вдовы, тоже залились, откликаясь тревоге чутких собратьев-сторожей.
— Видно, приехал хто к попу! — в полудреме подумал есаул. — Только хто бы? Уж близко и к утру… Светать скоро буде… Не мои ли робята?.. Нет! Они бы сюды прямо заглянули… Так, хто ни есть…
С этой мыслью сон охватил Василия. Сразу, словно утонул, заснул он, потерял сознание. Но слух полудикаря и во сне верен есаулу. Слышит он, словно шаги приближаются к баньке. И не знает, снится ему или наяву там кто-нибудь подходит. Чужому некому. Свои, значит… Успокоенный этой мыслью, еще крепче смыкает глаза казак, погружается в сладкую дрему… А между тем вот и дверь отворяется… Струя холода ворвалась в баньку… Это не сон! Вошел кто-то.
— Ты, Фомка… Али Сысойко?.. — в полудремоте бормочет есаул и, не ожидая ответа, хочет повернуться на другой бок, лицом к стене.
Но что-то неожиданное происходит тут. Тяжелое что-то сразу накинулось, навалилось на него, хватает за руки.
«Домовой душит!» — подумал Василий, не сразу придя в себя от кошмарного ощущения неожиданной тяжести, лежащей на груди. Но тут же он очнулся, захотел привстать и снова повалился на спину. Сомнений не было: не домовой его давит, не кошмар у него…
Два человека, солдаты, не казаки, навалились на есаула, дюжие, тяжелые… Словно железными клещами сдавили они ему руки, прижали ноги своими ногами, не дают шевельнуться.
— Полотенца давай! — говорит чей-то знакомый голос.
Нестеров, приказный, тут с этими врагами, напавшими на сонного… Широкими полотенцами, как ребенка, пеленают, завертывают силача есаула, теперь беспомощного, не опасного никому…
— Дохой ево заверните!.. Так. А я все евонные потроха заберу! — распоряжается тот же Нестеров.
Но тут выступает другой кто-то, повыше, потоньше станом, одетый в хорощую доху.
— Я сам везьму то впшстко! — плохим русским говором произносит этот другой.
И собирает все, что разбросано было кругом по скамье и на полу во время короткой, мгновенной борьбы между вошедшими и есаулом. В узел, в какое-то рядно завязаны вещи Василия. Роются под подушками, распороли их, разворошили сенник чужие насильники… Стоя на ногах, поддерживаемый солдатами, извивается от злости есаул. Крикнуть бы хотел, но в первую же минуту нападения толстую мягкую тряпку какую-то плотно забили ему в рот враги. Воздух со свистом проходит сквозь трепещущие вздутые ноздри его… Глухие, дикие звуки клокочут в горле, в груди, не имея выхода через уста… Невнятно воет он, как смертельно раненный зверь, испуская задавленные носовые звуки… Вот на полке, по стенам стали смотреть и ковыряться люди, словно ищут, нет ли где тайной похоронки, не спрятано ли чего.
Догадался есаул, что ищут враги, понял все и неожиданно, нечеловеческим усилием рванувшись всем телом, освободился из рук солдат, держащих его, но, спеленатый по ногам и по рукам, потерял равновесие и грохнулся на грязный холодный пол, теряя сознание.
Обшарив все кругом, убедясь, что рубин не спрятан в щелях или в какой-нибудь похоронке, Келецкий дал знак выносить Василия.
Широкие пошевни, стоявшие сначала далеко за усадьбой, у реки, теперь подкатили к бане. Нестеров, выйдя первым, стал усмирять и ласкать собак, заранее приученных к его подачкам. Псы затихли. Вынесли Василия, уложили, укутали дохой. Солдаты, Келецкий и Нестеров расселись, заполняя просторные пошевни, и бойко рванула вперед горячая тройка сильных коней, неслышно погружая копыта в рыхлый, свежий снег широкого пути… А сверху мириадами падали мягкие, пушистые хлопья рыхлой снежной пеленой, одевающие пустынную дорогу вдоль берега реки.
Утро чуть брезжить стало в небольшое окно, забранное толстой решеткой, когда очнулся Василий и начал оглядываться вокруг себя.
В толстой каменной стене пробито окно, и довольно высоко, почти под самым потолком узкой и длинной комнаты, имеющей пустынный и печальный вид.
Есаул сразу узнал, где он. Это застенок, комната для допроса и пыток при палатах губернатора, при его канцелярии. Не раз приводил сюда Василий на мучения людей… И вот сам очутился в этих стенах, и не как судья, а как подсудимый… Понял все казак. На себя поглядел. Сняты лишние путы с него. Не сдавлена, по-прежнему, грудь, кляп вынут изо рта. Но кричать бесполезно. Стены толсты, людей близко нет. Окно на пустырь глядит, где тоже не бывает никто… А и услышат его крики, так прочь кинутся… Никому и на мысль не придет бежать на помощь тому, кто попал в этот страшный покой… Руки по-прежнему крепко связаны у него широкими полотенцами, чтобы не было больно, как от веревок, врезающихся в тело. И ноги также спутаны. Но все-таки видно: приказано было бережно вязать есаула…
Это дает надежду Василию… Все он сделает, чтобы освободиться… Все, кроме одного… Рубина не отдаст…
Вдруг мучительная мысль мелькнула в мозгу.
— Да не отобран ли уже от него драгоценный клад?.. Тут ли он?.. Не обронен ли дорогой?..
Кое-как спустя ноги со скамьи, на которой лежал, Василий изловчился и сел. Поглядел еще кругом, послушал. Все тихо. Никого. Только темнеют в углу станки для пыток, блок и веревки дыбы свешиваются со сводчатого потолка. Поежился Василий, но сейчас же отвел взгляд от неприятных предметов и осторожно прислонился затылком к грязной, закоптелой, исцарапанной стене, пошевелил головой, не отнимая ее от твердой стены…
— Здесь!.. Не потеряно, не взято сокровище! — обрадовался есаул.
Он почувствовал твердый нажим рубина, запрятанного в широкой повязке, которою обмотана вся его израненная голова.
Ночью во время борьбы повязка эта немного сдвинулась с места, на ней проступили пятна крови, вызванной напряжением во время борьбы. И сейчас жгут все раны, словно раскрылись они там, под повязкой. Но и во время борьбы старался не потревожить повязки Василий, зная, что там хранится, завернутое в грязную тряпицу, пропитанную засохшею, почернелой кровью, чтобы никому и в ум не пришло, какой клад таится под этой тряпкой.
Что-то здесь будет?.. Если еще не обыскали его почему-то, то это сделают… Найдут…
Сознание снова стало мутиться у Василия при одной мысли, что он лишится своего сокровища.
«Умру скорее, а добром не отдам!» — еще раз решил он про себя.
И, закрыв глаза, затих, стал ожидать.
Ожидать пришлось недолго.
Шаги послышались за дверью, в коридоре. Подходили пять или шесть человек, как острым своим слухом успел уловить есаул. Тяжелый ключ повернулся в дверях, звонко щелкнул тугой замок, дверь распахнулась, но только двое людей переступили порог застенка, остальные темнели неясной кучкой в коридоре, и впереди других Василий успел разглядеть ненавистную фигуру юркого приказного Нестерова, которого по справедливости считал виновником грозной беды, свалившейся, словно снег на голову, на Многогрешного.
Один из вошедших, незнакомый есаулу Келецкий, задержался у двери, запирая ее теперь на ключ изнутри. Второй, толстый, приземистый, важный на вид, двинулся вперед к есаулу, словно желая получше разглядеть его среди полумглы, царящей в застенке.
Василий сразу узнал Гагарина, которого видел несколько лет назад, когда тот воеводствовал в Нерчинске и приезжал в Тобольск.
«Новый губернатор… сам пришел на допрос! — пронеслось в уме есаула. — Плохо дело. Тут не отвертеться щедрым посулом, крупной подачкой», как надеялся до последней минуты Василий, если бы его пришли допрашивать судьи и приказные, как это бывает обычно. Наемным, продажным следователям можно было бы в крайнем случае отдать все самоцветы, которые он забрал у Худекова и послал продавать сюда же, в Тобольск… Можно было прибавить вороха ценных, отборных мехов, награбленных за много лет и припрятанных в укромных местах… Все можно было отдать, только бы сберечь главное сокровище, рубин-амулет. А самого князя не купишь ничем… И новая мысль мелькнула в возбужденном, пылающем от лихорадки и от страха мозгу грабителя.
Он вдруг, как огромная рыба, хлопнулся со своей скамьи на пол, почти к ногам подошедшего Гагарина и, лежа ничком, подымая только голову и снова прижимаясь лбом к полу, завопил:
— Милосердия и суда прошу, государь ты мой, батюшка, ваше светлое сиятельство! Спаси и помилуй от недругов раба своего! Слово и дело государево сказать прикажи!..
— А, старый знакомый! Васька-плут!.. Узнал меня! — с какой-то наигранной миной, не то глумливо, не то милостиво произнес Гагарин. — Послушаем, что нам скажешь… Зигмунд, подыми-ка его, если можешь… Да, пожалуй, и развязать можно… Ведь ты захватил?..
Вместо ответа Келецкий молча вынул из кармана и положил на стол перед Гагариным двуствольный пистолет, взведя даже тугие курки на всякий случай.
Гагарин одобрительно кивнул головой, подвинул простой табурет к некрашеному столу, сел, положив руку на оружие, и смотрел, как ловко распеленывал Келецкий есаула, поднятого и усаженного на скамью.
Медленно, с невольным вздохом облегчения вытянул Василий свои отяжелелые, затекшие руки, поднял их над головой, опустил, снова вытянул, желая вызвать к ним прилив крови, отогнанной оттуда тугой, хотя и широкой перевязкой. Обе кисти и вся правая, глядящая из разорванного рукава, сильная, жилистая рука есаула казались иссиня-бледными, как у трупа. А на раненой левой руке из-под повязки просочились тонкие струйки крови, выступившей из раны, уже почти зажившей, но снова раскрывшейся во время ночной борьбы. Струйки эти уж подсохли и потемнели, как и проступившая сквозь ручную повязку кровь, как и пятна ее на головной перевязке.
Онемение стало уменьшаться в руках, но они, как чуял есаул, сейчас еще совершенно бессильны. Вот как и ноги, которые, освободясь уже от пут, все же кажутся налитыми свинцом. Едва может Василий пошевелить ими, не то что встать и пойти… А когда он кое-как поднял обе ноги на воздух, оторвав их от пола, они задрожали и с глухим стуком снова прилипли к полу. Напрасно было и оружие класть перед собой Гагарину. Обессилен, по крайней мере на первое время, силач-есаул.
Видит это и князь. Уселся удобнее, свободней, руку отнял от пистолета.
Келецкий тоже занял место за столом, с краю, подвинул банку с чернилами, взял перо свежеочиненное, достал тетрадку, принесенную с собою для записи показаний, изготовился проделать комедию допроса.
— Так как же нам?.. Ты ли сам все поведаешь?.. Или отвечать желаешь по чистой правде, по истинной, сказывай, плут! — прежним, и легким, и угрожающим в одно и то же время, тоном спросил Гагарин. — Чай, сам сдогадался, почему попал сюда, а?..
— Вины за собой не ведаю, государь, вот как перед Истинным!.. А што поклеп какой ни есть возведен, то разумею… И почему поклеп пошел, тоже догадка есть у меня… Купца изымал я одного с обводными, воровскими товарами. Как присяга велит, обыск учинил, отобрал, што полагалось… Хотел сюды везти… Да и ево с собою захватил… хоша и порезал он себя малость с досады, што изловили ево, лиходея… И на меня с ножом было кинулся, да отвел Господь… А путем-дорогой тот купец…
— Знаю… все знаю… — перебил нетерпеливо Гагарин. — Ты к делу поближе подкатывай… По околицам не броди, в ворота кати!.. Ну!.. И знай: за полное покаяние — полное отпущение дает Господь! И мы тако с тобою порешили быть же! Все начисто скажешь — вины избудешь… Словно и не было ее… Но… за малую утайку, за самую малейшую, пытки и муки смертные примешь! Вот мое слово! Помни. Теперя говори. Да поживей и покороче. Нет мне часу тут хороводиться с тобою…
Задумался на мгновение есаул.
А что если во всем признаться?.. Все открыть, камень дорогой отдать и тем хотя бы жизнь спасти да все остальное, что за долгие годы награблено и припрятано?.. Может, не тронут тогда, оставят ему его «животы», его сбереженья?..
Посмотрел зорко на губернатора Василий. Сидит тот, губами так ласково усмехается… А в глазах… Смертный свой приговор прочитал в этих глазах есаул. И не ошибся. Сейчас же сам он сообразил: разве оставит его в живых Гагарин, такого опасного свидетеля?.. Конечно, не для Петра, для себя хочет захватить князь этот редкий самоцвет… Все в Сибири слыхали о страсти Гагаринской: собирать блестящие камни… Рубин он отберет, все отберет! Конечно, донес Нестеров и об остальной груде более мелких бриллиантов и крупного жемчуга, отнятого Многогрешным у купца… Все отберет князь, потом замучит либо просто голову срубить велит. Кто за есаула вступится!.. Знает Васька, как он сам поступал в подобных случаях, когда допытывался от своих жертв, где лежат их пожитки и добро, обещал им пощаду, а вызнав все, немедленно приканчивал своей рукою, чтобы и следов не было… Так и все делают в Сибири. Так и в московских Приказах творится порой… Так и Гагарин сделает.
И свой правильный вывод есаул в сотый раз заключил решением: «Умру, а добром ничего не отдам!..»
А громко между тем заговорил, с передышками медленно, будто задыхаясь от прежних повязок, а на деле желая выиграть время и обдумать каждое свое слово:
— Всю правду-истину поведаю, светлейший князь-государь, ваше пресветлое сиятельство!.. Прикащик худековский, вишь, в меня пальнул скрозь двери, мало не убил! Той причины ради я и не поспел сам к твоей светлой милости достичь… А только вчерась ошшо верного товарища послал: все бы тебе он сдал по записи, што у купца было вынято… Чай, был у тебя товарищ?..
— Тут твой товарищ, в городу, как мне ведомо, да у меня не бывал! — глумливо отозвался Гагарин. — Видно, с дороги сбился, моего домишки не нашел, в иное место попал. Мы сперва с тобою разберемся. А тамо и за им спосылаем… Так, сказываешь, все с дружком послал!.. И меха, и шелки никанские, и золотые чарки да другое там, что Худеков вез?.. И… зерна бурмицкие, крупнее горошины… и алмазы, изумруды… и все иные каменья самоцветные… Да?!
— Точная правда, государь мой милосливый…
— Как же ты это доверил такой клад чужому человеку?.. Дивно мне!..
— Нельзя без веры и на белом свете жить, отец ты мой, милостивец!.. Помирать тогда, одно и остается!.. Вижу, сам не скоро одужаю… Вот и послал… Как присяга велит…
— Добро… Добро. Так и запишем!.. Послал!.. И я тебе верю, детинушка. Великое ты слово сказал: без веры людям и жить неможно… Ну а что послал, не скажешь ли по статьям, без утаечки?..
Встретились взорами князь-вельможа и есаул-разбойник. Жадным, злым огоньком сверкают глазки Гагарина, упорным, темным блеском непреклонной решимости загорелись глаза Василия, которых не опустил он перед пытливым взором своего судьи и, вероятно, палача через несколько минут… Не дрогнув голосом, говорит есаул:
— Все перечислить могу. Вещи знатные, их не запамятуешь, как горшки на полке… Соболей отборных пять сороков, так чаю, што по сто рублев за вязку, не меней… Да лисиц сиводушек полвтора десятка. Тоже рублев на семь, на восемь кажная… Да чернобурых десяток, лучших же… Да бобровых шкурок дванадесять, рублев по десять кажная…
— Ого! — вырвалось у Гагарина.
Судя по оценке, шкурки были редкой доброты, потому что цена лучшего соболя или бобра тогда не превышала трех, шести рублей. А деньги по их покупной силе ценились раз в десять выше, чем теперь.
Есаул продолжал перечислять все, что послал будто бы с Клычом к Гагарину, а на деле — продавать китайцу-торгашу.
Кончил Василий длинный перечень, не назвав рубина. Замолчал.
— Все ли, детинушка!? — уже суровей повторил вопрос Гагарин.
Келецкий, подробно записавший товары, помянутые есаулом, тоже теперь глядит на него как-то особенно, с затаенной насмешкой и злобой.
— Все, што тебе, господине, с Клычом было послано…
— А еще не было ль чево, что и дружку не поверил, что и мне послать не удосужился?.. Ну-ка, сказывай!
Явной угрозой уже звучит хриповатый, жирный голос Гагарина.
Замялся Многогрешный. Видит, запираться дольше нельзя. Хоть наполовину, а правду сказать надобно.
— Уж не взыщи… помилуй, государь!.. Ошшо одна штуковина была… Больно занятная, мудреная… Царево достояние… Смекал я долго, как быть… Тебе ли оказать находку али прямо государю представить?.. Да и…
— И?!
— И не посмел держать при себе. Думаю: хворый, помру… Попадет вещь заветная, царская, в руки негожие… И на том свету покою мне не будет!.. Я и послал с ею брата двоюродного прямо к государю, к царю-батюшке… Уж ден с десять, как поехал братан. Гляди, Верхотурье миновал и Ростес, к Соликамску ноне близко… Уж не посетуй, твое светлое сиятельство, на холопа своего неразумного, коли што не так содеяно! Не казни безвинно… Уж каюсь, уж послал!..
— Ой ли… так ли?..
— Хоть помереть тут на месте!.. Ошшо при том и чужие глаза были… На их сошлюся. Приказный один с апонцами к государю ж едет… При ем и послано! Коли не выехал он из Тоболеска, за им пошли, ево опроси… Послано… да разрази меня гром Господен… Да провалиться мне в преисподню, во бездны адовы! И кости штобы мои и родителев из земли были извержены… и…
— Так ли?.. Ой ли, детинушка? — уж зашипел Гагарин, теряя самообладание. — А при тебе нет ли вещи той?.. Да и что за вещь? И не назвал досель…
— Камешек-самоцвет! — торопливо отозвался Василий, бледнея от опасности, которая подступала все ближе и ближе, страшная, неотразимая. — Красный кровавик — самоцвет хинский с ихними знаками. Заклятой, сказывали… Казистый такой… будет с орешек с лесной, с хороший… Я и думал: царю прямо пошлю, не пожалует ли милостью?! И вот…
— Отослал?.. С лесной орешек добрый?.. А не поболе ли!.. А?!
— Может, и поболе малость…
— И отослал? Вверил клад цены безмерной братану?.. Одинокого гонца послал с царским достоянием?.. А!..
— Уж лукавый попутал… Виноват! — бормочет помертвелыми губами есаул.
И чувствует, что от страха, от потери крови, от телесных и душевных мук сознание мутится у него, зеленые и красные огоньки и круги заплясали в глазах.
А Гагарин, словно видит все, тешится мукой жертвы своей и вонзает в нее новые иглы своими вопросами.
— А не облыжно ль толкуешь, парень? Не сохранил ли для себя царев клад?.. А!.. Молчишь… Ну, отвечай, собака! — вдруг прикрикнул князь, и лицо его побагровело, жилы вздулись на лбу.
Холодеет отважный, много испытавший на веку грабитель не столько от грозного окрика, сколько от взгляда этих колючих глаз с покрасневшими от ярости белками, от сдержанной пока ярости, которая наполняет этого властного, толстого, несуразного на вид, человека, имеющего власть над жизнью и смертью миллиона людей, населяющих простор Сибири.
Теперь все равно, правду ли сказать, дальше ли изворачиваться… Только бы отсрочить последнюю страшную минуту обыска, пытки… разлуки с заветным сокровищем и с жизнью, которая еще так манит сильного, нестарого есаула.
— Твоя воля, господине… А я всю правду-истину сказал!.. Твой меч, моя голова с плеч… Весь я тута… Искали, поди, люди твои… Все мое хоботье забрали…
— Искали… забрали… не нашли! Твоя правда, Васенька! — уже совсем ожесточаясь, говорит Гагарин. — Тамо нету… А вот мы еще на тебе пощупаем… А не найдем, так сам, поди, знаешь, для чего тут это все понавешано да понаставлено? Допрос учиним с пристрастием, как водится… Скажешь, собака, куды царское достояние укрыл, коли и на тебе его не окажется!.. А покуда…
Он дал знак Келецкому. Тот пошел отворять двери, звать Нестерова и палачей. Гагарин тоже отошел от стола, стал ходить по узкой комнате, обуреваемый нетерпением и гневом, судорожно сжимая в руке пистолет, взятый безотчетно со стола. Он на мгновение тоже обратился к раскрываемой двери, где первою обозначилась поджарая фигура Нестерова, еще стоящего за порогом, в коридоре.
Выхода не было. Всюду залезет проныра и отыщет самоцвет. А потом — пытка, мучения!.. И неожиданная мысль пронизала мозг Василия. Он вспомнил, как глотал большие стаканы водки одним залпом либо огромные куски хлеба и мяса под голодную руку… И сразу решился… Если сейчас на нем камня не найдут, еще есть возможность отсрочить муку и гибель… Он пообещает указать, где спрятано сокровище… Все потянется… А там, кто знает: товарищи придут на выручку, помогут убежать!..
Самые несбыточные, странные и хаотические мысли, надежды молнией пронеслись в смятенном уме… Обдумывать некогда… Быстро добыл он рукой в волосах под повязкою тряпицу с рубином, достал его судорожным движением пальцев, незаметно поднес ко рту, сделал отчаянное глотательное движение и вдруг, захрипев, посинев, повалился навзничь, царапая скрюченными пальцами своими лицо, губы, шею, вздувшуюся и посинелую. Повязка, сорванная с головы этими судорожными движениями, обнажила еще незатянувшиеся раны, где новая ткань алела, словно пурпурный студень, источая крупные капли и струйки свежей крови из прорванных наново отверстий.
Сначала легко скользнул по пищеводу тяжелый, холодный самоцвет, но он был слишком тверд и велик. Мгновенная спазма сжала горло… Камень застрял там в глубине, прервав дыхание, и Василий, без того обессиленный ранами и душевной бурей, сразу лишился сознания, багровея и темнея все больше с каждой минутою.
Гагарин и Келецкий кинулись к нему при первом хрипе и сразу поняли, что тут случилось. А Нестеров, оставленный на пороге, вытянул по-щучьи свою голову и впился глазами во все, что происходило перед ним на другом конце мрачного застенка.
— Зигмунд… смотри… умирает… Помоги ему! — крикнул было Гагарин.
Но Келецкий по-французски негромко и решительно проговорил:
— Молчите!.. Слушайте, что я буду говорить…
Затем обратился к Нестерову, вид которого все объяснил без слов умному ксендзу. Это был опасный свидетель, и его следовало сбить с толку.
— Ты цо ж там стоишь? Сюды иди. Поможи мне…
Нестеров так и подлетел к скамье, на которой есаул лежал, вытянувшись и вздрагивая в последней агонии, пока Келецкий трогал его пульс, слушал затихающие удары сердца. Затем почтительно стал объяснять Гагарину:
— От страху и жаху глова у злодзея не сдержала. Апоплексия, то есть мозговый и в грудях удар!.. Кревь разлилася… Помирать должен тен вор. Надо, жебы споведал его ваш пан поп… Жебы не казали, цо без споведи умар хлоп. Тоже не есть ладно…
— Правда твоя! — сообразив, чего опасается Келецкий, подтвердил Гагарин. — Вот ты, Петрович, сбегай тут рядом к попу… При церкви при ближней… Теперь скоро и заутреню начнут. Пусть идет с дарами. Я, мол, зову!.. Поживее, слышь…
— Лётом лечу! — встрепыхнулся сразу Нестеров, но на полуобороте так и застыл, не выдержав напора своих мыслей, обратился к Келецкому и униженно, и с каким-то затаенным вызовом в одно и то же время:
— А, слышь, пан секретариуш… Нешто при кондрашке так бывает язык прикушен, вон как у Васьки?.. Гляди, ровно бы он задавленный…
И приказный даже ткнул пальцем туда, где на скамье синело лицо есаула и темнел наполовину высунутый наружу язык, разбухший и сжатый судорожно-стиснутыми зубами.
— Так то и есть, ежеле в грудях удар кревный… Духу не стает у человека… От он и делается, як удавленный!..
— А… Глянь, благодетель… Внизу, под кадыком, ровно што выперло у нево… Не глотнул ли часом чево? — не унимался Нестеров, не владея собой, хотя и видел, как не нравится такая назойливость самому Гагарину, как хмурит тот брови и стучит прикладом пистоли по столу.
Вне себя Нестеров. Он догадался сразу, в чем дело. Понял и то, что его провести хотят… Нестерпимо это для злой и жадной души приказного. Так бы он и кинулся на есаула, зубами разгрыз ему горло, вынул то, что там схоронено сейчас, и доказал обоим, что не дурак Нестеров. Но слишком много и так дозволил он себе…
— Гугля в гардле?.. — спокойно на вид поясняет ему Келецкий, делая знаки Гагарину сдержать свой явный гнев и нетерпение. — То часто бывает… Там от сердца жила розервалась… И крев тут стоит в гардле… Но, потшебно за паном попом, же бы не скончался так человек… Идзь, идзь, пан Ян… Я вшистко повем тебе, як повруцишь до дому от попа…
— Да… Али оглох? Часу терять неможно! — топнув ногой, прикрикнул Гагарин. — Иди, зови…
— Мигом! — уже на бегу отозвался Нестеров, и его не стало.
— Что же будет теперь?.. — негромко по-французски обратился Гагарин к своему секретарю и врачу. — Нельзя ли еще?
— Что?.. Достать камень, спасти разбойника, негодяя?.. К чему?.. У вашего сиятельства теперь только руки чище останутся. Сам он покарал себя. Бог к тому привел подлого раба. Идите к себе, отдохните, пока тут его исповедовать станут… Я посторожу. А там, когда надо будет, все сделаем, достанем, уладим на ваших очах! Идите!..
Почтительно, но настойчиво проводил князя из застенка Келецкий, позвал людей, стоящих за дверьми, и велел перенести еще не затихшего есаула в людскую комнату, на половине самого князя,
Туда же явился священник, глухую исповедь дал умирающему и причастил в знак отпущения грехов…
Затем все ушли из покоя, где на конике лежало вытянутое, уже начинающее холодеть тело Василия.
Утро холодное и бледное сквозь занесенное снегом окно глядело на это страшное синее лицо, на распухшую шею трупа… Заперев двери, ведущие в общий коридор, Келецкий вышел через другую дверь в соседнюю комнату, миновал ее и ряд других покоев, занятых Гагариным, снова очутился в длинном внутреннем коридоре и стукнул в дверь Анельци, которая еще крепко спала в такой ранний час.
Обрадовалась «экономка», увидя его, полагая, что на свидание является ее кумир, но тот сухо приказал:
— Старуху, людскую стряпку побуди. Теплой воды надо мертвеца обмыть… Пусть нагреет. А сама принеси мне таз, кувшин с водою и губку в первую людскую, да тихо чтобы все делалось. И не слышал бы в доме никто ничего! Ну!..
Не успел он дойти до своей спальни, служившей и кабинетом, как уже преданная Анельця была одета, разбудила старуху, приказала греть воду, а сама побежала с кувшином и тазом куда указал ей Келецкий.
Оба они сошлись в людской, обращенной теперь в покойницкую.
— Тут лежит один казак… Помер скоропостижно! — предупредил женщину иезуит, чтобы та не испугалась от неожиданности. — Вот он…
Ахнула Анельця, и даже вода пролилась из кувшина, который заплясал в трепещущих руках.
— Ах, Матерь Божия! Удавленник!..
— Ну что тут распускаться!.. Ставь воду, ступай, принеси иголку покрепче и шелку красного или розового… Какой у тебя найдется…
Еле нашла дверь испуганная женщина. А Келецкий обратился к Гагарину, который в соседнем покое выжидал, пока уйдет экономка.
— Входите, ваше сиятельство. Теперь можно…
И, введя Гагарина, продолжал:
— Все готово, ваше сиятельство… Я прикрою только двери… Пожалуйте поближе…
Повернув ключ, Келецкий вернулся к конику, положил рядом на табурет свою ночную рубаху, принесенную им вместе с поношенным костюмом. Потом раскрыл небольшой футляр, оклеенный кожей, в котором оказался набор хирургических инструментов.
Светлый острый скальпель блеснул в руках Келецкого. Грудь и шея совсем были обнажены у трупа, каким казался Василий.
Но он еще был жив. Только летаргическое оцепенение овладело им в тот миг, когда рубин остановился у него в горле, мешая дышать.
Есаул слышал все, что творилось кругом, сознавал, что говорил священник, чувствовал как-то слабо своим охладелым телом прикосновение рук, когда его понесли из застенка в людскую. Слышал он, как все ушли, как снова появился Келецкий, голос которого он узнал, вместе с какой-то женщиной, вскрикнувшей и назвавшей его удавленником. Сквозь полураскрытые веки даже мог различить очертания людей, вошедших в комнату, Василий. И только двинуться, заговорить или хотя бы простонать он не имел сил, как ни хотелось ему этого.
И вдруг еще человек вошел… Тяжелые шаги и голос Гагарина тоже сразу узнал есаул… К нему близко подошли оба. Стоят над ним. Вот что-то светлое сверкнуло в руке у поляка… Эта рука, такая огромная, заслонила последние проблески света, какие проникали в тусклые очи мнимого мертвеца… Что-то надавило на горло под самым кадыком Василию… Обожгло мучительно… Воздух сразу ворвался в широкий прорез горла, в стесненные легкие… И кровь темной струей хлынула навстречу волне воздуха, обагряя пальцы Келецкого, погруженные в разрез, откуда он вынул роковой рубин…
Вместе с кровью и с остатками жизни невнятный крик вырвался из груди у Василия; захлебываясь собственной кровью, он пытался что-то выкрикнуть, вздрогнул несколько раз, вытянулся и затих.
— Он еще жив! — в ужасе прошептал Гагарин, пятясь от Келецкого к дверям.
— Был жив, каналья… Теперь капут!.. А вот и наша находка! — опуская окровавленные пальцы в кувшин, ополоскав там их и рубин, спокойно закончил Келецкий и подал камень Гагарину.
Схватив талисман, все остальное забыл князь. Чудно горели грани огромного самоцвета… А таинственные знаки на одной из них, казалось, дышали темным, пурпурным пламенем еще сильнее, чем весь рубин.
Бледный, охваченный легкой дрожью, любовался Гагарин несколько мгновений камнем, потом, словно против воли, кинул взгляд на залитый кровью труп есаула, поморщился и быстро пошел из людской, на ходу бросив секретарю своему:
— Ну, благодарю за услугу! Не забуду… Устрой тут… А я видеть не могу…
И скрылся за дверьми.
Анельця постучала как раз в это время в другую дверь, куда ушла за иглою и шелком.
— Подожди минутку! — крикнул Келецкий. Взял губку, лежащую в тазу, обмыл кровь с лица и шеи трупа, снял с него рубаху и полосатые порты, в которых был взят Василий, вытер этим лужу крови на конике, на полу, свернул окровавленные вещи и кинул в угол. Затем пошел, впустил Анельцю.
— Иди сюда. Видишь, я пробовал, не оживет ли он… Сделал ему операцию… Ничего не помогло. Зашей рану. А то эти ослы московиты подумают такое, что и беды не оберешься… Зашивай!.. Потом зови старуху. Она не разглядит ничего своими бельмами… Обмойте, оденьте мертвеца… Вот, я свою рубаху принес и платье старое. Рост у нас одинаковый почти… Надо похоронить по-христиански. Хоть и вор был, и схизматик… А все же мертвых надо чтить… Ну, не стой деревом… Делай что сказано… Половчее… Чтобы незаметно было… А я пойду…
И ушел.
Вечностью показались Анельце те мгновенья, пока она десятком-другим стежков зашила края разреза, зияющего на шее трупа… Шатаясь, отошла она потом от коника, опустилась на табурет, стоящий поодаль, зажмурив глаза, в которых так и стояло лицо мертвого, эта страшная рана на шее… Явилась старуха-стряпка. Быстро омыла она труп, одела и уложила на том же конике, с руками, скрещенными на груди.
Бескровный, бледный, словно просветленный, лежал Василий в тонкой рубахе, небольшое жабо которой скрывало шею и зашитый разрез. Поношенное, но господское платье придало совсем иной вид этому разбойнику-головорезу, и он казался воином, павшим на поле чести, а не вором, который случайно только избежал пытки и топора. К вечеру и похоронили его незаметно, тихо.
Но еще перед обедом призвал к себе снова Нестерова Гагарин.
— Одного Господь покарал!.. — сказал он строго, важно приказному. — Еще раз спасибо тебе, что ты старался царское добро разыскать. Не удалось. Что поделать? Может, и вправду самоцвет у тех обоих, что сюды приехали. Или у брата у Васькиного?
— Нету, милостивец, не… — начал было Нестеров, пожелтелый от неудачи своих блестящих планов.
— Молчи! — сердито крикнул князь. — Бог ты, что ли, на самом деле, что все ведаешь? Видел: и в бане сам искал, и тут! Не оказалось камня. Будем еще искать. Пока возьми человека четыре, отыщи тех двоих — как ты звал?
— Клыча да Сысойку…
— Вот-вот, сюда их приведи. Потолкуем с ними.
— Светлейший господин, мало четырех. Сысойку брать, роту целую надоть!..
— С ума ты спятил!
— И ни нишеньки, государь мой милостивый!.. И здоров сам аспид, за десятерых. Да акромя тово, он и здеся, в Тобольске, и по всей округе, на сто верст почитай кругом, у всех бродяг да беглых, у всех воров и вольницы кабацкой словно ватажка почитается. Он им много помогает, и советы дает, и выручает в беде!.. Не то, што он к народу кличь кликнет, завидя нас, — сами людишки черные отобьют ево. Не дадут взять, ежели не поведу я роту целую алибо и две!.. С им ухо востро держать надобе.
— Вот он какой! — протянул князь, взглянув на Келецкого. — Добро. Роту с тобою пошлю. А ты уж заодно и никанца того захвати, китайца-торгаша, которому сбывать парни хотели воровское добро. И все, что найдется у вора в дому, все обшарь, сюды неси. Только гляди, чего дорогою не оборонил бы ты. Понял? — погрозил ищейке Гагарин. — Все донеси мне целиком. А я уж сам награжу тебя, по делу глядя. Не обижу. Слышал?
— Ни синь пороха не утаю! Да можно ли?.. Никанец, чай, скажет, все ли я нашарил да принес, што в дому у нево найдем. Привезу и сдам!.. Разрази меня Господь, коли я!.. Вот, на икону Спаса Милосердного присягу даю.
— Ну-ну, ладно, верю. Меня обмануть нельзя. А если увижу, что верный ты слуга, счастье тебя ждет большое! — посулил снова милостиво князь и отпустил Нестерова, приказав Келецкому нарядить роту для поимки обоих друзей покойного есаула.
Китайца, пожилого степенного купца, и Фомку Клыча вечером привел только к Гагарину Нестеров, да целые тюки всякого добра привез на двух подводах, обшарил все жилище китайца сыщик, ничего не просмотрел, ничего не оставил мало-мальски ценного в опустошенных низеньких покоях. Сысойки не нашли. По словам Клыча, он назад, в слободу свою, укатил рано утром еще.
Допрос был короткий. Клыч сознался во всем, указал среди общей груды сокровищ те самоцветы, какие утром продал китайцу. И тот отпереться не мог от покупки запретных, заведомо награбленных товаров.
Имущества лишился торгаш, за лишним барышом, за большой наживой приехавший в холодную Сибирь из своих далеких краев.
Клыча на другой же день с другими еще колодниками прогнали на край света, в далекую Якутскую область, где скоро и след его погиб.
А ларцы Гагарина обогатились грудой чудных самоцветов со сказочным рубином на челе. Любуясь своими богатствами, князь все-таки не испытывал полного удовлетворения.
Тревожила его мысль о батраке салдинского попа, так удачно избежавшем ареста. И еще больше волновала мысль о дочке попа Семена, образ которой не выходил из памяти сластолюбца Гагарина.
Глава III
ОХОТА
Зима быстро установилась на всем просторе Сибири.
Реки стали, окованные морозами; толстый снеговой наст окреп, зимние пути пролегли во все концы, во все углы, куда и заглянуть нельзя летом, не только осенью или весною, в распутицу либо в ростепель.
Снегами, недавними вьюгами наполовину занесены крайние избы богатой Салдинской слободы, по длинной улице наречной сугробы высокие намело. В снегу тонет и усадьба попа Семена, его показной, на городской лад строенный домик со светелкой и кирпичным низком.
Морозная ночь на дворе. Чистое, темное небо усеяно яркими звездами и слабо озаряет тонким серпом убывающей луны.
Все спят в усадьбе отца Семена: усталая челядь, сам он, осушивший чуть не полчетверти зелена вина на сон грядущий… Пофыркивая, дремлют сытые кони в теплых стойлах; коровы в коровнике, лежа, пережевывают свою жвачку во сне… Псы и те забились от холода в снеговые логовища и спят, благо тихо все кругом, ни чужого человека, ни зверя и духом не пахнет, и слухом не слыхать…
Только через сени от черной половины, в небольшой боковушке, в задней комнатке, где зимою живет Агаша, дочь попа, — там не спят сама девушка-красавица и гость ее тайный, батрак Сысойка Задор, как его кличут, а по крещеному имени Сергей Пучин, дальний родич отца Семена.
Лампада, как обычно здесь, горит неугасимо, красноватым сиянием слабо наполняя горницу, озаряя скамьи у стен, табуреты, столик у окна, другой в углу и постель высокую, белоснежную, на которой раскинулась сама Агаша, дав место с краю и гостю своему.
Чуть все спать залегли, прокрался он к ней, как это делает уж больше года, то чаще, то реже, то раз в два месяца, то каждый день подряд… Теперь первые пылкие ласки затихли, горячая кровь успокоена. И полулежит красавица на своих белоснежных подушках, прислонясь головкой к стене, слушает, что говорит ей этот не молодой, не красивый, но такой могучий, огненный, порывистый человек, который чуть ли не в первый день своего появления захватил ее каким-то странным обаянием, вселяя и страх, и непонятную, жгучую истому…
Помнит она его приход… Года три назад это было.
Оборвыш какой-то, бродяга появился в осеннюю пору у них во дворе. Отец на крыльце стоял, смотрел, как недавно купленного жеребца в бричку закладывали, в Тобольск собирался ехать.
Как раз на другой день было рождение Агаши, восемнадцать лет ей исполниться должно было, и отец хотел закупить кое-что для предстоящего семейного праздника, тем более что и гостей они ждали на этот день.
А оборвыш прямо подошел, шапку снял, поклонился, как свой, и по-украински, забытым говором, родной речью попа Семена заговорил:
— Здоровеньки булы, батько Семене! Бог на помочь! Чи приймаете гостей? Титка Дария кланяться наказывала…
И снова отдал поклон.
Вслушивается, вглядывается отец… Вдруг и глаза выпучил.
— Ты!.. Ты как сюды?.. Да разве?..
Не дал договорить отцу бродяга.
— Я, я самый! Сысойко Задор!.. Из вашего села… Из Украины… из-под Киева… Да оттуда уж давно… И в Питербурхе побывал, и на Москве… И здесь побродил, пока не сведал, что вас, батько Семене, тоже Бог в эти края занес. Вот я и пришел…
Ничего не сказал отец, увел в дом бродягу. Сидели долго вдвоем, о чем-то толковали… Потом позвали старого батрака Юхима, который с отцом и матерью из-под Киева сюда приехал, лет двадцать тому назад… Потом батрак вышел с бродягой, к себе его повел, там ему одежду дал получше…
А на другое утро этот бродяга очутился между челядью на поповском дворе. Работает весело, один за пятерых легко справляется, песни такие лихие, чудные поет… И на баб поглядывает своими зоркими, липкими глазами, от взгляда которых словно жаром в голову ударяет, сердце в груди тише бьется и замирает или так колотится, что выскочить готово…
Боялась его сначала красавица. А он словно и не замечал ее. Так года два прошло. Узнала она, что это — дальний родич отца… Был духовным, расстрижен, в солдатах служил, бежал… Из тюрьмы бежал, чуть ли не клеймо каторжное носит на плечах… И теперь решил искать приюта и отдыха у отца Семена… Трезвый — неутомим в труде был Сысойко… Но случалось, что запивал он. И тогда распутнее, бесшабашнее человека не было на много, верст кругом. Драки затевал, один на целую стену парней выходил и разбивал их… Девок силой брал, где ни застанет. Ни одна смазливая баба от него не могла увернуться… И никто по-настоящему не сердился на Сысойку за беспутство и разгул — столько силы и шири, такую незаурядную ясность мыслей даже пьяный проявлял этот загадочный человек…
Года два сторонилась его Агаша, а самое так и тянуло поближе подойти, заглянуть в его глаза, прозрачные и бездонные, в его душу, такую извилистую, на другие души непохожую…
Заметил ли он или просто по своей привычке решил сорвать и это запретное яблочко… Но помнит Агаша жаркий летний день… Она стояла в огороде, у реки, где густо заплетались плети хмеля на тычинах. Обрывая хмель, собирала она легкие пахучие шишечки его в решето. Вдруг зашуршали плети, сквозь которые пробирался кто-то быстро и порывисто.
Сысойко встал перед нею, бледный, напряженный. Ни слова не говоря, обнял ее и стал бешено целовать… Выронила девушка решето, крикнуть хотела.
— Попробуй! — зажимая ей рот, шепнул насильник. — Видишь!
Длинный острый нож, вынутый из-за голенища, сверкнул у него в руке.
— Лучше нишкни! Уж коли я не стерпел… Два года маюсь… И не стерпел! Так лучше не кличь никого! Каждого уложу… и тебя… и себя напоследок… Молчи!
Грозит… А сам так ее целует, что и без угроз умолкла, сомлела, как обожженная молнией, девушка…
А когда опомнилась, он еще в последний раз поцеловал ее и шепнул:
— Уж и как же ты люба мне, кралечка… горлинка моя… Ласточка сизокрылая… жди нынче… приду, как улягутся наши…
Обнял, долгим, жадным поцелуем впился снова в ее пылающие губы, в глаза, сразу окруженные темными кольцами, и исчез быстро, как пришел… А она, оправя свой сарафан, волосы, корсаж, разорванный на груди, села на землю и долго сидела так, ошеломленная, потрясенная, напуганная и счастливая…
Пришел он в ту ночь, как обещал… И потом приходить стал. И не знала девушка, что лучше, за что она больше привязалась к этому дикому человеку. За те взрывы чувственных восторгов, какие переживает она с ним, или за его речи смелые, складные, за те необычайные случаи из его бурной жизни, о которых так красиво и красочно говорит он ей в спокойные часы после жгучих ласк…
Одно только тревожило девушку. Живя близко к природе, к домашним животным и к челяди, которая так же мало стеснялась во всех своих проявлениях, как коровы и быки отца Семена, она знала все последствия сближения своего с мужчиной.
— А што, коли я… понесу от тебя, Сереженька! — спросила она однажды друга, вся рдея. — Знаешь, тогда я от стыда руки на себя наложу… В Тобол-реку кинусь! Видит Бог!
— Дура! — спокойно ответил тот. — Разве ж я попущу! Небось! У меня про вас, девок, снадобье припасено. Всегда при себе есть… Порошочек такой. Видала на ржи таки рожочки черны бывают? Я их сбираю, сушу, натолку и девкам, бабам даю пить, кому нужно… Поняла?.. Только гляди за собой, не пропусти дней-то… А там без заботы живи!..
Поверила Агаша другу, успокоилась, и еще горячее, беззаветнее стали их ласки…
Сейчас тоже, негромко, чтобы не услыхала стряпуха, спящая в кухне, ведет рассказы свои дружок Агафьи, а она затихла и слушает.
— Н-да… немало пришлось изведать мне… Знаешь… как сказывают: кулику на веку — не привыкать куликать!.. И кнутов, и батогов пробовал… Золото сеял, не потом, кровью его поливал… Все пустое, трын трава! Одного забыть не могу… За што и в солдаты попал. Женка была у нас во дворе… Так себе, не больно пригожа, только тихая… И свалялся я с нею… А отец мой — старик, прокурат, тоже зуб на нее наточил… И застал я их однова. Не помню, как и вышло… Ножом по брюху, по белому, по голому полосанул я Марию… Отец и с места двинуться боится: его ли не полосану… А я уж опамятовался, бросая нож, убежал… Ну, стонет баба негромко, жалится: «Ой матушки мои! За што помираю?..» Попа наутро позвали, пособоровали, причастили… К полудням и отошла… A тут и нагрянули, меня пытать стали: «Как да как бабу зарезал?» Суд был… засудили… Я бежал, в солдаты подался… Много потом всего было… И на войне врагов губил, и так народ хрещеный… А той бабенки и по сю пору забыть не могу… Вот ровно вижу ее брюхо белое, распоротое… слышу, как причитает тихо да жалостно: «Мамоньки, за што погубил он меня? Без времени жисти лишил!» И теперя она мне снится порою. Правда, нешто могла она отцу моему супротивничать, батрачка?.. Не ее вина была… А я…
Замолк Задор.
Просто рассказал он этот ужас.
Просто выслушала Агаша. Жаль ей бабу зарезанную. Но не противен, не страшен и тот, кто ее зарезал, кто часто людскою кровью обагрял свои руки, а теперь этими же руками обнимает ее так сильно, гладит ей плечи, лицо, упругую, атласную грудь…
И он не виноват, что убивал… Так выходило, так надо было… по крайней мере, по его словам это видно. А девушка верит словам этого человека, который перед нею ничего не скрывает о себе… Словно бездну черную, страшную, распахивает ей душу свою. Многие там гибель нашли… Но не она, Агаша, должна бояться этой бездны. Перед нею смиряется этот неукротимый человек. И ласки его, дикие, жадные, бурные, все-таки озарены каким-то огнем поклонения и восторга перед красотою тела и души гордой умной девушки.
Он не скрывает своего поклонения.
— Других я только так… словно петух курочек, топчу… А тебя всей душой люблю, моя горлинка! — часто шепчет он ей.
И верит девушка, нельзя не верить ему… И она счастлива… Хотя в то же время чего-то еще ждет ее душа… Сама не знает чего, но именно не хватает чего-то в отношениях Задора…
— Скажи, Сереженька, коли любишь по правде меня, как ты можешь еще и на иных баб да девок зариться?.. Знаю я, слышь… Да и сам ты не таишь…
— А чево мне таить?.. Боюсь я, што ли, тебя ай ково иного? Себя самово — и то не боюся!.. А почему я на девок, на баб такой лютый? Сама суди… Сердечная сухота — одно дело… А телесное озлобление — иное… Ты мне и по сердцу мила… И хочу я быть часто с тобою… Да не во всяку пору оно можно. Я и беру, хто под руки попал… Таков уж норов мой. Себя не перетешешь, как чеку неподхожую. Навек такой отесан, таким и помру… Смолоду у меня на вашу сестру охота неуемная!.. Да сама видала, каков я… Большой да дюжой!.. Работаю за семерых. Тягаться ль с парнями почну — дюжей меня и нету на полста верст кругом. Впятером одново меня не одолеют. Так и бабу мне не одну, десяток надобно их! И вина, и елею вволю!.. Сказывал я тебе, каки дела делывал, как из бурсы из Киевской утек. И бродяжил, и воином был, и требы справлял, попил у тутошних у хрестьян, кои священства не приемлют, и… Да што перебирать! И не вспомнишь тово, што творить-то ли доводилось. Только так скажу: с чертом не тягался да в петле не висел… Хоша и близко тово было… годков шесть тому назад. Как в Астрахани с казачками со тамошними бунт мы затеяли великой…
— Што за бунт, не сказывал ты мне, миленькой… Уж ли и вешать тебя сбиралися?
— Совсем уж было собрались. Да позамешкались. А я не будь глуп, дожидаться не стал… Придушил двоих сторожей, что меня да товарищев стерегли, да и гайда… Так и пропали два столба с перекладиной, што на нашу долю были налажены!
Смеется Задор. А девушка слушает, бледная, даже теперь напуганная при мысли о том, что грозило ее другу сердца!
— Што ж то за бунт был, миленькой?
— Дурацкой! Начали-то по-хорошему. Письма писали в ближние города, по всей Волге. Мол, «за веру поруганную, за брадобритие, за немецкое платье кургузое да за табак решили встать люди православные! Как пришла ноне пора последняя и на троне не царь христианский, а Антихрист ноне, немчинов сын… И удумал он Русь хрещеную на ересь повернуть…» Идолов сам завел и у всех воевод в городу из домов идолов же мы вынимали… поднялись казаки и горожане. Старый клич «Сарынь на кичку!» кликнули. Заперлися мы в кремле. Воевод побили, в в воде потопили… Да промеж себя разлады пошли. Иных закупили, другие так изменили от страху! И прахом дело пошло… А главно дело: царя у нас не было алибо царька бы, хоша какова, самого плохонького. Для закрасу. Тогда бы и другие за нами пошли. Да мы раней не изготовились… Так все и ряхнуло. Старшин наших вешали, четвертовали. Иные, как и я, уйти поспели… А жаль… Затея была басская. По-старому свои круги завести, без бояр, без воевод, без попов-хапунов. Без даней, без пошлины… Одно словом мужицкое царство наладить норовили!.. Сохе молитися, своему брюху есак нести. И боле ни-нишеньки!.. Мироедов: на кол да в воду. Вот басско бы! Потолстели б тогда, отвисли поджары брюха мужицкие, не плоше приказных да боярских, толстенных, уемистых!.. Эх, не задалось! Я и пошел по свету блукать… Года три маялся… А вот теперя: третий год и у батьки твоево пристал.
— Вот какой ты! — протяжно заметила только Агаша: и снова ждет, что будет ей говорить этот странный человек.
А он привстал, сидит на постели с раскрытой косматой грудью, с руками сильными и волосатыми, словно в шкуре звериной одет. А сам подмигивает ей и весело говорит.
— Дак што же мне баба! Сама посуди! Я их вот, словно орехи кедровые, щелкать навык. Щелк да щелк, пока охота. А там шелуху и выбросил. Не хмурься. С тобою я по-иному, по душе. И баба ты, и сестра мне, и друг! Товарищу ни одному я тово не сказывал, што ты сейчас от меня слышала, да и в иные часы… Так ты и не завидуй, не ревнуй, девушка. Понимай меня. А я от тебя не отлипну! Приворожила, што говорить, красуля ты моя чернобровенькая!..
Притянул к себе на колени девушку, как дитя, ее баюкает и песню запел тихо, заунывно:
Тихо, протяжно закончил свою песню Задор и смолк. Колыхать продолжает красавицу, а та лежит, закрыв глаза, довольная, замирая от тихого восторга и блаженства.
И вдруг поднялась, сорвалась с его колен, отодвинулась с нахмуренными бровями, бледная, словно боль нестерпимая пронизала ее всю.
— Ты тоже ловок глаза отводить! С чево начал, куды привел! О бабах речь шла. Как это можешь ты? Таковы слова улестливые мне говоришь… а сам же не отпираешься, што на всяку поневу готов накинуться, коли под руку попала. И меня так же, «словно шелуху орехову» — метнешь, коли надоем… Диавол ты лукавый, нечистый сам, а не человек! Вот ты хто! Меня, девушку, смутил! Стыд позабыть заставил. Жалеть меня станешь ли?! Иная подвернется — и плюнешь! А я… Нет! Не бывать тому. Лучше ж сама я от тебя отстану! И уйди, слышь… И не ходи, не мути души… Слышь? Не то… сама не знаю, што над собою поделаю. Вот поёшь ты… Я бы, кажись, и померла тут, у тебя на руках… А как подумаю, скольким ты свои песни напевал колдовские. А потом покидал… И што меня покинешь! Так вот и удушила бы тебя… алибо ножом… сюда, по горлу по твоему, по языку лукавому… по лицу поганому!.. А глаза бы… их бы так и вырвала, собакам бросила. Штобы не глядели, души не холодили, сердца бы не колдовали девичьи!.. Уйди, ненавистный… постылый… Кобель ты, не парень! Вот!..
— Ишь, расходилась! — с доброй полуулыбкой, словно ребенку, заговорил Задор, когда смолкла, тяжело дыша, девушка. — Убить меня охота?.. Изрезать, глаза изодрать? Ин, добро! Бери, режь!
Нож, лежащий постоянно в голенище у Задора, сверкнул в полутьме.
Боязливо попятилась к стене девушка, упала в подушку лицом и не то зарыдала, не то завыла от злобы и страсти, от налета безотчетной ревности.
— То-то! На словах вы, бабы да девки, куды ретивы! А к делу взять — и реветь только можете!.. Ну, нишкни. Батько услышит, придет. Неладно выйдет… Э-э-эх, девонька! Жалкая ваша доля. Што вам Бог дает, то вам мало. Чево сами хотите взять — руки у вас коротки. Кабы и Богом был, не создал бы я вас на такую маяту… Да гляди, и много бы иначе сделал!.. Ну, буде! Слушай… Скажу тебе ошшо словечко. Какова никому не сказывал… Жалеешь ты меня, вижу, так, што себя не помнишь… Мил я тебе пуще всего на свете! Ровно Бог для тебя. А так не надо! Слышь! Ты оглянися: как кругом-то все хорошо! Вот ночь, зима. А выйдем со мною, пойдем туды, за реку. Небо горит звездами. От месяца снег загорается. Даль словно зовет тебя. Вой волчий слышен, псы лают, словно о чем тебе сказать хотят, да не могут!.. И в душе так станет сладко, легко на сердце. Тут и меня, и все забудешь. Алибо в лес пойдем… Там сосны, ровно столпы в соборе московском в Успенском, стоят… И сами ангелы службу служат в том храме Творцу земли и неба. И самой молиться захочется. А уж по весне либо летом пойдем в степь да в горы высокие. Либо по реке по быстрой в душегубке поплывем. Небо над головою светлое, солнышко светит да греет, птицы поют, звери на водопой сбегаются. Травы пахнут слаще ладану. Цветы лазоревы по траве раскинуты. Господи! Неужто и тут о парне каком либо парню о девке вспоминать захочется!.. Дышешь да полететь готов от веселья, от шири земной, от красы той несказанной… Я, девушка, ежли и помню часочки отрадные, так провел их в пустыне-матушке, на лоне сырой земли-кормилицы… И ты попытай… Может, и твоя душа того просит, што моя всегда просила… Воли да красы земной… А ласки наши?.. И они хороши ко времени. Ты молода еще. Тебе в новинку. Вот и яришься, и ремствуешь! А потом все надоест, примелькается. Может, тогда и вспомянешь слова мои.
— Мели, мели… с пути сбил меня… А теперя про пустыню заводишь речи! Шайтан!
— С пути сбил? Врешь, девка! Нешто я бы тронул тебя, кабы не подглядел, как очи твои загораются, чуть я в их гляну? Душегуб я, бродяга, вольная душа… Да не зверь! Не чуял бы я, што саму тебя несет ко мне навстречу, как пичужку малую во родное гнездышко…
— Молчи, молчи, лукавый…
— Ну, ин ладно… Помолись, окстись — лукавый-то и отстанет…
— Молилась… не помогает! Обошел ты меня, диавол. Погибла душа моя!..
— Врешь, девка!.. Душа не гибнет людская от того, что любит она… Ну, добро… Давай разом помолимся… в таку пору ночную, тихую, я, хоша и душегуб, и диавалу слуга, а охоч молиться. Ежели душу перед Благим раскрыть, не хуже станет, чем на раздолье степном. Ровно годы и беды с себя стряхнешь, малым пареньком сызнова станешь… Молитва — велико дело, коли с верою. А я верю! И ты веришь, Гашенька. Давай же молиться!..
Первый скользнул он к образам в углу, осенил истовым, широким крестом свою грудь обнаженную и зашептал какие-то слова, не то молитву заученную, не то слагал сам жаркие призывы, обращенные к Божеству.
Потом рухнул ниц, головой ударил об доски пола… еше… еще… Стих невнятный шепот. Словно увидал он что-то дивное перед собой. Поднял голову к образу Богоматери, озаренному лампадой, бледный, неподвижный, с руками, крепко стиснутыми на груди, да так и застыл…
С удивлением глядит девушка. Эта восторженная безмолвная молитва, этот полубезумный неподвижный взгляд, словно устремленный на что-то нездешнее, они и пугают и влекут ее. И, тихо скользнув с постели, она стала рядом с ним, перекрестилась, робко озираясь на Задора, и зашептала обычные молитвы. А потом, подобно ему, пала на колени, отбивая земные поклоны, зашептала от себя, не по требнику:
— Господи! Прости и помилуй меня, грешную… Да што бы он не покинул меня, бесталанную… Господи… Мой бы он был навеки!
Долго молились оба. Потом словно водой холодной обдало первую девушку. Она встала с колен, еще торопливо совершая знамение креста, а сама подумала:
«Ох, грех-то какой! С полюбовником тута перед иконами стала, молитву творю! Все он! Прямо обошел меня…»
И быстро кинулась на постель, укуталась в одеяло до подбородка, глаза закрыла, словно внезапный сон свалил ее.
Медленно поднялся и Задор. Молитвенный восторг в нем остыл. Он огляделся, словно от сна проснулся, кинул взгляд на девушку, усмехнулся, все понимая, что творится в ней. Потом сел на край кровати, оделся неторопливо и вышел из горницы, не тронув девушки, ничего ей не сказав.
Слабое предрассветное сияние одевало восток и пробивалось в щели ставень, крепко припертых снаружи на окнах домика отца Семена.
Не совсем и рассвело еще, как сразу проснулся, ожил поповский двор. Раньше обычного закипела работа кругом, потому что воскресенье нынче и гостей ждут в усадьбу.
Девка-чернавка первая с ведрами по воду к речной проруби спустилась, постукивая по обледенелому, водою политому с вечера снегу своими тяжелыми, крепко сшитыми сапожками. Скотница с подойником в коровник пробежала, поеживаясь от холода, еще неостывшая после сладкого, крепкого сна. Старый Юхим к лошадям прошел.
Первый дымок над людскою избой беловато-молочным винтом поднялся прямо к небу в ясном морозном воздухе. А там и еще дымки из труб повалили…
Словно улей пробудившийся, усадьба полна движения, говора, мычанья коров, овечьего блеянья… А тут скоро прокатился в воздухе первый удар колокола, зовущего к ранней службе и самого отца Семена, и его прихожан…
Весело, дружно день начался, шумно катился, и только к сумеркам стало потише, поспокойнее в усадьбе поповской. Гости, какие были, разошлись и разъехались. Только остались человека четыре из соседнего поселка, давние приятели отца Семена. В чистой горнице за столом сидят, остатки допивают изо всех сулей, четвертей и ендов, какие за весь день наливались да подавались на стол и во время трапезы, и до, и после нее…
Красны лица у всех, хриплы голоса. Поют нескладно, бранятся неистово, похабные сказки говорят или грязные свои похождения описывают. Вышла из горницы Агаша, оставила отца с гостями. Девка, которая услуживать осталась, тоже бы рада уйти, но расходившиеся гости не выпускают ее. То и дело, что один либо другой утащут бедную в соседнюю боковушку и целуют, тешатся всласть. Потом выпустят, идут снова пить… А хозяин только гогочет, слушая, как девка отмаливается, хоть душу на покаяние пустить просит…
В сенях Агафья остановилась, услышав знакомые шаги. Задор вошел со двора, хотел в кухню пройти, увидел девушку, остановился.
— Ай меня поджидаешь… Што надоть?
— Так, ничего… Ты у коней был? Снаряжался?
— У коней… Все снарядил… А сам не снаряжался… Ныньче не еду я с ими…
— Вот-вот… И я просить сбиралась: не езжай, миленький… Штой-то у меня на сердце тяжело, непокойно… Ровно беда грозит…
И вдруг оборвала речь, подозрительно, почти враждебно поглядела на друга.
— А скажи? Што за помеха тебе, што сам ехать не схотел?.. Бабы сызнова? — не выдержав, спросила она, пронизывая его глазами.
— Ополоумела ты, пра! Стал бы я из-за баб от дела отлынивать… А иное дело, тово поважнее, подоспело. В городу побывать надоть нынче, в Тоболеске… повидать дружков… Ду-урочка ты! Все тебе бабы мерещатся…
— Не мерещится мне. Знаю я тебя… И сам не кроешься… Да пропади ты совсем! Штобы не сохнуть мне… А, слышь, какая у тебя там затея новая?.. Скажи… Больно знать охота… Миленький… Скажи…
— «Миленький, пригожий, обшит рогожей!» Ишь, Евье отродье. Все знать хотят. Да тебе скажу… Задумал я тут дело знатное!.. Вольницы много кругом, люду гулящего… А и те, хто побогаче, тоже печалуются: поборы московские да воеводы лихие доняли всех! Ловко бы тут, как в Астрахани, кашу заварить покруче. Тута от Москвы далеко да от Питербуха, от гнезда Антихристова… Може… Хто знает!.. Може, наша и выгорит!.. Вон, слышно и помер уже государь в чужих землях… Не то ево янычары зарубили под Прутом, не то сам помер… Царевич-то Алексей молод, несмышлен… Он бояр своих не любит, которые сенаторы да начальники первые у отца… И они ево не жалуют… Там своя каша на Москве может завариться… А мы тут и угораздимся… Може, своево осетра в чужой верше изловим… Не поняла!? Волю сыщем! Помнишь, как ночью я сказывал… Царство мужицкое… Вот и сбираю я дружков, булгачу народ по малости… А ноне и надоть повидать иных… Оттого не поеду в наезд. Поняла? Заспокоилось твое сердечушко несытое, ревнивое? Эх, ты, краля!..
Он хотел обнять ее, но, услыхав шаги на крыльце, быстро распахнул ближнюю дверь и переступил порог кухни, куда шел раньше.
Агафья медленно, в раздумье поднялась по скрипучей лестнице в светелку свою, где работала целыми днями.
А в большой горнице попойка наконец кончилась. Две сальные свечи вместе с большой лампадой у киота слабо озаряют покой. Гости стали собираться. Тут уже и Юхим, старый батрак отца Семена, появился, тоже одетый в дорогу.
Несмотря на свои шестьдесят с лишком лет, он был крепок, хотя и держался сутуло; широкие плечи, высокая грудь и большие руки говорили о незаурядной силе старика. Щетинистая борода, усы и волосы, стриженные по-украински, в кружок, совсем седые, странно сочетались с густыми, клочковатыми, совершенно черными бровями, изпод которых угрюмо глядели небольшие, еще ясные глаза былого запорожца.
— Ну, сядем перед путем-дорогой! — пригласил отец Семен, стараясь держаться твердо на своих отяжелелых ногах.
Первым подошел он к скамье и грузно опустился на место в переднем углу под иконами, как хозяин и лицо духовное. Гости тоже уселись. Юхим приткнулся у дверей, посапывая по своей стариковской привычке.
Через несколько минут хозяин встал и обратился к киоту. Все тоже повернулись туда лицом и начали молиться, осеняя грудь крестом, творя поклоны.
— В добрый час! Пошли Господь удачи, дружки мои! — кончив тихую молитву, пожелал гостям хозяин. — Только и вы уж тово… Не как прошлый раз… Не пригоже так!.. Своих не обижайте… хрещеный люд православный не замай, слышь!.. Мало нехристей, бусурман што ли!? Теперя самая пора! Ясачные ясак отовсюду везут. Вот вам и охота знатная… А своих ни-ни!.. Не то анафему скажу, а не то, што бы тут с вами!..
— Ну, уж ладно! Вестимо! Расталалакался… Однава промашку дали. Боль тово не будет! Чай, и самим неохота своих резать… Души хрестьянские губить…
— Гляди же, кум Савелий, вы все!.. А с тебя, Юшка, и пуще других взыщу! Ты, старый, гляди да их остерегай… Не то и удачи вам не будет! В яму попадете!.. Слышали, какой лютой новый губернатор наехал?.. Уж его шпыни и тут у нас, на слободе, побывали у просвирни у моей… У Перфильевны… Вынули есаула Ваську…
— Слыхали… знаем! Да мы, почитай, верст за триста на работу ездим! Аж под Тюмень!.. Оттоле как сыпанем сюда, черт сам следов не сыщет, не то новый губернатор да шпыни евовные!.. Не ему одному разбойничать да воеводам ево наезжим!.. Им бы хотелость все себе загрести! Они и десятой доли в казну не довозят, што тута грабят… Так ужли же нам невольно и малость пощупать бока у окаянных бусурман, у самоеди алибо у остяцких собак там да у купцов бухарских!? Буде толковать! Благослови, батько. Вечереет, ехать пора!..
— Ну, Бог вас благослови!.. Езжайте, в добрый час!..
Подошли к Семену под руку «гости», поцеловали благословляющую десницу и вывалили шумной, галдящей гурьбой на крыльцо.
Там уж стоят широкие, особливо прочно состроенные пошевни, запряженные тройкой на подбор. А две запасные лошади сзади привязаны. И вид они дают, словно на ярмарку на конскую едет народ коней продавать…
Уселись, в ногах, в сене, «снаряд» уложили: пищали, топоры, кистени и пороху со свинцом добрый запас. Тут и мясо мороженое под облучком лежит. А за спинкой пошевней, на задке, туйясы крепко привязаны с пельменями морожеными, с молоком, обращенным в лед, и с квасом таким же. Случается, что без дороги надо двое-трое суток ехать «охотникам», чтобы свои следы получше замести… Нарочно приходится попутные деревеньки, села и города объезжать стороной… Так вся эта провизия и нужна бывает. Костер стоит разложить, котелок на рогульке подвесить — и мигом пища готова. А фляги, полные хлебным вином, у каждого при себе на перевязи болтаются, и бочонок полный еще про запас у возницы в ногах лежит, лучше шубы ноги греет…
Сел на козлы дед Юхим, натянул вожжи… Все умостились в санях, укрылись потеплее. Ворота настежь стоят распахнуты. Два человека, которые держали под уздцы пристяжных, пустили повода, отскочили. Гикнул могучий старик… с места кони рванули, как бешеные, только мелькнули в воротах, гремя бубенцами, и вихрем уже мчатся по дороге, круто сбегающей к реке, по которой уноситься стали вдаль, звонко и часто выбивая подковами по ледяному покрову, одевшему широкий речной простор…
. . . . . . . . . . . . . . .
Только спустились сани к реке, а отец Семен вернулся в горницу, собираясь прилечь на отдых после тревожного, шумного дня, как Задор тоже выехал из усадьбы верхом, направляясь к Тобольску.
Стоя у окна в светлице, Агаша видела, как он стал подыматься на холм, за которым тянулась зимняя ближайшая дорога, ведущая в город из слободы.
Вот он уж и на вершине холма. Сейчас начнет спускаться и скроется из глаз.
Но этого не случилось.
Видит девушка, остановился ее милый на самом гребне, вырезаясь так четко на светлой глади порозовелых закатных небес. Руку поднял к глазам, словно приглядеться хочет к чему-то вдали… И вдруг поворотил коня, назад скачет что есть духу к усадьбе.
Не помня себя, чуя что-то зловещее, неодетая кинулась на крыльцо Агаша и через несколько минут увидела, как подъехал сюда встревоженный, хмурый Задор.
— Батьку буди! — кинул он ей. — Скажи: едут сюды сызнова… Целый поезд… По возку сказать, чуть не сам Гагарин!.. Видно, с выемкой… Искать будут… Я побегу поприпрячу кой-чево получче… А ты живей отца упреди…
— К нам, думаешь?.. Може, сызнова к Перфильевне? — кивая на недалекую хатку просвирни, говорит девушка, словно желая обмануть себя самое и свои злые предчувствия.
— Э!.. Што мне с тобой?.. К нам, говорю… Беги!..
И сам, уже не дожидая ничего, кинулся почему-то прямо к одному из погребов, где обычно стояли скопы молочные…
— К нам?.. С выемкой! — испуганно забормотал отец Семен, которого подняла дочь этой тревожной вестью с постели. — Господи, помилуй! Помяни царя Давида и всю кротость ево!.. Добро, што я ранней сдогадался… Поубрал малость кругом себя, што надо было… Да, може… и не к нам, мимо проедут!? Господи!..
И, кидаясь растерянно по горнице, бормоча что-то под нос, то за одно, то за другое хватался напуганный отец Семен.
Четверти часа не прошло, как верховой драгун подъехал к крыльцу и громко позвал:
— Гей, хто тут?.. Свету давайте! Ево милость князь Матфей Петрович Гагарин жаловать сюды изволит… На охоту мы собрались, да опознились. Здеся желает ево милость опочив держать.
— Сам!.. — только и мог выговорить отец Семен и даже протрезвел окончательно при такой ошеломляющей вести.
Весь двор на ноги поставлен был мгновенно. Стол в горнице накрыли лучшей скатертью, уставили всем, что было в запасе у домовитого попа. Кто уже снял праздничное платье, в обыденное нарядился, ко сну готовясь, те снова, как по щучьему веленью, обрядились во все лучшее и, стоя гурьбой у ворот, готовились встречать нежданного высокого гостя.
Отец Семен на крыльцо вышел с хлебом-солью, дочь рядом стоит и держит наготове поднос, сулею и чарку серебряную, золоченую, старинную.
И холода не чует никто от волнения. Очевидно, не беда грозит, если упредить хозяева посланы, да еще прямо сказано, что мимоездом заглянет гость высокий, что на охоту он собрался, а не с грозой и карой судебной… Вот за холмом уже и бубенцы, колокольчики серебристые заливаются… На бугор вынеслась тройка редкой красоты, мчащая тяжелый возок на полозьях по накатанному пути снежному…
Опустились с бугра тройка и вершники, человек шесть, провожающие возок. Нырнул поезд весь в улицу слободскую и быстро покатился снова перед воротами усадьбы, стоящими настежь. Вот и у крыльца возок. Распахнулась дверка, и, поддерживаемый ездовым слугою, вышел князь из возка, на крыльцо идет, ласково кивая по сторонам людям, которые в снег повалились, отдавая земные поклоны своему повелителю, выкликая ему многие лета двумя десятками сильных голосов.
Держа хлеб-соль перед собою, низко кланяется отец Семен, бормочет что-то невнятно… А тут и звон колокольный грянул. Это Задор догадался, побежал к звоннице, раскачал колокола, чтобы с честью встретить «бога земного»…
Агафья тоже низкий поклон отдала, стоит с чаркой на подносе, просит милости в дом войти, осчастливить их хату бедную…
— Войду, войду, красавица!.. И заночую, ежели не погоните незваных гостей!.. На морозе оставаться не заставите… За хлеб, за соль спасибо! А ты, отец Семен, яко пастырь, благословение мне преподай свое на пороге дома сего, чтобы мне и тебе благодать была под кровлею сею! — обратился ласково Гагарин к опешившему попу.
Благословил он гостя, сам кланяется низко, войти в дом просит.
Вошли все. Знакомить стал гость хозяев со свитой своей небольшой, которую захватил с собою «на охоту»…
Келецкий неизменный с ним и офицерик драгунский молодой, женоподобный на вид, а на деле — отчаянный головорез, беззаветный храбрец, первый телохранитель князя Федор Трубников. Затем камердинер Захар и повар Алешка сопровождают губернатора. Очевидно, и на «охоте» он надеется иметь все удобства, к которым дома привык.
Слуги князя ушли: один — готовить что-то на кухне, другой — доставать из возка вещи, необходимые на ночь господину. Конвойные всадники поехали по приказу Келецкого искать ночлега себе у слобожан, чтобы не слишком обременить хозяина своим наездом неожиданным, хотя и желанным, как явно видно было по лицам попа с его дочерью и даже всей челяди ихней.
Усадив гостя под образа, отец Семен наконец после решительного приглашения Гагарина и сам занял место по правую сторону стола. Оба спутника уселись напротив, а Агафья стала подавать и угощать гостей.
Теперь покой был ярко озарен не только сальными свечами в медных шандалах, как всегда, но и церковными, восковыми, вставленными в трех— и семисвечники, которые были внесены и зажжены тем же догадливым Задором.
Только сам он, исподтишка наблюдая за гостями, особенно за Гагариным, старался почему-то, чтобы его лицо не было слишком выставлено на показ; он больше оставался в тени, а там и вовсе перестал входить в горницу, очевидно, выглядев то, что ему было нужно.
Беседа сначала шла туго, хотя гость и постарался сразу придать ей простой, живой оттенок, чуждый натяжек и церемонии. И только после нескольких глубоких чарок, опорожненных отцом Семеном, он немного стал посмелее… А там его громкий, раскатистый смех стал часто потрясать стены просторной, ярко освещенной горницы.
Услуживая почетным гостям, наблюдая за общим порядком и за людьми, которые приносили и уносили еду и питье, Агафья улучила все-таки минуту и прошла в людскую, куда ушел Задор.
— Подь-ка ко мне, Сысойко! — позвала она его тем именем, как звали все кругом, кому не открывал своего настоящего Задор. — Помоги мне достать из укладки, из большой простыни новые. Крышка больно тяжела… А девки заняты…
Он, почему-то насупленный, молча встал и пошел за девушкой в кладовую, где у стены темнел огромный старинный сундук из кедрового дерева, окованный узорными железными скобами и полосами.
— Ты чево ж ушел из покоев? — и не думая трогать сундука, спросила девушка Задора, едва они очутились в темной душной кладовой, озаренной только тоненькой свечкой, которую она держала в руке. — Чего насупился? Аль еще ждешь беды от этих гостей? Не видел, какой сам-то добрый да ласковый!
— Ласков не в меру!.. — криво улыбаясь, ответил Задор. — Беды тебе с отцом от нево ждать нечево, вижу… Прямо сказать надо: счастье в дом привалило в поповский… «На охоту», слышь, собрался князенька… Да еще супротив ночи! Черт усатый, старый! Жирный боров вонючий!.. Знаю я охоту евонную! Он и в Питере так «охотился», што слава про него по всем концам пошла! И на Москве, сказывают, целую уйму бабья держал при себе… Сюды с двумя приехал… Да, видно, мало. Увидал где-то тебя… Вот и прикатил…
Слушает девушка, и кажется ей, что не Задор говорит, а она сама думы свои слышит, которые кружились в уме, едва увидала она Гагарина, его жадный масляный взгляд уловила, которым он словно ощупал ее там, на крыльце, при встрече. И первую встречу вспомнила, в соборе городском…
А тут умный, всезнающий Задор прямо выложил, зачем приехал князь, удостоил попа слободского своим посещением под таким прозрачным предлогом.
И просто, доверчиво, отбросив всякие обходы, девушка шепнула другу:
— Што ж теперь будем делать мы, миленький? Как мне быть?..
Самый вопрос показал, что девушка и не думает о сопротивлении такому поклоннику, понимает, что опасно для нее и для отца, если она обозлит князя, особенно после этой истории с есаулом раненым, который исчез так странно… Много грехов знает за собою поп Семен и, пожалуй, даже рад будет хотя бы и с левой стороны «породниться» со всемогущим губернатором… А девушка?.. Она и сама не посмеет противиться, а ради отца придется стерпеть самое худшее… Но ждет она все-таки, что скажет ей сердечный друг.
А тот молчит, только в глаза ей смотрит, словно в душе читает у нее и ей без слов хочет показать, что в нем делается. А рука невольно за голенище тянется.
— Миленький! — только и вырвалось у испуганной, побледневшей девушки, и даже за руку схватила она его. Вся дрожит, как в лихорадке, губы пересохли, слова больше сказать не может.
А он вдруг расхохотался громко, хрипло так.
— Глупая! Чево испужалася?.. Што в башку тебе пришло? Стану я из-за бабы руки марать… Да ошшо такую персону великую задевать! Уж тогда прямо надо говорить: висеть мне на виселице выше Амана… Ха-ха-ха!.. А я ошшо пожить хочу. Плохо жил, авось кончу ладно… Мне ли дело, с кем ты путаться будешь?! Покуль свежа, потуль и мне хороша… Спокойна будь… Иди, угощай князеньку… Да получше… Целуй послаще… слышь! Я велю! Сам приказываю… Закружи его башку толстую, глупую… Штоб он, ровно пес, за тобой бегал… Слышь? Мне так надо!.. Он пригодится мне для моих затей… для дела великого… Сейчас одна затея такая на ум мне пришла, в душу запала; што ежели!.. — Он вдруг оборвал сам себя и строго заговорил: — Слышала? Сам тебе велю, делай все, што он от тебя захочет… Ничево! Я же знаю, што не по своей то воле… Душа чиста была бы… А тело обмоешь — и грязь отошла! Знай это, девонька. И не смущай себя… Весела будь, пой, пляши ему… Говорю, надоть, чтобы он аки пьяный от тебя стал… Тогда ты мне ево предашь… И мне он послужит за то, што ты… Ну, слышала?.. Ступай…
Быстро, потупив голову, почти убежала девушка.
А Задор, до крови пожав зубами пальцы собственной руки, вдруг изо всей силы головой ударился в бревенчатую стену кладовой, и заходила ходуном высокая, сильная грудь от сдавленных, сухих рыданий.
Но быстро овладел он собой, почесал ушибленное место и вышел из кладовой, у дверей горницы приник, слушает, что там творится…
А там уже все четверо пьяны сидят. Агашу отец послал в украинский наряд принарядиться да гостю показаться. Сам сходил в свою боковушу, вынес целую охапку старинного восточного оружия с рукоятками из серебра и золота, усаженными бирюзой и другими самоцветами. Вынес и шлемы индийского образца, древние, поржавелые, как будто веками пролежали они в земле. Но насечки золотые на них и самоцветы, в железо вставленные, еще, как и встарь, горят… И кольчуги легкие, для копья, для стрелы, для кинжала неодолимые, вынес отец Семен. Потом запястья янтарные и золотые, подвески витые вроде серег, кувшинчики литые из серебра и золота, пояс из золотых блях. Все кажет гостю вельможному. Тот только ахает и дивится…
— Из могил, поди, все из языческих набугровано!? Скажи, где, поп? Може, там еще осталось! Дай и мне счастья попытать! Больно я такие вещи жалую… — говорит Гагарин.
— Ох, милостивец, государь ты мой, князь пресветлый! И рад бы сказать, сам не знаю, откуда это добыто. Есть у меня батрак старый, Юшка… Он у нас в дому, как родной… Он и нашел клад, и мне отдал, говорит: дочке Агаше в приданое… Она и то сережки носит из тово клада… И перстень невелик один ей же носить я дал. Больно чудной он, ровно жук живой сделан… А это у себя берегу… Тебе лишь и показал, потому што ты да Бог у меня! Вот видит Христос!
Крестится, кланяется гостю хозяин. Рад, что не за сыском приехал тот, а за иным делом…
Улыбается Гагарин.
— А где же твой батрак? Позови. Может, мне он скажет, где клад нашел…
— Нету ево в дому! Поехал на ярманку, коней продавать повел. Коньки у меня объявились продажные, своего разводу… Вернется, я тебе ево предоставлю, кормилец, благодетель!..
— Ну, добро! Не кланяйся! Я же гость у тебя в дому! Так хозяину почет равный, как и гостю. Не властью, дружбой наехал, видишь сам. Так оставь поклоны…
— Слушаю, батюшко! — отвечает поп, а сам снова поясной поклон отдал.
Но Гагарин уж и не видит, оружие разглядывает и другие вещи диковинные. Келецкий тоже в восторге, любуется тонкой работой вещей, очевидно, привезенных с берегов Инда и зарытых потом в этой холодной стране вместе с телами знатных владельцев клада…
Не успели налюбоваться вещами редкими, как снова появилась Агафья в горнице. Венок цветочный у нее на темных волосах, отчего еще прекраснее стало лицо девушки. Плахта, корсетка украинская и свитка тонкого сукна, яркого кармазинного цвета ловко облегают стройный стан девушки, ее округлые, точеные бедра и высокую, нежную грудь…
Сказочно хороша поповна в этом наряде… Пожирают ее глазами все три гостя, а Гагарин больше всех…
Пьян отец, но видит и смекает все. И доволен.
— А ну-ка, дочка, покажи, как пляшут у нас на Украине!.. Ну-ка, утни гостям горлинку!.. А я тебе потренькаю на бандуре…
Пошел, бандуру дедовскую принес, настроил, ударил по струнам и припевает тут же…
Играет, сам плечами шевелит, ногами притоптывает… И все гости за ним, даже Келецкий…
А глаза их так и прикованы к девушке, которая под звуки струн то гоголем плывет по горнице, то кружится вихрем, постукивая красными каблучками своих сафьяновых сапожек, медными подковками…
Привстал, не вытерпел Гагарин, платочком помахивает, вот-вот вприсядку по-русски, по-московски, пустится, хотя бандура совсем другое выводит… Трубников тоже вскочил — красный, возбужденный… Ногамиипритопывает, гикает… Не будь здесь князя, уж он бы знал, что делать… Но даже неудержимый порыв страсти, овладевший юношей, не смеет прорваться при Гагарине, который неспроста, конечно, заехал в усадьбу к попу салдинскому…
— А где Сысойка? — вдруг вспомнил хозяин. — Вот он утнет так утнет гопака! Зови его! — крикнул в дверь отец Семен девке, которая как раз выходила из покоя, нося лишнее со стола.
— Сысойко? — спросил Гагарин, что-то припомнив при этом имени. — Это кто же?
— Батрак мой. Из наших краев. Земляки мы… Плясать больно горазд… Вот увидишь, благодетель!.. Вот он! — указывая на входящего Задора, сказал поп. — Ну-ка, хлопче, потешь гостя дорогого… Спляши с дочкой… Пусть знают, как на Украине люди веселятся. Ну!
И еще круче, задорнее затренькал на бандуре.
А Задор, спокойный, невозмутимый на вид, низко поклонился Гагарину, изготовился, плечами повел, дал выступить вперед девушке, которая сразу оживилась при появлении друга, и вдруг, как орел на добычу, кинулся за пляшущей девушкой, то вихрем проносясь мимо и вокруг, то обвивая ее тонкий, сильный стан своей сильной рукой, и так увлекал за собой подругу, словно легкое перышко; потом снова покидал ее, пускался вприсядку, совсем припадая к полу и взлетая снова кверху с непостижимой силой и легкостью, какой нельзя было ожидать от этого костистого, нескладного на вид парня.
Лицо его безбородое, как у скопца, только с редкими усами, обычно кажущееся немолодым, загорелось, помолодело. Глаза засверкали особой удалью и затаенной злобой. Если бы тигра можно было заставить плясать, он имел бы такой вид.
Но гости мало обращали внимания на танцора. Девушка сводила их с ума, тоже преображенная, трепещущая от страсти! Как птица, легко носилась она в танце, неутомимая, знойная, словно одержимая демоном сладострастия и пляски… Ее возбуждение заражает гостей и без того полных желаний.
Пляшет и видит все это Задор. Вдруг остановился он в самом разгаре танца, поклонился еще раз князю и быстро вышел.
Оборвал игру отец Семен. Остановилась Агафья.
Но гости и не возражали против такой неожиданной остановки. Слишком устали они глядеть и переживать то, что огнем наполняло им голову и грудь…
И словно рады были передышке. Даже хмель от вина ослабел, испарился у них из головы после этой опьяняющей, волнующей пляски.
Далеко за полночь окончилась пирушка и на отдых разошлись хозяева и гости. Отец Семен под конец уже совсем опьянел, и его пришлось унести в чулан, где постлано было для него на этот раз. В боковушке, где спал обычно хозяин, Келецкого уложили. Трубникову постель устроили в той же горнице, где ужинали, составя рядом две широкие скамьи, покрыв их сенниками и периной.
— А тебя, князь милостивый, уж не погневайся, — прошу в моем покое почивать. Так батюшко мне наказывал. Тамо постеля получше и прибрано попригляднее… Уж не взыщи. Люди мы простые!.. Чем богаты, тем и рады! — говорила Агаша.
— На твоей постели?! Да я вот уж почитай сорок ден, как приехал, тебя увидал, о том и мыслил: на твоей бы постели… — почти задыхаясь, негромко говорит Гагарин, следуя за девушкой, которая сама со свечой в руке показывает ему дорогу в темных сенях.
— Ступай! — вдруг обратился он к камердинеру, который до сих пор вел осторожно под руку охмелелого князя. — Иди себе, Иваныч! Я сам… Меня, коли что, хозяюшка поддержит… доведет… А?.. Доведешь? — кладя горячую, влажную руку на плечо девушки, спрашивает князь.
— Доведу! — шепчет она, потупясь, косясь глазами на камердинера.
Но того вдруг и видно не стало, словно исчез, провалился он, — так быстро юркнул верный, сметливый слуга в ближайшую дверь.
Вдвоем очутилась она с Гагариным в своей спаленке. Высоко постлана постель ее девичья, белая, такая свежая, целомудренная на вид… Две перины положены одна на другую, подушек груда, как любит князь. И поверх всех — его две думки в чудесных шелковых чехлах… И одеяло его собственное, на гагачьем пуху, шелковое, стеганое. Туфли стоят, кувшин с квасом на столике у постели… Золотой подсвечник с прозрачной, витой свечою из воска крашеного… Еще меньше кажется теперь самой девушке ее спаленка. Тесно, душно ей здесь. Довела она гостя, уйти бы. Да он не пускает…
— Пожди, не беги так скоро… Что скажу, послушай!.. Я спать еще не сбираюсь. Уж и ты побудь со мною… Часочек… Слушай…
— Слушаю… — шепчет невнятно девушка. Поникла головой, ловит чутким слухом не речи важного гостя, а иное: не бродит ли под дверьми дружок ее, не хочет ли и он подслушать и узнать, что здесь творится?
Но тихо кругом. Ни шороха, ни звука… И уже смелее говорит она:
— Слушаю, князь-воевода! Сказывай, што изволишь…
— «Князь-воевода»!.. Как это ты приговариваешь?.. И глядишь так строго… Зачем? Боишься што ли меня? Не бойся! Я добрый… Ково полюблю, рай тому устрою… Слышь? Да постой… Сама же ты где ляжешь, коли меня на свою постель уложить собралась?.. Где же ты?..
— Я… я в светелке, наверху… Тамо мне постлано…
— Одна туды собираешься?! Хе, хе, хе!.. И не боишься?.. Или ждешь, что придет дружок ночку коротать?.. А?.. Не стыдись, не гляди так в землю… Ишь, вся огнем вспыхнула qt стыда! Не надо! Я уж не молодой парень!.. Меня не стыдись. И ты, гляди, какая! Не девочка… Чай, знаешь, што на свете за любовь живет?.. А?.. Есть дружок, а?
Молчит, рдеет Агаша, слезы брызнули даже из глаз.
— Ну, ну… Ладно, верю, што нету никого… Умница… Хорошая девушка… Береги себя до замужества… На шею парням не кидайся… И счастье найдешь… — неожиданно меняя тон, уже не так цинично и сластолюбиво, с оттенком отеческой ласки заговорил Гагарин. Слезы девушки убедили его в невинности ее. И он решил иначе пойти к цели.
— Ну, милая, коли проводила, так и уложи, помоги старику… Хе, хе, хе… Вот шлафор мой одеть помоги. А я пока разоболокусь… Отвернися…
Быстро разделся Гагарин, при помощи девушки надел свой шлафрок, сел на край кровати и поманил к себе девушку.
— Ну, умница, спасибо, что помогла. Поди, поцелую тебя и спать отпущу… Иди, не бойся…
Как осужденная, подошла Агаша. Князь сперва нежно, по-отечески, коснулся ее лба губами и вдруг неожиданно обхватил за талию, привлек, усадил рядом с собой, трепещущую, бессильную. Прижался к ее груди плечом и зашептал, словно тайну великую сказать хочет:
— Слушай, девушка… Чего дрожишь?.. Зачем боишься?.. Не бойся! Счастье твое пришло к тебе… Слушай… Как увидал тебя, по тебе тоскую, словно мне двадцать, а не сорок лет, словно я и девок не видал!.. Слушай… Успокойся… Ты же, поди, знаешь, што на свете творится?.. Вот и пойми, не могу без тебя! Приласкай малость… Саму малость… А я за то…
Задыхается на самом деле от волнения, договорить не может князь.
— Боюсь… пусти!.. — залепетала пересохшими губами Агаша.
— Не бойся… погоди… Слушай… Не противься… Не хочу я силом… Сама ты… поняла?.. Чтобы обиды тебе не было… Чтобы вольной волей все, а не силком!! Тогда мне радость будет полная… Не хочу насильно… Так не противься… Мила ты мне… Больше всех на свете!.. По-моему сделаешь, так я… Золотом осыплю… Слышишь? Выше всех поставлю во всей земле!.. Царицей сделаю, слышишь? Я же Гагарин-князь! Повелитель всей Сибири… А може, и взаправду царем тут стану… Особливо, если ты захочешь… Слышишь?.. Да не молчи… не сиди так… не трясись, как у волка в пасти… Не волк я… Ласки твоей хочу… Полной, вольной… Видишь, как мила ты мне! Вольной ласки жду, а не то чтобы, как других, заставлял отдавать мне тело ихнее… мила ты…
Шепчет, ласкает ей шею, грудь, которую обнажил уже своими дрожащими руками. Силится совсем стянуть с нее и свитку ярко-красную, и лиф высокий, бархатный, расшитый шелками… И плахту уже разворачивать стал, плотно окутавшую пышный стан.
Сидит, дрожит девушка, ни да, ни нет не отвечает на шепот лихорадочный и знойный. Только слезы катятся по бледным щекам.
Остановился князь, целовать перестал, только жмет в объятиях девушку и снова шепчет. — Чего боишься?.. Чего стыдишься? Знаешь сама: нет той женщины в краю, которая не захотела бы на твоем месте побыть!.. Знаешь сама, красавица моя!.. Ну, так не упрямься… Ну… ну!.. Сбрось, сбрось это… Своими руками… Хочу, что бы сама ты… Ну!..
С трудом разжала губы девушка и сквозь зубы, как будто сведенные судорогой, проронила глухо:
— Стыд… грех… Кто меня потом замуж возьмет!..
— Вот оно что! — радостно подхватил Гагарин, услыхав, наконец, что причиной этого пассивного сопротивления, неожиданно выказанного со стороны девушки. — Какой же стыд алибо грех? Пустое… И замуж тебя выдам так, как и самой не снилось! Вот хоть за этого красавчика, который со мной приехал, за Федьку Трубникова. Приметил я, как ты на него поглядывала, плутовочка… А ты и пожилыми не брезгуй… Такие, как я, тебе больше не. попадутся… Ну, брось… Сними это скорее…
И снова сам стал срывать с нее досадные покровы. Не противится больше девушка, но и на ласку не склоняется, сидит, как кукла живая, шепчет:
— Стыд… грех!..
— Пустое!.. Ты читала… слыхала, поди, не раз… У Соломона тысяча жен было, а не сочлося за грех! И у Давида тоже немало начтешь… А праведен он пребывал до конца жизни своей! Не в этом грех, красавица… Эсфирь припомни! Я и тебя также возвеличу… Ну, брось шептать свое… Ну, приласкай…
Теперь уж полную волю дал себе вельможа…
А девушка свое твердит, не отталкивает, но и на ласку лаской не отвечает… И это полусогласие, эти выкрики:
— Мамонька!.. Грех… Стыд!..
Эти истерические восклицания, звучащие и в те минуты, когда сама девушка стала трепетать под поцелуями князя, — все это, как жгучие удары бича, подхлестывало вспышки желаний у жадного к наслаждению, но слабого, изношенного до срока Гагарина…
Утро настало. Все поднялись в усадьбе. Только тихо в покое, где спит Гагарин. Не смеет никто и мимо пройти на той половине дома. А Агафьи не видно. Должно быть, тоже не решается по скрипучей лестнице сойти, чтобы не нарушить сон дорогого, высокого гостя.
Так отец Семен и оба гостя говорят, так вслух и челядь толкует. А все между тем совсем иное думают…
Но вот наконец звонок прозвонил из опочивальни князя. Камердинер, давно сидящий наготове, туда бросился. А ему навстречу по лестнице стала и поповна спускаться. Бледная, усталая, круги под глазами, словно и не спала всю ночь до позднего утра… Не глядит на встречных, в шубейке, в платке на голове, мимо спаленки своей шмыгнула, где теперь Захар князю мыться подает, одевает его…
Вот и на крыльце девушка. Огляделась, увидала на дальнем конце двора своего милого и помертвела, потом пурпуром лицо ей залило… Еле сошла она с крылечка.
Связка ключей позвякивает в руке, которая ходуном ходит… В дальний угол двора прошла она мимо Задора, амбар раскрыла, туда вошла, будто корму для птицы набрать… Но слышит, что дружок тянется за ней, как игла за магнитом тянется… Она и оглянуться боится… Подошла к мешкам с мукой и зерном… И не видит, что сзади делается… Хорошо, что не видит… Бледный прокрался за ней в амбар Задор, а сам уж нож наготове держит, на груди, под кафтаном… Уж ударить готов… Но вдруг четко так перед ним другое женское лицо пронеслось, лицо бабы, которую зарезал он безвинно… И эта же не виновата… Сам же он вчера чуть не приказал ей… Мгновение-другое… Зазвенел нож, падая между мешками на землю…
А он, охваченный внезапным порывом ярости, смешанной с дикой, необузданной страстью, накинулся на девушку, даже не дав ей времени обернуть к нему лицо, и стал осыпать ее бурными ласками, грубо, порывисто и молча, без единого звука… Кофта не выдержала, лопнула на груди… И он так сильно сжал пальцами эту нежную, трепетную грудь, что багровые следы его пальцев сразу проступили на атласистой коже…
Девушка все терпела и тоже молчала, как немая… Вот он с последним поцелуем зубами впился ей в плечо у самой груди… И тут, несмотря на острую боль, не вскрикнула Агаша, только в самозабвенье, словно потеряв сознание, порывистым, частым трепетом отвечала на его дикие ласки. И вдруг изогнулась змеею, одним сильным, порывистым движением оторвала его губы от своего плеча и прижалась к ним своими жадными, пересохшими губами… Так они и замерли на миг…
Затем его не стало.
Когда он ушел, девушка огляделась, вся растрепанная, оправила волосы, запахнула полуизорванную кофту, в платок завернулась, вышла, шатаясь, словно пьяная. Но ей было легко и хорошо, как бывает в знойный летний день после нежданно налетевшей бури и грозы…
Забыла она все: муки стыда и эту мучительную ночь, долгие часы душевной и телесной пытки с Гагариным… С поднятой смело головой, с порозовелым лицом поднялась на крыльцо своего дома девушка…
А ей во след понеслись звуки лихой, разухабистой бурсацкой песни, которую поет знакомый, дорогой для нее голос…
Коней повел поить Задор, а сам так и заливается на всю слободу:
Льется глумливая песня… Но не обидна она для Агафьи. Пусть поет, что хочет, лишь бы пел… Да не смотрел так на нее, как вечером вчера во время пляски… как нынче поглядел, уходя сейчас из амбара…
И этот день минул, и ночь прошла. Никак на охоту не может выбраться Гагарин. Что-то недужится ему. Днем спит либо выпивает слегка со своими спутниками и хозяином. А ночью?..
Он один да Агаша знают, что происходит в эти долгие, зимние ночи…
И Сысойко догадывается, да молчит… в руки себя взял, решил к делу приступить…
Вечереть стало. Лежит в спаленке своей тесной Гагарин. Агаша тут же, слушает, что говорит ей князь, какие сулит награды да радости за каждую искру нежности, за призрак ласки с ее стороны.
И в Москву, и в Питер ее повезет, и чужие края покажет, где круглый год лето и розы цветут, и птицы райские поют, зреют плоды, словно литые в золоте.
И нарядов нашьет, и самоцветов, и золота надарит… Уж и теперь полный ларец у нее всяких чудесных, дорогих подарков. Запаслив князь, с собой немало захватил женских украшений, на «охоту» сбираясь в слободу Салдинскую.
Но не тешат эти подарки и посулы князя девушку. Об ином она думает. Скорее бы надоесть вельможному любовнику… Бросил бы ее!.. Тогда она и счастлива будет. А тот с каждым часом разгорается больше, совсем обезумел на старости…
На короткое время затих, замолчал Гагарин: ни с ласками не пристает, ни речь его не тянется докучна…
Пользуясь минутой, нерешительно заговорила девушка:
— Князенька… свет, Матвей Петрович… Слышь, што скажу…
— Говори, кралечка… Курочка моя… Давно я жду, ты бы заговорила, пожелала чего, мне бы словечко ласковое шепнула…
— Стыжусь я! — шепчет девушка. Потом громче свое повела: — Слышь, тамо Сысойко… хотел тебе челом бить… Про твою милость припас подарочек, сказывал… А што — не говорит… Войти ему позволишь ли?..
— Сысойко… Это он в пору пришел. Я и сам думал позвать парня. Еще за пляс не наградил его. Да и потолковать надо. Зови, пусть идет, несет, что там есть у него. Ежели занятное, в долгу не останусь… Зови…
Агаша вышла и через несколько минут вернулась с Задором, которого пропустила вперед.
Отдав низкий поклон, батрак остановился почти у самой двери, а девушка тоже задержалась, замерла чуть ли не рядом с ним, словно настороже. Ее тревожила, даже пугала первая встреча наедине Гагарина с сердечным дружком, тем более что от Задора сильно несло сивухою, хотя шел он твердо, держался прямо.
Побледнелая, скользила взором девушка от одного к другому, не зная, добра или зла надо ожидать от этой встречи. И стыдно было ей, так стыдно, что убежала бы далеко… Но оставить их совсем вдвоем было выше ее сил. Клялся, правда, дружок, что дурного не сделает гостю, что мог бы и без ее посредства посчитаться с ним тут же, в доме, на каждом шагу… Уверял, что особые замыслы явились в его голове и для них нужна дружба Гагарина, а не смерть этого вельможи… И верит, и не верит Агаша словам Задора. По ее мнению, и сам плохо знает парень, чего он хочет, что может сделать неожиданно для самого себя. И потому стоит, как на горячих, углях, девушка и ждет…
Милостиво свысока кивнул Гагарин на поклон Задора…
— Здорово, парень! Что нам скажешь?
— Челом бью его превосходительной милости, стольнику государеву, боярину-князю пресветлому, Матфею свет Петровичу, велемочному губернатору всея Сибири Северныя, Восточныя и Западныя! Да живет он многая лета!.. — с новым поясным поклоном гулко отчеканил Задор, совсем на манер царского многолетия в храме. — Здравия и радости, удачи и счастья желаю вашему превосходительству! — неожиданно совсем по-военному закончил свое приветствие странный парень. А глаза его, светлые и блестящие, смело выдержали пытливый взор нахмуренных очей вельможи.
— Начал словно бы от крылоса, а кончил по-иному! — покачивая головою, медленно заговорил Гагарин. — Мудреный ты. В монахах не бывал ли, а?.. Ишь, грива какая у тебя долгая…
— Сподобил Господь, удостоен быть служити у алтаря святого… — совсем по-иночески прозвучал ответ батрака.
— А в солдатах?.. Служивал, а?..
— Так есть, ваше превосходительство! — внезапно вытягиваясь, отрезал Задор, как на плац-параде.
— Может, и разбойничал ненароком, парень?.. Кайся уж заодно! Колесовать стану, было бы за што!.. Хе-хе-хе… Не трусь, неси правду… Знаешь, правда из огня выводит, из воды вызволяет… Хех-хе-хе… Ну… был грех?..
— Как перед Господом, так и пред тобою, князь-воевода, не потаюся!.. Давно, правда… а бывало дело… Да ноне быльем поросло… Опамятовался. Черту послужил, теперя надо душу спасать. Тебе да Богу послужу, коли не побрезгуешь рабским усердием моим. Авось и я, смерд последний, милости твоей на што пригожуся… Как в побасенке говорится, што и мравий ничтожный может льва из беды выручить, коли Божья воля на то…
— Вижу, бойкий ты, парень… Наметанный, начетчик… И недаром мне про тебя толковали… Да ладно! Поглядим… А там что у тебя, а? Подарок — не отдарок, как в сказке, а?.. Сказывай, бахарь.
И князь, усмехаясь, кивнул головой на кошелку, которую держал Задор.
— Угадал, вельможный боярин! Тебе ли не угадать, светлый князь-воевода? Ничем ты раба своего не жалуй, не отдаривай, только милостью высокой порадуй, не оставь!.. А я князю-воеводе Гагарину — птицею редкостной, гагаркой-красноперкой индийскою челом бью!..
Вынув из кошелки птицу величиною с молодого гуся, Задор отставил на скамью свою кошелку, где что-то мелодично звякнуло, а сам приблизился к губернатору, осторожно держа в руках птицу, которая трепыхалась от испуга, сразу из темной, закрытой кошелки очутясь на свету, среди людей, которые говорят, двигаются, тормошат ее, дикую, пугливую.
Залюбовался Гагарин невиданной птицей. Темное, блестящее оперение делало ее похожей на других уток. Только шея и голова горели от сверкающего красного оперения. Сверкали также красновато-золотистые круглые глаза птицы, блестящие, как два живых топаза, когда гагара, подняв голову, окидывала покой своим быстрым встревоженным взглядом. А на голове красиво рдел небольшой хохолок, словно корона, данная самой природой своему созданию.
— Хороша!.. Впервые и видеть довелося, хотя немало лет прожил сам в Сибири тута! — осторожно поглаживая птицу по блестящим, мягким перьям, сказал Гагарин. — Слышь, «гагарой индийской» ее звать?.. И откуда ты все знаешь?.. И где ты взял эту диковину?.. Да еще середь зимы! Не ворожбит ли ты, слышь? Не чудодей ли, кудесник?.. А?..
— Для твоей милости на все руки от скуки готов! Што повелишь, то и буду.
— Это значит: «как ни зови, только в куль не вали!» Разумею. Так где же ты выловил «тезку» мою, а?.. И когда?..
— Недалече, князь пресветлый. Есть озера лесные, до Верхотурья не доезжаючи. Я больно охоту люблю, часто на них бывал, зверя, птицу бивал разную и силками лавливал. А энтих гагар-красношеек все ищут… Их, слышь, у нас «царь-птицей» прозвали. Потому, пока гагара не прилетит — и весна не придет, пока не улетят их стаи последние — и зима не станет… Так старики сказывают.
— Так по осени, значит, поймал ты еще птицу и выдержал?
— Не! Недавнушка совсем. Как слух прошел, што жаловать твоя милость изволит к нам в государево место… Вышел я с ружьишком, сам и помыслил: «Дай-ко на счастье на воеводское поохочусь!..» И под самым под Туринском попал на озеро на одно. Все заледенелое, а посередь него — полынья и пар валит, ровно дым из трубы. Энто теплый ключ изо дна бьет. Туды остяки летом собираются да иные народцы; в том озере посередке окунаются. Сказывают, ломота ли али на теле вереды какие бывают — все тою водой горячею смоет и унесет… А зимой, как все кругом замерзает, на той полынье, на воде на теплой видимо-невидимо всякой птицы остается зимовать, котора улететь не поспела со стаями…
— Вот как… Недалеко от Туринска?.. Добро. Запомню. Ну, далей!
— И вижу я: пуста полынья заветная. Одна только плавает «царь-птица» моя, гагарушка запоздалая, от своей-= стаи отсталая… Ровно осенило меня: на то и набрел-де, о чем думал… Надо живьем, смекаю, взять! А птица куды чутка! На триста шагов не подпущает. Я на хитрость и пошел. Взял жилу тонкую, крепкую, что на лески берут, в воде и не видать ее. Изловил рыбку невелику, продел ей в жабры струну мою, к струне — бечевку привязал. Рыбку в воду пустил, другой конец бечевки за колышек привязал и замотал некрепко, чтобы размотаться малость он мог, когда потянет птица… А колышек глыбоко в лед забил. Сам далеко отшел, на берегу, за кустами притаился. Почитай, часа три дожидался, пока гагарка моя успокоилась, вернулась на полынью, на воду села… А тута приманка моя в глаза ей бросилась… Рыбка-то поверху плавает, не может глыбоко нырнуть!.. Гагарка-то и заглонула ее… Сразу, как они любят… Я тута и кинулся к полынье… Взлетела птаха, да нет! Леска-то не пущает… Опять на воду гагара пала… Уже ей бы и выбросить из зобу рыбку заглоченную, да силы-возможности нету! Жадна, заглонула сильно… Я в ту пору за бечевочку, потихонечку… помаленечку и потянул к себе красавушку, и в мешок, и до дому ее… А теперя тебе челом ударил удачей моей! В добрый час, коли примета добрая! Господину всея Сибири «царь-птица» и подобает… Такой, гляди, и в Питербурхе, у самово царя в евонной Кунсткамере нету, хоша и охочь государь на диковины на всяческие.
— А… ты, видно, и тамошни порядки знаешь, парень? — снова вглядываясь в Задора, спросил Гагарин. — Слышь… и сам ты мне штой-то приметен, ровно бы я где видал тебя… а?
— И, князь-милостивец! Мало ли нас таких, корявых, по свету шатается?.. Все лапти на одну колодку ковыряны…
— Может, и так. Ну, за птицу спасибо, парень… Сысойко ты?.. Удружил. Я ее, уж как хочешь, царю отошлю… Он, правда, любит такие диковины. Ты недаром помянул… И тебя не за…
— Ошшо, пожалуй, дозволь слово молвить! — смело перебил Гагарина батрак, так что тот даже опешил и только молча кивнул головой.
— Ошшо есть штуковина… Слышь, вельможный князь, уж прямо для твоей чести! Уж ты ее никому, ни царю, ни царице, ни красной девице, не давай, не дари, себе одному бери! Вещь заветная… хоша и не от дедов-прадедов мне досталася… А получче тово, как я смекаю… Слышь, государь-милостивец, все в ту же пору было, как я на счастье на твое вышел в лес да в поле на добычу… И набрел на курган на одинокой… Сразу признал, вижу: могильник стародавний… Копну, думаю… Заступ, как на счастье, со мною. Я к ему живо древо приладил, обошел курган, снег сгребаю, примет ищу… И, гляжу, с одного боку уж рыли ево… Не то люди, не то звери лесные логово себе пробивали… Я тут и стал далей вкапываться… На вторы сутки до сердца дорылся. Камни открылись могильные. Отворил я дверной камень, а там костяк лежит… весь разбитый. И, окромя черепков да уздечек, окромя железа ржавого кругом, и не видать ничего. Думаю: добывали уже тута добытчики ранней меня!.. Копаю себе, ворошу в мусоре заступом… Глянь, блеснуло чтой-то! Нагнулся, поднял, к свету поднес… И вот гляди, што в руки тем, иным, не попало. Што на твою долю в могильнике осталося, кня-зенька.
Из своей кошелки Задор быстро извлек и подал с поклоном Гагарину что-то сверкнувшее прямо в глаза князю блеском старинного червонного золота.
Эта была широкая головная повязка, вроде тиары, какую в древние века носили цари восточные, жрецы великие и верховные сановники персидские, индийские и индийские раджи, надевая поверх тюрбанов или обвязывая вокруг шлемов в бою.
Овальные золотые пластины были связаны между собою золотыми кольцами, украшены чудесно тонкой резьбою, изображающей богов и сказочных животных.
Средняя бляха была украшена одной большою бирюзой, потемнелой, позеленелой от времени, носящей на себе два каких-то загадочных начертания, глубоко врезанных в камень, так что даже века не могли изгладить этих знаков.
Вся повязка наложена была на кожу, узкие концы которой когда-то могли завязываться узлом. Но теперь одного конца вовсе не было, а вся кожа полуистлела, заскорузла, и только клочки ее болтались, крепко соединенные с короной золотыми же гвоздями.
Даже привстал с постели Гагарин, потянувшись за диковиной, которую подал ему Задор, и стал разглядывать при свете свечи, взвешивал на руке, вглядывался в письмена на старом, потускнелом камне, на огромной, но теперь утратившей свою цену бирюзе. Чем больше вглядывался, тем больше убеждался князь, что эти знаки совершенно сходны с теми, какие начертаны на его рубине-амулете.
— Что бы это было?.. — словно про себя, стал соображать он. — Пояс… Так — мал, короток… Наручник?.. Так не похоже!.. Великану бы в пору такой… На ногах тоже не носили… На голове, видно?..
— Вот, вот, милостивец! Верное твое слово… Череп и лежал поверх этой штуковины… Кто там ранней был, видно, обробел, когда кости мертвые увидел, схватил што поближе лежало, да и наутек!.. А эта самая… корона царская и осталась. Не приметил он ее под черепом… лежала до тебя, князь-воевода! Великое место твое у нас, так и корона тебе! Исполати, господине!
И почти до земли снова поклонился Гагарину Задор, выпрямился, смотрит, словно хочет прочесть сейчас мысли князя.
А тот затих, задумался… То на корону поглядит, то на Задора, а про девушку, которая стоит вдали, в тени, и забыл на это время.
Потом, словно желая отогнать от себя какие-то заманчивые, но опасные мечты, даже плечами встряхнул Гагарин. Обернулся к Задору и совсем ласково заговорил:
— Ну, парень… Ты мне по совести ответы давал, не крылся… И я тебе скажу, что было у меня на уме, что теперь стало… Разбойника Сысойку чаял видеть, про дела которого много слышать привелось… и все — плохое… А ноне вижу, не таков ты, как мне наносили на тебя… Умен, вижу… Плут тоже немалый… И грехов, поди, на душе твоей не один короб, хотя и старых, да не малых!.. Но за исповедь твою за смелую… за уменье, за удачу охотничью все прощается тебе, так и знай! До новой вины… Ежели ты и вправду решил честно послужить, не пожалеешь… А покуда… вот, возьми от меня…
Тяжелый вязаный кошель с рублевиками, лежащий на ближнем столе, взял он и швырнул батраку, который на лету подхватил подачку и за пазуху спрятал ее, твердя с поклонами слова благодарности.
— Не стоит, не стоит, Сысоюшко… Я у тебя больше еще в долгу! Так и знай… Ну а теперь ступай с Богом… Я малость вздремну перед ужином… Ночь плохо спалося что-то… Досада, что моего горбуна шута не взял я с собою. Как не спится мне, он сказки товорит… Я заслушаюсь — и сам не слышу, как усну… А теперь…
— Князенька светлый! А я на што? — неожиданно подхватил Задор и снова приблизился к постели от дверей, куда отступал с поклонами. — Спроси людей, все скажут: нет другова бахаря, как Сысойка Задор. Ложись, изволь… да прикажи только!.. Какую тебе… веселую алибо страховитую? Быль стародавнюю али из Писания… Все могу…
— Ну?! Да ты клад сам по себе, парень!.. Давай, давай… Я вот прилягу… Гашенька, ты что стоишь все! — вспомнил наконец и о девушке Гагарин. — Присядь с нами, послушай, что он тут станет…
— Я ево байки знаю, слышала! — с затаенной досадой, которая против воли овладела ею, проговорила девушка. — Он — мастак… Хоть ково заговорит… Уж послушаю и то! — присаживаясь на скамью у стены, словно нехотя согласилась она.
Ей показалось, что Задор решил сразу завертеть, забрать в свои руки князя. Она была уверена, что это ему удается. И не знала, радоваться ли ей такому повороту дела или грозит ей самой что-нибудь плохое со стороны мстительного, беспощадного человека, каким знала девушка своего друга.
А в это время Задор уже окутал заботливо ноги лежащему Гагарину одеялом, сам опустился тут же на пол, уселся по-восточному, откашлялся и спросил снова:
— Так какую зачинать?..
— Какую сам хочешь… только бы позанятнее… Чтобы заснул я под твое сказанье… Мне все любо.
— Добро. Есть у меня одна сказочка… И не сказывал я ее никому… Тебе скажу, князенька мой пресветлый… Слышь, давно дело было… в некотором царстве, в некотором государстве народился и проживал злой, великий чародей. Народился он от немца-знахаря, лекаря, продойхи-аптекаря, да от ведьмы бесстыжей, дщери Вельзевуловой. Только немец хитер был, выждал пору, как царица тово краю хрещеного брюхата была, рожать собралася, — скрал у ней дите рожоное, царевну-красавицу, а свово черномазова детеныша и подложил на царское место… И росло исчадие Антихристово не по дням, не по часам, а по минуточкам… Месяц минул, вся пасть у нево зубаста стала, ровно у щуки, да говорить уже стал, да все словеса таковы нехорошие… И жрать мяса запросил, у кормилки груди прокусил, живой крови испил, только не померла бедная, еле отходили. А у тово звереныша-дьяволеныша силы прибыло столько, што и сказать неможно! Трех лет он, как парень большой, выровнялся, шутки стал шутить негожие. Хватит ково за руку — рука вон, повернет за голову — голова напрочь летит… А он присосется губами, кровь живую пьет, гогочет от радости. И запечалились родители, царь, с царицею, как им быть с таким нещечком?.. Судили-рядили да и порешили. Построили терем крепкий, башню белокаменну, с подводами глыбокими, туды засадили на цепях на тяжких чадушко нароженное. А он с тово еще лютее стал, крови живой просит! И пускали к ему злодеев-душегубцев, кои на смерть были засужены. С ними тот царевич, Антихристов сын, и расправлялся… Да недолго так было. В едину ночь прилетел Змий огненный, полстолицы спалил, вдарил крылом — снес полбашни, вызволил свово сынка-царевича нареченного. На трон ево посадил, а старого царя и царицы следов не стало нигде… И ни роду, ни племени их державного, стародавнего. Все сгинули. Стал править новый царь в те поры. По виду ровно бы и человек. Только попов хрестианских не терпел, виду ихнево не сносил. Самово святейшево вовсе убрал, других менять стал, насажал на приходах и повсюду слуг своих, тех же бесов, людьми переряженных… Стали те бесы народ мутить, от веры отбивать от стародавней… Святые книги стали портить… И обличье приказано было людям хрещеным менять… Помаленьку народ стали готовить: Бога бы он забыл, Антихристу поклонился, душу продал бы диаволу…
Говорит сказку Задор, а сам исподтишка на Гагарина поглядывает.
— А што, князенька, не скушна моя сказочка… Може, кинуть? — спросил он вдруг, остановив свой плавный, звучный рассказ.
— Ну, нет. Завел, так уж досказывай… Послушаем! — отозвался тот, пытливо вглядываясь в неподвижное, загадочно-бесстрастное лицо Задора, где только глаза заискрились зеленоватым светом, как у рассерженного гада.
— Доскажу уж… твой слуга. И, слышь, немало годов минуло… Забываться стала вера старая, былое благочестие. Брат на брата пошел в земле той хрещеной, усобица почалася… Иноземные цари было тоже на тово чародея пошли, почуяв, што за черные дела он затеял! Да тот и сам не промах. Станет по книгам своим по чародейным, по бесовским диаволу акафисты петь со всеми своими бесами, кои для глумленья ризы напяливали, — и развеет вихрем рати вражеские… Ни звон церковный, ни молитва, ни хрест — ништо помочь не могло супротив тово чародея. А питался он все только кровью живою по-старому. Сам суд чинит, сам к пыткам да казням присуживает, сам и казни вершит своими руками… А чуть голова у казненного прочь отлетит, он тут и всосался, пьет кровушку во свое удовольствие… И полцарства, почитай, так извел, тех людей, што за старую святую старину стояли… А вторая половина, слышь, сбиралась уже поклонитися Антихристу, клеймо ево принять и поругаться над Господом Распятым, как оно в Писании есть сказано… Да не попустил Господь… Укрылся в некоторых дальних областях тово царства благочестивый некий человек, Орелко Будимирович по имени. И родом был он от тех старых государей земли, которых корень самый пытался Змий проклятый и чадо ево извести да выжечь… Вот так пришло, што ослепил Господь очи зверю-владыке, сыну диавола. Он того Будимирыча к себе приблизил, возвеличил, послал ево править в некую область — вотчину дальнюю, што за горами лежала высокими, за лесами темными, за песками горючими… А в той дале-дальней области немало собралося людей, кои не хотели старины решиться, зверю кланяться, душу загубить… По борам, по оврагам, по пещерам глыбоким крылися те люди. И в единой пещере сидел старец святой, што видел дваста и двадесять и два раза, как зима уходила, как весна налетала раскрасавица со своими пташками да зверюшками, с горячим, ярким солнышком да с привольицем степным, со зеленым!.. И была у тово старца книга великая, святая, стародавняя, а в той книге огнистыми азами начертано было заклятье тяжкое!.. И ежели то заклятье перед самим Антихристом прочесть, и тот сгинет, не устоит, провалится в преисподню, в тартарары-тараринские, ко Вельзевулу, отцу своему, к Луциперу, деду окаянному… Давно бы хотел тот старец заклятье объявить, да, слышь, с зароком оно было дадено. Не всяк ево без вреда и говорить может… А должен найтись муж добрый, роду древнего, царского… Штобы все ево чтили… Штобы он веру древнюю почитал да боронил, новых затей диавольских сторонился… Тот и может заклятье прочесть, антихристова сына прогнать; сам может на ево место, на трон прадедов и пращуров своих воссесть людям на радость, веры на укрепление, себе на вечное прославление… А не спишь ли уж ты, князенька, от байки от моей незанятной? — вдруг снова задал вопрос лукавый бахарь.
— Дальше! — только и крикнул Гагарин. Он уже не лежал, а, приподнявшись, сидел на постели и слушал, словно боясь пропустить малейший звук, не отрывая глаз от лица, от губ рассказчика, как будто одного слуха недостаточно было для восприятия мудреной сказки хитрого батрака.
— А дальше все ладно стало, князенька. Дошел до тово старца мой Орелко Будимирович. Книгу ему старец дал, благословил на подвиг. И говорит: «Перва сила у чародея тово в очах. Помни то! Глянет он кому в очи, все знает, што на уме у человека, и может мысли тех как хочет сам повернуть… Либо так заворожит, што и с места двинутся нихто, рукой не может шевельнуть, не то меча поднять!.. Так, перво дело, не гляди в очи огневые ты чародею тому, когда пойдешь на нево! А второе дело — не думай ни о чем, коли станет тебя смущать он чудесами диавольскими. И баб нашлет, и золота насыплет, и власть сулить станет. Скажет, што полцарство твое будет… Не верь. Он улестит тебя, а потом и загубит, как других губил. Читай молитву, пока не обессилит чародей… И хто с тобою будут, пусть молются… А ослабеет окаянный, рази ево насмерть, тело сожги, пепел развей, только тогда и чиста будет земля святая от чар евонных». Так учил старец тот Будимировича…
— Скажи, видал ты когда-нибудь… государя Петра Алексеевича? — неожиданно прозвучал негромкий вопрос Гагарина. — А?.. Видывал?..
— Однава привелось! — быстро кинул ответ Задор и снова нараспев повел свою «сказку».
— Вот, слышь, благословился Орелко мой, книгу взял старую-то, заветную, шелом-броню одел дедовску, заговоренную меч-кладенец при бедре. В путь тронулся на коне на своем, на богатырском… А изо всех пещер, из лесов и оврагов тут и вышла рать-сила несметная, в одной руке крест, в другой топор либо копье, там, или рогатина, и с пищалями, и с самопалами… Видимо-невидимо людей! А над тем воинством — силы небесны, ангелы белокрылы веют-реют, боронят рать Христову от злой нечистой силы, котору наслал чародей на Орелку с ево воинами с Божьими!.. Из песков пустыни ключи забили, поят путников. Из лесов звери выходят, сами в руки даются на ихнее пропитание. Пески зыбучие по озерам золотыми песками рассыпаются, вот как близ озера Мунгальского, што Кху-Кху-Нор зовется…
— Что, что?.. Какое еще озеро с золотым песком ты помянул?.. Мунгальское?.. Где оно?..
— Пожди, дай одно кончу, другое довершу! — говорит Задор и быстрее теперь рассказ повел:
— Вот, долго ли, коротко ли, добегли рати Орелковы с им самим и до столицы старой тово краю, где чародей государствовал… Всех слуг диаволих перебили. А чародей заклятья тяжкого не выдержал, сам скрозь землю провалился, сгинул. И стал мой Орелко царем, Будимирович… Славу прежнюю пращуров наново помянул да прославил. И доселе про нево песни поются и байки баются, што больно добер был к люду хрещеному, спас веру старую от нашествия Антихристова! Сказке моей конец, мне пива корец! Пир задал царь новобранный, Господом избранный. Я там был, мед-пиво пил. По усам текло, в кадыке сухо было! Не пожалуешь ли чево за сказочку, князь-воевод милостивый?
Этим обычным присловьем закончил Задор и умолк.
Молчит и Гагарин. Агаша, как во сне, не знает, что кругом творится… как ей понять и сказку дружка своего, и глубокое раздумье, граничащее с растерянностью, которое явно овладело вельможным гостем?.. Незаурядное что-то произошло сейчас, чует она. А что — не может уяснить себе хорошо.
Задор меж тем тихо выпрямился, подошел к дверям и вдруг приоткрыл их, хотя за ними раньше не слышно было никакого шума.
Только тонкий, звериный слух Задора мог уловить, что стоит и подслушивает кто-то за дверьми. И чуть не опрокинула раскрытая дверь этого любопытного, очертания которого темнеют за дверью в полосе света, льющегося из опочивальни в неосвещенные сени.
— Хто тут? Што надо? — сурово, хотя и негромко окликнул Задор.
Встревожился и Гагарин.
— Кто там?.. Кто смеет?.. — крикнул он.
— Я ж то есть… Я самый, — послышался голос Келецкого. — Тилько стал к порогу подходить, а тен хлоп и раскрыл… Я же ж мыслил запытать, мосце ксенжа, може час вечерю готовац?.. И там человек из Тобольску з пакетом… От царя же цидула есть… Я и мыслил…
— Пакет от ево царского величества?.. Сюда пусть несет… И вечерю пускай там накрывают. Я уж спать не стану. Разбил мой сон вот этот балагур… На все горазд… И плясать, и байки баять… И… Гляди, што мне добыл из могильника…
Келецкий по знаку Гагарина взял и стал разглядывать корону, видимо восхищаясь ее красотой и работой.
— Иезус-Мария! — по-польски стал он восторгаться. — То ж есть цудо! Як дзивне!
Потом обратился к Сысою, словно хотел что-то спросить, но только окинул его взглядом и снова стал любоваться короной.
А Задор сам подошел близко к секретарю, неожиданно сложил руки, как делают католические монахи, и чистым польским языком проговорил:
— Благослови, святой отец, чтобы Иисус Пресветлый еще мне удачу послал. Хочу и на твое счастье пойти, могильники искать-раскапывать. Много их в нашем краю.
Не сразу ответил Келецкий. Насторожился, даже зубы слегка оскалил, как крупный хищник, чующий опасность. Передохнул, овладел собою и особенно ласково ответил той же польской речью:
— Бог пусть благословит. Я не ксендз, как почему-то подумал ты, брат. А ты католик разве, что так хорошо владеешь нашей речью?.. Почему же имя твое и лицо не похоже на наших?
— Родился в Московии, от схизматиков… А бывал в Киеве, в Вильне… И сдалося мне, что там я видел твою милость… И не в кафтане мирском, а в сутане служителя Господня, у алтаря в коллегии отцов иезуитов… Ошибся, видно. Сходных людей много на свете. Прошу простить!..
И отступил к дверям, словно уйти собирается.
— Стой, стой! — приказал Гагарин. — Али забыл, про озеро ты помянул тут про золотое… Хотел сказать мне… Я сейчас. Только вот бумагу посмотрю.
И князь обратился к Келецкому:
— Где же гонец? Зови. Тут он?
— В ближней горнице. Я в сей час!..
Вышел и сейчас же вернулся с драгуном, который подал Гагарину большой пакет, запечатанный печатью Сибирского Приказа на Москве. Кроме адреса, наверху была помета, гласящая, что в пакет вложено послание, писанное лично царем. По знаку губернатора гонец вышел, а Келецкий взял у князя пакет, осторожно вскрыл, между бумагами нашел небольшой, сложенный письмом, лист, на котором темнели строки, писанные твердой рукой Петра.
Гагарин внимательно стал проглядывать это послание, а Келецкий, читающий по-русски легче и лучше, чем он говорил, в это время стал знакомиться с остальными бумагами, которые лежали в общем пакете.
Задор, пользуясь тем, что на них не обращают внимания, перекинулся взглядом с Агашей. И столько сложных чувств — глумления, гордости, ненависти и страсти — слилось в этом взгляде, что девушка невольно подумала:
«Господи! Да сам-то он человек ли простой, каким кажется?! Не лукавый ли, на себя личину людскую принявший, вот как в ево сказке сказано?..»
И, смущенная, незаметно выкралась из покоя, тем более что ей тоже надо было приглядеть за людьми, которые там, в большой горнице, накрывают стол для ужина.
— Особого ничего! — по-французски сказал Келецкому Гагарин, кончив чтение. — Денег надо… Мир с турками стоил много уже и еще вдвое дать придется… А тут сынка женить надо было… Недавно и свадьба пировалась, в Торгау. У тестя венчали Алексея с Шарлоттой, принцессой Вольфенбютельской, уродиной, с немкой кривобокой, рябою. Сам, пожалуй, не знает, зачем эта невестка ему понадобилась! За год вперед я ему все четыреста тысяч почти отсыпал. А теперь еще теребит! Не дал мне даже и оглядеться на новом месте!.. Я должен здесь у людей требовать, не зная, могут ли они дать! И на меня покоры падут… Не рад я уж, что и взял это место!
Так ворчал Гагарин.
Келецкий выслушал молча, потом, словно нечаянно, вспомнил и спросил:
— А… что это за озеро… «золотое»… о котором ваше сиятельство вот этому человеку сказать изволили, когда он уйти хотел?.. Не имеет ли он связи с тем золотым песком, какой доставили вашему сиятельству здешние купцы с другими дарами, объясняя, что монгольские торговцы привозят его сюда, бухарские купцы и отдают как плату за ваши меха за сибирские?.. Этот песок они называли тоже «озерным золотом» и речным. Недурно бы узнать, где эти реки с озерами, и порыться в них.
— Сам знаю, что недурно. Вот и потолкую сейчас с этим балагуром. Он мудреный, хотя и выглядит простым слугой. Послушай, присмотрись. Мне хочется знать, что ты о нем мне скажешь.
И снова к Задору обратился Гагарин:
— Ну, детинушка, теперь твоя речь. Удачливый ты, скажу тебе. Про золото помянул, а тут царь из чужих краев мне пишет, ему очень деньги нужны… И у нас их пока немного… Может, дашь нить, доберемся до клубочка. Царя порадуем, он нас пожалует, и твоя тут доля будет. Говори… как называл ты озеро золотое-то?..
— Кху-Кху-Нор, князь-воевода. Так ево звать…
— Слыхал и я что-то, как в Нерчинске сиживал. Да далеко то было. А где оно, знаешь ли?.. Повести людей туды можешь ли?..
— Куды путь держать — слыхал, знаю. Сам вести не беруся. А людей найти можно.
— Ну, ну, говори: что да как?..
— Пришлося мне, милостивец, по степям тута по окружным поколесить. Живал я и с мунгалами, и с каменными казаками, как их у нас прозывают… Ихней речи и понавык. И от ихних слуг от пленных, от баранты, как зовется по-тамошнему, услыхал я, што есть земля заповедная… Про тое землю иноверным и говорить не смеют бусурмане, чтобы не ведали чужие народы. И первый край такой — круг озера горного, што за Богдольским хребтом высоким лежит, среди степи безводной, Шаминской. И надо все вверх по Тоболу плыть, до Зайсан-озера и дале, пока река поведет. А как река у источка кончится, горы переваливши, надоть степью день пятнадцать, а либо и все двадцать идти… Тут и придешь к Кху-Кху-Нору… И речки при ем, и берег евонный сплошь золотым песком усеяны. Только отмывай да в мешки складывай… Так люди мне сказывали… И на наше, на сибирское, либо на хинское золото тот песок не походит. Светлее он зраком…
— И… много его там?..
— И-и!.. Берут уже века ево там, а все не выберут!.. Да это што! Подалей ошшо есть побогаче размывы…
— Еще? — сразу отозвались оба, Гагарин и Келецкий.
— Ошшо! Ежели от Кху-Кху-Нора на заход солнца поворотить, тут буде другое озеро великое, Лоб-Нор. А от того Лоб-Нору две недели ходу скорого до гор высоченных, Болордайских… Кажись, так их называли мне… Тут третье озеро, Иркет, и город такой же, Иркет-городок, при озере… А из тово озера великая река Амун-Дарья выходит. Ранней она в наше море, в Мертвое, алибо иначе, в Аральское… Оттого степь стала, где ранней было место Божие, не хуже, чем и рай земной, первым людям от Бога уготованный…
— Как ты это знаешь все, парень?
— Люди ложь, и я — тож… За што купил, за то и продал… А про золото верно знаю… Весною, как та Амун-Дарья из берегов выливается, широко разбегается, бухары и всякие иные люди тамошние воду ловят, коврами, сукнами ее перенимают с илом и песком, мутную, тяжкую… А среди той мути и песок золотой наваливается, горит на солнышке, ровно снег под лучами вешними… А как вода спадет, по берегам роются, со дна песок да ил добывают, промывают, золото берут… Богатая река… И озеро все златородное. Песок по берегам ево чуть не на половину золотой. Оттого так богато и люди в тех краях живут, ни сеять, ни жать им не надобно. Есть на што и хлеба купить, и людей кабалить! Нечистый недаром кровь свою пролил на землю, чтобы золото зародить!..
Умолк. И оба слушателя его молчат. Сказочные картины зареяли перец ними в воображении, особенно у алчного Гагарина…
— Добро… Разведаем понемногу… Благодарствую, Сысоюшко, што поделился со мною своими «сказками» и былями… Уж ты, гляди, и не оставляй меня… Что тебе тута, на слободе торчать? И то мне дивно! Ко мне в дворню не хочешь ли, а?..
— Челом бью твоей милости!.. Не ждал, не чаял такова… Да слышь, государь ты мой, благодетель: толку тебе мало от меня, в дворне, коли я буду. Так, на воле, я и на промысла пойду, и по людям потолкаюсь… И, глядишь, тобе же што ни есть занятное принесу да вызнаю… А во дворе сидючи в твоем, где и так челяди немало, — чем тебе угожу?.. Не взыщи, што неладно, может, молвил… Там, как твоя воля.
— Вижу, понимаю — вольный ты сокол… Ну, добро и так… Летай, где хочешь! Меня не забывай… И я не забуду тебя… Авось и приладимся один к другому, а?.. А ты куда ходила, красавица? — обратился он к вернувшейся Агафье. — Что гостей покинула?
— Милости просим, князь-воевода! Столы готовы. Вечерять не изволишь ли?..
— А-а!.. Ладно. Поесть и то надо… А то на ночь и сна не будет, коли не поешь. Идем, идем…
Не узнать теперь просторную, но простую горницу в доме попа Семена. На другой же день, следом за князем, чуть не целый обоз явился в слободу Салдинскую. Посуду привезли, белье тонкое столовое и постельное, ковры, бочонки вин и квасу, любимого князем.
Стены бревенчатые и не видны сейчас под коврами. Скамьи, как в царских теремах, сукном устланы, на полу — ковры. Стол покрыт камчатной скатертью, тканной лучшими мастерицами в Голландии, с вензелями князя. Для него самого — обычный золотой прибор, тарелки, кубки, ножи с вилками поставлены и положены, а для попа с дочкой и для Келецкого с Трубниковым — попроще, серебряное все, чеканное тонкой работы, — приготовлено.
Людская изба в поварню обращена, челядь поповская разбрелась куда попало. И целый ад на этой поварне. Повар князя с поварятами там чуть не с рассвету до поздней ночи что-то стряпают, варят, жарят, как будто надо не пятерых людей прокормить, а целую роту голодных ратников… Широко все привыкли делать вельможи в эту пору, для них благодатную, когда со всей земли что есть лучшего, чуть не даром доставалось им, владыкам над тысячами и десятками тысяч покорных, безответных рабов.
Бесконечный, обильный ужин, политый дорогими, сладкими и крепкими винами, подходил уже к концу. Поп Семен, совсем опьянелый, восхваляя Келецкому прелести вдовы просвирни, заявил, что сбирается после трапезы навестить ее, и звал с собою нового приятеля, успевшего расположить к себе и отца девушки, и ее самое.
Трубников, тоже под хмельком, молчал, ел все, что подавали, пил много и не сводил глаз с красавицы, так что Гагарин даже стал подтрунивать над своим телохранителем, не то шутя, не то ужаленный настоящей ревностью.
Сам князь, насытясь вдоволь и подогрев себя не одним кубком вина, стал весел, разговорчив, рисовал Агаше блестящие приемы у царя в его новом Парадизе и в Москве, вышучивая знатнейших сановников, имена которых были известны даже и в этой сибирской глуши, трунил над прекрасными и непрекрасными дамами и девицами, которые бывают на ассамблеях. Самые откровенные истории о любовных приключениях Петра, Екатерины и всех придворных кавалеров и дам сыпались, как из мешка. Этими историями, картинами распущенности и разврата Гагарин словно хотел и в девушке воспитать «навык» к разным приемам любви, да и себя подогреть посильнее, чувствуя, что слишком велика разница лет и сил у него самого и у его новой, юной и прекрасной возлюбленной.
За каких-нибудь два дня князь успел убедиться, что девушка сильно захватила его, как уж давно не увлекала ни одна женщина, ни из числа опытных, искусных прелестниц, ни из «честных» наложниц, каких он находил среди московской и питерской знати или брал среди своей бесчисленной женской дворни.
«Эх, кабы эту Агашу мне да лет на десяток раней Бог послал!» — невольно думалось Гагарину.
И он все тревожнее стал ловить безмолвные взоры восторга и страсти, которые посылал Трубников девушке, получая в ответ сдержанные полуулыбки и быстрые огненные взгляды.
Описывая сказочное богатство своего московского дворца, где стены и полы зеркальные, а под прозрачными полами плавают в воде золотые рыбки; где позолота горит на каждой вещи, стоящей в покоях; где мрамор, яшма и янтарь врезаны узорами в колонны и стены снаружи и внутри; где зимой и летом цветут в оранжереях редкие растения и цветы, наполняя ароматом воздух; где виноград, персики, лимоны и апельсины зреют в фарфоровых кадках, привезенных из дальних восточных краев, — Гагарин вдруг остановился, поймав слишком выразительный взор, который метнула Агаша красивому офицеру юноше, и обратился с показным дружелюбием к Трубникову:
— А слышь, Феденька, забыл я спросить, как поживает твоя метресска, капитана твоево супружница, с которою ты так скоро спутался? И молодец ты, Федя! Зря не тратишь часу! Сколько уж их у тебя на моих глазах перебывало!.. Али мыслишь: «Бей сороку-ворону, нацелишь и в белу лебедку!» Хе-хе!.. Ну, не соромься ровно девица красная… Ты же воин. Такая у тебя и повадка. Где присел, там и ночь провел! А, гляди, баба-то пришилась к тебе? Парень ты пригожий… Теперь заплачет, как тебе придется в поход идти.
— В поход? Какой такой поход, ваше сиятельство? Не слышно пока о походе… Разве ваше сиятельство желаете меня от себя отослать в армию, которая с государем против шведов сражается?.. Тогда конечно…
— Нет! От себя зачем мне отсылать? Для меня и в поход тебе придется снаряжаться… Не бойся, не надолго. Кто тут останется, не умрет!.. И дело поручить тебе хочу прибыльное, знатное. На золотое озеро, на разведки пошлю. Тут ко мне вести пришли, что можно на том озере руками золото загребать. Вот и поглядишь-поразведаешь: где то озеро? И правда ли все, что толкуют про него. Может, себе мешок-другой нагребешь песку золотого… И на мою долю горсточку припасешь. За все спасибо скажу…
Говорит князь, а сам то на Трубникова, то на Агашу поглядывает.
Трубников и рад блестящему поручению, и словно не хочется ему собираться никуда. А девушка? Даже жаль стало пожившему сластолюбцу своей подруги, почти подневольной — такая печаль вдруг выявилась на ее нежном подвижном лице.
Ухмыляется про себя Гагарин, сам думает: «Ничего! Потерпи! Сперва я сам вволю понатешусь с тобою, красавица… А тамо уж, как поостыну… Пожалуй, хоть и с Федькой взаправду обвенчаю вас. От ожиданья еще горячей охота разгорится в тебе да и в нем, в хорошуне этаком!»
Не знает Агаша мыслей нового господина своего. И печально кончается для нее ужин и вечер, начатый было так хорошо и весело…
— Что печальна так, ясочка? — спрашивает девушку Гагарин, уже готовясь на заре отпустить ее в светелку, куда, для соблюдения приличий, уходит все-таки Агаша перед появлением камердинера.
— Так, ничего, князенька. Не печальна я…
— Может, устала? Не по себе, может? Недужится, а?
— Нет… так… не знаю! — звучит негромкий, безучастный ответ.
— А, сдается, я знаю, что за причина печали девичьей. Весела была, покуль не услыхала, что отсылаю за делом я Феденьку… Верно, а? Признавайся, красавица, приглянулся парень? Кудрявый, краснощекой… Не мне, старику, чета… а?
— Помилуй, государь! И ни в жисть! Да нешто…
Бормочет отговорки, а сама вся алеет девушка. И стыдно ей, что подглядели ее тайну, и чует грозу близкую в ласковых выпытываньях князя. И для себя беду, и, главное, для него, для офицера-красавчика, который сразу вытеснил из дум и сердца Агаши даже образ бесшабашного и властного Задора. Торопливо, словно желая отвратить от милой, кудрявой головы ревнивых подозрения всемогущего начальника, Агаша решительней заговорила:
— Уж, коли заприметил… уж я не потаю… Сосет мое сердечушко печаль-тоска тяжкая! А той тоски причина в тебе, князенька. Вот, меня ты корил: не ласкова я, как ты хочешь, с тобою застенчива… А у меня одно на уме: недолго потешишься с девушкой… Погостишь еще денек-другой, к себе вернешься. Меня и не помянешь! Я со стыдом своим тута остануся… А ты там… у тебя тамо, видела я… Есть сударушка… Издалека привез… Две, бают. Да одна белеса така! Та… неказиста… не боюся ее… А вот другая… Не наша, не русская. Француженка, слышь… Я уж вызнала… Шельма, потаскушка… А обвертала тебя, сказывают, ровно зельем опоила!.. Уж коли прознает она про меня, и не пустит тебя к нам, в слободу… Вот в чем печаль моя… а не то…
Слушает, верит и не верит князь.
Неужели и в самом деле он успел чем-нибудь внушить такое чувство этой молодой красавице? Правда, могуч и знатен он, и ласков очень был к девушке… Конечно, если бы не ее невинность, — так думает Гагарин, — она бы поняла, как слабы и недостаточны его ласки… Но если она его первого узнала, тогда, конечно, и эти вспышки должны были вызвать в девушке известного рода привязанность к первому возлюбленному, хотя бы и не молодому и не такому красивому, как тот же Федя Трубников.
Эти мысли сразу отогнали ревнивую тоску и раздражение, которое целый вечер сверлило душу князю. Улыбаясь самодовольно, он совсем уж весело и ласково обратился к девушке:
— Милуша ты моя… Дитя мое любимое! Совсем ты дитятко неразумное!.. А еще я думал, что ты девица дошлая… Ничево, оно и лучше так… Слушай, верь мне: уж много лет никого я так не любил, как ты мне мила стала… И ублажать тебя буду, и никого не пожелаю другой… Лишь бы ты мне верна была, молодых не подманивала… Слышишь? А эту… французинку мою… Уж коли так, я ее и домой послать могу… Пожди только. Она — девица хорошая. Мне была покорна во всем, честно в моем дому жила… Так и обижать ее на за что. Я помаленьку… стану ей поговаривать… А там… и с Богом! Но верить мне должна, девушка: одна ты у меня теперь, одна и будешь… Хочешь, отсюда ко мне повезу?.. Живи со мною полной хозяйкою…
— Што ты, князенька! — о неподдельным ужасом вырвалось у Агаши. — Штобы я, отца покинумши, как девка гулящая в чужом дому?!.. Да и батюшка убьет маня скорее… Тут, у нас… уж ничего не поделаешь!.. Вышел грех, да в своих стенах!.. А тамо!? Я захирею от стыдобушки. Нет, и не говори тово!
— Мда… ты права. Туда тебе не за чем… У отца оставайся! — в раздумье согласился Гагарин. — А я частенько наезжать-гостить стану. Не далече оно… Увидишь, как я беречь да холить буду тебя, касаточка.
И, разнеженный, растроганный искрой неподдельного чувства, которое прозвучало в голосе Агаши, он осыпал ее без конца ласками, где нежность отца смешалась с запоздалым пылом немолодого любовника…
Часть четвертая
КАРТЫ СПУТАЛИСЬ
Глава I
ДВОЙНАЯ ИГРА
Только на пятый день под вечер возок Гагарина подан был к крылечку поповского домика — князь решился проститься с Салдинской слободою, с отцом Семеном и его красавицей дочкой. Да и то против воли уезжал губернатор, которого срочные дела призывали в Тобольск. Надо было написать и послать поскорее ответ Петру, который не любит ни малейших проволочек, особенно если лично запросил о чем-нибудь. Затем огромные транспорты ясаку, то есть пушной «казны», шкурок звериных, которыми уплачивали свой оброк покоренные племена, готовы были к отправке, как и тюки драгоценного корня женьшеня, маральих рогов, чаю, пряностей и, наконец, караван золотого песку, собранного за целый год, добытого из недр земных и полученного в обмен на товары, отпущенные из царских амбаров. Все это надо было отправить через Верхотурье на Москву, в Главный Сибирский Приказ, где двоюродный брат Матвея Петровича Василий Иваныч Гагарин все примет, часть запишет в счет откупной суммы этого года, часть зачтет на будущий год в уплату, а многое и просто должен пустить в продажу, послать на рынки Гамбурга и другие. Затем вырученные деньги хранились на личном счету губернатора и откупщика Сибири, пока тот не пришлет распоряжения, что делать с этими крупными, особенно по тому времени, суммами денег.
Больше недели отняли эти неотложные дела. Тут же обсудил губернатор все подробности снаряжения небольшого отряда с Трубниковым во главе, с таким расчетом, чтобы ранней весной можно было пуститься в путь, к середине лета добраться к заветному Кху-Кху-Нору, к золотому озеру, разведать дело хорошенько и по быстрому Иртышу, плывя уже по течению его, а не против струи, как придется весною, поспеть обратно в Тобольск до первых заморозков, пока не затянет льдом реку.
До будущей осени Гагарин решил только в общих выражениях сообщить Петру о задуманной разведке и о надеждах, какие сам князь на нее возлагал.
Кроме того, еще одно важное дело, задуманное Гагариным по пути в Сибирь, подсказанное ему и собственным опытом, и незаметными внушениями Келецкого, требовало много внимания и работы со стороны самого князя и тех четырех-пяти человек, которые являлись его ближайшими сотрудниками по управлению огромной страной, хотя и малолюдной, но пространством во много раз превосходящей Россию, лежащую по ту сторону Рифейского хребта, как звались еще горы Урала.
С собою привез Гагарин целые сундуки указов и наказов, отписок и записей, касающихся управления Сибирью, данных прежними губернаторами, исходивших и от него самого как от главного судьи Сибирского Приказа, то есть фактического наместника, хотя и проживающего на Москве, далеко от края, вверенного ему царем.
Здесь, в Тобольске, тоже были перерыты все архивы, разворачивались старые свертки бумаг, целые «столпцы», составленные из подклеенных один к другому листов, часто доходящие до сотни аршин длины при необъятной толщине. Сырость, крысы, плесень портили эти свитки, многие бумаги были наполовину уничтожены, изгрызаны, чернила выцветали совершенно… И потому недавно даже последовал приказ: «Не писать приказов и ведомостей на „столпчиках“, не склеивать их потом в гигантские „столпцы“, а вести все делопроизводство, вписывая его в тетради или употребляя отдельные листы бумаги, которые потом могли быть сшиты в тетради же. Этим предполагалось сохранить архивы в исправности и ввести больше порядка в запутанное делопроизводство, от чего особенно страдала Сибирь.
Гагарин изо всего огромного материала приказал выбрать наиболее важные приказы и наказы, данные до этого времени различным сибирским воеводам по городам. Якову Агеевичу Елчину поручено было ознакомиться с этими указами и с основными законами, касающимися Сибири и ее управления. Затем с открытым листом, дающим ему самые широкие полномочия, должен он был объехать не только главные города края, но и самые отдаленные закоулки, острожки и городки, куда обычно осенью съезжались оброчные инородцы с ясаком.
Всюду Елчину предстояло производить поверку дел, выяснить, исполнялись ли приказы, данные в разное время, не творилось ли каких беззаконий воеводами-комендантами, приказчиками, городовыми, целовальниками, старостами и до объезчиков включительно — словом, тою бесчисленной армией военных и гражданских агентов власти, которые на деле правили и владели Сибирью от имени царя и „по указу его царского величества“, как писалось везде на бумаге с орлами и без орлов, нечервленной, негербовой…
Это была показная сторона ревизии. Конечно, заранее можно было сказать, что не найдется такого города, где не накопился бы ряд самых вопиющих нарушений закона, явных небрежений к приказам, идущим от центральной власти. Понимал это хорошо и Елчин. Беседуя с глазу на глаз с Гагариным, он прямо сказал ему:
— Ваше превосходительство, сиятельный князь! Отсюда глядя, поведать можно наперед: ни единого праведника, но тысячи грешных, великих и малых сыщу! Что же мне делать с ими? По закону ли творя, в кандалы и в темницу ввергать таковых?.. Вам ли доносить, ожидая резолюции?.. Либо иначе как?! Сдается мне, это есть труднейшая и главнейшая часть дела, на меня ныне доверием вашего превосходительства, государь мой, возлагаемого.
— Истинно так. Умно сказано! Тоже не зря же выбрал и посылаю я тебя, Агеич… Первее, чем прямой ответ на твой спрос дать, послушай басенку, какую мой Зигмунд мне изложил, когда я с им толковал про дела сибирские, про богатства здешние, про то, как трудно все собрать, что должно бы в казну попасть, да пропадает по дороге… И неведомо — как и где?..
— Занятно послушать! Сказывать прошу, ваше сиятельство. Охоч я сам до побасенок. Што тебе полячок твой поведал?
— Простую вещь самую. Будто приключилось так, что царь всей звериной породы Лев занемог. И лекаря сказали: надо-де пользовать царя медом самым свежим. Брюхо, перси ему мазать и в нутро давать, сколько надобно. Вот и клич по лесам был кликнут: „должны до пчелы все борти свои раскрыть, Льву мед нести!“ Волей-неволей послушали пчелки… Раскрыли соты. А со всех сторон и набежало зверье лесное, жадное, горластое. Впереди всех — медведи, на мед больно лакомые. Они и стали первые из ульев мед драть, в один ком валять… А остальных цепью нескончаемой поставили от лесов пчелиных до самой берлоги львиной… И такой-то ком меду сваляли, что и поглядеть страшно! С дом величиною… И передали волкам ево. „Дальше, мол, катите, с лап на лапы передавайте до царя до батюшки!“ А сами стоят на задних лапах, передни облизывают… И шею, и грудь. Домой пришли, медвежата отцов да матерей лизать стали… На всех хватило!.. То же и с волками было… И с лисицами, и с рысями… Да и с баранами, с овцами скудоумными, кои у самой берлоги уже стали и Льву мед подавали. А тому из огромного кома такой комочек достался, что и хвоста не помазать!
— Занятно! Похоже до капли, ваше превосходительстг во. Чья басенка-то, не знаешь ли, государь мой?
— Знаю. Француза, Лафонтеня… Да, слышь, еще не конец… Озлился Лев. Все сыты и пьяны, а ему не стало… И совета просил у мыши у одной у старой. Она и научила его. Приказал Лев снова мед ему собирать. Да прибавил: „После сбору пускай немедля за наградой к его берлоге все бегут. И кто первый придет, тому больше награда“. А сам котлы изготовил, воды накипятил, в бочки кипятку наливать приказал. Вот надрали сызнова меду медведи, больше прежнего… С них самих мёд так и течет! Кинули ком волкам, а сами ко Льву за наградой… Волки — лисам, лисы — рысям, те — куницам. Один одному кидает по-старому да на месте не стоит алибо домой не бежит: все ко Льву наперегонки кинулися за наградою. А к ему сызнова комочек медку невелик дошел. Да он уже не горюет. Первые лисы прибежали. Он и говорит: „Ну-ка, суньте лапы в ту кадку… Там награда ваша!“ Сунули, лапы по-ошпарили, мед весь смыли с них, отошли лисы и молчат, думают: „Мы маху дали, так и над иными потешимся!“ Так оно и было… Барсуки, россомахи, кошки и белки — все лапы жгли в кипятке, мед там оставляли, тишком отходили, штобы и других залучить в ту же дыру, где сами застряли!..
— И это верно, государь мой, ваше превосходительство. Што у людей, што у зверей — все одна повадка! — смеясь, подтвердил Елчин.
— Ладно. Последними медведи подошли. Пыхтят, переваливаются… Мед с их теком течет. Зарычали: „А где наша награда?“ Лев на самый большой чан и показывает: „Прыгайте туды! Што найдете, все ваше!“ Прыгнули мишки, еле не сварилися, вылезли облезлые, без меху… Домой драпать… А в том чану, где они шпарилися, на четверть меду сверху плавает… Как собрал Лев все, что от воров отлипло, ему на год, почитай, запасу хватило… Теперь понял ли, Агеич, чево жду от тебя, как тебе дело делать надобно?..
— Понял! Попросту говоря — воров ограбить. Они все по малости казну растаскивали. Теперя, ежели с них хотя и понемногу назад собрать, так…
— И на наш век с тобою хватит! И в Питербурх пошлем такие вороха всево, каких там и не видывали! Чай, за это, окромя спасиба, ждать нечего! А грабители наши… ежели их и против шерсти придется погладить… они не станут караулов звать! Поймут, что молчать лучче.
— Понял! Теперь я все понял! Хоть и бумаг не пиши мне, ваше превосходительство! Есть указ полномочный — и вся недолга! А ежели и станет на меня иной кляузы наносить, жалобы разводить… так уж я на тебя в надежде!.. Чай, не выдашь, государь мой!.. А?..
— Вестимо, не выдам! Ха-ха-ха!
И оба раскатились довольным смехом, словно видели отсюда, какие рожи будут строить разные крупные и мелкие казнокрады сибирские, у которых на законном основании при свете дня будет ограблено все, что успели они сами награбить до этих пор, сидя на местах…
Выехал Елчин на ревизию… Трубникову пришлось собирать людей для весенней разведки, готовить провиант, запасы свинца и пороха, амуницию и оружие… И уж не мог он сопровождать Гагарина, который, несмотря ни на какие занятия и дела, не пропускал случая провести ночку-другую в гостях у попа на Салде…
Так вся зима прошла. Миновали снежные вьюги и морозы трескучие. Солнце стало все раньше выглядывать из-за вершины лесов на востоке, все позднее садилось оно за дальними холмами и лесами на западном берегу Тобола…
Великий пост пришел и проходить стал. Реки вздулись, снега посинели… Ростепель началась, дружно весна настала, распутица отрезала Тобольск от целого мира. Даже в Салдинскую слободу не то что возком, а и верхом на коне трудно добраться…
Злой, угрюмый бродит Гагарин по своим покоям. Посылает вместо себя гонцов к попу Семену, вернее, к дочке его, которая с каждым днем все больше и больше овладевать стала думами и желаниями князя…
Поклоны привозят гонцы Гагарину, записочки ласковые… Туда они скачут с целыми тюками подарков за седлом…
Но всего этого мало для влюбленного князя. Как в юности, желаниями переполнена его грудь, горит голова, тело в истоме жгучей и днем, и ночью в особенности.
Чаще стал теперь он призывать „экономку“ свою, чтобы раздевала и укладывала его по-старому. Но очень уж не похожа Анельця на ту, о которой только и думает Гагарин. Нет ему забвения с этой пышной сарматкой… И охотнее призывает он свою „лектрису“ по вечерам, чтобы читала ему…
А та, как нарочно, все хворает… А может быть, и ревнует? Потому что ни для кого больше не тайна в целом городе, какую „охоту“ полюбил Гагарин с осени минувшей, какую лебедь белую подстрелил он в домике попа, в слободе богатой Салдинской, в приюте всесветных конокрадов, воров и разбойников…
Если бы не сердечная тревога, новый губернатор мог быть вполне доволен первыми месяцами своего „царения“ в богатой Сибири, потому что иначе нельзя было и назвать полную власть, какою облечен этот новый губернатор.
Новые люди, поставленные от Гагарина в городах, старались хотя бы первое время отличаться усиленной деятельностью, полезной если не для самих сибиряков, то для них и для князя. Не только текущие оброки, но и старые, годами запущенные налоги и недоимки сбирались усердно, и, против обыкновения, большая доля из них отсылалась в Тобольск, в распоряжение князя, а меньшая оставлялась для дележа на местах, тогда как раньше это делалось наоборот. Но Гагарин ожидал очень больших и желательных последствий, огромных прибылей от предстоящей ревизии Елчина, для которой усиленно набирался штат служащих, человек больше двадцати, затем были назначены четыре дьяка с подьячими и даже „мастер заплечный“, палач… Елчину, кроме поверки „казны“ и дел на местах, поручалось большое, сложное дело, которое могло принести огромные выгоды столько же и послу, сколько пославшему его.
Еще десять лет тому назад была введена во всей Сибири винная и пивная монополия. Под страхом кнута, а то и виселицы никто не смел варить пиво и гнать вино на дому, „самосидкой“, как это было искони. Устроены были казенные заводы винные и пивоваренные, скупалосьии со стороны вино, пиво и продавалось по двойной цене из царевых кабаков, которые, согласно указу Петра, надлежало устроить на каждой улице… Из кружечных дворов „простое вино“, то есть водка, отпускалось по одному рублю двадцать алтын ведро, а „двойное“, или спирт, — по два рубля сорок алтын. И бойко шла торговля, несмотря на такую высокую цену. Но ей все-таки мешали „тайные винокурни“, а сбыту пива — домашние пивоварни. Да и в казенных кружечных дворах творились большие хищения. Целовальники, войдя в стачку с продавцами, наживались на всем. Покупая зерно для перегонки, ставили двойные цены, утаивали готовое вино и продавали в свою пользу; сдавая „на откуп“ эти доходные статьи, получали крупные взятки от арендаторов и писали потом договоры, явно убыточные для казны.
Это должен был проверить Елчин на местах и сам затем мог сдавать на откуп кружечные дворы, писать договоры на поставку вина и пива с кем выгоднее будет для казны.
Этим распоряжением в руки Гагарина направлялись сразу изо всех углов Сибири крупные барыши, какие раньше расплывались по рукам местных городовых воевод, целовальников и приказчиков винных. В первый же год эти барыши должны были дойти до полусотни тысяч рублей. А с уничтожением тайного курения вина и варки пива сумма могла утроиться, потому что сибиряки привыкли сами много пить, а еще больше вина и пива шло в кочевья инородцев, которые жадно пристрастились к „московской огневой водице“, к вкусному пиву и отдавали за отраву лучшие свои меха, добычу тяжелой охоты, что только им удавалось промыслить за целый год…
Заранее подсчитывая новые крупные доходы, Гагарин, опытный сибирский правитель, знал, что громкие вопли и тайное недовольство вызовут среди служивых людей его „новизны“, и для противовеса старался заручиться любовью и расположением у своих россиян, без различия — у сектантов и церковников, у кочевых инородцев, у наезжих купцов бухарских, китайских, особенно богатых, влиятельных в этом краю.
Да еще с духовенством сразу умел поладить Гагарин, зная, что „стадо“ мирское всегда бредет слепо за „пастухами“, как бы те плохи ни были.
Несговорчив оказался только сам митрополит Иоанн. Желчный, ограниченный, он захотел по-старому быть если не выше нового наместника царского как князь церкви и наместник самого Господа, то хотя бы стоять наравне с Гагариным и в глазах обывателей, и по влиянию на ход управления в обширном богатом крае.
Стремительный апостол новых порядков в московской церковной жизни, владыко сразу стал шпорить Гагарина, требуя от него строжайших мер по отношению к „детям дьявола“, раскольникам, еретикам-староверам. Властный поп и знать не хотел, и замечать не старался, как терпимо отнесся Гагарин к этим староверам, гонимым в зауральской части царства и нашедшим первое время для себя более спокойный приют на сибирском приволье. Упрямый инок, даже заметив явную склонность князя к церковной „старине“, умышленно не пожелал считаться с этим и еще яростнее стал нападать на еретиков больших и малых, по старой поговорке: кошку бьют, а невестке наметку дают!..
Гагарин понял приемы Иоанна. Сейчас же полетели письма в Питер и на Москву. Тобольский митрополит, честолюбивый, но преданный своему делу и Петру, выставлен был чуть ли не как самый опасный человек и „совратитель душ христианских“ и быстро, через три года, был замещен Филофеем Лещинским, или схимником Феодором, как в эту пору уже назывался этот прежний архипастырь Тобольский, потом строгий подвижник, задолго до смерти принявший схиму.
С Лещинским у Гагарина нашлось много общего по взглядам на „истое церковное богослужение“. Старец сильно тяготел к старине, к старопечатным книгам, по которым спасались великие сподвижники, святители московские. Затем особенное внимание обращал Феодор на озарение инородцев светом веры истинной и, занятый этим подвигом, не мог мешать ни в чем Гагарину. А последний, увеличив оклады попам, построив до сорока церквей в русских поселках и в улусах новокрещеных инородцев, сразу завоевал себе глубокое расположение нового иерарха. Что же касается рядовых церковников, городского и деревенского причта, о нем и говорить нечего.
— Наш благодетель! Церкви защитник, веры поборник! — только и было имени Гагарину.
Целые проповеди произносились в похвалу и прославление нового „повелителя северных, сибирских стран“, бывшего царства Кучумова. Многолетие князю-губернатору возглашалось с большим подъемом, громче и внушительнее, чем даже многолетие архипастырю Сибирскому и самому Петру, далекому и суровому, который то и дело, слал новые грозные указы, требовал денег, людей для пополнения войск, тающих, как снег, в упорной войне со шведами. От Петра приходили эти ненавистные указы, прибитые на городских воротах, требующие бритья бороды, ношения иноземного, кургузого платья и многого, еще более нестерпимого для старожилов сибиряков, привыкших к вольной жизни вдали от центральной, грозной власти царей московских…
Гагарин, с одной стороны, старался по возможности точнее выполнять наказы Петра, чтобы не разгневать повелителя, тяжелую длань которого слишком хорошо знал… Но, с другой стороны, первый Гагарин явно осуждал многие распоряжения, приходящие из-за гор Рифея, и громко заявлял:
— Кабы моя воля, рай бы настал в Сибири, в краю нашем благодатном! Не отсылали бы люди животы свои последние на затеи ненужные… Не проливалась бы кровь христианская в дикой бойне с задорными шведами. Для Сибири мало пользы, ежели и победит Карла царь Петр. А тяготу Сибирь несет великую… Да ничего не поделаешь! Шлет царь указы, их нельзя ослушаться…
Такими „жалобами“ снимал с себя хитрый воевода все нарекания, а сам под прикрытием царских указов творил, что только ему на ум приходило дурного и хорошего. И первым делом старался побольше собрать денег, пушной и всякой другой казны, чтобы „было чем помянуть свою службу“, когда его, как и прежних воевод-губернаторов, уберет с места царь и нового наместника пошлет на смену князю.
А пока завязывались всякие узлы, складывались многообразные отношения, намечались меры, о которых сказано выше, пока Гагарин вел свою новую линию и, по необходимости, в то же время тянул прежнюю канитель, его внутренний мир был заполнен сильной, неожиданной страстью, любовью к поповне салдинской. Бурный прилет „второй юности“ порядком мешал Гагарину окунуться с головой в дела и в наживу, но зато многим скрашивал тягучую, однообразную жизнь в грязном Тобольске, в этой жалкой столице богатого и полудикого края.
Тем более негодовал Гагарин на весеннюю непогоду и распутицу, на ливни, метели и невылазную грязь, мешающую по-старому еженедельно день-другой провести в опочивальне бедного домика попа Семена.
Подобно Ксерксу, бичевавшему море, князь готов был выпустить град ядер в хмурое, дождливое небо, пушечными, залпами хотел бы разогнать тяжелые, бесконечные полчища туч, закрывающих солнце, которое могло в три-четыре дня своими лучами высушить землю и открыть желанный путь к Салдинской слободе.
Весна особенно располагала Гагарина к ласкам и неге, как чарует она все живое, призывая любить и творить!.. Кровь особенно тяжело и знойно ударяла в седеющие виски, в лысеющий лоб князя, заставляла его грудь вздыматься часто и высоко, особенно по ночам. Весна не только в юношах будит бурные вспышки желаний. Даже совсем изжившие люди, глубокие старики весною почему-то вспоминают те годы, те милые дни и часы, когда они ласкали и любили своих прежних подруг. А Гагарин был еще далеко не так стар…
И места себе порою не находил он ни днем, ни по ночам в особенности; ворочался на постели и кончал тем, что приказывал казачку звать одну из своих домашних бессменных фавориток.
Чаще это приходилось на долю Анельци. Так случилось и на Страстной неделе, когда солнце стало уже чаще выглядывать из-за туч, ливни ослабели, подсыхать стали размывы и зажоры по дорогам…
Злая, возбужденная, с красным, заплаканным лицом, „экономка“ только что кончила обычную молитву, расчесывала себе волосы, немилосердно трепля и вырывая их клоками от затаенной ярости, и собиралась лечь спать, когда явился посланный, требующий ее к исполнению своих обязанностей.
Стиснув зубы так, что они скрипнули, тут же, при казачке набросила она легкий капотик на сорочку, в которой сидела перед зеркалом, и пошла по темным комнатам и переходам за мальчиком.
Вот уже третий день, как на себя стала не похожа эта спокойная, кроткая обычно, Анельця, с той самой минуты, как она вечерком стукнула в дверь Келецкого, скромно заявила ему, что ей „очень надо исповедаться перед святым наставником“… А наставник резко, почти грубо дал ей понять, что ему не до „исповедей“ Анельци, потому что он занят спешными делами… Выследила затем обиженная женщина, что прямо в спальню „лектрисы“ проскользнул заниматься спешными делами ее кумир. Затрепетала от гнева, от поруганной страсти полька, едва устояла на ногах, ощупью уже стала пробираться по темному коридору в свою комнатку, но неожиданно, словно против воли, повернула в другой, боковой, ход, ведущий к темному чулану, заваленному коврами, заставленному лишней мебелью, коробами и сундуками со всякою рухлядью, как это бывает в больших домах, наполненных прислугой и всяким наемным людом.
Недавно днем случайное открытие сделала Анельця в этом чулане. Дом, строенный безо всякого определенного плана, разбитый на множество комнат самым странным, причудливым образом, вмещал немало таких темных чуланов-комнаток, смежных со светлыми, удобными, отведенными для жилья покоями. И Анельця, не думавшая даже раньше о том, с чьею комнатой смежен этот чулан, зашла в него со свечою, желая достать платье из короба своего, поставленного здесь у стены.
Свеча случайно потухла. „Экономка“ уже собиралась выйти, чтобы зажечь ее, как вдруг ее внимание привлекла тонкая полоска дневного света, стрелою прорезающая тьму, царящую кругом. Освоясь в темноте, Анельця различила что-то вроде оконной рамы без стекол в стене против дверей чулана. И стрелка света падала именно оттуда. Захваченная любопытством, подошла она к стене, влезла на ковры, сложенные здесь целою грудой, и прильнула глазами к маленькому отверстию, пробитому гвоздем в досках, которыми забрано было все окно, прежде служившее для освещения темного чулана, а потом уничтоженное. Гвоздь, сделавший прокол, потом был удален, верно, перебит на другое место, и в отверстие, оставленное им, Анельця увидала, что именно спальня нелюбимой ею „лектрисы“ находится за стеною чулана. Замаскированное досками, заклеенное потом обоями, окно ничем не выдавалось в покое Алины, и она не знала, конечно, что случай дал сопернице возможность следить за каждым ее шагом.
Сюда и кинулась теперь „экономка“, в этот чулан, вместо того, чтобы уйти в свою комнатку и проплакать до утра, как бывало не раз.
Бесшумно раскрыла она дверь, скользнула в черную, непроглядную темноту, очутилась мгновенно на груде ковров, но не решилась сразу заглянуть в предательский „глазок“, откуда слабо пробивалась тонкая-тонкая ниточка света от свечи или лампады, зажженной в спальне француженки перед неизбежным киотом, как и во всех остальных покоях гагаринского дворца.
Негромкий смех, подавленные, прерывистые голоса услыхала сейчас же Анельця. Вот прозвучали долгие, бесконечные два-три поцелуя… Опять смех и говор.
Анельця своим напряженным, обостренным до крайних пределов слухом улавливала малейший звук и шорох за стеной, падение одежд, сплетение рук, слияние пылающих уст… Ей кажется даже, что стена раздвинулась и она видит все, что там происходит.
Но этого ясновидения мало для обезумевшей женщины. Ей захотелось довести свою пытку, свое самоистязание до конца. И она порывисто прильнула глазом к предательскому отверстию в стене…
Как раз напротив стены увидала она обоих. На низеньком восточном диванчике сидит Келецкий и держит на коленях девушку, прекрасную в своей бесстыдной наготе. Вот они целуют друг друга… еще… еще!.. И как те замирали от страсти и восторга, так трижды умирала Анельця, видя, как слились их губы и снова оторвались друг от друга… и снова… и снова слились… Но совершенно неожиданно Алина вырвалась из объятий Келецкого, и то, что произошло потом, совсем ошеломило, довело чуть не до безумия и обморока незримую свидетельницу бесшабашной, дикой оргии…
Шатаясь, пылая, как в горячечном бреду, решилась, наконец, Анельця сойти со своих ковров, но у нее подкосились ноги, она беззвучно, мягко скользнула вниз и долго пролежала без памяти.
Когда она очнулась, за стеной было уже все тихо. Но женщина не имела больше сил продолжать собственную пытку. Кое-как она добралась до своей постели и всю ночь лежала в забытьи, видела в полусне, в полубреду отвратительные картины зверского сладострастия, какими вчера впервые случай осквернил сознание Анельци.
Встала она совсем разбитая, еле бродила по дому, выполняя текущие дела. А между тем время от времени ее так и толкало, несло в темный чулан, к этому „глазку“, через который она заглянула в самую пучину греха. Анельця была уверена, что увидит еще что-нибудь другое. Недаром такие слухи ходили про „лектрису“, которым не хотела верить даже она, в душе ненавидящая француженку…
Но день прошел спокойно, как и следующая ночь…
И только сегодня, очень поздно, уже перед сном, снова пробралась Анельця в чулан, взглянула и задрожала вся, но на этот раз от радости, от предвкушения близкой мести.
Алина была не одна.
Анельця не видела гостя „лектрисы“. Как раз в этот миг Алина кого-то заставила спрятаться в большой шкаф с платьями, закрыла его там и громко проговорила, обращаясь к дверям, за которыми раздавался отчетливый стук:
— Кто стучит? Што нада?..
— Я это!.. — послышался наглый, глумливый голос „казачка“. — Князь зовет тебя, мамзель… Читать ему ступай!.. Да поживее, слышь! Не терпится уж там больно!..
Бесстыдным хохотом раскатился вслед за своими словами мальчишка.
— Пальван! Суки син! Пшел… я пальной… Он снаит… Я каварил ище на утра! Пшел! — резко прокричала Алина, тихо скользнула с постели в одной тонкой ночной рубахе, подслушала у дверей, ушел ли мальчишками тогда негромко приказала тому, кто спрятан был в шкапу:
— Выкадил можно… Слишь, Юринка!..
— Так вот кто у ней!.. Юрка! — сообразила Анельця и быстро кинулась в свою комнату, уверенная, что сейчас за ней придет посол от „господина“…
Как мы видели, она не ошиблась.
Несмотря на поздний час, Гагарин, полуодетый, сидел в кресле у постели и ласково встретил Анельцю.
— Спала, курочка? Уж извини… Так мне тошно одному… такая истома… Пальцем бы не двинул… Помоги раздеться… посиди… поразвлеки меня… цыпинька… Ну… живее… Тяни губки!.. Ну… не дуйся… Не люблю я, знаешь… А я за это, гляди… приготовил и подарочек… Ну, живей… раздевай… укладывай… знаешь, как я люблю…
— Я вам, як вельможны кнезь люби! Та она не люби кнезя… не хце тешиц кнезя. От вельможный и шлет за бедной слугой… за дурой, уродой Анельцей… И подарунек не мне был зготован… А ей!.. А она не идет! Ей там добже… без его мосци!
Зло глядит, криво улыбается Анельця. И не видал Гагарин ее такою никогда.
— Что ты вздор болтаешь! Ну, правда, я бы, может, и не стал тревожить тебя… Да Алина больна… Еще утром я видел! Сам видел! Понимаешь: сам…
— О! Белька штука! Не можно женщизну обмануць чи цо?.. Ха-ха! Я буду пенць раз на месяц нездрова, ежели не схочу прийти к мосци-ксенжу… Але ж я пришла! Хон и вам, цо не про Анельцю думал мой пан яснейший… А я таки кохаю пана и не здрадзам пана, як та потаскуха!..
— Здрадза?!.. Это измена значит по-вашему?.. — насторожившись, переспросил Гагарин.
Никогда раньше полька не говорила ничего подобного! очевидно, что-нибудь особенное заставило ее решиться на резкую, отчаянную выходку. И он, глядя в глаза „экономке“, продолжал:
— Что случилось? Вы раньше душа в душу жили… Или спустя три года ревновать меня к ней вздумала? Так знаешь сама…
— Вам! Вам!.. Яснейший пан и на ту потаскуху и на честну дзевчину Анельцю не бардзо смотрит… У яснейшего пана есть юже нова коханка… Поповна-красуля! То не мое дело!.. Але ж не можно, же бы стерва Алинка пана кнезя дурила та на глум пахолкам и лакузам давала… Я люблю ясного пана и чту пана кнезя… А та дрянь!.. У, подлюга! — совсем визгливо вырвалось у Анельци. — Идзь, пан! Подивись, пан, цо та фря робить може!
И, взяв за рукав Гагарина, она почти насильно поднялг его с кресла и повела к дверям.
Сначала он думал прикрикнуть на обезумевшую женщину, но потом неясное подозрение, предчувствие чего-тс необычайного, хотя и неприятного для него лично, заставило Гагарина послушно следовать за Анельцей.
Третьим поодаль незаметно скользил за ними мальчишка-казачок.
Вот и у двери чулана Гагарин. Предупрежденный жестом Анельци, ее тихим шипеньем, схожим со змеиным, ее внушительной миной, неслышно постарался войти в чулан Гагарин, благо мягкие бархатные сапоги у него на ногах.
Вот с помощью Анельци он уже взобрался на груду ковров, прильнул глазом к щелочке и стал глядеть в спальню Алины, где слышалась глухая возня, топот босых ног по доскам пола, по ковру, где он покрывал эти доски.
Крепко сжались кулаки князя, что-то невнятно заклокотало даже в груди, но он сейчас же сдержался и продолжал смотреть, сразу захваченный тем, что увидел.
Гагарин читал и слыхал о всяких извращениях и мерзостях в области любовных, чувственных ласк и сам во время бурной молодости, да и потом не раз предавался всякому беспутству. Но то, что он здесь увидал, поразило и его.
Юрий, рослый, красивый парень, один из псарей князя, вне себя от страсти старался поймать Алину, которая увертывалась от него, носилась, как птица, по комнате, загораживаясь стульями, столами, а сама в то же время изо всей силы хлестала парня толстым хлыстом по плечам, по груди, куда попало, и после каждого удара на белой коже парня проступала длинная багровая полоса, которую можно было хорошо различить даже при слабом освещении лампады, озаряющей покой. Лицо, грудь, бедра были уже исполосованы у обезумевшего человека, но он, казалось, не ощущал телесной боли, полный необузданных, жгучих ощущений, ослепленный приливом крови к голове, к воспаленным глазам… Он не глядя кидался за убегающей, ронял стулья, столики, преграждавшие ему путь, ударялся с размаху об углы дивана, постели шкапа, но, не поморщась даже, мчался дальше, желая настигнуть увертливую, сохраняющую полное самообладание Алину.
Дыхание хрипло вырывалось из груди парня, пена проступила и стала насыхать у него в углах рта… Он казался страшен даже тому, кто, незримый, стоял за стеной… А безумная девушка все продолжала дразнить голодного зверя, умышленно ударяя его самым жестоким, нестерпимым образом.
И вдруг, умышленно или против воли, но она поскользнулась на ковре, среди комнаты, упала. Одним прыжком он очутился рядом. Алина переменила только прием, но по-прежнему била его руками, царапала, как кошка; острыми, мелкими зубами до крови впилась в напряженные мышцы его плеча… и еще… и еще?.. То приникала она к нему, то отрывалась и вот-вот готова была снова пуститься в прежний безумный бег…
Но он уже не отпустил своей мучительницы. Он дико сжимал ее в своих сильных руках. Эти руки судорожно Удерживали ее то за плечи, то за стан, то за грудь, и следы его рук тоже обозначались четко, внезапными кровоподтеками на нежной, атласистой коже девушки.
С дыханием, стесненным в груди, полный отвращения и любопытства, следил Гагарин за омерзительной борьбой двух существ, среди которой невольные, острые крики боли были сходны со вздохами острого упоения, сливались с еле внятным шепотом…
Только когда они затихли, словно лишились чувств от дикой, зверской борьбы, Гагарин внимательно поглядел на эти два тела, напоминающие двух мертвецов, брошенных на ковер спиною друг к другу, и так же тихо, как пришел, двинулся обратно к себе, схватив безотчетно за руку Анельцю, которая покорно, как овца, мелкими шажками быстро семенила за своим господином.
Поздно поднялась на другое утро Алина. Она не только была разбита нервами, но во всем теле ощущала нестерпимую боль и даже со страхом осторожно провела руками по бокам, по груди, по спине и плечам, как бы желая убедиться, что кости не сломаны нигде.
После холодной ванны девушка стала бодрее. Тщательно помассировав все ушибленные места, все синяки на коже, помазав их какой-то мазью, действие которой неоднократно уже было испытано ею, Алина отправилась на обычную утреннюю прогулку, кликнув с собою Леду, любимую борзую свою и Гагарина. На лестнице ей навстречу попался Салим, второй казачок Гагарина, красивый бухарченок лет десяти, особенный любимец господина. Мальчик шел сейчас из бани, его нежное, округлое личико рдело, белые зубки поблескивали из-за приоткрытых, пухлых, уже чувственных губенок, а большие, словно влагой подернутые, миндалевидные глаза, черные и глубокие, особенно лукаво и соблазнительно сверкнули прямо в усталые, окруженные густою синевой глазки Алины.
Мальчик пробормотал ей свой „селям“ и вприпрыжку продолжал подниматься на лестницу.
Дольше обычного гуляла девушка, не чуя, какая беда готова разразиться над ее причудливой кудрявой головой.
А враг между тем не зевал. Анельця, уверенная в неизбежном падении соперницы решила ускорить эту отрадную минуту, окончательно сорвать маску с ненавистной француженки, ради которой Келецкий мог так обидно оттолкнуть свою влюбленную рабу-польку.
Подобранными ключами открыла Анельця двери покоев Алины, раскрыла ящики стола, сундучки и шкатулки, в которые, как удалось ей подглядеть, „лектриса“ прятала какие-то бумаги, письма, стала рыться там, проглядывать письма и, выбрав те, которые ей казались подозрительны, понесла к Гагарину вместе с увесистой тетрадкой, где пестрели записи дней, стояли года и имена, знакомые польке, потому что Анельця кое-как сумела разобраться во французских заметках актрисы, написанных латинским алфавитом, каким пишут и поляки.
Чутье не обмануло ревнивицу. Дневник Алины поразил Гагарина чуть ли не сильнее, чем вчерашняя кошмарная сцена. Он готов был счесть ее случайным, единичным проявлением болезненно обостренной чувственности, безумным извращением, порожденным исключительными обстоятельствами. Даже собирался призвать Келецкого и другого врача, шведа Зинстрема, хотел послать их к „несчастной девушке“, очевидно, охваченной острым половым безумием, требующим помощи и ухода врачей…
Но короткие, ярко, даже талантливо набросанные строки дневника, отвратительные картины, пересыпанные остроумными, при всем их цинизме, замечаниями, показали, что это не болезненное, проходящее явление, а строгая и стройная система, уже немало лет созданная и проводимая в дело соотечественницей Вольтера и маркиза де Сада, юной и детски чистой на вид парижанкой.
С особым интересом прочел Гагарин все, что касалось Келецкого. Уважая своего врача и секретаря за ум, Гагарин часто против воли боялся этого скрытного, бесстрастного на вид человека, который о благах жизни, о страстях и любви отзывался, правда, без всякого осуждения, без негодования аскета, но с каким-то неуловимым оттенком презрения и брезгливости, как будто сам был им чужд и если знал женщин, если пил хорошее вино и лакомился изысканным столом, так делал это безо всякого особенного удовольствия.
А дневник Алины нарисовал князю загадочного наперсника, вернее, наставника и первого советника, обыкновенным мужчиной, который порой может забыть и свое личное достоинство, и все на свете в чаду дозволенных и запретных наслаждений и страстей. Как ни странно, но, узнав „грешки“ своего непроницаемого, сдержанного, с вечно холодным лицом секретаря, Гагарин почувствовал к нему более теплое расположение, чем это было раньше, и даже решил, что не скажет ничего Келецкому об этих „маленьких тайнах“, открытых дневником „лектрисы“.
Записи Алины начинались с того времени, как она попала в Россию и с первым своим покровителем приехала в Петербург.
„Русские мужчины — великолепные самцы, — стояло на одной из первых страниц. — Очень устойчивы, неутомимы, сильны и горячи до самозабвения. Но они малочувствительны, трудно возбудимы, и нет у них игры фантазии, как у французских или, особенно, испанских кавалеров. Просто, овладел тобой — и начинает наслаждаться, не подвинтив нервов, не доведя организма до потрясения, до экстаза теми маленькими ласками, которые приближают к цели, но не дают скорого и полного удовлетворения. Русские любят, как едят: грубовато, сосредоточенно, важно, но… очень много! Этим все-таки немного искупается их наивность в делах любви. А все же, лучше одного негра, гайдука царицы, меня никто еще в жизни не ласкал. Это был и ласковый мальчик, и тигр… Одна напряженная струна, оживленная неукротимой страстью, гибкая, терзающая и дарящая жгучее наслаждение. Недаром он в такой моде у всех придворных дам и даже у горожанок этой новой столицы варварской русской земди… Он так умеет…“
Фраза была оборвана.
И дальше говорилось все об одном и том же, менялись только имена мужчин. Попадались и женские имена особ, которые, благодаря прихоти природы, сами не знали хорошо, к какому полу они принадлежат. Алина особенно влекла к себе таких полуженщин, каким-то чутьем умея отгадывать волнующую и постыдную их тайну.
А вот первая запись о Келецком:
„Он лжет… Он лжет! Во что бы то ни стало я заставлю его снять маску приличного человека, бесстрастного мужчины. У тех не бывает этого щекочущего взгляда и изгиба трепетных губ, как у нашего секретаря. Его язык порою мелькает между сохнущих, тонких губ, как жало змия-соблазнителя, внушившего первые желания нашей праматери. Только извращенные натуры, прирожденные чувственники умеют так, даже против собственной воли, одним взглядом окинуть, раздеть женщину, как делает это невозмутимый, важный и холодный с виду поляк. И я пойду на все, только бы видеть его перед собой, лежащего на полу, наполняющего мою спальню визгом пса, ошалелого от желания скорее получить лакомую добычу, которой ему сразу не дают!..“
„Я добилась своего! — кратко было отмечено через несколько страниц. — Келецкий еще извращеннее, чем я подозревала. Это тонкий знаток и мастер великий. Настоящий виртуоз, каких я редко встречала… Он почти так же ясно сознает все, как и я, в те минуты, когда кровь у нас обоих кипит, как лава в аду, а тело трепещет, подобно запоздалому на ветке сухому листку под налетами осенней непогоды. Хорош он также тем, что никому, никогда не выдаст наших безумств!..“
И так же подробно описывала она свои оргии с патером, как и с молодыми, красивыми челядинцами князя.
Дочитал Гагарин тетрадь до конца, с блестящими глазами, с пылающим лицом, но в то же время с невольным омерзением швырнул тетрадку в пылающую печь, которая топилась в обширном, высоком кабинете почти полдня, пока сидел и работал здесь князь, любящий тепло, блеск и переливы огня.
— Могу войти? — раздался за дверью звонкий голосок Алины, и она показалась на пороге, розовая от воздуха, улыбающаяся, ласковая, но и удивленная в то же время.
Легкая, безотчетная тревога овладела девушкой, когда в сенях ее встретил слуга и передал приказ Гагарина: прямо с прогулки зайти к нему. Но эту тревогу она не считала нужным высказать своему господину и только игриво спросила, быстро подходя к креслу Гагарина:
— Мой князь меня так любит… так желает, что приказал как можно скорей?..
Он не дал ей докончить и в ответ на французский вопрос заговорил по-русски, как делал это обычно в минуты волнений.
— Ну!.. Ну!.. Не лиси, дрянь! Не к любви идет дело!.. Хорошо ли погуляла? А! С кем еще шлялась? Кого из дворни выглядывала, а?..
Слова, самый звук хриплой злобной речи, потемнелое лицо князя сразу дали знать умной девушке, что грозит беда. Сердце у нее забилось так сильно, что даже на шее, у подбородка, под тонкою кожей стала вздрагивать какая-то синяя жилка, а зрачки расширились и потемнели, глаза остановились, как у испуганного ребенка.
— Што… што такой? — так же по-русски начала было Алина. — Мой сердил твой! Почшиму? Зашем? Мой любил твой… Не надо сердил!..
Кошечкой хотела было скользнуть к нему Алина, прижаться губами к его коленям, к отвислой, жирной груди, видной в распахнутый ворот рубахи. Она знала, как любит князь эти острые ласки. Но он сразу, грубо, как навязчивого пса, оттолкнул рукой и движением ноги девушку, так что она от неожиданности опрокинулась на ковер и застыла там, испуганная, полуоблокотясь на одну руку, в позе умирающего гладиатора.
А Гагарин еще и кресло свое отодвинул подальше, словно боялся испачкать полы халата о платье и ноги женщины, лежащие тут, у самых его ног.
— Полно ломаться! Не поняла еще! У-у! Псица забеглая! Я видел… нынче ночью я сам все видел… своими глазами… Не то и не поверил бы! Какая мерзость! Какая мерзость! Какая грязь! И тебе не стыдно?
Ошеломленная, Алина все-таки не потеряла присутствия духа и ясности сознания. Пока он говорил, она зорко следила за выражением его лица, его глаз, вслушивалась в звуки голоса. Ни признака ревности или сдавленного, затаенного желания, ни искры чувства, ни малейшей надежды на прощение и примирение, только безмерное отвращение и злоба в этих глазах, в этом голосе; хуже того — презрение без пределов! Все кончено, и поворота нет.
Поняв это, свернулась, как змея, девушка, поджала к себе вытянутые ноги, быстро поднялась одним упругим, ловким движением и, еще не выпрямясь даже на ногах, быстро заговорила, мешая со своею родною речью русские выражения и слова, словно желая этим сделать ее понятнее, внушительнее для Гагарина.
— Стидна! „Стидна, када видна!..“ На мой опошивальнья не биль нихто! Только я и мой amant… любовник.
И затем продолжала по-французски часто, четко, гортанным своим говором:
— Даже освещение было очень скромное… А что вельможа, наместник Сибири, князь и мой господин придет… подглядывать, как забавляется в своей спальне его… наемная… „лектриса“?! Такой чести я никак не ждала!..
— Наглая тварюга!..
— Зачем браниться?! Это князю вовсе не пристало!.. Я могу подумать, что вы не так разлюбили меня… не так возмутились моими… шалостями, как это показали в первую минуту… А затем?.. Ведь я же все-таки не жена князя… даже не признанная любовница… а просто наемная… „лектриса“, которую призывают, когда князю скучно!.. Когда ему угодно! Словом, не справляясь о том, расположена ли эта наемница исполнять свои обязанности или нет?.. Не заботясь о том, могут ли обрывки ласки, остатки желаний и чувств согреть чье-либо сердце и тело, даже не такое юное и пылкое, как мое… Наконец, я ли одна делаю то, о чем люди говорят: „Фи!?“ А бухарский мальчик… „Бачо“… Хорошенький Салем?.. Я же ничего не сказала, когда он появился в доме… Ха-ха-ха!.. „Казачок“ — так пускай „казачок“!.. Ха-ха-ха!.. Но зачем же так уж строго быть с бедной девушкой?.. Каждый веселится, как может. А я все-таки не кукла, а женщина!.. Пусть порочная, безнравственная, но еще полная желаний и огня, который только пуще разгорался от бессильных, дряблых поцелуев и ласк моего…
— Молчать! Вон!
— Уйду… уйду… Я знаю, русские варвары не стесняются даже бить женщин… Конечно, лучше уйти… И прошу сама: как можно скорее дайте мне уехать… Я рада… я!.. До свиданья! Прощайте, милый князь!
С низким книксеном, с нервным хохотом выбежала Алина из кабинета, едва не налетев на польку, которая подслушивала все из коридора.
Еще звончее, насмешливей и наглей захохотала Алина прямо ей в лицо и прокричала, словно плюнула, в глаза:
— Дур!.. Сабак!.. Эта твой сделал!.. Эта ти… ревнуй за твой!.. Ха-ха-ха!.. Теперь бери оби… бери вси! И целий дворня… Ха-ха!.. Я тибе дариль! Урод!..
С хохотом промчалась мимо, заперлась в своей спальной, и долго ее истерический смех, перемежаясь с бурными рыданиями, слышен был оттуда, пока, обессиленная, она не стихла, лежа комком на постели, не то охваченная внезапным сном, не то в обмороке…
Гагарин, призвав дворецкого, приказал немедленно найти в городе помещение для Алины и поселить ее там еще до вечера, а как только установится путь, отправить в Россию, в Москву, где она могла уже устроиться сама.
Вещи, дорогие подарки, сделанные девушке, Гагарин оставил своей бывшей „лектрисе“. А в Салдинскую слободу в тот же день поскакал гонец с небольшой запиской. Ввиду улучшения дороги обещал скоро заглянуть туда князь и извещал, что „лектрисы“ больше нет у него в доме.
Отослав гонца, губернатор хотел было заняться ворохом бумаг и писем, лежащих перед ним, когда ему доложил Келецкий, что явился келейник митрополита Иоанна с письмом от последнего и желает лично вручить Гагарину послание.
— Келейник… цидула митрополичья!.. Самово я звал ево! Есть указ государев, каковой надлежало владыке выслушать от меня и со мною обсудить! — недовольный, пробормотал Гагарин. — Ну, зови!
На куске бумаги, небрежно оторванном от листа, кое-как свернутом в виде письма, стояло несколько строк. „Молитвенник и раб Божий, смиренный митрополит Иоанн Тоболесский и всеа Сибири“ извещал милостивца, его превосходительство губернатора, что болен он и не может явиться на зов. А если есть что-либо „неотложное и особливо важное“, просит пожаловать к нему нынче же, в часы, когда службы нет в домовой церкви митрополичьей.
— Поп надутый!.. Не желает даже ради высочайшего указа потревожить себя! К себе зовет! Козел упрямый!.. А я Ступина с караулом пошлю за ним, коли так! — багровея от гнева, заворчал князь. — В карете под конвоем пожалует сюда прослушать волю царскую… Все тягается со мною, хочет выше меня быть! Так я же ему покажу!.. Я же этому гордецу!.. Он узнает, кто из нас главнее в, Сибири!..
— Конечно… Так и надо! — поддакнул Келецкий, зная, что не следует спорить с этим человеком, особенно когда он теряет самообладание. — Проучить надо монаха… Осторожно, разумеется, чтобы из-за всякого там… самому не было неприятности от государя… Да и здесь много дураков есть, которые себя не пожалеют, если обиженный арцибискуп им слово скажет… Надо его так унизить, чтобы он и не мог придраться ни к кому… Чтобы и не знал, против кого выступать… Будет, гордец, в грязи тонуть, станет искать, кого бы с собой потянуть!.. А некого будет! Вот это хорошо будет!..
Яркая картина, нарисованная секретарем, захватила Гагарина, сразу изменила и его настроение, и все направление мыслей.
— Хорошо бы! Но… как?..
— Об этом думать сейчас не стоит! Упрямый, заносчивый монах сам даст себя в руки, сам на себя веревку сплетет своими делами… И чем ему больше воли дать, чем чаще его поддразнивать словами, а на деле не задевать, тем он больше осмелеет и такое тут натворит, что уберут если не с епархии, так прямо в ссылку гордеца… Я головой ручаюсь!..
— Правда… Правда… Теперь и я вижу, что твоя правда! А все-таки с указом как же быть?.. Надо же…
— Так и сделать надо, как он хочет… Пусть вельможный князь потрудится, поедет, прочтет да… посильнее подвинтит монаха!.. А там… увидим…
— Увидим уж там! Ха-ха-ха! — довольным смехом раскатился Гагарин, поняв, как умно советует ему Келецкий, и приказал заложить карету.
— О-ох, болен весь! Распронедужен! — притворно охая и стеная, говорил Иоанн Гагарину, которого принял, выйдя прямо из домовой своей церковки, где только что окончилась служба.
— Больно немощен с годами стал! Ошшо Господу, Царю Небесному хватает сил послужить. А уж земному… пущай не взыщет! И рад бы — приехал, указа послушал!.. Да не моя сила! И што там ошшо за указы? Словно бы и не порядок. Синод Святейший, Правительствующий в Имя Господне, волен нам, архипастырям, указывать в делах церковных… А светские власти, хоша бы и какие найвысшия… Погодить бы им надоть… Так мне по простоте моей иноческой сдается… Немирской я человек… Уж не взыщи, не посетуй, чадо мое, ваше превосходительное вельможество!.. Охо-хо-хо!..
Закипает снова злобой и негодованием в душе Гагарин, слушая лукавые, смиренно-вызывающие речи монаха; но и сам решил не уступать ему в этой губительной игре. Разводя руками, склоняя голову, дружелюбно глядя и улыбаясь владыке, поддакивает он хозяину и, дав тому умолкнуть, со вздохом сожаления заговорил:
— Да-а!.. Многое попеременилось ноне и на всем свете… и в нашей державе благочестивой… Приходится земных властей более, чем небесных, слушать да опасаться. Нынче ты — владыко, князь Церкви Христовой… А на утро, глядишь, коли не в Суздаль-монастырь угодил на хлеб да на воду алибо на Соловки, на смирение, в ризах рогожных, так и вовсе на колесе твое тело, а голова, елеем помазанная священническим, на колу, на шпиле торчит… как уже то неоднократно мы видели…
Искоса поглядел на гостя хозяин. Что значат его слова? Искреннее сочувствие выражают или это угроза прикрытая, тайная?..
Князь спокойно глядит в испытующие глаза монаха, дружелюбно снова улыбается. И кругло, плавно катится, рокочет его речь, звучит жирный, сиповатый басок.
— Взять хоша бы Сибирь нашу… И твоего преосвященства труды и заботы в ней!.. Слова нет: крутенек ты, владыко… От разу все наново повернуть хотел бы… Дак ведь и сам он, государь наш Петр Алексеевич, не больно чего ждать любит… Оно, скажем, раскол велик, силен тута… Отпадших куды больше, чем истинных чад церкви главенствующей, себя православною именующей и рекомой… И богаче энти… еретики, как ты их звать изволишь, святой отец… Мажут они жирно руки властям в Питере… Вот оттуда и бегут сюда гонцы с указами строгими… и к нам, слугам царя нашего… И к архиереям, кои себя болей признают слугами Небесного Владыки, не земного…
Опять насторожился монах — так остро прозвучали последние слова в его ушах. А Гагарин словно и не замечает, свое ведет.
— И волей-неволей нам, слугам царевым, приходится накучать вам, слугам Божиим… Оно и то сказать… Не будь твоего рвения пастырского… дай ты воли больше людишкам здешним — и тебя бы не шпыняли… Ну, да, знать, ты творишь, как тебе твой разум и долг велит… По-евангельски: „Пастырь добрый душу свою дает за овцы своя!..“ А о том, как тебя жигануть могут, не помышляешь! Исполати! Коли дух такой отважный у тебя, крепись до конца, нас поучай, слабодухов, грешников окаянных… А указец-то, владыко, как выслушать изволишь, стоя ли, как оно водится, али?..
— Сказано: недужен я! — угрюмо буркнул Иоанн. — И так, сидя, разберу. Акромя нас двоих, и нету никого… Царь — не Бог! А я и в храме могу ино посидеть, коли устал… Читай, што там!..
— Добро… А я уж потружуся, постою… Слушай, отче!..
Прочел обычный заголовок Гагарин, где перечислен полный титул царский и обращение к митрополиту Тоболесскому и всея Сибири. А дальше шло перечисление жалоб, обоснованных и многочисленных, которые, конечно, не без ведома и содействия Гагарина, дошли и до Синода, и до Петра, собранные изо всех концов Сибири.
„А челом били нам многие люди приходов губернии Тобольской и иных, куды митрополичьи слуги и посыльщики и десятильники за сбором десятинным, церковным наезживали, — читает губернатор, стоя у своего кресла, на ручку которого все-таки присел тучным, тяжелым телом, — и жалобу принесли на многие обиды и кривды великие, каковые теми слугами митрополичьими были содеяны. Тако — десятильники, посланные по городам от митрополита, явно бесчинствуют, поборы лишние вымогают против законной десятины церковной; а еще того хуже, девок и вдовых баб и мужних женок подговаривают указывать на блудодеев, кои будто бы с теми женками грех творили, дабы с тех людей поборы брать во искупление греха. А когда те бабы и девки противятся и ложно оговаривать не хотят добрых людей, те десятильники митрополичьи девок и баб пытают, груди давят им до крови и срамом срамят великим, даже нагих стегая при всем народе. А по монастырям тоже чинится неправда великая. И многие монастыри, землею и людьми оскуделые, самовольные захваты чинят, землю силой у пашенных наших хрестьян отбирают, и худобу, и животы последние. А управы на то насилие хрестьяне у светских властей и найти не могут. Да те же десятильники и монастырские старцы безмужних монастырских баб продают в браке за суседних мужиков, пьяниц и уродов, лишь бы те в казну монастырскую выкуп брачный внесли. А и того хуже, безмужних женок на блуд понуждают и корысть имеют от той затеи гнусной. А которая девка донесет, что с нею блуд сотворен имущим обывателем, с того снова берется пеня, выкуп греха за прелюбодейство, им учиненное. И венчальное за девку-невесту, ежели она нетронута оказалась до брака, снова же берется от мужа, хотя бы он уже внес ранней митрополиту плату брачную. И за все требы взимаются поборы тяжкие, так что иные норовят и детей не крестить, и не венчаться, и мертвых без чину церковного хоронить, лише бы поборов тяжких поизбавиться. А от сего великий соблазн чинится в Сибирском всем краю и раскол растет ежечасно и крепнет. А тех отпадших чад церкви служители Божии, от митрополита посылаемые, не словом Божиим и внушением в лоно православия обращают, а угрозой, бранью и крайним насилием, что даже иные велят сожигать себя со всеми своими чадами и домочадцами, только бы от докуки и страха избавиться. И тот пример несчастный, отчаянный другим внушает крайнее озлобление и против церкви православной упорство и возмущение. И множатся те случаи самосожжения целыми скитами, отчего происходит людей умаление в том, не очень людно населенном краю и доходы казны на убыль идут.
И еще жалобы великие и многие принесены ясачными народцами, кои пребывают во мраке идолопоклонства; но из оного не извлекаются силой апостольского слова, примера и поучения, а насилием ко крещению влекутся, ихние идолы, против всякого желания тех людей, сжигаются, и тем многие мятежи и вражда чинятся промежду местными народцами и нашими крестьянами, землю в Сибири населившими.
А посему, увидя, что жалобы те, как самый розыск показал, справедливы и истинны есть, указано отныне: иноземцев, равно как и своих раскольников, силой не крестити и не перекрещевати, к единоверию против воли не приводити, не разоряти, дабы до крайней смерти и муки не доводить и мятежей не множить.
А поборы церковные чинить против закона, как положено, без лихвы; женок да девок монастырских на блуд не понуждать и на лживое свидетельство не наводить, а суд церковный над блудодеями и прелюбодеями чинить по канону, отнюдь без мшелоимства и пристрастия. А к иноземцам в кочевья и улусы посылать людей добрых, пастырей ученых, истинных отцов и сберегателей душ человеческих, дабы просвещали без крови и муки идолопоклонников светом веры Христовой. А где есть остяцкие либо иные волости, где много хрестьян-иноземцев, там бы церкви строились и попы ставились по чину…“
Дальше читает Гагарин целую программу, посланную из Питера местному духовному главе и консистории его; а в конце и угрозы следуют, если не будет исполнено все по указу…
Хмуро слушает Иоанн, сжимая своими сильными волосистыми пальцами поручни кресла, в которое ушел глубоко… Порою только нервно погладит свою бороду, поправит панагию и снова сидит, как живое изваяние. Только по шумному дыханию, которое вырывается почти со свистом сквозь крепко сжатые губы и раздутые ноздри владыки, можно угадать, как повлиял на него этот указ.
Кончил Гагарин. Оба молчат. Сел губернатор, глядит на монаха, ждет, что он скажет. А тот не решается сейчас заговорить, чуя, что может много лишнего и вредного для себя высказать сгоряча…
— Слышал, владыко? Повторить не изволишь ли чего, что не внятно было али запамятовалось? — наконец прозвучал ехидный, хотя и дружелюбный по тону вопрос князя.
— Слышал! Помню! — кинул отрывисто тот и снова сжал губы еще плотнее.
— Так… руку приложить изволь, как полагается… Уж потрудись, ваше высокопреосвященство! — служебным, сухим тоном предложил Гагарин, видя, что Иоанн решил сдержать свое раздражение и ничего не скажет сейчас такого, что ждал от него гость.
Взял перо монах, придвинул к себе указ, положенный на стол Гагариным, и вверху над самым титулом государевым, словно на консисторской бумаге, вывел своим крупным, связным почерком: „Читал и руку приложил, смиренный богомолец Иоанн, митрополит Тоболесский и всея Сибири“.
Посыпав песком черные, жирные буквы, выведенные им, подал он князю большой исписанный лист указа с яркой, красной печатью на конце, где темнел краткий гриф, подпись Петра, похожая на извив молний, вычерченный пером.
Почтительно принял бумагу Гагарин, довольный тем, что позволил себе монах поставить свою подпись, где не следовало, и спрятав лист в грудной карман парчового, богатого камзола, стал прощаться.
— Што так скоро! Али не потрапезуешь со мною, ваше превосходительство?.. Оно, хоша и постные дни, а найдется чем угостить дорогого гостя! Милости прошу!
— Рад бы радостью, отче-владыко! Да никак неможно! Сам ныне к себе людей звал! Обидеть нельзя, сам понимаешь! Ко мне милости прошу!.. Уж не посетуй! Докажи, что не осерчал за нынешний указ на меня!.. Я — слуга царев… Как приказано, так и творю! Уж, пожалуй! Посети домишко мой убогой!
— Шутишь, ваше вельможное превосходительство! Видели мы „бедность“ твою! У людей пост, а у тебя по полсотни смен рыбных да иных на стол подают!.. Этакой пост не хуже и мясоедения… Прокурат ты, князь!.. А што про указ толкуешь?.. Што мне на тебя злобиться!.. Бог простит, ежели ты и причастен к тем… наветам вражеским, коими сей указ вызван… И я, вящщий иерей, к ответу призван за ревность к вере православной… Угрозой угрожаем, аки смерд последний, раб нерадивый, своему приставнику непокорный… Воля Божья на все! — вздохнул с деланным смирением монах, но вдруг, запылав глазами и лицом, отрывисто выкрикнул почти:
— А и ошшо помню я присловку: „Бог не выдаст, свинья не съест!“ Знаешь ли, ваше превосходительство, господин мой губернатор и раскольному люду первый потатчик? Не взыщи, язык мой — мой враг! Правду не потаю, сказать смею, што думаю. Не в суд либо в осуждение… А штобы и ты знал: сумею царю отписаться, коли уж такое дело! Страха ли ради иудейска али иные есть помыслы у твоего сиятельства, а вижу я, как ты беспоповщину по вые гладишь, маслом их мажешь, по ихней воле многое творишь… Благо, мошна у их широка да толста, твоя правда, князенька!.. А я чужд стяжания злаго… Одно и скажу: „Иди за мною, сатано!“ А Господь и ангелы ево да осенят служителя Божия, меня, многогрешного, от козней людских и замеров диавольских!..
Стоит теперь монах, выпрямился, коренастый, грузный, узловатый в костях, и даже жезлом своим при каждом громком, веском слове пристукивает.
— Ну-ну! — только и вырвалось у Гагарина, когда наконец, возбужденный, красный, умолк Иоанн. — Благодарен на слове ласковом! Прощенья прошу! Ко мне жалуй! Тоже принять да угостить сумею!
Повернулся, не подойдя даже под благословение, плюнул громко у самого порога и вышел Гагарин, взбешенный, но и довольный.
Теперь князь видел, знал, что неукротимый, упрямый монах станет ломить напролом, убедился, что скоро свернет себе шею Иоанн на этом пути.
А уж потом Гагарину легко будет посадить более подходящего владыку на Сибирской епархии, хотя бы того же кроткого, чистого душой схимника — старца Феодора, бывшего Филофея — митрополита. Этот иерарх, не от мира сего, не сумеет мешать новым планам и широким замыслам князя, если бы даже они оба не были так согласны в делах веры, как это есть на самом деле.
В тот же день был составлен подробный доклад о посещении Иоанна Гагариным и, переписанный тщательно, пошел к Петру. А две обширные цидулы, Меншикову и Василию Гагарину, в Сибирский Приказ отправлены были особо, той же почтой.
Глава II
ПЕРВЫЙ ГРОМ
После ранней, уже миновавшей зимы и весна настала рано в этом 1712 году, но причудливо проходила она, не в пример другим годам. Ясные теплые дни сменялись ливнями, холодной погодой, ночными заморозками. Скоро после Пасхи нежданно прогремела первая вешняя гроза, а затем снова повеяло холодом от северных просторов Ледовитого океана, и пришлось тобольцам снова дохи и полушубки свои надевать.
Но тоболяне словно и не замечают капризов природы. Небывалой доселе кипучею жизнью зажили они с приездом нового губернатора.
Разъехались давно коменданты и всякие чины, прибывшие осенью для встречи князя; им на смену явились торговые обозы, целую зиму мелькающие в ворота да из ворот городских… А весною, как только стали спадать разливы речек и ручьев, затопляющих часто проезжие пути, как только дороги стали снова удобопроходимы, появились в Тобольске важные гости, послы китайские, которые посланы, правда, к калмыцкому хану, контайше Аюке, но и для Гагарина привезли грамоты от богдыхана и от его министров, или «вай-вубу», как зовут их в стране Дракона, в великой Поднебесной империи за неприступной каменной стеной. Хотят эти старинные соседи упорядочить весь торг, какой Китай с Русью ведет.
Ласково, широко принял послов новый наместник Сибири, кормил-поил на золоте, лучшими яствами и напитками угощал, укладывал спать на перинах, набитых лебяжьим пухом, богато одарил и дал им кареты, возки, стражу надежную под начальством полуполковника Прокопия Ступина. И послал с ним указы во все попутные места и города, чтобы так же щедро, с полным почетом принимали гостей, провожали дальше до границы, давали коней и корм, и вино хлебное, простое и лучшее, — смотря по чинам посла самого, его свиты, челяди многолюдной.
И другая забота немалая была у князя: Трубникова наконец снарядил он и отпустил в поиски за золотом к Кху-Кху-Нору, даже не дождавшись от Петра ответа на свой доклад о предположенной разведке, о посылке небольшого отряда в двести человек, который был дан подпоручику в распоряжение.
Тут же и за постройками лично наблюдает Гагарин, следит за возведением нового кремля тобольского из тяжелых кирпичей в 15 фунтов весом каждый. Осенью поздней и зимою казенные пахари почти задаром работали, сушили и обжигали этот кирпич, свозили его в город. Теперь они же частью, частью арестанты, которыми полны тюрьмы Тобольска и ближних городов, согнанные в кремль, работают на ветру, на холоду, под дождем, возводят новыеизубчатые толстые стены, строят каменные ряды нового Гостиного двора, амбары для складов казенных, новый дворец возводить начали и собор большой заложить собираются… Много погибнет людей на этой стройке. Уж и в первые недели слегло и умерло немало от простуды, от горячки гнилой, от тифа и просто от житья впроголодь, от труда непосильного, какой несут эти подневольные колодники-творцы, созидающие новый, неприступный и красивый Тобольск.
Не думает о таких пустяках Гагарин. Только торопит лихорадочно людей, сам следит за работами и высчитывает дни, когда его широкие начертания, его замыслы, навеянные строительной манией Петра, примут осязательную, прекрасную форму, подобную той, как выведено на ворохах чертежей, составленных учеными шведами-пленниками, первыми теперь пособниками губернатора в его зодческих затеях.
Разборы дел торговых, розыски по делам о наглых, жестоких разбоях и грабежах, чинимых чуть ли не открыто, среди бела дня, русскими людьми, даже служилыми и дикими инородцами, прием даней, оброков, мехов, проверка и разборка их, вороха бумаг, получаемых отовсюду и рассылаемых из губернаторской канцелярии, — все это если даже и слегка тревожило Гагарина, однако отнимало у него почти весь день. И только тогда он чувствовал себя спокойным и довольным, когда возок быстро уносил его в заветную слободу, где отдыхал от забот и хлопот хозяин Сибири на груди своей красавицы поповны…
Но и здесь порою принимал по делам своих помощников губернатор, если случай был очень важный, ожидающий неотложного решения, если бумага, полученная в Тобольской канцелярии, носила подпись Петра и требовала немедленного обсуждения и скорейшего ответа.
Незаметно во всех этих хлопотах и в сладком отдыхе прошло лето, осень, снова подбежала зима…
Обрадовался ей Гагарин. Уставать уж он начал, более продолжительного покоя запросило немолодое тело князя. Да и кроме телесной устали, духом стал неспокоен губернатор. На вид все хорошо шло кругом, но словно затемнело что-то вдали, слухи недобрые стали приходить с разных сторон, как будто удача и лад, какие встретили его в новом месте служения, готовились уйти, давая место неурядицам и урону всякому.
Первым ушатом ледяной воды было довольно обширное послание, писанное под диктовку Петра и его рукой подписанное. Царь, очевидно, принял к сердцу вести Гагарина о богатых золотых россыпях в степях, которыми, конечно, нетрудно будет овладеть впоследствии, пользуясь внутренними раздорами между кочевниками, которым сейчас принадлежат золотоносные реки и озера среди гор и песчаных пустынь.
Но намерений князя теперь же послать на разведку из Тобольска небольшой отряд Петр не одобрял. Царь решил, выбрав удобную минуту, дослать от себя надежного человека, дать ему сильный конвой, чтобы можно было оружием очистить себе путь к золотым пескам, если бухарцы, каменные казаки или мунгалы решились бы преградить путь смелым разведчикам, послам великого московского царя.
И про разлад между владыкой и губернатором было помянуто в этом письме. Петр давал полную веру сообщениям Гагарина о «мятежном духе» монаха, обещал убрать его, но не сейчас. Теперь и царю не время заняться вплотную этим вопросом: шведская война слишком много отнимает сил и времени. Да и нет пока серьезных оснований, мало высказано недовольства со стороны тоболян, иных сибирских обывателей, чтобы убрать архипастыря, чем можно только раздражить остальных попов и членов Синода особенно.
По привычке то вытягивая, то втягивая свои толстые губы, прочел письмо Гагарин и грубо, злостно выругался:
— Жди да пожди! Видно, уж я не хозяин в этом вонючем, диком углу, за который столько тысяч отвалил нашему «капитану»! Добро! А второе дело и того лучше. Я ему золото открыл, путь указал… А он не хочет, чтобы я и нос совал в дело. Сам от себя и людей пришлет, и снарядит отряды… А я — ни при чем! Ну уж дудки! Коли не мне, так и другому не будет! Как Бог свят! — присягнул даже в уме разозленный вельможа. — Уж там хоть целый поход снаряди, а этого золота не видать тебе без моей помощи, как затылка своего не видать человеку! Только бы Федька с добрыми вестями вернулся… Я уж по-своему тут разберуся. А как золота нагребу и ему пошлю для расходов военных, авось тогда «капитан» и не подумает других еще сюда помощников посылать либо на своеволье мое гневаться…
Так решил Гагарин. Келецкий, с которым он советовался, согласился с князем, но тут же прибавил:
— Делать, конечно, надо так, как вельможному князю тут, на месте, виднее и лучше кажется… А одного упускать не надо. Хороший случай припадает. Задумал царь сильный отряд за золотом отрядить. Чего лучше! Для этого прежде всего надо много припасу запасти, и ружей, и пушек, и амуниции, и продовольствия, а главное, пороху и свинцу. Раньше до остатку почти это увозилось отсюда. И на войну надо было, и, просто сказать, не любит, опасается царь в далекой Сибири оставлять много военного припасу… Теперь иначе должно выйти. Наберем вороха разного добра, и боевых снарядов, и оружия… Людей, когда надо, тоже собрать недолго… Для себя, конечно, не для тех франтов, что сюда явиться могут против воли вельможного князя… А там? Кто знает?.. И для походу за песком золотым пригодится оружие, свинец да порох… И для других причин! Война — дело темное! Вон, под Полтавой сам шведский король был ранен! От этого не застрахованы владыки земные, как и от самой смерти! А если что случится?.. Тут, далеко от Москвы, от всей России… Мало ли тут что произойти может! Хорошо наготове запасы военные иметь… Да побольше преданных людей… Как скажешь, вельможный князь?
— Скажу?.. Дьявол ты! Змий-искуситель! — глядя в умные, словно смеющиеся сейчас, глаза советника, ответил Гагарин и задумался глубоко.
Оставя князя с его думами, тихо выскользнул из покоя Келецкий. А Гагарин, через несколько минут подняв голову, словно очнувшись, вскрыл еще два письма, пришедшие с той же эстафетой, которая принесла «меморию», памятку государя.
Одно письмо было от близкого родича и друга стольника Василия Ивановича Гагарина, который, сидя на важном посту в Сибирском Приказе, оберегал Матвея Петровича от нападок и подкопов, какие были возможны со стороны различных завистников и врагов.
Сейчас Василий Иваныч сообщал князю, что приходят разными окольными путями доносы и жалобы на губернатора со стороны приказных дьяков, воевод и иных служилых людей, которым не по нутру пришлись новшества Гагарина. Митрополит и лично, и чрез преданных ему попов и обывателей тоже старается насколько возможно очернить Гагарина в глазах Петра.
«Все бы то ничего! — писал Стольник между прочим. — Царь цену наветам завистников добре знает и мало верит таковым. Но одна беда. Сведал я от наших доброхотов, денщиков царских, да и от других, Апраксина, Головина и самого Данилыча, — что объявился на очах царевых некий злодей, смерд последний, строчило, приказный подхячишко никчемный, кой двоих апонских людей государю привез на показ. И той смерд, именем Ивашка Нестеров, многие вести наносные и клеветы черные на тебя, брат и благодетель, хитро нанес. Особливо о самоцвете диковинном многие сказки поведал государю и того в интерес привел и в сумнение. И даже сверх меры подлые слова о тебе говорил той Ивашка, ловко одно к одному прибирая, так, что веру ять можно было бы, ежели бы не он смерд, холоп последний, и не на тебя те вины и клеветы возводил. Друг и заступник наш неизменный Данилыч государю говорил против тех речей облыжных и успел, кажись. Но ежели хотя што мало и похоже есть — сам о том понимай и поисправить не замедли, врагов своих упредя.»
Так из Москвы писал родич Гагарина. Во втором послании старик Апраксин из Питера почти то же сообщал, осторожно намекая между строк, что одна надежда и защита Гагарину — от Меншикова. Но и тот, конечно, в свою очередь, «всухую» помогать не станет и надо хорошенько поблагодарить сильного заступника за помощь. А еще лучше, если Гагарин под каким-нибудь предлогом поскорее приедет в столицу и уладит эти запутанные вопросы, устроит лично свои дела.
— Вот оно што значит: тринадцатый-то годок, чертова дюжина подбегает! И никому, и ни мне, видно, покою не знать в нем, в треклятом! — пробормотал Гагарин, оттолкнув листок. — Придется снова ломаться, скакать за тысячи верст, а пошто?.. Леший знает, да…
Остановился князь, огляделся, не слушает ли кто… Снова в думы погрузился. Наконец решительно тряхнул головой, позвал слугу, приказал заложить легкий возок, чтобы ехать на постройки.
Несмотря на наступление холодов, работа там еще кипела. Крыли крышу на возведенных, законченных корпусах; изнутри выводили перегородки, складывали деревянные стены и переборки, строгали, отделывали полы, штукатурили стены и прилаживали окна, двери.
Крестьяне — чернорабочие, землекопы, землевозы с лошадьми и каменщики, кроме печников, почти все были отпущены. Остались только наемные плотники, штукатуры, кровельщики, да помогали им арестанты, ежедневно приводимые гурьбами на работу под надзором тюремных сторожей и военной стражи.
Кроме шведов — зодчих и десятников, кроме русских приказчиков, подрядчиков и мастеровых, еще одна необычайная фигура дьяка из канцелярии губернаторской появилась в это утро на постройках, словно ожидая приезда Гагарина.
Он слонялся среди общего развала и рабочей сутолоки, входил в полуотстроенные корпуса, слонялся по дворам, загруженным материалами и мусором, обращался с расспросами к рабочим и урядникам, а сам все поглядывал туда, откуда должна появиться колымага князя.
Вот и затемнел возок, показался из-за угла, направляясь к постройкам.
Дьяк быстро подошел к одному из арестантов, кудлатому, сильному, немолодому уже мужику, убирающему мусор и отвозящему его на тачке подальше от почти законченного здания новой «важни», где взвешиваются товары для оплаты пошлиною.
— Так, слышь, Семка, не забудь, как я учил тебя вечор при допросе… Не проворонь дела! Волю и рублевики получишь, ежели все ладно будет… А нет — не взыщи! Шкуру спущу последнюю, и головы тебе не сносить! Гляди!
Шепнул и отошел дьяк, встречать князя кинулся вместе со всеми начальными лицами, которые были только на постройке.
Внимательно, как всегда, осматривает работы Гагарин, обходит все уголки. Слушает объяснения и доклады начальников, дает распоряжения, подписывает требования на материалы, рабочих подбодряет ласковым словцом или крепкой русской бранью, смотря, кто заслужил чего…
Вот и туда дошел Гагарин, где кудлатый арестант с тачкой мусор возит от готового здания к общей куче в самой глубине двора. Вдруг тачку покинул свою мужик, на землю ничком упал, кричит:
— Милости пожалуй, князь-государь! Слово молвить вели великое, дело государево.
Вздрогнул от неожиданности Гагарин, испугался даже сначала, но сейчас же овладел собою, видя, что никакой опасности не грозит со стороны кудлатого арестанта, смиренно лежащего ничком на грязной холодной земле.
— Что за дело? Сказывай! — подойдя ближе, спросил отрывисто Гагарин. — Кто ты? За что взят?..
— Посадский я, мейский холопишко твой Сенька, Вавилов сын… А по кличке Шкура. А взят за подпал… По осени пожаром пол-угла, почитай, на речном посаде слизнуло. А на меня речи, я, стало быть, подпалил… И с товарищи, кабыть, для грабежу на пожаре… И за тот подпал изловлен, бит до полусмерти… И в тюрьму до суда и сыску взят под приставы… А на сыске и повинился, на дыбе да под кнутом…
— Ну?!
— А теперя, как уже дело до конца приходит, хочу тебе, государь-воевода, всю правду открыть! — стоя уже на коленях, негромко, таинственно заговорил мужик. — Палил я, што греха таить! Да, слышь, не по своей воле… По чужому наущению… от богатея от нашево, от Сидора Калиныча Хони подучен был… Ворог ему был Микитка Семенов, так Хоня и подучи меня евонное жилье попалить… И за работу три рублевика сулил… И задатку полтину дал… А других недодал, как изловили меня… Вот теперя я и каюсь тебе! Суди меня, воевода-князь-государь!..
Опять бухнулся в землю лбом мужик.
— Вот как! — в раздумье проговорил Гагарин и повернулся к дьяку. — А ты кстати тута, Мосеич!.. У тебя, кажись, дела о пожогах… Ты знаешь ли этого Хоню?
— Как не знать! Первый богач и скряга по всему Тоболеску! — значительно заговорил дьяк. — И лихоимец нещадный! Много народу разорил, большие тысячи и сотни тыщ, сказывают, словно домовой, в сундуках бережет… Ан, и ево Господь попутал ноне, коли правду мужик-то бает! — закончил еще значительнее свой доклад дьяк.
Быстрым взглядом обменялся Гагарин с дьяком, как будто сейчас только понял всю важность неожиданного признания кудлатого арестанта мужика.
— Угу!.. Ин, ладно! Так вели мужика отсюда в Приказ вести… Допрос ему учини наново… попристальней… Да… и за этим… за богатеем-скрягой… за Хоней спосылай… Я сам скоро тоже к вам буду. Надо дело вывести…
Повернулся, дальше по стройке пошел.
А дьяк, потирая руки, поспешил в канцелярию, куда и арестанта за ним повели. А там и старика-богача Хоню доставили.
Жалел скупой старик от сотен тысяч поделиться кой-чем с новыми хозяевами города, хотя те и подсылали к нему «своих человеков»… Теперь узнал, что ни года, ни положение, ни богатство не спасают от лап приказных пьявок того, на кого глядит их жадное око.
Почти полгода протомился в темнице грязной старик… Поджигатель, поклепавший на него, уже и бежать успел… А Хоню на допросы тягают, голодом морят, все новые вины на нем отыскивают, так что уж и сам верить стал несчастный, что казни и пытки заслуживает он… Только когда сын скряги, по приказанию отца, раскрыл похоронки заветные и чуть не полсостояния принес и сдал, кому следует, дело вдруг получило новый оборот: домой вернулся старик, потеряв половину состояния и весь остаток сил, здоровья. Скоро умер он.
А у Моисеича с товарищами почти удвоились их сбережения, лежащие на дне старинных дедовских укладок. Да и губернатору «челом ударили» его помощники, в белом убрусе «дар» принесли — мешок золота тысяч на пятнадцать рублей торговой ценой.
Но пока тянулось это дело и другие, ему подобные, пока удачи и неудачи переплетались, творя причудливый узор жизни, Гагарин только об одном и думал: поскорее бы урваться к своей любимой подруге, к поповне косоглазенькой, ненаглядной и бесценной для князя по-прежнему.
Снова декабрь на исходе. Роковой 1713 год близок к концу. Опять Гагарин второй день гостит у попа Семена в слободе, справляет веселое Рождество.
Не узнать теперь скромного поповского дома. Тесом он обшит, изукрашен, размалеван, словно игрушечка. А внутри прямо рай земной. Нет того дорогого и отборного из тканей, мебели, утвари и мехов или ковров, чего бы не наслал Гагарин в избытке попу с дочерью для убранства гнездышка, где живет его «сладкая курочка».
Все, что любит Гагарин в своем обиходе, здесь постоянно находится или привозится за ним, когда князь собирается в Салду на погосте.
Но не только любви отдается здесь губернатор. Долгие разговоры с глазу на глаз с Сысойкою ведет он часто или третьим Келецкого приглашает… Батрак дает отчет князю обо всем, что слышит в народе… Говорит о ропоте и недовольстве против Петра, растущем в целом крае, что ни день, что ни час.
— Только бы весть подать… Клич бы только кликнуть! Полста тыщ робят и мужиков набежит… И не с пустыми руками… А дать им ошшо пищалей, мушкетов да с казаками, с драгунами спаровать… Так в те поры… Приди кто ни есть, сунься! Вот чего выкусит!
И огромный увесистый кулак Задора, сложенный особенным образом, мелькнул в воздухе.
Несмотря на серьезность минуты, усмехнулись Гагарин и Келецкий.
— Не бахвалься, парень! — заметил князь. — Знаешь, не хвалися, идучи на рать!.. А и шкуры не дели, бирюка не изымавши!.. Подождем, поглядим еще… Ежели нельзя будет полой воды удержать, так хотя пустим ее на наши колеса…
И после этих таинственных, неясных разговоров долгое время какой-то странный бывает Гагарин, даже на Агафью почти не глядит, а перед собою смотрит, словно видит вдали что-то большое, яркое, отчего даже жмурит свои заплывшие небольшие глаза.
Все Рождество собрался провести у подруги своей Гагарин. Здесь надеялся отвести сердце, найти забвение, избавиться хоть на время от забот, которые теперь все чаще и тяжелей ложатся на душу новому хозяину Сибири.
Письма тревожные то и дело приходят из Питера и Москвы. После нового года решил князь пуститься в путь, побывать у царя, все исправить, что еще поправимо, и снова, вернувшись, спокойно зажить со своей Агашей… Очень еще беспокоит князя, что давно от Трубникова нет вестей. Последний гонец явился около месяца назад. А послан он был и того раньше, еще в июле, когда Трубников со своим отрядом стоял у самого истока Иртыша и готовился вступить в безбрежную, морю подобную, жгучую пустыню песчаную, в Шаминскую степь, за которой лежит заветное озеро золотоносное Кху-Кху-Нор.
Еще в августе должен был явиться к князю гонец, но попал в плен, три месяца томился в неволе и только кое-как убедил своих «господ», киргиз-кайсацких узденей, чтобы повезли его к Зайсан-озеру, к русскому населению, где им выкуп дадут хороший за него.
А после этого гонца словно сгинул Трубников и весь отряд его с лица земли — ни слуху, ни духу нет о них… В самый сочельник, в сумерки, после богослужения, в ожидании первой звезды, чтобы сесть за трапезу, беседовал Гагарин с Агашей и Келецким, поминая своего посланца, пропавшего без вести.
— Жаль парня, коли что приключилось с ним! — искренне вырвалось у князя. — Вижу, курочка, горюешь и ты по нем! Не стыдися. Я не ревную! Славный парень Федя был! Не таясь, скажу, Бог знает, чего бы не пожалел, только бы знать, что жив он, не убит, хотя бы и не вышло проку никакого из его похода…
— Дай Господи, жив был бы! — усердно крестясь, прошептала Агаша.
Келецкий с явным сомнением молча качал головой.
Вдруг какое-то особое движение послышалось во дворе, за окном; конский топот прозвучал, смолк у крыльца. Кто-то стал быстро подниматься по ступеням, тяжело стуча сапогами, как это обычно делали гонцы — драгуны и казаки, присылаемые сюда с поручениями и бумагами из Тобольска.
— Сызнова гонец! И праздника великого спокойно провести не дают, окаянные! — заворчал Гагарин, глядя на дверь, откуда должен был появиться посланный.
Раздался стук, послышался знакомый голос, и в раме распахнутой двери, озаренная светом зажженных на столе канделябров, отчетливо обрисовалась знакомая фигура, красивое, хотя сейчас измученное, потемнелое от непогод, от зноя и холода, лицо Федора Трубникова.
— Федя! — в один голос крикнули Гагарин и Агаша.
— Пан Трубников с мертвых есть встал! — в то же время возгласил Келецкий.
— С праздником с великим, с Рождеством Христа, Бога нашего! — весело, громко проговорил вошедший, порадованный живою встречей, которая выпала на его долю.
Гагарин первый, потом Келецкий и даже Агаша по приказу князя трижды расцеловались с нежданным гостем. Поп, пьяный спозаранку, спал в светелке, но и его послали разбудить. Вся челядь здешняя и слуги гагаринские набились в горницу, желая видеть и приветствовать подпоручика, о судьбе которого немало сокрушались наравне с господами…
После первых шумных приветствий и вопросов, на которые не успевал и отвечать Трубников, его отправили в баню обмыться. Туда же Келецкий послал юноше один из своих костюмов, и освеженный, красивый больше прежнего, воротился офицер, сел за ужин, поданный в это время, и стал утолять голод, успев только сообщить, что отряд почти в полном составе он привел обратно, оставил его теперь в Таре, а сам скакал без отдыху день и ночь, поспешая в Тобольск. Там ему сказали, где гостит князь, и он немедленно пустился в слободу, не передохнув ни минутки!
Говорит и почти не сводит глаз с Агаши подпоручик. А та и поглядеть не решается на него, опустила глаза и все-таки чувствует его жадный взор на своем пылающем лице…
Гагарин и видит, и видеть не хочет ничего. Дав юноше утолить первый голод, о походе стал расспрашивать его:
— Ну, сказывай, что же было после, как в степь ты пошел со своими людьми?.. Почему вестей оттоле не слал?.. Все говори, без утайки, я знаю, ты прямой парень, воин смелый… А неудача со всяким приключиться может… Ну, сказывай…
Оставя початой кусок, заговорил Трубников.
Просто льется речь его, но умеет как-то юноша двумя-тремя словами передать все, что видел, что было с ним самим и с его людьми, что пережить им всем пришлось в раскаленных песках пустыни Шамо…
Слушают все внимательно рассказчика. За открытыми дверьми челядь притаила дыхание, тоже ловит каждое его слово. Но Агаша глядит и слушает напряженнее, чутче всех!
Видит ясно девушка все, о чем поминает юноша. Вот раскинулась бесконечная степь, желтеет, пылает, слепит глаза зыблющимся отовсюду сиянием и зноем… Верблюды ступают, глубоко увязая ногами в песке, колыхаются горбами, несут тяжелые вьюки, тащат за собою лодки, которые нужны будут впереди путникам… Конные тянутся длинной чередой; пешие устало шагают по раскаленному песку. Солнце висит высоко над головами, обдавая зноем и жаром все живое. Сдается порою, что самая кожа горит и коробится на теле, проливая жар во внутренности, пробуждая неутолимую жажду в пересохшем горле, в сдавленной груди, откуда хриплое дыхание вырывается только с трудом…
Вот, видит девушка, как убегают ночью предатели-проводники. Теряется путь в пустыне, нет воды… Падают люди, кони, верблюды… Только холодные ночи дают небольшую отраду и отдых замученному отраду. А днем снова усталость, зной и мука без конца.
А тут еще вражеские отряды замелькали на горизонте то здесь, то там. Сначала небольшие, редкие, несмелые, только соглядатайствуют издали они. Но вот их все больше прибывает… Сливаются они: один с другим, с третьим… Налетают, мечут стрелы с гиком, с воем и исчезают из-под залпов отряда, словно тени или призраки, рассыпаясь в степи. По ночам тоже эти шакалы покою не дают. И чем люднее становятся летучие отряды, тем больше наглеют дикари, надеясь числом подавить кучку хорошо вооруженных «московов».
Впроголодь, томимые часто жаждой, если долго не попадается колодца или источника на пути, отбиваясь от растущих шаек, идут, идут люди! Наконец показалась растительность… Заблестело озеро небольшое… Из него река протянулась змейкою, вьется среди песков, горит под солнцем. Воскресли люди, кинулись, как безумные, вперед!..
И если есть рай, не большее наслаждение испытают они там, чем изведали в тот миг, когда все окунулись в прохладные волны, смыли с себя песок, проникший, казалось, во все поры, под самую кожу… И все пили, пили без конца… даже опились три человека тогда…
А затем, спустив лодки на воду, дальше пустились в путь… на островке небольшом попутном расположились на ночлег. Сюда же с берега верблюдов оставшихся и коней своих вплавь перевели… А когда проснулись на рассвете, увидали, что попали в западню.
Говор, движение, ржание конское слышны по обоим берегам реки в густых камышах и зеленых зарослях. Окружили дикари непрошеных гостей, тучами со всех сторон собрались. Всех не перестрелять. И пороху, и свинцу не хватит… На это, видно, и понадеялись хитрые монголы.
Стало светлее; глядят люди из-за густых кустов, растущих на островке, и видят: куда глаз хватит — враги залегли. И вдруг тучи стрел понеслись, запели, падают в густую зелень, где кроется осажденный отряд.
Но опытные люди прилегли за днищами лодок своих, на берег вытащенных, за стволами, между корней, к самой земле притаились, и безвредны для них тучи стрел. Разве иная на излете падет, оцарапает шею или руку кому… Не отравлены стрелы на счастье… Идти в рукопашную, переплыть на островок не решаются нападающие. Знают они, как метко и насмерть бьют огненным боем «московы»… Ночь снова упала. Там по обоим берегам реки, подальше, костры засверкали. Здесь, на островке, — тишина, в тишине и во тьме роют себе землянки осажденные, завалы насыпают, временный укрепленный лагерь устраивают.
Теперь за свежевозведенными валами и насыпями безопасно чувствуют себя люди, даже решились огонь развести, кашицу сварить, солонину попарить, кулеш с салом иные стряпают…
Не тревожат осажденных ночью дикари, только сторожей поставили: не ушли, бы из западни птицы среди мрака безлунных ночей.
Так больше трех недель протянулось. Народилась луна и снова на убыль пошла. Пошли на убыль и запасы у отряда, а охотой, как прежде, пополнять их нельзя. Только крупа да мука остались еще и сала немного. Верблюдов последних порезали и съели. Соли и той нет. Плохо впереди, голодом, видно, думают взять, измором извести надеются кочевники осажденных.
А тут новая гроза приспела.
Крещеный киргиз Зейналка ночью подобраться сумел раза два к кострам осаждающих и, неузнанный в темноте, похожий на всех остальных монголов, услышал, что ждут сильную помощь дикари. Пушку со всеми снарядами скоро подвезут сюда из дальнего кочевья калмыцкого…
— Пушка, зелье боевое у калмыков? — удивился Гагарин. — Быть того не может! Зря болтали неверные собаки…
— Гляди, што и не зря! — неожиданно раздался голос Задора, который стоит тут же, в горнице, и слушает повесть Трубникова. — Я, как бывал в степях, уж не однава слыхивал… Есть у калмуцкаво журухты одного зелейных дел мастер… Уж не в обиду тебе, пан, будь сказано: полячек забеглый… Пан Зелинский, как его прозывают… Откуле он, и не знать!.. А дело понимает, зелье мелет, сушит, в зерна катает… И пушечное, и мелкое, ружейное изготовляет, и мушкеты направлять может… И пушечку им добыл… Энто все правда, как есть…
— Вот как… Ну, ладно… Дальше, Федя… досказывай…
— Да, почитай, уж и все, ваше превосходительство… Надоело нам в полону, в осаде сидеть… Выбрали мы ночку потемнее… Коней на обе стороны развели, им под хвосты репьев навязали, узды сняли да как стегнули, как гикнули!.. Кони вихрем прянули, воду переплыли, не задержались и на тех берегах… По сонным по недругам поскакали… ихних коней потревожили… Те тоже в коновязах бьются, вырываются, за нашими следом понеслися… Бусурмане треклятые перепужалися, спросонку не знают, што и творится. Во все концы за нашими и за своими конями кинулися… А мы ждать не стали. Лодки потихоньку на воду… Сели, ударили веслами подружнее и к свету далече-далече были от тово острова окаянного, ото всей орды вонючей!.. Где лучше показалось, на берег вышли, крюк дали здоровый, домой поворотя, да по старым следам и добралися, наконец, пешие, заморенные до истока Иртыша, до озера Зайсана… Тута уж как дома себя почуяли, хоша и холода осенние нас встретили вместо зноя лютого. Да мы холодам рады были. Больных да слабых оставить много пришлося по пути… А так сотню людей привел я в Тару. Маленько пообтрепаны, зато сами молодцы… Через дён десяток и сюды придут. Пешие тоже, все без коней осталися… А я уж у знакомца маштака взял, вперед с докладом поспешил… Суди меня, князь-государь, как воля твоя!..
Встал Гагарин, привлек к себе офицера, который с последними словами низкий поклон отдал князю, и снова крепко расцеловал храбреца.
— Вот тебе мой суд и правда! Дело свое ты по чести исправил… А что удачи не было?.. Господня воля на то… Уж не одна эта заварушка на мой пай заворошилася… Сладкого попил, и к горькому, видно, теперь привыкать надо!
Не совсем понятны окружающим слова Гагарина, его грустное, важное выражение лица. Но долго не задумался над этим никто.
По примеру князя снова поп Семен, Келецкий и даже люди попа и князя окружили молодого смельчака-героя, поздравляют с чудесным спасением, целуют ему лицо, руки…
Агаша молчит, глазами сулит что-то юноше, затаенными в груди вздохами переговаривается с ним…
А когда кончился бесконечный ужин и пресыщенные, пьяные, заснули все, кроме Трубникова, которого, по старой памяти, в большой горнице уложить распорядилась Агаша, когда мертвая тишина в доме нарушалась только тяжелым дыханием и храпом спящих повсюду людей, какая-то белая тень прокралась беззвучно, неслышно в горницу, скользнула к ложу Феди, склонилась над ним… Жаркие чьи-то уста слились с его устами… И не знал юноша, спит он или наяву раскрылось перед ним далекое небо, полное восторгов и чудес…
Накануне самого Крещенья объявил Гагарин Агафье Семеновне, что дня через четыре, через неделю, не больше, надо ему по важным делам в Россию ехать.
— С полгодика в отъезде побыть придется, коли и больше! Гляди, смирненько живи без меня… Не оставлю я тебя без присмотру, знай… Федю просил приглядывать да еще… Что с тобою?.. Девушка, что ты? Чего напужалась?.. Вернусь я… по-прежнему зажи…
Не договорил Гагарин, глядит, что с подругой сделалось.
Упала она перед иконами, вся трепеща мелкой, частой дрожью и громко, вне себя выкрикивает:
— Господи! Помилуй, Заступница!.. Господи…
А сама в землю лбом с размаху ударяется часто и гулко… На расширенных, неподвижных глазах две слезы набежали, но не скатываются, так и застыли под густыми темными ресницами.
И слушая эти молитвенные вопли, видя это не то восторженное, не то скорбное, полное муки лицо, не только Гагарин, но и более вдумчивый сердцеведец, знаток души человеческой, особенно женской, не разобрал бы хорошо: напугана ли девушка отъездом всемогущего покровителя, дающего столько радостей и благ земных? Тоскует ли она о чем или радуется безумно, но скрытно, затаенно? Ликует при мысли об избавлении от опостылевших ласк истрепанного господина; испытывает восторг от предвкушения новых, дорогих сердцу радостей и полной свободы?..
Свобода тем более может быть полная, что вот уж дня три, как Задор из дому исчез. Перед этим он подолгу толковал наедине с Келецким или втроем с Гагариным сидели, даже отсылая Агашу.
И также бледный, взволнованный, но суровый на вид приходил к девушке батрак и, прощаясь, сказал:
— Ну, либо пан, либо пропал! Иду неведомо на што! Либо рыбку съесть, либо на кол сесть!.. Не жди скоро, да встречай апосля хорошенько. В долгу не остануся… Осударыней, гляди, не то султаншей тебя сделаю!..
Поцеловал так, что кровь у нее проступила на губах, и ушел…
А теперь и старик немилый уезжает… Сам говорит — не меньше, чем на полгода. А Федя тут… Ему поручено «смотреть» за нею… Уж они насмотрятся друг на друга и днями, и ночами долгими. Все ясно видит девушка… И боится, что сон это. Что испытывает любовницу колдун-людоед, каким ей порою князь представляется. Что подслушал он думы ее затаенные, шепот сонный, вызнал чарами тайну заветную и теперь глумится над беззащитной, прежде чем замучить, истомить, в прах истоптать за измену…
Вот почему громко, отчаянно выкликают ее пересохшие губы одни бессвязные призывы к Божеству. А в душе тихо молит потрясенная девушка:
— Защити, спаси, порадуй Богородица-Троеручица?.. Дай сбыться счастью великому, Господи!
Огромным, пышным поездом, долгим обозом тянется по зимним сверкающим снежным путям и просторам Сибири вереница саней, возков, кибиток и пошевней, с огромным возком, целым домиком на полозьях позади.
В этом возке-жилище передвижном, которое резво тянут шесть пар сильных, горячих коней, едет губернатор Сибири к царю, отдать отчет в первых годах своего управления краем и отразить подкопы, против него поведенные.
Челядь за полдня вперед едет перед возком. Где остановки намечены, там люди разгружают сани, с верхом нагруженные, быстро принимаются за дело, и князь, прибыв к обеду или к ужину с ночлегом, чувствует себя словно дома: ест, пьет, как любит; спит и живет, как привык…
Чем ближе к границе, к предгорьям Урала, отделяющим Европейскую Россию от Азиатской Сибири, тем спокойнее становится на душе у князя.
Вспоминает он всех сильных друзей своих, которым немало подарков и денег не один десяток тысяч переносил… Шафиров, Головины, Апраксины и сам Данилыч наконец, «камрат» любимый, друг души царя… Не дадут они в обиду Гагарина, если бы и было что тяжкое за ним… А теперь нет еще ничего. Мысли… мечты?.. Но за них не судят еще на Руси, никто не казнит за них. А Петр, умный, широкий, все понять умеющий, со многими ладить готовый?.. Он за мысли карать не станет, если бы даже каким-нибудь волшебным путем и раскрыл их в извилистой, смятенной, темной душе своего вельможи, сибирского губернатора…
Совсем повеселел князь Матвей Петрович. Шутит с Келецким, с Федей Трубниковым, которого взял с собою до Верхотурья, со Стефаном Ранчковским, капитаном драгунской роты, охраняющей поезд губернатора…
Только не доезжая Верхотурья, нежеланная встреча случилась одна, которая сразу испортила настроение Гагарину.
Небольшая кибитка, вроде купеческой, очевидно поджидая губернаторский возок, стояла при дороге, и бойкая, лохматая тройка сибирских коньков позвякивала бубенцами, роясь мордами в рыхлом снегу.
Подскочили Трубников и Ранчковский к трем темным фигурам, закутанным в длинные дохи с меховыми башлыками на головах, потолковали что-то и вернулись быстро к возку, кучер которого даже бег коней сдерживать стал, не зная, что там такое впереди.
— Что… что там?.. — приоткрыв дверцу, спросил обеспокоенный Гагарин. — Кто это там еще?.. Что за люди? Зачем меня им надо?.. Отчего не едут своим путем, благо есть где разминуться на просторе…
— Глазам не поверишь, гляди, ваше превосходительство! — улыбаясь удивленно, заговорил Трубников. — Ведаешь ли, хто твою милость встречает, желает челом добить? Нестеров Ивашка, шпынь подлый, доноситель и пролаза… Сказывает, к тебе послан от государя и с указом особливым…
— Он… гад ядовитый… ко мне… от государя? Кто пьян из вас?.. Ты ли ослышался, его ли вязать надо да ослопьями полечить?..
— Верно сказываю, государь мой!
— Вельможный князь, трудно ли дело узнать? — вмешался Келецкий. — Пусть подойдет шпион, подаст, что там есть у него… от государя или от Приказа Сибирского. И увидишь… и беспокоить себя не стоит, ясновельможный господин мой.
— Добро. Зови! — приказал Гагарин.
За десять шагов от возка в снег ничком пал Нестеров, и его два товарища, которые, словно поросята за маткой, тянутся за ним. Ползет по снегу шпынь, а над головой какую-то бумагу, пакет с печатью большою держит.
Подполз, запричитал пожеланья и приветы, изъявления рабской покорности, и остальных двое вторят ему.
Но почти и не слышит их Гагарин. Взломана печать; развернут пакет, бумага вздрагивает в руках князя. Немного там писано. Уведомляется только губернатор Сибири и проч., что назначен фискалом-доносителем в тобольской губернии и во всей Сибири подьячий Ивашка, Петров сын, Нестеров, а в помощь ему два меньших подьячих: Бзыров Илюшка да Цыкин Макарка. А до кого сие надлежит, те бы по сему повелению поступали и всякое вспоможение тем фискалам оказывали, как закон гласит…
Не новая эта обязанность фискалов — должность, сходная не то с римскими «надзирателями за благонравием», не то с агентами совета трех в позднейшей Италии или «суда фэнов» в Германии… В России уже несколько лет, как завелись такие царские фискалы. И в Сибири, конечно, без них не обошлось бы. Имел уже своих частных «призорщиков» Гагарин вроде того же Задора и других. Они вызнавали общие слухи и толки, заменявшие в эту пору общественное мнение. Им же поручалось «излавливать» и выслеживать воровские дела, «составы», т. е. заговоры против власти, и многое другое. Конечно, мог Петр и помимо губернатора своего послать в Сибирь фискалов, но должен был, по крайней мере, заранее предупредить…
А тут вдруг?!.. И послан именно тот, кто целый ворох клеветы и яду, смешав быль с небылицами, обрушил на Гагарина.
Недобрым знаком показался этот посыл князю. Но молчит он, только рука дрогнула, когда передал он бумагу Келецкому, да посерело его полное, от холода рдевшее раньше лицо, выдавая высшую степень волнения, на какое способен Гагарин.
Видит это Келецкий, готов уж заговорить с новым фискалом, вызнать, что надо, чтобы неизвестность не мучала князя. Но Нестеров, не дожидая вопроса, словно угадывая чувства и мысли вельможи, смиренно запричитал:
— Уж помилуй раба свово Ивашку, князь-воевода! Не вели казнить, дозволь слово молвить… Как сам свет-государь, наш батюшка, Петр Лексеич мне приказывал… На Воронеже допущен был я на очи царские, светлые… В Питербурх государь поспешал… Наспех и указ мне выдан… С той самой причины и не поспели упредить тебя, милостивца, што посылаюсь я, холопишко твой последний, на службишку царскую под твой начал, на твою милость. А сказано мне: «Сам челом добей, все объяви светлому губернатору, князю Матфею Петровичу». Так я чиню по приказу, Не погуби, помилуй!
Вслушался в торопливую, подхалимскую речь Гагарин и успокоился сразу.
Значит, случайно так вышло… Не хотел никто обидеть князя обходом его власти, уроном его чести и прав…
Холодно, но без гнева обернулся он и взглянул на троих людей, лежащих в снегу ничком.
— Добро… так энти двое?..
— Илюшко Бзыров! Макарко Цыкин! — сразу выпалили оба младших фискала, добивая снова в снег челом.
— Добро! Поезжайте, делайте, что вам приказано… А ты, Федя, — обратился он к Трубникову, — все едино тебе ворочаться надо… Проводи их, там справь все, как надлежит… Да и сам за ими поглядывай, — понижая голос, добавил Гагарин, — либо людей верных припусти… Чтобы ни единый шаг энтих… фискалов приказных без ведома не остался без твоего… А ты — мне будешь отписывать… Цифирью, как я оставил тебе памятку… Ну Христос с тобою, сынок! Послужи мне верой-правдой. А я уж в долгу не пребуду. Знаешь Гагарина!
Поцеловал офицера князь, дверцы возка захлопнулись, готовится князь своим путем покатить, а Нестеров с товарищами и Трубников — своим…
Но неожиданно снова распахнулась дверца, рука князя поманила Нестерова, который стоит у возка, ждет, пока тронется тот, чтобы еще раз вслед поклониться вельможе.
— Поди-ко сюды, Петрович… Скажи мне: што ты тамо… в Питере и всюду про самоцвет цены безмерной, про рубиновый камень толковал, а?..
Смутился приказный, но сейчас же овладел собой, прямо глядит в глаза князю и рубит четко:
— А ничего плохово, милостивец! Был-де камень заклятой, с яйцо величины…
— Куриное, ты сказывал?.. Хе-хе…
— Ку-уриное? — нерешительно протянул фискал. — Не! Сдается, сказывал про… голубиное… И про знаки… и про то, што сгинул той самоцвет, ровно леший ево взял… И как ты искал ево, милостивец… и… не нашел как… и…
— Д-да… да! Слыхали мы, что ты тамо плел! Да, слышь, прошибся малость! Не захвачен никем самоцвет заклятой, клад великий… И богдохану не продан, ни послам ево, которы мимоездом гостили в Тобольске. Одно и было… Списал Зигмунд точнехонько знаки те, что на камне врезаны… И распознали их послы богдохановы. На ихнем, на древнем никанском, наречии то писано. И означает: «Земля ждет». И сказывали хинцы-послы, что знаки такие писались на тиарах и на коронах царских, на жуковинах, на перстнях. Чтобы владыки, Богу уподобясь, о смертном часе памятовали… Людей своих бы не обижали… И тот самоцвет найден… У меня он, да, Иванушко!.. И везу я его, — сразу, словно неожиданно для самого себя проговорил Гагарин, — везу с собою и передам, кому следует.
Широко раскрыл глаза фискал. Поражен и Келецкий, которого мало что удивить может. Не ожидал он того, что услышал. Правда, взял с собою Гагарин дорогой рубин, но и не думал раньше отдать кому-нибудь этого сокровища.
Только сейчас, при встрече с Нестеровым, пришло на ум хитрому вельможе пожертвовать камнем, чтобы этой ценой на долгое время обезопасить себя от преследований со стороны Петербурга.
Правда, жертва велика, но за один год Гагарин так много успел скопить, управляя краем, а впереди сверкали такие груды золота и всякого добра, что можно было расстаться даже с заветным рубином.
Оцепенел и Нестеров: его совсем сбил с толку этот умный шахматный ход. Появлением камня будут рассеяны многие наносы и обвинения, которые ловко возвел на Гагарина приказный, когда счастливый случай доставил ему возможность «по душе» побеседовать с самим Петром.
Тот, как и Гагарин, как и многие другие, сразу оценил сметку и природное дарование сыщика, таящееся в безобразном, невзрачном человечке, в жалком подьячем. Но почти все, сказанное и открытое царю Нестеровым, висело еще в воздухе, требовало доказательств; их обязался прислать фискал, как только вступит в свою должность.
Самым главным указанием было обвинение Гагарина чуть ли не в убийстве есаула Васьки из-за рубина сказочной цены и красоты. И неожиданно это хитросплетение рухнуло…
Настал черед Нестерову поникнуть головою… Он, позеленелый от внутренней досады, часто и низко кланяется только вслед возку, который тронулся и покатил себе вперед.
А Гагарин после первой минуты внутреннего удовлетворения от такой удачной выдумки, от смелого хода… снова затих, словно дремлет, смежив усталые от снегового блеска глаза, и думает, думает…
Молчит и Келецкий, глядя по сторонам сквозь окна возка, затянутые прозрачной, переливчатой слюдою.
Одна мысль особенно не дает покоя князю. Тревожит его участь тех богатств, которые остались там, в губернаторском доме, в сундуках и укладках, за крепкими дверьми подвалов и кладовых.
— Мало что может случиться без меня! — думает он. — И пожар, и воры!.. А то и прислать может царь приказ: собрать мои пожитки и ему на просмотр везти… Лучше бы с собой было взять… либо припрятать понадежнее…
Эта тревога, эта мысль почти всю остальную дорогу не оставляла князя.
Жарко, душно в небольшой горенке постоялого двора, где второй день проживает первый фискал сибирский Нестеров со своими двумя «сотрудниками» Бзыревым и Цыкиным.
Один только вчерашний день и передохнули все трое после долгого, быстрого и утомительного пути из Воронежа через Казань и Пермь прямо в Тобольск. А нынче уже с самого утра принялись за дело. В три разные стороны разошлись они из ворот и стали обходить каждый свой «участок», как поделили заранее город, хорошо знакомый Нестерову. До полной темноты бродили они, шныряли по рынкам, терлись в толпе, заходили в храмы, в приказы, в избу земскую, являлись повсюду, где только темнело хотя бы несколько беседующих между собою обывателей… Забегали в харчевни и кружала не столько для утоления голода, не за тем лишь, чтобы отогреть немного озябшее тело, глотнуть стакан-другой водки, а больше со своими «служебными» целями. За щами любит покалякать русский человек. А уж про пьяненьких и толковать нечего: что на уме, то на устах. Порою даже такое вывезет, чего и в уме не было раньше, что неожиданно пришло в угарную, охмелелую башку.
А троим дружкам — все хлеб. Они даже из шалых, пьяных речей умеют при случае выудить кое-что, для себя небесполезное.
Недолог январский день, да и город не очень велик, хотя Нестеров заходил и в «концы», заселенные туземным, нерусским людом, благо и по-остяцки, и по-мунгальски и даже по-бухарски понимает слегка многоопытный фискал. И когда ночная темнота загнала всех по своим углам, когда опустели улицы и площади городские, и рогатки выдвинуты были на въездах и выездах, а сторожа забили в свои тяжелые трещотки, особенно у Гостиного двора и близ казенных амбаров, тогда лишь все три ловца с новостями, какие успели «наловить» за день, сошлись в дальней, особливой горенке своей на постоялом дворе.
Печка топилась ярко, стол был накрыт, штоф вина отсвечивал своим зеленоватым стеклом при мерцании двух сальных свечей, воткнутых в пустые полуштофчики за неимением шандалов. Поросенок внушительных размеров, поданный целиком, служил лучшим украшением стола. Нестеров, живя долгое время в полунищете, подобно другим собратьям-приказным мелкого разряда, уж много лет таил мечту поесть молочного, откормленного поросенка, каких, он видел, часто уплетают дьяки, старшие подьячие и зажиточные обыватели, особенно по праздничным дням…
Теперь, поднявшись так быстро на неожиданную высоту, обладая целым; довольно значительным состоянием, которое составилось из подачек Гагарина и награды, полученной от Петра, фискал решил, что будет каждый день есть молочного поросенка, пока не надоест…
«Где наше не пропадало! — думал про себя подьячий. — Однава жить на белом свету. Пока бобылем живу, ково и тешить, как не себя? А тамо бабу возьму, своим домком заживу, свои поросята будут… И вовсе задарма, почитай, придутся… И уж коли захотеть… здесь шепну хозяину, ково ему Бог в постояльцы послал… Какая высокая персона аз есмь!.. Он, поди, ошшо приплату даст, скорее бы я съехал, не то с меня станет за харчи и постой теребить, как с других грабит, рожа этакая холопская, корявая!..»
Совершенно успокоенный подобными соображениями, Нестеров заказывал для себя и товарищей все лучшее, что только могло найтись зимой в обиходе тоболян.
Босые, в портах и в рубашках нараспашку, красные от жары, от еды и от четырех штофов вина, уже опорожненных за обильной и лакомой трапезой, сидят за столом три приятеля. Их тулупы и валенки, портянки и верхние штаны висят на кухне, сушатся к завтрашнему дню, пропитанные влагой от талого снега.
Сначала молча, жадно ели все трое, отрывали большие куски от целой тушки, чавкали, глотая торопливо почти непережеванные куски, запивали часто еду полными чарками пеннику. Пробовали и других блюд, какие стояли на столе или вносились стряпухою, здоровою, дебелой бабой. Но под конец даже ненасытные утробы приказных, живших много лет впроголодь, стали чувствовать переполнение. Куски еле лезли в рот, движения становились все медленнее, ленивее… Осовели все и от еды, и, главное, от вина. И только жадные глаза обжор скользили по недоеденным кускам, по плошкам и блюдам, не опорожненным впустую, как надеялись было сделать они, заказывая ужин. Изредка поднималась медленно рука, засаленные пальцы отщипывали, захватывали самый лакомый кусочек, подносили к жирным, лоснящимся губам, и долго медленно жевался этот кусок, пока наконец, смоченный очередным стаканчиком водки, не исчезал в отяжелелом желудке.
Наконец, и эта охота за кусочками прекратилась. Больше не лезло в горло ничего. Стряпуха, невольно покачивая от удивления головою, убрала посуду, и только остался на столе жбан квасу с ковшом и штоф со стаканчиками, уже в пятый раз наполненный из полуведерной бутылки, которую припас еще вчера Нестеров.
Сидя близко к лежанке, Нестеров прислонился к ней спиной, совсем разогрелся и посоловел. Его товарищи завели ленивый, прерывистый разговор, стали делиться впечатлениями минувшего дня, к чему прислушивался и молчащий Нестеров, несмотря на то, что глаза у него были полузакрыты и он словно дремал.
Так прошло около часу. Печка догорела, пришла баба, чтобы «закутать» ее, загрести жар, прикрыть трубу.
Цыкин, как самый молодой, стал «жировать» с мускулистой, веселой бабенкой, та притворно взвизгнула, когда, схваченная за плечи, повалилась навзничь, но быстро справилась с приказным, подмяв его в свою очередь под себя. Грубый смех, нецензурные шутки, хлопанье по спине и бокам, от которых звон шел по горенке, сменили прежнюю тишину. Бзыров пришел на помощь товарищу, и бабенка очутилась уже в довольно критическом положении, барахтаясь на широкой лавке, застланной кошмою, служащей постелью для постояльцев. Она уже теряла силы, отбиваясь сразу от двоих слишком предприимчивых ухаживателей. Но тут вступился в дело Нестеров, как старший.
Ему самому казалось неподобающим, не совместным с его саном и положением поступить так, как бы он хотел сейчас, то есть: отогнать обоих претендентов и самому овладеть призом. Но еще менее мог он допустить, чтобы на его глазах они без чинов и без стеснений завершили слишком смелую игру.
— Ну, буде! Пожировали малость… киньте бабу! Ишь, она и запарилась вся! — решительно, почти строго кинул он своим помощникам. — О делишках потолковать надоть… Ну!
Те не сразу, но оставили игру, которая захватила обоих. Сталаиоправляться и баба, еще вздрагивая визгливым, нутряным хохотом, вызванным шутками и щекотаньем обоих подьячих. Ей словно не совсем было приятно вмешательство «рябого лешего», Нестерова, словно и самой не хотелось внезапно и рано оборвать возню, как и двум участникам шумной забавы. Но, подобрав волосы под свой повойник, дернув сарафан и фартук на место, она закрыла вьюшки и ушла, шлепая по половицам босыми красными ступнями, годными не только для женщины, но и для здорового, рослого мужика.
Собираясь повести деловой разговор, Нестеров принял соответствующий вид, постарался и усесться поважнее. Из всех виденных им вельмож больше всего Гагарин произвел впечатление на фискала, и теперь он пытался походить на князя, который, развалясь в покойном кресле, беседует с подчиненными.
Табурет, на котором торчала щуплая фигурка фискала, не мог заменить кресла, но приказный, сидя между лежанкой и столом, повернулся так, что одну руку опустил на эту лежанку, а другую — на край стола. Босые ноги вытянул и положил одну на другую, также по образцу вельможи, жалея только, что нет мягкой скамеечки, которая служила при этом губернатору.
Состроив глубокомысленное, важное лицо, вытянув трубочкой губы, Нестеров медленно, против обыкновения, значительно и членораздельно заговорил, то подымая, то опуская свои жиденькие рыжеватые брови (он видел, как шевелились густые брови Матвея Петровича во время его речей):
— Вот, стало быть… Осподи благослови… За дело пора прийматься… Во-о-т! И вот, стало быть, мы уж и взялися… Што вы делали, я слышал тута… Да-а!.. Ништо. Дела не сделали, да и от дела не бегали… Да-а. А я вам про себя скажу, ни для чево инова, а для ради науки и поучения… Да-а! Вот, значится, вышел. Вот храм Божий. Я туды. Молитву сказал, Бога просил, послал бы Осподь мне в делах успеха и всяческого успеяния… штобы ни один от меня человек уйти алибо укрыться не мог… Да-а… И штобы я первым человеком по сыскному делу по всей Сибири, по всему царству стал… И сам молил Оспода и к попу пришел, дал ему семишник, он мне напутственный молебен отслужил… Да-а… А не то што!.. А уж апосля я и на дело пошел…
После этого вступления глава компании поделился с двумя товарищами своими открытиями и наблюдениями, сделанными в течение дня. Он был очень доволен. Вольные доселе тоболяне, как и все остальные сибиряки, не опасаясь особых выслеживаний и надзора, жили бесшабашно от первого до последнего. Земля и торг, пушной промысел особенно, давали все, что нужно было, с избытком; конечно, не считая таких глухих углов, как вечно не отмерзающие тундры Якутской области, Камчатки и Чукотской земли, куда хлеб привозился гужом зимою на целый год, равно как вино и другие припасы.
Но и в этих мертвых тундрах люди жили, ни себя, ни других не жалея, проводя время в пьянстве и азартной игре в карты и кости… Грабежи, убийства при игре, а то и так просто под пьяную или сердитую руку творились без числа, и только тогда власти вмешивались в эти дела, если происходило что-нибудь уж слишком необычное, вопиющее или сильно нарушающее интересы казны. Но и тогда попытки восстановить справедливость, выполнить требования закона редко доводились до конца. Стоило виновному не пожалеть своих рублей, и дело прекращалось, начатые процессы глохли, а «обеленный» за мзду преступник свободно гулял по свету до нового неприятного столкновения с блюстителями закона и всякими людьми, власть имущими.
Нестеров знал это и случайные источники доходов решил обратить в постоянные, памятуя, что ежедневно, ежечасно можно открыть в окружающей жизни целый ряд мелких и больших преступлений, закононарушений и всяческих, кары достойных, проступков и грехов.
В этом направлении он дал разъяснение и своим менее опытным товарищам.
— Вот, сказываете, особливого не выслушали вы двое, не выглядели обое за целый денек нонешний… Потому — молодо, зелено, пороть вас велено — тоды поумней станете! Нешто есть такой человек, нешто место найдется в целом городу… не в целой Сибири либо и на всей земле-матушке, где бы грешников не было, где бы злое дело не творилося. Носом поострее нюхать надоть — сразу и разнюхаешь! Первое дело, скажем, торговый люд. Куды ни кинь — все один клин: все заодно — воры и мошейники! И вес, и мера у их воровские… Вот первый хлеб для нас… Обойти ряды, заглянуть в любой лабаз без выбору… Скажем, по съестной части… Тута и порчи, и гнили, и всево вдоволь… И коли неохота на съезжу — плати, голубок!.. Хе-хе-хе!.. А корчма тайная?.. Сам же я да и вы, поди, ведаете: кабаков меней начтешь в городу, чем тайных кабачар алибо бледней, где и вино, и пиво — свои, не государевой варки… А за такую поруху не то — батоги, и петля обозначена… Так смекайте: сколько нам те места злачные дани дать должны!.. А игорны дома! С откупу их пять алибо шесть на весь Тоболеск. А как я вызнал ноне, в одном мунгальском углу для бусурман и для бухаров с китайцами наезжими боле десяти ханов потаенных улажено, заведено, где девки веселые, игры всякие на большие сотни и тыщи идут!.. Ужли тамо и для нас хоша десяточки ежемесяц не набегит? Быть тово не может!.. От одново десяток рубликов, от другого… Глянь — много их соберется. Тысяча… да не одна, ха-ха-ха! — уж совсем довольный, громко раскатился Нестеров, забыл и важность свою напускную, хохочет, валяется, живот руками держит… И оба подручных вторят ему.
— Да-а! — наконец, успокоясь немного, заговорил он снова. — Да это ошшо все ли!? Убьет ли хто ково, поворует ли, али товары утаивать станут по-старому купцы, алибо целовальники присяжные с ими стакнутся, пошлины утаят либо судья с богатого возьмет жирно, бедного осудит и нас не вспомянет при дележе?.. Ну, там, скажем, и повыше начальники станут людей за мзду окладами верстать, чины выводить не по чину… Да в ясачном сборе неправды всякие и воровство великое… И в хлебных амбарах запасных лукавство, да утайка, да продажа незаконная… Взять потом чехаузы воински, да зелейные склады, да запасы свинцовые… да рудяное дело, земель отводка, руды добыча, людей закупка… А солдатчина… некрутчина да казацки дела!.. А наемные люди, што иные за себя в солдаты ставят, закупя воевод да капитанов-приемщиков… Да… Тьфу, прости Осподи! И язык заплелся, примололся… А я всево начесть не успел, от чево закону ущерб… а нам — припек буде!..
Снова все трое смехом залились веселым, заливчатым.
— Ин, добро! — нерешительно заговорил Бзырев, степенный, даже благообразный на вид человек лет сорока пяти, выждав, когда общий смех понемногу затих. — Слышь, Иван Петрович, про то все, что ты сказывал, я и сам же слыхал алибо видал да ведал… И не мы первые… Вся братия наша служилая, поди, не от бедных крох питается, которы казна дает. Все от них же, от обывателей, от правых и от грешных, цедим помаленьку бражку и живем… И будут все так же чинить, как чинили… А мы же? Мы, словно бы для иного… для надзору за всякими лиходеями постановлены… И за служилыми и за рядовыми людишками… А ежели мы да станем?.. Коли ничем от прочих не различно линию поведем?.. Гляди, и нас недолго подержут, по шапке и нас!.. Алибо и над нами андзор поставят… Вот, как же тута?.. А?..
— Ворона-кума! Спросил хорошо, рассудил плохо! Э-эх ты, Илюшка, чертова понюшка! Дак рази говорится все, что и творится?.. Мы кому отчет давать повинны, помнишь ли?.. Самому царю-батюшке. Так с пустяковиной туды и лезти не придется… А энти делишки пустяковыи мно-о-ого нам вина и елея дадут! У воеводских людей, у приказных канцелярских да у присяжных чинов мы отобьем доходов малу толику. О том ли нам печаловаться? А вот коли дело большое… алибо люди в том деле важные запутались, тута рассудить надо: што да как?.. К примеру, прийти да спросить надо, разведать толком: много ли от дела от онного прибыли нам может быть? И потом сами мозговать станем. Коли рука — возьмем халтуру, доносить не будем царю. А коли такое дело, што от нево, от батюшки, можно великих милостей да наград ожидать либо и скрыть чево невозможно?.. Ну, вестимо, о таких делах придется отписывать ему самому да приказов ждать немилосердных… И ежели мы за год хоша два-три дельца таких… поветвистей ему объявим… С нас и будет! И награды придут, и веры не утратит в нас осударь… Я уж распознал его, как меня он на допрос призывал… Кому уж он верит, так крепко… А уж ежели…
Поежился даже против воли фискал, припомнив что-то или представив себе неприятную будущность, если Петр проведает, что он обманут. Но сейчас же снова бойко продолжал свое поучение подручным:
— Да што и толковать! Вы меня слушайте, мне помогайте. А я себе добра желаю, стало, и вам за мною плохо не буде…
— Ну, вестимо! — успокоенный, подхватил Бзырев. — Я так, вообче… А уж мы на тебя в надежде, Петрович!.. Мы тебе рады служить верою-правдою! Никого для тебя не пожалеем! Самого черта разыщем да предадим! Только уж и ты нас не оставляй советом и научением! Ишь, дал тебе Господь талан какой… и в речах, и в делах! Недарма такой великой чести так прытко достукался!
— Вестимо, недарма! — снова принимая важный вид, довольный такой откровенной и заслуженной, как ему думалось, похвалой, отозвался Нестеров. — А я уж и тута успел такое нанюхать, што, гляди, и сам ево превосходительство губернатор вельможный князь Матфей Петрович у меня, словно вьюн, завьется, юлою заюлит, ежели… Ну, да про такие дела и не тута сказывать надо, — исподлобья обводя взором тонкие стены покоя и плохо притворенную дверь, оборвал речь фискал. Затем, громко, широко зевнув, осенил рот крестом и, среди второго зевка, пробормотал:
— О-а-а-а!.. Уж не рано, поди… На покой пора… Вон и свечки догорели… Один ошшо огарочек чадит… Лечь надоть, пока не погас!..
Перекрестясь на иконы, выпив на ночь ковш кваску, он устроился на лежанке, где была приготовлена постель, укрылся еще хорошенько, и скоро его звонкий храп пронесся среди наступившей в горенке тишины. А спустя немного еще два подголоска присоединились к первому голосу, заснули и захрапели помощники фискала, лежащие на двух концах широкой, длинной лавки. Огарок, чадя и треща, провалился в горлышко штофа на самое дно и там погас. Темнота воцарилась в горенке, где так шумно и весело было весь этот вечер…
Часть пятая
НАД КРУЧЕЙ
Глава I
ФОРТУНА УЛЫБНУЛАСЬ!.
За все два с лишним года, прожитых в Тобольске, не приходилось так много и так напряженно думать Гагарину, как за эти три-четыре недели, проведенные в своем удобном возке, который, перевалив хребты Рифея, быстро заскользил по его западным склонам до Перми, а потом понесся по неоглядным снежным равнинам Европейской России на Казань, на Нижний, на Москву.
Сидя на своем посту, в столице Сибири, в самой кипени новых начинаний и прежних, старых неурядиц и дел, которые требовали упорядочения или завершения, князь многое задумывал; немало отважных планов вынашивал в мечтах, тысячи соображений о тонких, неотразимых ходах, связанных с его широкими замыслами, — проносились в мозгу, ярко так, отчетливо, оставляя неизгладимые следы в памяти и в душе честолюбивого, властолюбивого и своекорыстного вельможи. Но все это не было связано в одну стройную картину, не носило печати завершения, не подчинялось твердо намеченному, объединяющему замыслу. А текущие дела и ближайшие задачи управления огромным, богатым краем не давали даже достаточно времени заняться как следует этими личными замыслами, связанными с той же Сибирью, которая в мыслях Гагарина теперь представлялась истинно сказочным, молочным морем с кисельными берегами, где вместо песка рассыпано чистое золото, где на вековых деревьях вместо листвы пушистыми ворохами повисли редкие, дорогие меха, где на проезжих торговых путях из Азии в Европу не голяши и хрящ похрустывают под колесами тяжелых возов, а самоцветы и жемчуг отборный…
И вот теперь, особенно после встречи с «первым сибирским фискалом», в тиши снеговой пустыни, по которой только шесть пар коней выбивали мягкую, четкую дробь своими ногами, — здесь, на свободе, мог обдумать многое Гагарин, успел довести до конца и связать нити разных смелых и красивых начинаний, которые давно были протянуты в уме, в душе, колеблемые там, как нити осенней паутины, летающей по воздуху в тихий теплый день…
Первая дума, первое стремление его было не уйти из Сибири, остаться в ней как можно дольше, если даже не навсегда… И, конечно, один только Петр мог помешать своей властной волей этому решению. Со всеми другими Гагарин сумел бы справиться и поладить: где — подкупом, где — личным влиянием или с помощью всесильной родни и друзей.
Только Гагарин, прослуживший полжизни в самой Сибири и в Сибирском Приказе Московском, знал, какими богатствами может одарить край смелого и умного хозяина, который знает, где можно лучше черпать из этого моря всяких благ.
Гагарин знал, какие амбары необъятные завалены тюками, ворохами разных дорогих мехов, доставляемых ясачными инородцами в Сибирский Приказ, где и лежат сокровища десятками лет, порою гниют и портятся, но их не пускают на свои и зарубежные европейские или восточные рынки, чтобы не сбить цены пушному товару. По торговому расчету предпочитается продать мало да дорого, чем очень много по дешевой цене. Старая московская государственная сноровка — копить добро, благо, оно места не пролежит, — еще крепка и в самом Петре, создателе новой России, и во всех, окружающих его.
Гагарин, в этом отношении неодержим манией «государственного строительства». Есть товар, дают за него золото, то есть высшую ценность на земле, — так и надо сбывать, а не выжидать Бог знает чего! Знает Гагарин и то, что сибирская пушная казна, даже в той малой доле, какая доходит до амбаров московских, составляет чуть ли не большую половину всех доходов государства, наравне с откупными доходами от винной, пивной и карточной монополии.
И если устроить даже так, чтобы остаться пожизненным «штатгальтером» Сибири, а не временным губернатором, которого через пару лет сменит другой ставленник, если иметь в своем распоряжении эту силу, сколько тогда можно сделать и для себя, и для своих близких, начиная от единственного сына и дочери и кончая всеми отдаленными многочисленными родичами и свойственниками вельможного рода Рюриковичей-Гагариных!
Помехи не страшны… Зависть, конечно, явится… Она уже есть… Но стоит поделиться крохами от богатой сибирской жатвы, и все россияне будут ослеплены щедростью дарителя… Они там и думать не смеют о том, что заурядно в Сибири… Редкие, дорогие товары: корень женьшеня, идущий на вес золота, рога маралов, ткани восточные, драгоценные камни и жемчуг, пряности и чай, шелк, серебро, не говоря о свинце, меди и железе лучшей доброты, — все найдется в Сибири с избытком, и почти за бесценок можно собирать груды отборных товаров, за которые потом на рынках Европы отсыплют груды полновесных звонких червонцев…
Ясно видит неглупый вельможа и ту первопричину, от которой зависят все блестящие возможности, мелькающие в воображении Гагарина. Люди, труд человеческий, сама их жизнь неизмеримо дешевле в тайге и в горах Сибири, чем в России, не говоря уж о европейских, западных государствах, где нет почти крепостного труда и рабства в той грубой форме, какая сохранилась у народа российского, еще недавно носившего имя «московитов-дикарей»…
Словно перед глазами у князя вся Сибирь, от берегов Ледовитого моря до реки Амура и до верховьев Лены, Енисея, Иртыша, где зной и вечное лето, где тигры-людоеды змеями скользят в высоких тростниках, прижавшись к влажной, нагретой, черной земле… И несколько миллионов беззащитных инородцев, полуодетых порою, вооруженных только стрелами и луком дикарей, кочуют по этому простору, охотятся круглый год и собирают богатые запасы мехов, рогов, моют золото, роют руду… А затем является казак-сборщик с десятком товарищей, с полусотней таких же дикарей, только порабощенных и крещеных, — и вольные охотники несут половину добычи на ясак как дань сильнейшему… А остальное сами отдают за штоф-другой плохого, неочищенного «пеннику», за дурманящую сивуху и за свертки самого дешевого табака, к которому их тянет не меньше, чем к водке…
А не захотят добровольно сменять, так не стесняются «хозяина» Сибири с этими дикарями, на которых глядят как на рабочий скот… Снимается с плеча ружье, сверкнет выстрел — и падают неподатливые «бусурмане» в крови… А их добро попадает и совершенно задаром в руки «победителей»…
На самом юге, где калмыки, «каменные казаки» и киргизы с мунгалами получше вооружены и умеют собираться для защиты и нападения большою ордою, — там подороже жизнь людей и все, что добывается их трудом… Но и там можно устроиться.
Гагарин умеет подкупать ханов, узденей, всяких князьков инородческих, а уж те в благодарность позволят новому «хозяину» Сибири доить чуть не до крови и те орды, которые на словах считаются подвластными только своим независимым князькам.
Все это видит Гагарин сейчас перед собою… Стоит лишь заручиться преданными слугами, решительными и деятельными агентами власти — и пускай кто хочет носит титул «царя Сибири», а настоящим владетелем и господином ее будет он, Гагарин!
Фискалы, доносчики?.. Их тоже можно купить… Они такие же люди, как и все… А если заупрямится какой-нибудь Нестеров или потребует больше, чем полагается по чину и званию, если слишком заартачится и станет чересчур мешать?.. Так хорошо знает князь, как дешева жизнь в этом краю, населенном больше чем на три четверти беглыми преступниками или озлобленными, загнанными людьми, которые за стакан водки и за медный пятак уберут не одного — троих Нестеровых…
И так можно продолжать, пока не придет на пустое место более удобный, «свой» человечек, который поймет, что Бог высоко, царь далеко, а Гагарин — тут и что он — настоящий «хозяин», с которым надо ладить, притом без всякого ущерба для себя…
Кончив с этим вопросом, Гагарин словно оглянулся мысленно — и поежился.
Одна мощная, тяжелая постать обрисовалась черной тенью на светлом просторе, какой уж видел вокруг себя Гагарин.
Петр!..
Его не закупишь… Его никуда не уберешь… Пока он жив, все зависит от него, от его расчетов, планов, даже просто от блажи, от пьяной прихоти, какая может взойти в эту большую темноволосую голову с лицом оживленного сфинкса.
Только два человека умеют еще справляться с этим неукротимым, своевольным, непонятным ни для кого человеком: Екатерина, бывшая пленница, много лет простая сожительница Петра и только ко времени прусского похода венчаная жена, признанная царица. Да второй — Алексаша Меншиков, прежде солдат-преображенец, даже до того чуть ли не бродячий пирожник-торгаш… А теперь — граф, князь Римской империи, генералиссимус, кавалер трех высших орденов российских и иностранных, владеющий целыми областями в новозавоеванном прибалтийском краю. Меншиков, он по-старому оставался ближайшим другом Петра, которому отдал свою бывшую пленницу и сожительницу в подруги и царицы.
Если эти двое помогут хорошо, тогда и Петр не страшен… Выждать бы только!.. Правда, князь старше Петра и не так мощен на вид… Но Гагарин знает, что опасная болезнь подтачивает силы этого гиганта. Еще в юности захватил он этот «афродитов» недуг благодаря своему неразборчивому сближению с красавицами-прелестницами придворными и даже из простонародья. Лечили плохо либо и совсем не лечили незначительную сперва хворь, очень обычную тогда среди мужчин… А теперь она отзывается мучительными страданиями, коликами в области живота, от которых лежит без памяти по часам Петр и все чаще испытывает свои приступы «черной немочи»… Только непомерная телесная мощь этого человека помогает ему перемогаться… Но и он стал подумывать о конце, часто исповедуется, причащается в те времена, когда, обессиленный, лежит, едва оправясь от одного припадка и ожидая следующего мучительного, затяжного приступа колик и беспамятства…
Надеется пережить Петра Гагарин… А тогда!?.
Даже глаза жмурит князь от блеска, какой уже видит перед собой честолюбивый хитрец. И в эту минуту, с усами, которые топорщатся и торчат вперед, с круглым, полным своим лицом, совершенно напоминает сытого кота, мечтающего о жирной, лакомой мыши, проглоченной перед этим…
Алексей-царевич не страшен никому, тем менее ему, Гагарину. Тезка царевича сын князя Алексей Матвеич перед самым отъездом говорил отцу:
— И што это за царевич, даже понять не могу! Толкую я ему, что надо к батюшке подладиться… Уж толки идут, будто иноземного прынца желает государь принять в наследники… А царевичу и горя мало! Я сказываю: «Хоть для виду займися поприлежней делами, ваше высочество! Батюшка, мол, сказывал: не по имени желаю наследника иметь, а по трудам его и дарованиям!..» И што ж бы вы думали, батюшка, отвечал мне царевич?.. Так и отпечатал: «Пускай! Я и сам рад от царства отойти, коли такую муку принимать царю надо!.. Не гожусь я царить по-новому… Вот кабы по старине… И я был бы хорош! А этак — пусть берет власть, кому охота!..»
Улыбнулся тогда же Гагарин, выслушав сына. И теперь улыбается.
Конечно, при Алексее Петровиче легко будет делать, что в ум придет, сильным людям. При Алексее Петровиче Гагарин не только будет «пожизненным штатгальтером» Сибири, но, пожалуй, сумеет оторвать ее вовсе от остального царства, сделать отдельным государством в единении с Россией Европейской и в лице своего сына Алексея Матвеича возродить с новым блеском царский род Рюриков на троне Кучума…
Не удержался, тогда же сыну кое-что в этом смысле высказал князь… Потом спохватился, что молод, слаб князек, проболтаться может, если не трезвый, так в пьяном виде или метрескам своим, на которых большие тысячи тратил, следуя примеру отца… Взял клятву с Алексея Матвеича отец, что будет юноша держать язык за зубами…
Но теперь — не о том забота! Дожить бы только до счастливого дня, когда темноволосый гигант царь смежит свои упорные серые глаза, сверлящие душу каждому…
Тогда все хорошо будет! А как вот теперь?.. Что делать, как поступать?..
Общую линию хорошо знает и ведет все время неуклонно Гагарин.
Малейшая неурядица в стране, вспышка незначительная среди ясачных инородцев, набег десятка-другого немирных кочевников, шесть-семь коней, уведенных у русского населения, убийство нескольких мужиков и баб не то при побеге врага, не то по пьяному делу в общей ссоре и свалке, какие часты во время годичных праздников и ярмарок, — все это в донесениях губернатора принимало огромные, опасные размеры нашествия неприятельского или бунта целыми племенами… Затем описывались меры, принятые мудрою властью для успокоения мятежных, для покорения барантачей-кочевников, и вывод был ясен: только Гагарин, умеющий сам управляться в этом диком, опасном краю, умеющий выбрать себе подходящих помощников, только он один в силах справиться со всеми невзгодами местной жизни и без него будет плохо. При открытии каких-нибудь злоупотреблений применялись те же приемы. А всякое улучшение: находка руды, введение мер, способствующих процветанию края или обогащению казны, — все это расцвечивалось и преувеличивалось, как трудная, неоценимая услуга и заслуга перед родиной и царем…
Но этого всего мало! Петр тоже знает приказную систему, знает и многое иное, что уловил своим мощным умом и за рубежами, во время долгих странствий в чужих землях, и вынес из глубины народного моря, куда окунался поневоле ребенком, сосланный с матерью подальше от трона, куда и потом с головой погружался сознательно, по доброй воле, будучи уже царем, когда жил среди простого люда, желая слышать и знать, что думает и как живет настоящая Русь черноземная, а не приказные крысы и вельможные, грызуны-захватчики!..
И, покачиваясь на мягком сиденье возка, строит Гагарин тысячи предположений и планов, которые могли бы привести его к великой, затаенной цели…
Ближайшие события перестали беспокоить князя. Взбудораженный вестями о доносах, встречей с фискалом, дух его успокоился. Гагарин понимает, что нетрудно будет пока снять с себя наговоры, найти извинение и за содеянные проступки… Их еще мало, и они слишком незначительны… Даже хорошо, что он поторопился явиться на свою защиту именно теперь, когда защита еще слишком легка. Это обеспечит ему доверие и покой на долгое время… А вот как дальше?..
И, напряженно ломая голову над дальнейшими планами, находя несвоевременным обратиться за советами к Келецкому, пока нет достаточно веских данных для обсуждения вопроса, — Гагарин вдруг погружался в глубокий сон, словно не головою он работал долгие часы, а был охвачен усталью после тяжкого телесного труда…
А возок мчался все дальше и дальше от Сибири, все ближе и ближе к Питеру и Москве.
Не сразу явился Гагарин к царю.
По примеру удачного прошлого года Петр собирался летом снова снарядить огромную флотилию и разбить на море шведов, поэтому почти и не сидел ни в Москве, ни Санкт-Петербурге, как он называл свою новую столицу. Котлин с его Кроншлотом, побережье Балтийское видело чаще государя, чем стены городских и загородных дворцов, прежде таких веселых, оживленных, шумных без конца…
Свои сановники и иноземные послы с неотложными делами вынуждены были узнавать, где находится царь. Первейшие вельможи ныряли в ухабах избитого зимнего пути, пробирались среди бревен и мусора, подымались на деки новых и старых, только подправляемых кораблей, где заставали порою Петра не только в виде главного инспектора, но с рубанком или с лекалом в руке, с отвесом или долотом, когда царь, по обычной своей стремительности и нетерпению, старался быстро и наглядно показать неумелому работнику, как лучше и скорее можно выполнить заданную работу…
Долго задержался Гагарин в Москве, где его сказочно богатый дворец в полной готовности и в образцовом порядке давно поджидал хозяина; казалось, что Гагарин только вчера вышел из дому и, вернувшись, нашел все, как было.
Дочь князя, девушка-невеста, которую отец по многим основаниям не взял с собою в Тобольск, жила у дяди, Василия Иваныча, выезжая в свет с его взрослыми дочерьми. Но она все же порою заглядывала в родной дом с теми же подругами, двоюродными сестрами, и небольшой штат прислуги с пожилым, опытным дворецким Минычем во главе старался поддерживать полный порядок в доме. Да и стольник, князь Василий Иваныч, изредка заглядывал, так что волей-неволей слишком распускаться дворня не смела, несмотря на долгое отсутствие Гагарина, живущего за тридевять земель…
Радостно, шумно был встречен вельможа теми осколками старого боярства, которые именно еще ютились и доживали свой век в Москве, сторонясь, явно чуждаясь новой столицы, этого «Парадиза», как называл свое создание Петр.
Не стоя близко к настоящему правительству, эти недовольные «старики» пользовались все же большим влиянием и по своей породе, и по богатству, накопленному дедами и прадедами. Десятки тысяч душ и бесконечные земельные угодья составляли, главным образом, достояние москвичей — из неслужилой знати в отличие от аренд и жалованья, достигающего десятков тысяч рублей в год, каким награждались питерские служаки из старого барства и из новых, свежеиспеченных дворян и вельмож, вроде того же Меншикова, или иностранных любимцев одаряемых землями, титулами и орденами за усердную и умелую службу «государю и государству»… Такой новой присягой заменил Петр прежнюю, вековечную, так называемое «креста целованье» и запись, гласящую, что присягающий обещает служить только государю и роду его, выполняя волю царскую как приказ самого Господа, ни о чем не помня и не рассуждая больше.
Объездив друзей, разведав поподробнее все, о чем неудобно было бы сообщать письменно, отпировав почти везде на радостях по его прибытии, Гагарин и сам должен был два раза устроить ответный прием, так как в один раз не вместили бы даже его палаты всех желающих и имеющих право побывать на празднике, устроенном наместником Сибири, ее некоронованным государем и царем, как толковали многие, кто получше знал тамошние порядки и течение служебной жизни в целом Российском государстве.
А пока князь тут отдыхал, посещал московских друзей и принимал их у себя, в невский «Парадиз» поскакали нарочные с письмами к нужным людям. Выяснилось, что раньше начала мая и не сможет царь хорошенько потолковать со своим губернатором о делах Сибири вообще и о возведенных на Гагарина наветах в частности.
Пока предложено было князю составить подробный отчет об этих двух истекших годах управления краем, и особенно поставлен был на вид вопрос о богатых россыпях в Бухарской земле на Амун-Дарье, как ее называли тогда.
Сын Гагарина нарочно явился в Москву из «Парадиза», чтобы поделиться с отцом самыми свежими вестями государственной важности. От него узнал Гагарин, что врачи открыли у царевича Алексея признаки злейшей чахотки и настаивают на отъезде его в Карлсбад для лечения.
Кутежи, распутство и сильное пьянство, которому он предавался по примеру отца, подорвали слабое здоровье юноши царевича. Но он и не думал остановиться, поберечь себя. Безвольный во всем, здесь Алексей проявлял несокрушимое упорство и настойчивость, достойные лучшей цели. Сам царь собирался сперва выступить со всей своей новой «Армадой» к Ревелю и затем искать сражений с шведскими эскадрами, где бы те ни показались. Не придется ему даже быть при давно и с нетерпением ожидаемом событии — разрешении от бремени кронпринцессы Шарлотты, предстоящем очень скоро, согласно заявлениям придворных акушеров и бабушек-повитух.
О растущей силе и влиянии Меншикова, о новых связях и увлечениях Петра и всех его собутыльников и сотрудников подробно рассказал сын отцу, пропустил через свое сито и Екатерину, эту чародейку, которая, вечно смеясь и веселясь, лаская всех взглядами своих темных очей, успевает держать в руках мужа, порою сама приготовляя ему юных, свеженьких подруг из числа фрейлин и в то же время поддерживать прежнюю, более чем теплую, чересчур нежную дружбу с бывшим ее господином и обладателем Меншиковым; а затем среди окружающей знати тоже выискивает порою самых красивых, юных и пылких, способных рассеять скуку женщины, когда нет близ нее ни ветреного гиганта мужа, ни прежнего покровителя Данилыча…
Смеется громко, заливается хохотом Гагарин, слушая смелые описания сына, его циничные, но меткие шуточки и остроты, французские каламбуры, пересыпанные чисто русской крупной солью метких словечек и прозвищ нецензурного свойсваа…
О своих похождениях просто сообщает сын отцу и откровенно, зная, как тот любит сочные описания заманчивых картин на мифологические сюжеты, хотя бы и в переложении на современные нравы.
Отец, в свой черед, также без стеснений делится с сыном не только своим административными впечатлениями, вынесенными после двухлетнего пребывания в «дикой Сибири». Он посвящает юношу во все свои минутные увлечения, каких немало начтется за такой долгий срок, говорит о разрыве с Алиной, об охлаждении к польке, занимающей отныне только место экономки в доме. Описывает тоболянок-дочек, с которыми «вспоминал» он приключения, пережитые с их маменьками лет 15 назад… И о поповне узнал юный князь, заинтересовался ее наружностью, просил списать и прислать портрет и только остерег отца:
— Глядите, батюшка, не женила бы вас на себе сия салдинская чародейка… Как бы и не пристало это ни вам, ни всему нашему роду!.. Даже иму я веру, что целомудренна оная особа, как Сусанна… но тем опаснее она людям вашего возраста… Не взыщите: как сын любящий и почтительный, решаюсь говорить вам, батюшка…
— Хе-хе-хе… Глупенький… Говори, ничего!.. Обиды нет в твоих словах!.. А непонятие явное! Я сам лучше тебя вижу, что можно, а чего нельзя. Будь помоложе я… и при той пылкости чувств, какую внушила Агаша к себе… пожалуй, тогда я бы еще рискнул жениться и дать тебе сонаследника… Ха-ха-ха!.. А теперь — не бойся! Сестре Наташе придется выдать ее приданое, как уж мною решено. А все, что после меня останется, — все тебе!.. Только умей поддержать род наш высокий… Да внучков мне парочку заготовь, чтобы не пресеклась линия наша, как самая старшая в роду… А эту курочку… поповну?.. Мила она мне, но и я ее понимаю!.. Ласкова, словно кошечка… А нет-нет — и от моих седых усов на иные, на черные, на завитые глянет и заалеет вся, зардеется… Хе-хе-хе!.. Я и сейчас ее, куропаточку, с парой таких усиков оставил, с верным, моим подручным, с бравым офицериком.
И сейчас, важный, величавый, залитый золотом, облеченный властью, почти равной могуществу венчаного повелителя огромной страны, светлейший князь Ижорский и прочее и прочее порозовел и оживился, услыхав, что лишняя горсть-другая золотого песка прибавится ко всем сокровищам и богатствам, собранным в его подвалах, к тем, которые на всякий случай помещены и в заграничных банках…
Но сегодня еще немало других приятных неожиданностей ждало баловня фортуны, по слову Благовестника: «Получит имеющий много и то, что принадлежало беднейшему». А по русской народной мудрости это же выражено поговоркой: «Деньги к деньгам, а короста к лишаям липнет!..»
Больше прежнего вспыхнул Меншиков, увидав, что слуга с натугой внес, действительно, кожаный чемоданчик средней величины и с глухим стуком опустил его, по указанию Гагарина, на пол у ног светлейшего.
Слуга вышел. Гость, позабыв свою обычную важность и тучность, быстро наклонился, маленьким изящным ключом раскрыл чемодан, который внутри был подбит панцырной стальной сеткой, откинул крышку, развернул второй, из мягкой кожи, покров в виде двух лопастей, покрывающий содержимое чемодана. Под лопастями, заполняя все пространство, стояли тесными рядами небольшие китайские коробочки черного, красного цвета и золотистые или серебристые с яркими разводами.
Один за другим раскрыл гость эти ящички, и они оказались доверху наполненными золотым, крупным и мелким, песком разных оттенков, начиная от соломенно-желтого до черно-красного.
Ресницы задрожали, руки слегка заходили даже у хозяина, видавшего на своем веку много сокровищ, мешки жемчуга в ризницах патриарших, груды самоцветов и ящики, мешки, наполненные червонцами и таким же золотым песком в сокровищницах и на монетном дворе.
Те сокровища только ласкали восхищенный глаз, как что-то прекрасное, но далекое и чужое.
Немало своего золота имел светлейший. Но оно собиралось, самое большое, тысячами монет, или лотами, унцами золотого песка. Самородки — слитки золотые тоже попадались, но не выше полуфунта… А тут? По самой меньшей мере опытный глаз корыстолюбца-вельможи определил вес чемодана с его начинкой много выше полутора пудов. И он не ошибся. И восхитился, ценя не только величину приношения, но подумав и о том, сколько затрачено труда человеческого, а пожалуй, сколько жизней загублено раньше, чем у земли было вырвано и собрано столько ее лучшей «желтой руды», или, иначе называя, «крови» земной, потому что руда и кровь — синонимы в русском и малорусском языке.
А гость, довольный впечатлением от дара своего, так просто и кротко, почти смиренно заговорил:
— Уж не взыщи, светлейший! Всего полтора пудика и набралось песочку этого… двух не вытянуло… чистого весу, без коробов, — счел нужным вскользь отметить даритель и, не давая даже времени хозяину рассыпаться в искренних выражениях благодарности и восхищения, он поспешно продолжал тем же умышленно скромным тоном человека, не придающего цены земным сокровищам: — Уж не обессудь! Не осуди малого дара моего! Верь, любовь и почитание мое к персоне твоей светлейшей много значнее сего приношения тленного! А при всем том… дозволь еще, светлейший, челом тебе ударить… Набралося залишних самоцветиков в ларцах у меня да жемчугов поизрядней, на какие ты, подобно мне самому, немалый оценщик и любитель!.. Так уж, благо рука размахалась, дозволь презентовать…
— Да што ты… да николи… да ни за што! — начал было Меншиков, ненасытная жадность которого на этот раз была утолена первым же, поистине царским даром.
Но Гагарин знал, к чему идет, и перебил его:
— Нет уж… потерпи уж… Погляди, а потом и осуди!.. Может, и не откажешь своему верному слуге и почитателю… соизволишь принять дар не цены его ради, а за красу да за отбор диковинный, чудесный… Вот, взглянуть поизволь глазком хоша единым…
И на темном бархате скатерти, на краю стола, у которого сидели оба, засверкали чудные самоцветы, высыпанные гостем из объемистого, мягкой кожи, бумажника, который он достал из внутренного кармана своего камзола.
Сам страстный любитель, Гагарин знал, чем взять Меншикова, тоже питающего большую слабость к этим твердый кусочкам радуги, извлекаемым из темных недр молчаливой земли… Красными, зелеными искрами, казалось, загорелись и глаза светлейшего, когда лучи солнца заиграли разными огоньками на отборных бриллиантах, рубинах, на изумрудах, сапфирах и топазах, не слишком крупных, но чистой воды и превосходной грани. Крупный, переливчато-белый жемчуг, лежащий между ними, своей глубокой матовой белизною, нежным блеском еще больше оттенял игру и сверканье самоцветов.
Невольно, прежде даже, чем сказал что-нибудь, рука Меншикова протянулась к чудесным камням и безотчетно стала передвигать их, соединять в красивые сочетания, причем потревоженные самоцветы заиграли новым, живым блеском.
— Н-ну… знаешь, князенька… Слышь, у меня и слов не стает! — вырвалось наконец у хозяина, действительно почуявшего, что дух перехвачен у него от неожиданного и сильного восторга. — Слышь, одно скажу: твой слуга и ранней и теперь… и на веки вечные! Чем бы лишь отслужить, поведай, прикажи! Ничего не пожалею!..
— И, государь мой, милостивец! О чем говорить?.. По усердию я по своему и по приятельству старинному, не для чего иного ради!.. Уж поверь! И за старое много тебе благодарен. Выручал не раз. Поди, и еще повыручишь при случае из беды… Времена-то ноне у нас не прежние. Царь своих старых слуг не больно жалеет да жалует… Новые наперед тискаются, на глазах у царя… А хто подале, тому одни наносы вражеские да наветы… Первых вельмож царства из славнейших родов и древнейших гербов, вот, как и гербы твоей же милости литовские, фамильные… таких людей отдают чуть не под надзор ярышкам приказным, фискалам-доносителям! — не выдержав, начал было Гагарин, но сейчас же сдержался и снова прежним, беззаботным, приятельским тоном доброго малого заговорил: — Да что я!.. Ввалиться не поспел в покои твои, государь мой, и уж о делах волынку скушную завел… О безделице об единой раньше речь еще хочу повести…
— Что такое? — насторожась немного, спросил Меншиков.
Напоминание Гагарина, Рюриковича, о гербах литовских Меншикова, придуманных им самим и Петром для более полного возвеличения фаворита, эта грубая лесть, пущенная гостем, показалась подозрительному, самолюбивому выскочке схожей с затаенной насмешкой. И не будь тут же на глазах его этих самоцветов и чемодана с золотом, он даже раздумывать бы не стал, показал бы немедленно Рюриковичу, что время старых, бесполезных князей, вельмож и бояр миновало, что сила и власть за ним, безродным, несмотря на простое происхождение и сочиненный герб…
Но камни ярко горели… Чемодан стоял раскрытый, сияя толщей дорогого песка, и Меншиков ласково, с милой улыбкой продолжал слушать, что говорит ему гость.
А тот совсем неожиданно начал:
— Слушок тута был один… писали мне приятели и родичи мои… О самоцвете красном, о рубине индийском, чуть не в кулак величиною, байки баялись. И словно бы я тот рубин у купца ли хинского, у казака ли разбойника силом отнял, а ранней по кускам тело из него резал, добивался, где драгоценный камень тот укрыть… Так ли, милостивец? — глядя своими глазками в упор на хозяина, спрашивает Гагарин.
— Штой-то было, — неохотно, вынужденно отвечает тот. — Да мало ли врут! Никто и веры не ял тем толкам сумасбродным… Пьянчушка-приказный…
— Который ныне первым сибирским фискалом на Тобольске послан! — влился без яду в речь хозяина Гагарин. — Да не о нем речь покуда… О самоцвете потолкуем. Греха не потаю, кой-что и правда в байках тех чудачных. Купец-плут вез товары явленные, а промежду тем и обводных, запретных много затаил, хотел провести их безданно-беспошлинно! А одной пошлины с тех товаров тысяч пять, коли не весь десяток причиталося!..
— Ого! — вырвалось у Меншикова.
— Да! Есть такие плуты-воры, торгаши… И объещик-казак то воровство сметил, товары отобрал, словно бы в казну их, как надо, сдать обещал… И сдал кой-что, да лучшее-то и утаил, и рубин в том комплекте. Купец с досады и руки на себя наложил, только ранней есаула изранил порядком… Тот слег даже… Я про воровское дело сведал, казака под арест взял, допросить собирался только… Не потаю, с пристрастием хотел правды искать, все было готово для пытки судебной… А есаул мой с перепугу али от прежних ран и помер, допроса не дождавшись… Свидетели тому есть! Попа звали, пока он отходил… Весь целехонек лежал разбойник, не считая ран своих старых. Ни косточки еще не пощупали мои палачи у него… Ну, что делать? Обмывать, хоронить надо, честь честью… Медикус мой, Зигмунт, известен который и твоей светлости, стал осмотр чинить: с чего помер парень? Щупает, слушает… Глянь, жолв под мышкой, под рукою, твердый такой… Он надавил, а на том желве и рубец свежий еще не зажил, почитай… Кожа словно разрезана была да потом зашита. Глазам не поверил медикус… Нажал сильнее — прямо камень под кожей и шов раскрываться сам стал… Нити-то стоило чикнуть ножом, а под кожей и камень искомый лежит! Вон куды от обыску схоронил его разбойник!..
— Ну и народ! — протянул только Меншиков.
— Сибирь, одно слово! Недаром люди так боятся имени того… А вот мне пришлося там и век коротать для ради выгоды его величества и прибыли государственной… Но кончу, дай… Взял я самоцвет. Сам не знаю: посылать ли такое сокровище сюды?.. И кому его? Царю словно бы и не годится вещь, кровью залитая… Я сам такие редкие штуки люблю… да для меня больно лаком кус!.. И решил: никому иному тою вещью не владеть, как князю Александру Данилычу! Вот, получай!..
Камень, давно зажатый в руке, сразу блеснул в лучах солнца, освобожденный от мягкой замшевой оболочки, в которой лежал раньше в бумажнике Гагарина.
Побледнел даже Меншиков при виде сокровища сказочной цены и красоты.
— Брось… не шути, Матвей Петрович! — проговорил было он, но сразу замолчал, осторожно взял рубин двумя пальцами и, колебля его на солнечном свету, впивал взором чудную игру нежно-пурпурных, кровавых лучей, исходящих из камня.
— Што за чудо!.. Клад бесценный! Батюшки мои… вот так самоцвет! — полушепотом срывалось у Меншикова. — А… энто што же… знаки нарезные?.. Печать што ли? В перстень царский, видно, был вставлен дивный камешек, а?.. Не знаешь ли, князенька?..
— Не знал и сам я, да люди научили… По-хински, по древней ихней речи тут написано. По-нашему будет: «Земля зовет»… Заклятье, видно. Штобы камень, если и уйдет из рук, назад бы скорее верталея. Да ау!.. Поди, и косточки того истлели, хто перстнем и рубином сим владел! Куды уж ему вертаться! Пусть он у тебя и останется, благодетель, тебе на радость да на утеху… Нашей старой дружбы и приязни на вечное закрепление!..
Даже поклоном, сидя в своем кресле, подтвердил Гагарин свою просьбу и щедрый, беспримерный дар.
Меншиков понимал, что князь мог продать камень за огромную цену и в Китай, богдыхану, который тоже собирал редкие самоцветы, и какому-нибудь из богатых западных государей, поручив сыну эту щекотливую операцию. Наконец, сложив талисман в груду семейных сокровищ, Гагарин тоже не рисковал ничем… И светлейший, оценивая достойно великодушие и щедрость дарителя, выражая ему торопливо и горячо самую искреннюю благодарность, в то же время соображал:
«А што же старый лукавец и хапун всесветный потребует от меня взамен столь щедрых даров?.. Уж не меньше, чем душу мою грешную… либо равное тому!»
Но и тут Меншикова ждало приятное разочарование.
Когда кончились взрывы и поток благодарностей, которыми хозяин осыпал гостя, когда речь перешла на текущие новости и дела, Гагарин, правда, очень внимательно выспрашивал фаворита: в каком настроении Петр, гневается ли он на него, Гагарина?.. За что гневается и сильно ли?.. Чего ждет от него?.. Не думает ли сместить с губернаторства?.. Есть ли претенденты и насколько они сильны?.. Но и только.
Не выдавая Петра с его секретными поручениями, данными фавориту, Меншиков успел сразу успокоить гостя, который, конечно, заслужил полного внимания и поддержки. И оказать таковую Меншиков искренне обещал Гагарину с первых слов.
— Есть жалобы, чай, и сам ведаешь, какие… Больше, вижу, брехня, чем правда! — сказал Меншиков между прочим. — Но серьезного пока ничего! Что послали приказною фискалить к тебе в Сибирь, так о том не думай! Знаешь, и тут они, фискалы, многие водятся. И надо мною надзирают, не то што… А коли знаешь, где змея залегла, — туды лишь голой рукой не всунься… Разумеешь, князенька?.. И невредим проживешь!.. А вот настоящая забота у царя о том самом золоте, какого ты груду целую навез мне, дружок мой сердечный!.. Война, сам знаешь, до того нас довела, што царица свои последние ожерелья, серьги да запястья отдала… Царь велит себе не то сапоги и кафтаны чинить, а носки да рубахи носить штопаные да чиненые… Вот и пойми, как нам этот самый песочек надобен, коего в таком избытке мне ты навез! И то, гляди, половину сам от себя я государю принесу… как хочет там, взаймы либо без отдачи пускай берет на свои корабли да на амуницию… Ежели ему Бог удачу пошлет, и нам перепадут крохи какие ни есть… как думаешь?..
— Золота царю надо?.. Знаю, сам знаю… Подумал и я о том еще ранней твоих слов. Что же! Привез я тута кое-какие залишки с собою… Можно дать в счет будущих годов держанья Сибири… ежели меня убирать не собирается государь с места моего…
— И-и! Зачем убирать? — совсем успокоительно и твердо отозвался Меншиков, услыхав главное, что денег Гагарин даст, и немало, судя по его дарам самому фавориту. — Управляйся себе тамо на здоровье, Петрович, коли не наскучило. Оно што говорить! Князь Черкасских Алешенька больно на старое место зарится, душой бы готов, рад бы радостью. Да царь не станет кукушку на ястреба менять! И я постараюсь — прямо как перед Истинным говорю!.. Не даров твоих ради, а по чистой совести. Вижу, лучшего правителя краю и не найти нам с государем, чем ты князь! И породой взял, и не вор, и не казнокрад. На што тебе чужое, коли от своего сундуки ломятся… И умом Господь не обидел. Много тише да лучше, как сам знаю, стало в краю с того часу, как тебе он отдан на полную власть и волю… Так и дальше володей, ежели не наскучило сидеть в лесах тобольских с тамошними лапушками толстоногими! Знаем! И мне знать давали, как ты тамошних баб срамишь!
Смехом довольным и громким раскатились оба. Довольны друг другом и гость, и хозяин, понимают друг друга… И сочный смех наполняет высокие покои дворца светлейшего.
Успокоясь, серьезнее заговорил Меншиков:
— Еще есть одна зацепка, друг Петрович… Сам виноват, наманил царя богатыми россыпями бухарскими да тургустанскими. И верит и не верит твоим доношениям мой высокий камрат. И надо то дело твердо постановить! Коли так, веди смело линию свою. А не так? Ну што делать… Потерпи! Може, и дубинушки вкусить доведется за бахвальство, за то, что разлакомил, слюну вызвал, а вкусить не дал куска, столь лакомого и желанного… Только спина и пострадает, больше ничего!
Вспыхнул Гагарин. Проходимец фаворит явно забылся. По своей холопской мерке мерят честь и амбицию Рюриковича. Еще не ходила по его спине царская дубинка и не пройдется никогда! Лучше жалкое рубище и сама смерть, чем залитый бриллиантами и золотом кафтан светлейшего, надетый на спину, избитую пресловутой дубинкой; чем ходить с лицом, носившим синяки от карающей руки державного господина!
Едва удержался гость, чтобы вслух не высказать свои мысли хозяину, но тот смеется так весело, безобидно, не сознавая, конечно, всю бестактность, неоглядчивость простых, солдатских речей…
И Гагарин сдержанно, деловито повел дальше разговор:
— Так? Не так? Какие тут речи могут быть! Нешто и я не знаю малость нашего государя, что шутки с ним плохие, ежели о деле речь пойдет… Все верно, как я писал… Вот, больше половины золотого этого песку — оттуда. Видишь, который посветлее видом. Какой тебе присяги надо еще! А у меня и свидетели есть верные в том деле… Как прослышал я про эти пески, послал купить их по городу, у кого сколько ни найдется. Да и не поверил самим продавцам… А тут, как на счастье, приехал в Тобольск один бухаретин знатный, Абул-Сеид-Магома, эркецкой боярин тамошний. По взятьи Эркет-города у бухаров калмыками он ушел оттоль, убийства опасаясь и крайнего разорения. Старый, почтенный человек. Я его призвал, спрашиваю, что он про золото знает. И тот боярин мне сам сказал, что это золото под ихним градом Эркетом в реке перенимают в пору половодья… А потом из берегов песок берут и вымывают его же. И пониже немало золота, на той же Амун-Дарье-реке… Да, слышь, пусть государь сам тута хивинского посланника спросит… Хивинец должен о том деле правду знать и все скажет! И у меня свидетели есть же: обер-камандант мой, Карпов Семен, был при расспросе, да толмач толмачил речи бухаретина, мурза заможный, тобольский житель, Сабанак Азбакеев ево звать. Оба живы, вызвать их можно, ежели уж государь мне нимало веры не имет. Ежели…
— Не тревожь себя так, государь мой милостивый!.. Вижу теперь, што, окромя хорошего, нечего тебе и ждать от государя. Смело приему проси у царя. Он теперь на Котлине на острову… Я же сам ранней свижусь с ним и о твоей милости словечко закину от души! Будь в надежде! Знаем мы не первый год друг друга. Как себя бы думал отстоять, так за тебя встану перед «капитаном» нашим, ежели што… Ежели и нанесено ему в уши… Развеем небось! А скажи, любезный князь, как, по-твоему, лучше б до того золота добраться, штобы скорее кладом завладеть? — словно случайно, мимоходом задал вопрос с равнодушным видом лукавый временщик, решивший до конца использовать своего гостя.
Не чуя поставленной ловушки, Гагарин живо отозвался на заданный вопрос. Уже немало дней в уме строил князь всевозможные планы, которые дали бы возможность овладеть золотоносной рекой и окрестными местами. И с Келецким обсуждался этот вопрос, и на бумаге излагались наиболее удачные преположения в расчете, что царь потребует от губернатора подробных его указаний и полного, ясного изложения замыслов о захвате города Эркета с Амун-Дарьей-рекой, пожелает заранее видеть смету предполагаемых расходов и ведомость о числе людей, необходимых для выполнения смелой задачи, сулящей огромные выгоды впереди.
И теперь уверенно, плавно, словно читая с листа, заговорил Гагарин, стал сыпать цифрами и мудреными именами, всем, что обычно не удерживалось надолго и прочно в усталой, обленившейся от лет и бездействия памяти вельможи.
— Как до золота добраться да кладом овладеть? — повторил вопрос Меншикова Гагарин, словно желая сосредоточиться на предмете. — И очень просто. Совсем то не мудреная вещь. Время нужно, людей, как водится… Да денег малую толику… Слушать изволь, милостивейший государь, князь мой и благожелатель. Калмыцкий город тот Эркет, либо Иркет называемый, под которым на Амун-Дарье золото перенимают, стоит от Тары неблизко. Не скорою ездою, сказывают, двенадцать недель алибо полтретьи месяца. Да еще от Тары до Тобольска пять дён. И кочуют там калмыки, которы прямо не пустят наших походом подойти к месту к самому. А надо городами туды помаленьку подселяться, вверх по Иртышу до озера идя, до Ямышева. А калмыков тамо с ихним контайшою тысяч с тридцать будет! Того ради надо от Ямыш-озера степью и Каменем города строить и в них гарнизоном казаков сажать, пока до Иркета не досягнем. Чтобы город не боле как на 6–7 дён пути лежал, и там запасы запасать надо, провиант и корм лошадям и людям. Чтобы строить те крепостцы и содержать их, офицеров с инженерами я и в Сибири сыщу. А против калмык надо легулярных два либо три полка держать, тыщи три людей, да уральских башкир к делу призвать. Они конные и воевать охочи… Но отнюдь самим задирать калмыков не надобно. Опасность и трудность от того может выйти великая. А по мирному делу, не военным промыслом, где подкупом, где посулами одурив бусурманов, можно куды скорее и дешевле до дела дойти… А уж как станем твердой ногою при Эркет-городе, при тех песках золотых, тогда — ау! Будут калмыки локти грызть, да поздно! Так-то, светлейший князь мой…
Снова самодовольным, громким смехом Гагарина огласились покои Меншикова. И хозяин вторит гостю так свободно и весело. А сам думает о том, что сейчас выслушал от него. Запомнил дословно, словно врубил в свою огромную память весь план, перед ним развернутый, князь Ижорский. Все теперь в порядке, и может хороший доклад сделать он Петру о делах Гагарина вообще, о золоте бухарском в особенности.
И потому совсем весело и искренне вторит радушный хозяин смеху дорогого гостя своего, и жданного, и желанного, и прибыльного к тому же.
— Чудесно! Уж так умно, быть лучше не может! Ты, князь, все это на листе изложи, «капитану» нашему и подашь, как он призовет… Он и резолюцию даст хорошую уж, не я буду! Готовься к удиенции, слышь! Умно… ловко ты сбираешься калмыков-то одурачить!..
И снова смеются, заливаются оба, довольные в душе, что удалось провести другого и добиться своего, чего хотелось перед этим свиданием каждому из них.
Глава II
У ЦАРЯ
— Ко щам попал! В самый раз! Добрый день, майн фринд! — громко, радостно встретил Петр своего любимца, когда Меншиков дня три спустя после посещения Гагарина появился в Кронщлоте, в новом небольшом домике, занимаемом временно царем и его женой.
На столе, по обыкновению, стояло все, что было приготовлено к обеду, и Петр пробовал то одно, то другое блюдо, не соблюдая никакого порядка, обильно запивая куски своей любимой анисовкой или стопками крепкой мадеры, которую за последние годы особенно облюбовал из привозных вин.
Царица также радушно, тепло встретила прежнего «господина» и сердечного друга, сама подала прибор и стала угощать любимыми кусочками, по старой памяти зная вкусы светлейшего.
У шведов нашел царь обычай обильную закуску, «сэк-са», ставить сразу на стол, и этот порядок он распространил на весь свой обед, если находился в тесном домашнем кругу. Парадные трапезы, конечно, протекали обычным порядком — с длинной сменой бесконечного числа блюд, с участием полчища прислуги и придворных, с огромной потерей времени, чего особенно не любил Петр. Мысли, планы, огромные затеи теснились в голове великана царя, как и телом большого и мощного. Теперь особенно, на склоне лет, жаль было Петру каждой минуты, потраченной не на дело, не на завершение начинаний, которые уже начинали давать плоды, выявляясь в законченном, стройном виде.
Война со шведами, начатая почти без средств и людей, приносившая раньше только урон и стыд, сейчас приняла совсем иной оборот… Явился флот, войско, неизмеримо сильнейшее по своей численности, чем отважные, чудесно вымуштрованные, но малолюдные когорты даровитого Карла XII. Еще два-три последних усилия — и осуществятся мечты Петра о морском могуществе России среди других сильнейших морских держав Европы. Открытое море и обеспеченное сообщение страны с другими народами на обоих полушариях Земли сулили России быстрое развитие внутренней жизни, хозяйственное обогащение и просветление умственное. А Петр как-то не отделял себя от этой родной, ему врученной судьбою страны и темного, но полного богатых сил народа.
Склонный к крайним проявлениям во всем, Петр довел до крайности и свою бережливость относительно «праздного времени». Только вечерами, а то и целыми ночами по-старому, несмотря на запреты Блументроста и других медикусов, любил он просиживать в шумной, бесшабашной кампании своих сотрудников и собутыльников, отдавая дань обильную «Ивашке Хмельницкому»… Зотов, князь-папа, Гедеон Шаховской, или иподиакон, шумели, пили, пели своими хриплыми, громовыми голосами стихари и гимны, сменяя эти тягучие, важные напевы светскими, залихватскими и совершенно непристойными песнями, какие поют матросы и солдаты, да и то уже под хмельком.
Сейчас Петр выглядел очень неважно после такой вчерашней пирушки, сидел хмурый, с пожелтевшим лицом, а мешки под глазами особенно вздулись и отвисли. Но приход Меншикова его оживил. Покончив с едой, дымя трубкой, потягивая вино, торопливо начал царь делиться со своим умным и чутким любимцем успехами по снаряжению флота, новыми соображениями и планами, пришедшими в голову за время их разлуки, помянул, как «усердно было пито вчерась» во здравие светлейшего князя Ижоры и как сожалели все об отсутствии Данилыча…
Данилыч, в свою очередь, также с трубкою в зубах, сжато, но подробно доложил царю обо всем, что делается в сухопутной армии, вверенной ему; что слышно по царству из донесений, пришедших в Сенат; как и чем волнуется любимый «Парадиз» царя, новая столица. Были переданы поклоны от жены Меншикова царице и царю, помянули и сестер ее, веселых девиц Арсеньевых.
— Да, а что Гагарин-плут? — внезапно вспомнил царь. — Видел ты его? Был он у тебя? Или прячется, каналья…
— Был, был, как же! — поспешно отозвался Меншиков, только и ожидавший этого вопроса, чтобы не первому завести речь о сибирском губернаторе и не пробудить подозрений в царе такой поспешностью. — Долгонько сидел, докладывал все обстоятельства… И дары принес изрядные!..
— Да!.. Ха-ха-ха!.. Тебе первому уж попало от этого вора, казны народной расхитителя. Значит, верно, грабит он там в свою волю, тянет не хуже иных, на кого ополчался в прежние годы передо мною… А?.. Наживается по малости!
— Ну, нет, господин мой полковник! Далеко не по малости! Так цапает, как, поди, и не снилося ни тебе, ни мне, хотя знаем мы обычаи правителей наших российских самые беспардонные, когда они к денежному ларю припущены бывают!.. Так думается, что всех их князенька наш перетакал!..
— Ну!.. Быть ли может, майн херценкинд? Слышь, и для большого грабежу большой ум надобен, а, сдается, у нашего Матюши только и были, что длинные уши…
— Да руки загребущие, да глаза завидущие… И того довольно, особливо в Сибири, где от очей твоих далеко, господин полковник. Он тамо, слышь, сам про себя так выражает, коли хто ему перечить пытается: «Слова пикнуть не смеют! Коли я приказал, так и быть должно! Я вам царь и Бог!»
— Ого-го! Вон уж куды полез князенька… Значит, всю правду донес рябой каналья, которого я фискалить в Сибирь послал. Тогда остается…
— Еще много остается чево, господин полковник! Дай досказать. Я и сам не думал, не больно верил шпыню Нестерову. Да как пришел ко мне князенька, да высыпал мне на стол чуть не с полпуда песку золотого… да еще там камней самоцветных штук несколько… А взамен просить почитай ничего не стал, только бы я у тебя постарался, чтобы с места ево не ворошили… Тут я и понял, сколько сам он загребает, ежели мне мог такую прорву уделить!.. Да мне ли одному? Слышно, и на Москве, и здесь всех уже дружков объездил, как и меня, тоже не с пустыми руками… И Шафирова, и Долгорукова Якова, и Головкина, и… Да сам знаешь… Имена их, Господи, ты же веси… Вот и раскинь умом своим, государь мой: откуда все это хапнуто?..
— Да-а!.. Ну, ну, продолжай… А как на счет того самого песку золотого, которым он тебя посыпал?.. Что сказывал мой «честный» губернатор, а?
— А это он не соврал. Дело хорошее, верное. И путь нам даже указал, как ты можешь его доношения тут, в Питербурхе, проверить. Сказывает, у хивинского посла можешь в полной мере о том золоте об эркетском доведаться. И как взять его, тоже указал.
Подробно, почти слово в слово повторил фаворит царю все, что говорил ему Гагарин.
— Гм… а дело-то не так просто выходит, как я полагал! — после некоторого раздумья проговорил царь, окруженный облаками табачного дыма. — Сразу судить и убрать его теперь как бы и не к руке… Пока он службы не сослужил начатой, этих россыпей касаемой…
— И мне так мыслится! — осторожно подал голос любимец, умеющий не только читать в мыслях друга и повелителя своего, но и направлять их незаметно, как ему это требуется. — Да еще иные есть причины, коли сказать позволишь, господин полковник.
— Ну, ну…
— Первое дело, стоило мне заикнуться о взносе откупном за будущий год, а уж сам князь не только согласился, но и от себя пожелал сумму изрядную внести на расходы твои на военные… По доброй воле, без моего настояния…
— Да-а? Оно, положим, Гагарин — не то што наемный австрияк, вон, как маршал Огильви голоштанный, только и знающий, что денежки тянуть!.. Своих много капиталов у князя. Кабы не жадность его, мог бы и без греха прожить… Ну да это не важно… Дальше говори, что хотел. Вижу, не кончил еще.
— Не кончил, да немного осталось. Как я ево пощупал, грехи за ним еще не больно велики числятся… И даже ежели раскопать их, не великой кары он достоин; конечно, по-Божески судя, коли помнить, что один человек только не ворует у нас на Руси — ты, мой господин полковник… Да и то по причине хорошей: можешь рукою властной брать открыто, сколько есть в казне…
— Счастье твое, Алексашка, что ты и себя не обошел, и себя выключил из моей компании на сей раз, о бескорыстии говоря. Люблю молодца за обычай: правду умеет сказать, хотя бы и себе несладкую. Так ты думаешь, что рано князя потрошить?
— Совсем не пора! Он, видимое дело, сильнее черпнул, чем иные, Сибирь свою зная. Так и делиться награбленным не прочь. Другого посадишь, он меньше воровать станет, а по рукам мелких казнокрадов будет расплываться добро народное, как и доныне было… Так и полагаю. Было одно дело с камнем дорогим, самоцветом редким. Так и то он раскрыл мне.
— Раскрыл! Что ж ты не начал с этого? Я столько слыхал об амулете диковинном… Что с ним, где он!?
— Здесь! Вот он!
Достав из камзола шелковый платочек, Менпшков развернул его и, осторожно опустив на стол рубин, лежащий в гнезде мягкой ткани, обратился к Екатерине, которая, убирая в шкап лишнюю посуду, издали внимательно прислушивалась к беседе.
— Приглядись и ты, царица-матушка. Вещь редкая.
Та подошла, взглянула и, всплеснув руками, замерла от восторга, только вскрикнуть успела негромко:
— Матерь Божия, да это же…
Залюбовался и Петр чудным камнем.
— Вещь редкая! Меньше куды, чем этот приказный врал… Но и таких рубинов ни у себя в сокровищах, ни у чужих потентатов, я не видывал… А этот камень Гагарин?..
— Мне подарил. Тебе не решился, потому… кровью будто бы он замаран. А мне — и так сойдет! — со смехом заявил Менпшков.
— Счастлив ты, Алексашка!.. Мы искали, а ты нашел!.. Добро… да еще принес похвастать ворованным добром… Да ты что нынче?.. Сдается и не пьян, а сердить меня хо…
— Помилосердуй, господин полковник! Что так скоро? Вымолвить дай! Дурак ли я, чтобы принести тебе такую вещь на показ? И тебе бы не сказал. А принес я амулет сей… уж не посетуй, не тебе. Царице нашей матушке хочу челом ударить этой диковиной! Прими, госпожа полковница! Носи да красуйся нашему «баасу» — хозяину на радость, всему царству на утешение!..
Встал, с поклоном подал рубин Екатерине находчивый фаворит.
Та зарделась вся от радости, но стоит в нерешительности: брать или не брать? То на Петра, то на дивный самоцвет поглядывает, грудь высокая сильно, порывисто вздымается, глаза горят. Прекрасна стала в этот миг женщина, обычно привлекательная, но далеко не красавица.
— Бери, бери, что уж! — довольным, ласковым тоном отозвался муж на безмолвный вопрос жены. — Видишь, Бог не оставляет людских дел без оплаты, ни дурных, ни хороших. Не пожалела ты, в осаде Прутской сидючи, для моего для выкупа своих белендрясов и цац, которые для вас, для баб, всево дороже. А тут тебе из Сибири, вернее, из царства Индийского вот какой камешек Фортуна посылает, что ни у одной монархини такого нет и в короне, не то на ожерельях!.. Бери да благодарность сказывай камрату. Поцеловать даже следует за такой дар.
Растерянно лепеча благодарность, низко поклонилась Екатерина фавориту, три громких, сочных поцелуя прозвучали в столовой, и бывшая Мариенбургская пленница, зажав рубин в руке, быстро вышла, словно опасаясь, чтобы не передумали, не отняли у нее сказочное сокровище…
Громкий, веселый хохот обоих друзей проводил осчастливленную женщину.
— Ин, добро! Так и будет! — решил Петр. — Погодим с нашим губернатором. Ты верно говорил. А я и еще вижу помехи этому делу. Теперь, когда руки у меня войною связаны, тронешь одного из вельможных казнокрадов, все другие всполошатся, за себя опасаясь. Бучу подымут… Гляди, придется и отступать, пока не свободен я… А там, как полегче станет, тогда поглядим. Пусть пока владеет Сибирью да нам больше денег несет, хоть прямых, хоть ворованных, леший его возьми!..
— Верное слово, господин полковник. А к тому часу, гляди, и новые вины, грехи потяжеле этого камня накопятся у князеньки. Того камня не свалит он с души своей, как этот свалил через мои руки в руки царицы-матушки! — довольный своей шуткой, снова рассмеялся Ментиков. — Уж тогда ничья заступка ему не поможет. Стоит щуку в воду пустить да волю дать… а жалоб потом на нее не оберешься… Тут ее и ловить, кормленую, жирную, да на стол!..
— Жирную, на стол!.. Ловко!.. Ну, пускай пока «кормится»! Ха-ха-ха! — поддержал любимца Петр. — Всему, значит, своя пора! Тетеревов бьют по осени, а сибирских губернаторов судят, прежде им время накуралесить дав! Умно… Только как же с золотом с песочным? Не ему же все дело на волю сдать, не пустить же мышь в закрома!.. Вот я как мыслю: пускай он явится, доложит мне… и письменную реляцию сделает… Я ему пока ничего не скажу… Пускай старается, дело налаживает, как он там лучше думает… А мы тут подыщем доброго служаку, офицера верного, и пошлем дело вершить… Так и будет! — сам одобрив себя, закончил Петр, тряхнув своей тяжелой, большой головой.
И снова беседа пошла задушевная, дружеская между царем и любимцем о разных больших и малых делах. Особенно жалуется Петр на единственного сына и наследника престола. Слишком не пригоден он для той важной роли, какую готовит ему судьба.
— Умру я — заплачет земля! Может, хуже старого будет при сынке при моем при любезном! — тоскливо вырвалось у огорченного царя и отца. — Что и поделать, не знаю! И хворый он телом… И умом плох… А воли на доброе вовсе нету, только на плохое! Хоть и взаправду чужого призвать наследника, австрийского, что ли, прынца, приходится… Лучше чужой, да хороший, чем свой, да плохой!..
Сказал и ждет, что скажет на это любимец, чутью которого во многих важнейших делах доверяет Петр.
Меншиков уже не раз слышал подобный вопрос. И никогда откровенного ответа не дает на него. Совсем безнадежен по его мнению Алексей-царевич. Но умный царедворец знает своего довелителя, знает, как сильно, хотя и затаенно любит отец беспутного неудачного сына своего, хотя и суров с ним по виду.
И живо отозвался теперь, как и всегда, осторожный фаворит:
— Э-эх, господин, друг мой, полковник! Зачем так поспешно столь важное, неизмеримо великое дело решать хочешь! Подумай, может, ежели бы у тебя был такой прославленный, мудрый и могучий отец, как у нашего царевича… Может, и ты бы до своего совершенного возраста одно и делал, что баклуши бил бы, ведая, что и без тебя все ладно будет в царстве, што отец тебе изрядное наследье оставит: державу мировую, и казну, и славу, и слуг надежных, кои помогут юному государю первое время нести бремя правления… А как рос ты сиротою, сам должен был чуть не хлеб свой снискивать алибо жизнь свою боронить от злодеев, вот и вырос до сроку готовым мужем, когда иные прынцы со своими фрелинами в щупаки играли… Вина ли то царевича, что послал ему Бог отца великого, а силы малые!.. Побереги свою кровь, гей, господин полковник! Как перед Богом тебе истинным говорю, что душа мне велит… Жалей его и жди!.. Еще и ты поживешь, и он подрастет, поумнеет… Времени много впереди… А оно, время, и тебя самого умнее, государь мой! Уж не взыщи за правду-матку.
Ничего не ответил отец, глубоко порадованный всем, что услышал от своего умного наперсника, встал, притянул к себе голову Меншикова, крепко поцеловал и, потянувшись, спокойно проговорил:
— Добро, потолковали! Ступай погляди, что у меня тут творится… А я сосну с полчасика. Работы еще много нынче предстоит.
22 мая чуть не на рассвете высадился Гагарин на острове Котлине, куда царь назначил ему явиться на прием.
Пробираясь между свертками смоляных канатов, между бочками, тюками, остатками леса и балок, еще не убранными с набережной куда следует после ремонта и нагрузки кораблей, очутился наконец князь у цели и вошел в горницу, где Петр сидел за морскими картами, в сотый раз обдумывая свои предстоящие планы и пути. Он был один. Царица, и здесь неразлучная с мужем, еще спала.
Ласково принял губернатора-наместника Петр, по-старому, дружески стал беседовать, внимательно выслушал доклад, задал несколько вопросов, прямо задевающих самую суть дела, быстро прочел письменный доклад о золоте яркендском, подумал немного и тут же своим крупным, тяжелым почерком набросал несколько строк резолюции.
Насторожившийся Гагарин из-под руки, твердо выводящей черту за чертой, читал слово за словом эту резолюцию, гласившую так:
«Построить город у Ямыш-озера, а буде мочно — и выше. А построя ту крепость, искать далее по той реке вверх, пока лодки пройти могут, и оттого итти далее до города Эркети и оными искать оного дела. Для сего определить 2000 или по нужде полторы. Также сыскать из шведов несколько человек, хотя года на три, которые умеют инженерства, артилерии; также кои хотя мало умеют около минералов, также и афицеров несколько, однако ж, чтобы их было не более трети против своих. Маиа в 22 день 1714 года. На Котлином острову» {См. «Памятники Сибирской истории XVIII в.», т. II, № 39, стр. 135.}.
По мере чтения прояснялось лицо князя, явно озабоченное до того времени.
— Бери, подай в Сенат твой доклад, и пусть учинят по сему! — подвигая Гагарину лист, проговорил Петр, невольно улыбаясь тому, как прояснилось лицо Гагарина, который благоговейно посыпал песком желанную резолюцию, тщательно сложил бумагу и спрятал ее бережно в боковой карман камзола.
И князь, видя, что вся гроза минула и дело идет как нельзя лучше, совсем просиял лицом и душою, свободнее заговорил с государем.
Плата откупная за год вперед, вносимая губернатором, и личный дар его, тоже довольно значительный, были приняты самым милостивым образом, даже поцеловал его Петр и назвал добрым другом и верным слугою царя и отечества. Царица встала, между тем, и Гагарин был приглашен разделить раннюю трапезу царя и царицы.
Обласканный, осчастливленный, он уехал с облегченным сердцем и не менее легким крепким дубовым окованным сундуком, который из Сибири ехал битком набитый золотом…
Веселый, возбужденный, развернув перед Келецким резолюцию, князь ему в десятый раз повторял:
— Твоя правда была!.. Бояться мне нечего! Меншиков хорошо помог! Вишь, резолюция какая! Все по-моему! Мне дается воля афицеров брать, своих и шведов, и полки сбирать… И, видишь: на три года шведов тех подряжать надо! Понимает государь, что затея эта не малая, не быстротечная! И уж коли пленным шведам термин на три года положен и упрочен, ужели я на этот же срок полагаться не могу, что не тронут и меня!.. Ха-ха-ха!.. А за эти три года… мало ли что!.. И я могу помереть, и…
Остановился, не договорил Гагарин. Понимает его секретарь и без лишних слов. И тоже довольный, потирая свои тонкие пальцы, смеется негромко:
— Хе-хе-хе!.. Да, вельможный пане ксенже!.. Заставил-таки мой пан эту распутницу Фортуну пану яснейшему глазками щурить да улыбнуться помилее!..
— Заставил, да!.. Но, — внезапно отуманясь, с глубоким вздохом совсем иначе проговорил скупой князь, — но сколько это стоило! За такую уйму золота и любая честная богиня либо земная женщина и больше бы дала, чем одну улыбку. Поглядим, что еще будет. А пока радоваться надо, твоя правда, Зигмунд!..
И ликовал Гагарин, несмотря на досадные мысли о том, какой дорогою ценою досталась новая удача.
Он не знал, что в тот же день подписал Петр и отдал своему ординарцу подполковнику Ивану Дмитриевичу Бухгольцу другую бумагу, заранее приготовленную. Вот ее полный текст {См. «Памятники сибирской истории», т. II, № 11, стр. 35–36.}:
«Указ подполковнику, господину Бухалту. Понеже доносил нам сибирский губернатор, господин князь Гагарин, что в Сибири близ калмыцкого города Еркета, на реке Дарье, промышляют песочное золото.
1. Для того ехать тебе в Тобольск и взять там у помянутого господина губернатора 1500 человек воинских людей и с ними итить на Ямыш-озеро, где велено делать город. И, пришед к тому месту, помянутых людей в той новостроенной крепости и около ее, где возможно, розтавить на зимовье, для того, чтоб на будущую весну паки возможно было скоряя с теми людьми собравшись итить далее к помянутому городку Еркету.
2. И как на будущую весну собравшись с теми людьми пойдете от Ямыша к Еркету, то накрепко смотрите того, чтобы дорогою итить такою, где б была для людей выгода. Также в некоторых удобных местах, а именно при реках, делать редуты для складки провианту и для камуникаций и чтоб редут от редута расстоянием болше не был, как дней по шести или по недели времени от одного к другому было на проход, и в тех редутах оставливать по несколку людей по своему разсмотрению.
3. А когда Бог поможет до Еркета дойтить, тогда трудитца тот городок достать. И как оным, с помощью Божией, овладеете, то оный укрепить. И проведайте подлинно, каким образом и в которых местах по Дарье реке тамошние жители золото промышляли.
4. Потом такоже старатца проведать о устье помянутой Дарьи реки, куды оная устьем своим вышла.
5. Сыскать несколько человек из шведов, которые искусныи инженерству, артилерии и которыя в минералах разумеют, которых с воли губернаторской взять. Также и в протчем во всем делать с воли и совету губернаторского.
6. Протчее поступать, как доброму и честному человеку надлежит во исполнение сего интересу по месту и конъюнктурам».
У сего приписано собственною царского величества рукою:
«На галере святыя Наталии, в день 22 маиа, 1714. Петр».
Дней через пять явился к Гагарину первый обер-полицеймейстер новой столицы Девиер, сын португальского еврея, поселившегося в России, где он и его потомки нашли свое счастье.
Сверкая своими красивыми восточными глазами, приятно улыбаясь и изгибаясь полным, но стройным станом, затянутым в военный мундир, посланный Петра поздравил Гагарина с благополучным прибытием в «Парадиз» и сообщил, что царь на несколько часов приехал сюда, желая проводить домой Екатерину и здесь проститься с нею перед отплытием в море. Гагарина же немедленно приглашает к себе поговорить об делах, губернатору известных.
Всполошился опять, встревожился Гагарин, и сильно билось у него сердце всю дорогу до маленького дворца в Летнем саду, где находилась царская чета.
Здесь Петр показал князю копию с указа, данного Бухгольцу, и объяснил, что посылает особого человека для выполнения важного дела, только желая облегчить самого наместника Сибири, у которого и так дел немало… Но Бухгольцу приказано подчиняться Гагарину, ничего не делать без его советов, а князя просит царь помогать подполковнику не только по букве указа, писанного наскоро, но во всей полноте собственного разумения и доброжелательства к самому Петру и к родине, которой многие выгоды предстоят от удачного исхода этой экспедиции.
Подполковнику велено ехать немедленно, но он раньше должен явиться к Гагарину — получить подробные наставления и необходимые полномочия, чтобы в Тобольске в отсутствие Гагарина не затормозилось как-нибудь это важное и срочное дело.
Гагарин рассыпался в обещаниях и клятвах: душу положит, только было бы все сделано по мысли государя! А в душе твердо и бесповоротно решил: во что бы то ни стало помешать Бухгольцу успешно выполнить данное ему поручение.
Улыбка преданности и умиления, с которою слушал Гагарин Петра, с которою вышел от него, сразу сменилась гримасой бешеной ярости, едва князь очутился один в своей карете.
Он открыл россыпи, задумал дело, составил подробный, прекрасный план… А этот план у него украли, посылают другого человека, независимо от князя, выполнить блестящую затею. Гагарин будет лишен и славы, и выгод, какие уже улыбались ему, если бы так грубо не вырвали у него рук из дела, созданного им же!..
И Меншиков хорош! Вызнал план — и… Бухгольцу в указе буквально поручено все, что наметил сделать сам Гагарин!
От злости багровел толстяк, колотил кулаками по упругим подушкам сиденья кареты, царапал ногтями плотную шелковую обивку, топал ногами так, что едва не выбил дна в экипаже. Но все эти порывы дали выход ярости, наполняющей грудь князя, и домой он прибыл значительно успокоенный, даже был в состоянии обсуждать вместе с Келецким неожиданно создавшийся новый порядок вещей.
Умный советник постарался успокоить князя, примирить его с совершившимся событием, указав на выгодные стороны этого неожиданного вмешательства в золотые планы Гагарина.
— Ясновельможный князь прав, вещь неслыханная! Предательство низкое! — вторил сначала ему Келецкий, а после в ином совершенно направлении повел свою журчащую, баюкающую речь. — А ежели подумать, — по-французски продолжал секретарь, — из этой неприятности можно тоже извлечь немало утешения и добра! Первое: теперь и Меншиков, и сам царь должны чувствовать себя немного виноватыми перед вашим сиятельством. Это далеко не бесполезно. Второе, Бухгольцу для виду, конечно, придется помогать… но…
Эта остановка сказала Гагарину, что и секретарь отлично понимает, как легко будет помешать неприятному человеку в его работе…
— Ну хорошо, — почти успокоясь, заговорил князь, — этого сплавим, а нам другого пришлют…
— Не поспеют… Постарается ваше сиятельство — и дело будет сделано без чужих рук… И все выгоды будут-таки у вас, ни у кого более. А между тем под знаком этой экспедиции многое возможно осуществить в смысле вербовки полков, сбора провианта и фуража, запасов амуниции и боевых снарядов… Словом, всего, что так необходимо иметь на всякий случай. Царь немолод и здоровьем плох… Сам князь говорил, что в последнее свидание на Котлине он выглядел очень плохо… Кто знает?..
— Ничего никто не знает! — перебил Гагарин. — Его и сам… Бог не разберет. Сегодня бы ты его видел! Глаза сверкают, лицо загорелое… говорит, как топором рубит, по горнице шагает — пол дрожит! Он и меня, и тебя, и всех переживет еще!.. И ждать этого нечего нам, пожалуй…
— А этого не дождемся, может, что иное подойдет! Неспокойно и здесь… А там, в нашей Сибири, князь… такое может подняться, что он и сам будет рад отказаться от диких краев, где только мятежи и резня…
— Не откажется. Он тоже знает, какие богатства дает этот край…
— Ну, так не будем и гадать… Надо делать, как для себя лучше… А там… судьба даст последний приказ!.. Пока нет ничего тревожного на горизонте… Все по-старому — хозяин у себя на губернаторстве… А этот подполковник?.. Вы, конечно, и сами знаете, как надо быть с ним…
— Ну, еще бы! Не учить ли меня хочешь? — с неожиданным жестом высокомерия кинул своему советнику Гагарин. — Я уж не ребенок…
И действительно, когда Бухгольц в этот же день явился к Гагарину просить указаний по делу и верительных грамот к тобольским властям, князь принял его очень любезно, ласково, надавал кучу советов, написал указ новому коменданту Тобольска Трауернихту, который сменил больного Карпова, чтобы тот исполнял все по указу, данному Бухгольцу. Дал приказ в Москву, чтобы из сибирской казны выплатили прогоны на дорогу ему и его спутникам.
Подполковник ушел очарованный и в ту же ночь поскакал в Москву и дальше, спеша в далекую, незнакомую ему Сибирь за новым «золотым руном» и славой. И не знал он, что вместе с ним, даже опередя его, понеслись и приказы Гагарина: как можно меньше спешить с делом снаряжения отряда и ждать приезда Гагарина, в то же время не открывая Бухгольцу этой всей махинации.
Следом за подполковником выехал и сам Гагарин в Москву, где у него были еще служебные дела и хлопоты по сбыту собственных товаров, привезенных целым обозом и назначенных для отправки в Гамбург и на другие рынки Европы.
Глава III
ПОХОД БУХГОЛЬЦА
Взяв назначенных ему от Петра восемь человек сержантов и солдат-преображенцев, в самом конце июня выехал Бухгольц в Москву, где задержался довольно долго, пока из военной канцелярии прикомандировали к нему необходимый штат офицеров: одного майора, двух капитанов, двух поручиков и двух прапорщиков. Гагарин, в «Парадизе» уже сделавший распоряжение о выдаче ему прогонов до Москвы на двадцать лошадей, в Москве, по своем приезде, принял Бухгольца и дал ордера на получение дальнейших подъемных денег из доходов Сибирского Приказа, всего 500 рублей на весь путь до Тобольска и на первое время жизни в этом городе. Было еще выдано ему с офицерами 200 ведер «простого вина», которое они тут же, конечно, продали с уступкой, за 200 вместо 240 рублей, считая казенную цену в 1 рубль 20 копеек.
В августе лишь водным путем тронулся из Москвы со своим штабом Бухгольц, добрался так до Чусовой, а оттуда уже лошадьми поехал и прибыл в Тобольск только 13 ноября того же, 1714, года. Здесь в ожидании Гагарина он и его спутники прожили до 10 января 1715 года «без команды», как потом писал он царю. Наконец явился губернатор, успевший в Петербурге и особенно в Москве закончить все свои служебные и личные дела. Тогда только поход за золотым песком стал как будто налаживаться понемногу.
По крайней мере Гагарин и все окружающие его чиновники, приказные, военные власти Тобольска и других городов выражали в бумагах и лично полную готовность выполнять волю Петра и сделать все, чего хотел Бухгольц. Но непонятным образом самые удачно начатые шаги, самые решительные и обдуманные меры оканчивались неудачей и развалом. Полк «казачьих детей», сформированный с целью пополнять из него гарнизоны в новосооруженных крепостях, правда, был собран быстро и легко, всем назначили оклады, поверстали людей на службу царскую… Но недели не прошло, как ряды новобранцев поредели больше чем на половину. Кто сказался больным, кто прямо пустился наутек, едва пошли по городу неизвестно откуда возникшие слухи, что предстоит не поход, а бойня, что русских уже поджидает целое войско в 30 000 человек, хорошо вооруженных наездников, калмыков и киргизов, которые даже на этот раз соединились со своими вечными врагами каменными кайсаками, только бы не пустить московов к заветному золотому озеру…
Разбегаться стали и солдаты-пехотинцы, и драгуны, даже из «старожитных», давнишних, служак…
— Умирать-то зря кому охота! — говорили они….
А бежать было нетрудно. Сибирь велика, пути открыты на все четыре стороны! Повсюду принимают без спросов дальнейших «гулящих людей», бродячую вольницу, благо, рабочие умелые руки дороги в обиходе сибирском, промышленном и городском… Даже официально, на договорах, эти буйные головы, бродяги и вольница подписывались своим новоявленным на Руси «званием»: «гулящий человек руку приложил».
Много хлопот было, пока нашлось достаточное число артиллеристов — людей, которые хотя немного были знакомы с орудийной пальбою, умели зарядить и разрядить пушку. А уж с заготовлением инвентаря, амуниции, пороха, ядер, свинца и остальных военных припасов, с подвозом муки, зерна, солонины, круп и всяких других запасов такая путаница и затяжка пошла, что Бухгольц много раз готов был бросить все и, кинувшись в перекладню, скакать в Россию, вынести гнев царя, что угодно, только бы избежать этой приказной волокиты, упорной, жестокой и холодной, сплошь и рядом переходящей в явное издевательство…
Как нарочно, на беду Бухгольца дошли в Тобольск вести о повсеместных и сильных волнениях, охвативших ясачные племена Сибири: остяков, тунгусов, якутов, коряков и юкагир. Зашевелились сильнее обычного и вольные, кочевые народы, живущие в соседстве с бывшим царством Кучума. Шиши, или шпионы-перебежчики, стали доносить, что готовятся к большим походам и нападениям на россиян и у киргизов, и у дикокаменных казаков, и в калмыцкой стороне.
Среди инородцев появился даже русский монах, Игнатий Козыревский по имени, уже и раньше известный как смутьян и поджигатель бунтов в среде казаков, недовольных своею службой и произволом начальства. Убийство Атласова, Петра Чирикова, Оськи Липина и многих других «прикащиков» и смотрельщиков ясака, всегда сопровождавшееся грабежом, связывали с происками и поджигательствами этого монаха. А теперь он стал мутить инородцев, собирал в большие орды их разбросанные малолюдные зимовки и юрты.
Видя свою численность и силу, осмелели инородцы, обычно покорные и робкие, стали, по примеру казаков, нападать и на своих же земляков, только принявших христианство, убивали, грабили меха, котлы, оружие, рыболовные и звериные снасти — все, что могло найтись в бедном обиходе дикаря-охотника. А потом стали нападать и на уединенные, слабые по гарнизону, острожки, держали их в осаде подолгу, пока русские, приев свои запасы, расстреляв почти весь порох, снимались и уходили к своим городам, оставляя передовые посты, острожки и крепостцы во власти ликующих победителей, хотя бы потом дорого пришлось заплатить за временную победу безрассудным, почти безоружным кочевникам, посмевшим затеять борьбу с русской властью, имеющей в своем распоряжении тысячи обученных людей, идущих с «огневым боем» на лучников-дикарей…
— И как можно допустить даже до начала таковых беспорядков! — возмущался Бухгольц, услыхав, что часть отряда, уже сформированная для него, послана на усмирение таких рассеянных бунтов. — Есть же и люди на местах. Могут сами собираться в отряды, штобы разгонять шайки мятежные…
— Нельзя тем отрядам из своих острогов выходить. Каждый, где посажен, должен сидеть, охранять пост! Иначе снова зальют окраины пашенные эти дикари буйные и назад попятят наших хрестьян! — возразил подполковнику Трауернихт, хорошо знакомый с давнишним строем местной жизни.
К нему как к коменданту Тобольска чаще всего пришлось обращаться начальнику затеянной экспедиции. И теперь он все-таки не успокоился ответом спокойного, рассудительного немца, обруселого по виду, но сохранившего многие природные черты тевтонского племени.
— А на што же аманаты у вас, господин командант, спросить еще дозвольте! Полон двор здешней аманатской всякими косорылыми да косоглазыми… И поить их, и кормить, и одежду им давать надо от казны ево царского величества… за то, што родичи ихние бунтуют и россиян вырезывают!.. Взять, перевешать всех разом да перед тем на хорошем огоньке поджарить, шкуры две спустить с каждого… Штобы страх и грозу навести на родичей тех аманатов! Вот и не посмеют бунтовать!
— Хуже будет! Первое дело аманатов эти собаки не истинных дают, не самых лучших своих людей, как при договоре с тайшами, с ханами да с ихними старшинами поставлено бывает. По их словам, это все дети самих ханов либо братья, дядья и родичи ихние и самые первые люди племени… А потом и узнается, что наберут из подлых людей кого попало и выдают за бояр за своих, везут нам в аманаты. Ежели мы тех заложников и прикончим, им горя мало! А по всему краю крик пойдет, што мы уговор нарушили, заложников беззащитных и безвинных губим!.. Тогда и вовсе можно общего мятежу ожидать. А ты не кипятись, господин подполковник. Все сделаем… Путь тебе предстоит тяжелый, опасный… Передохни у нас. Или не весело живется? И вина, и баб вдоволь… Князь-губернатор с тобою как приветлив да ласков! Чего торопиться? Есть поговорка: поспешишь — мир насмешишь… Помаленьку-полегоньку оно лучче гораздо!..
Скрепя сердце, против воли пришлось Бухгольцу следовать «доброму приятельскому» совету… Время шло, попойки и картежная игра сменилась оргиями с тобольскими «хорошуньями». Губернатор сам часто устраивал шумные сборища, которые оканчивались райскими ночами… А между тем неизвестно откуда зарожденное и наплывающее, росло и зрело общее недовольство, охватившее и в самом Тобольске почти всех, начиная с первых чинов управления, у которых вырваны были из лап многие жирные куски, и до последнего ярышки-приказного или новобранца-воина, взятого из хаты, от сохи и снаряжаемого в какой-то никому ненужный, непонятный поход, сулящий, по общему говору, одни муки и полную гибель…
Гагарин не только знал о всеобщем ропоте, но словно доволен был его нарастанием, не принимал на деле никаких мер для улажения многих ежедневно возникающих острых вопросов, столкновений, трений между отдельными лицами и целыми отраслями внутреннего управления краем. Только на словах он успокаивал тех, кто решался прийти к нему самому со своими жалобами, тревогами и опасениями…
Но слова мало помогали, потому что был нарушен целый ряд существенных и крупных интересов у множества лиц… А Задор и его приятели, которых батрак-коновод настраивал по-своему, шныряли в низах народных, там тоже готовя что-то неожиданное, грозное… Гагарину Задор докладывал о всех своих успехах и здесь, и в тундрах, где монах Игнатий работал с ним заодно. Но освещал он эти все «успехи» по-своему, уверяя, что низы как один человек встанут за князя, защитника своего, за охранителя старой веры и обычаев стародавних, прародительских… Двуличный смутьян-предатель убедил наместника, что движение назревает против Антихриста-табачника, против подмененного царя, который, по всей видимости, и Русь православную, и богатую Сибирь решил обратить в басурманство и привести к поклонению диаволу…
Так тянулись недели и месяцы…
Наконец 20 июля наступил желанный для Бухгольца миг, настал день отъезда его с отрядом из Тобольска, день, наступавший и отменяемый уже так много раз!
Целую ночь не спал Бухгольц, ворочался на узкой койке в своей каюте на самом большом из дощаников флотилии, отведенном для него и для остальных офицеров. Задолго до свету вышел он наверх, стал смотреть, как закопошились люди, готовясь к общему отплытию.
Первыми водоливы и матросы показались на палубах дощаников, затемнели в лодках, на всех судах, стоящих у берега широким длинным караваном, состоящим из 33 больших барок и 27 ладей поменьше.
Флажки и флаги трепались по воздуху, колеблемые рассветным ветерком. Восток алел и золотился. На берегу показались первые группы солдат, драгун и артиллеристов, ночевавших в отведенных им городских и пригородных квартирах. Быстро подходили люди к сборному пункту с разных сторон.
Офицеров не было видно. Прощальную пирушку устроил для них вчера вечером Гагарин. Сам Бухгольц едва успел уйти оттуда около полуночи, сославшись на нездоровье. А остальные продолжали пировать… Но к отвалу, конечно, они не опоздают, тем более что торжественный молебен назначен перед отплытием. И для него здесь, на берегу, на месте поровнее раскинута просторная походная церковь, идущая тоже в далекие степи с отрядом.
Из плотной крашенины устроен длинный широкий шатер, поддерживаемый особыми стойками. Крест над входом и над местом, где стоит алтарь, говорит всем о назначении этого шатра.
Взошло солнце, подернув полосами живого текучего блеска и пламени реку, пронизав леса золотыми теплыми лучами, обливая светом и сверканием белые стены Тобольска, золотые главы его церквей.
В ожидании полного сбора команды и прибытия своих офицеров, градских и военных властей с Гагариным во главе, как это было назначено накануне, Бухгольц сошел на берег и остановился против крайних барок, на которые еще подвозили и догружали последние бочки, ящики и тюки.
Окидывая взором огромный караван, эти барки и лодки, нагруженные доверху оружием, порохом и всяким добром, видя, что три тысячи людей строятся на берегу, готовясь перейти на дощаники и плыть по его приказу за тысячи верст в неведомые пустыни, в неприятельский край, Бухгольц позабыл испытанные им до сей поры обиды, огорчения и неприятности, чувствовал, что радость, светлая и горделивая, переполняет ему грудь, вызывая даже слезы на глазах.
Действительно, богато снаряжен и снабжен был отряд.
2000 фузей со штыками и мушкетонов, столько же палашей, 1000 бердышей для артиллеристов, пики рогаточные и копья капральские, затем 13 мортир и 40 пушек медных и чугунных разной величины составляли арсенал отряда.
К этому было запасено железа 1500 пудов, 2000 пудов дроби и свинцу, 700 пудов пушечного и ружейного пороху, 1500 бомб и 3200 гранат и ядер разного калибра.
Огромным табуном пошли вперед, к Таре, по берегу под наблюдением достаточного количества конюхов и казаков 1500 коней, закупленных по довольно высокой по тому времени цене, по 3 руб. 50 копеек за голову. И собственные кони казаков, едущих в отряде, тоже идут с драгунским обозом.
Затем 2300 пудов свинины соленой, 8000 четвертей муки, круп, толокна и сухарей, 1500 ведер вина, 500 пудов соли и соответственное количество коровьего масла в бочонках, уксуса, сала говяжьего и постного масла припасено было на первое время для прокормления людей. А потом новые запасы прибудут из попутных городов, чтобы обеспечить продовольствием ратников.
Кроме этих главнейших статей, ничего не было забыто, что могло оказаться нужным или пригодным в походе. Были запасы амуниции, кроме той, которая выдана людям вместе с обмундированием, захватили воск для церковных свечей, 3000 сальных свечей, взяли ниток, иголок и кож сыромятных, веревок и тесьмы, олова, стали и меди красной, 1000 листов белого железа для покрытия жилищ в новых крепостях, селитры и серы про запас, гвоздей и пакли, бумаги писчей и для пыжей, кузнечные принадлежности, кирки и ломы плотничьи и столярные инструменты, целую «обалторию», т. е. лабораторию, для нужд артиллерии, для горных разведок и пробирного дела.
Рогожи, холсты, седла и кашеварные принадлежности, котлы, чумички, треноги железные, безмены, косы и цепы для умолота, решета и пряжа шерстяная, смола, деготь и войлоки — все это было уложено по местам, переписано и должно было пойти в дело и там, на месте назначения, если удастся достичь берегов заветного озера Эркета и золотоносной Амун-Дарьи реки…
В сотый раз проверяет в памяти Бухгольц эти запасы, вспоминает, не позабыто ли еще чего-нибудь необходимого, важного. Но, кажется, все в порядке…
На огромную сумму в 75 000 рублей сложено разного добра на судах флотилии, готовых к отходу, а на наши цены это равняется целому полумиллиону рублей, потому что деньги в те годы ценились в шесть раз дороже, чем теперь.
Но до конца похода, конечно, не хватило запасов, и еще 40 000 рублей было истрачено из казны, роздано в виде жалованья людям, пошло на покупку провианта. Особые четыре комиссара едут с отрядом, расходуют деньги, ведут счет всему, что получается и выдается в походе. Всего в 115 000 рублей обошлась эта экспедиция казне.
Солнце быстро поднялось над дальними лесами, над вершинами гор и стало довольно сильно пригревать многолюдный отряд, развернувшийся тесными цветистыми рядами перед походной церковью и вокруг нее, на зеленеющих откосах рясного берега, когда Бухгольц тоже подошел сюда от барок, убедясь, что там все в полном порядке.
Несколько офицеров, преимущественно шведов, здоровяков, крепких ногами и головой, уже были на местах при своих взводах. Только красные их лица, хриплые голоса и мутные глаза говорили о бессонной ночи и жестокой попойке, в которой они принимали участие. Стали подъезжать верхом и на линейках остальные господа начальники, россияне. Этих нужно было поддерживать, пока они слезали с седла или выходили из долгуши, а затем неверными шагами направлялись к своим ротам и батальонам. Бухгольц поморщился, но решил сдержаться в эту последнюю минуту.
Наконец собрались все. Полковой священник, тоже не отставший от своих сослуживцев-офицеров во время отвальной, устроенной губернатором, был на месте, бодрился, старался твердо держаться на ногах и только порою потряхивал головой, на которой длинные волосы мокрыми длинными прядями липли к затылку и к плечам. Это холодной водой приказал себя окатить раза два отец Кирилл, чтобы освежиться перед службой…
Не хватало только властей из города и поручика Трубникова, которого особенно рекомендовал Гагарин Бухгольцу как опытного и расторопного офицера, особенно пригодного для неизбежных впереди сношений с князьками и ханами кочевых враждебных племен, по владениям которых придется проходить отряду.
— Он уж, Федя мой, побывал в их лапах, — заявил Бухгольцу Гагарин, — знает все их обычаи, сноровки и уловки… Вот пусть сам тебе скажет, как уходил от азиатов!
Трубников описал Бухгольцу свой неудачный поход к озеру Кху-Кху-Нор, захватив слушателя простым, но ярким описанием приключений и бед, и был назначен адъютантом при отряде.
Подполковник уже начинал терять терпение, когда вдали показался целый поезд: впереди — конвой Гагарина, потом он сам в коляске, митрополит, схимонах Феодор в карете, недавно заменивший Иоанна, под которого успел-таки подвести подкоп Гагарин, находясь в Петербурге и в Москве. Обер-комендант, комендант, советники и дьяки губернской канцелярии, офицеры полка, остающегося в Тобольске, капитаны пригородных рот, попы соборные и городские выборные следовали за первыми двумя в экипажах, на дрожках и верхами. И неизбежный Нестеров тут же со своими подручными.
Гагарин, тоже освеженный поутру холодной ванной и снадобьями, которые припасал для него в подобных случаях Келецкий, ехал молча, недовольный, хмурый, с желтым, помятым лицом, с дремотным взглядом, не подымая всю дорогу глаз на своих двух спутников: Келецкого и Трубникова, занимающих переднее сиденье.
Только когда коляска, вынырнув из лощины, поднялась на перевал и готовилась спуститься к берегу, где пестрели ряды войск у храма-шатра, князь лениво, словно нехотя, процедил Трубникову:
— Так гляди, Федя… сослужи службу! Я в долгу не останусь! Помни все, что я тебе толковал нынче… Ежели, Бог даст, утрем нос этому навозному франту Бухалту… Придется уж самим нам за дело браться. Сам понимаешь: тебе все поручу… И выгоды, и похвала царская, и слава от людей — все твое!.. Мне золота только навезешь поболе — вот мы и сквитаемся… Умненько дело стряпай… Гляди…
— Да уж… Коли дал пароль, так держать буду! — решительно отозвался Трубников, совершенно трезвый на вид, несмотря на то, что он не отставал от товарищей во время ночных возлияний. — Не ради своей одной выгоды, а из преданности вашему превосходительству!.. Как благодетелю моему постоянному и…
— Ну ладно! Знаю, верю… Приехали… Вылазь и мне подсоби. Чтой-то ноги у меня нынче. Стар, видно, становлюся…
Выйдя с помощью Трубникова из экипажа, Гагарин принял рапорт Бухгольца, цервый двинулся к походной церкви, где уже митрополит с попами облекались в привезенные с собою ризы. Свита двинулась за Гагариным. Солдаты, драгуны в своих красных и васильковых кафтанах с камзолами того же цвета, в лазоревых и красных штанах, в гренадерских шапках, расцвеченных синими, зелеными и красными сукнами, протянулись живым, стройным частоколом перед шатром, полы которого спереди и с боков были откинуты, позволяя видеть в нем алтарь, совершаемое богослужение и блестящую свиту офицеров и приказных чинов, окружающую губернатора.
Дальше толпились почетные обыватели, принимающие участие в проводах. Казаки в своих темных кафтанах и красноверхих папахах развернулись позади регулярных войск, стоящих впереди, как живая однотонная рамка и фон для колоритных рядов. Толпы народу, успевшие сбежаться из окрестных посадов, из города, отовсюду, темнели немного подальше красивыми пятнами из зелени отлогих берегов Иртыша.
Кончилась недолгая служба. Феодор сказал отряду теплое напутственное слово, окропив раньше ряды святой водой. По чарке вина взяли в руки начальники. Сотни добровольных маркитантов и свои дежурные по ротам стали обносить чаркою ряды. Грянули залпы ружейные, грохнули пушки со стен и от ворот Тобольска. Завеяли, заколыхались новые 20 знамен, рисованных искусно на холсте, а не писанных на досках, как было раньше у сибирских казаков и в регулярных полках. Гобои военного оркестра резко подали свои гортанные, беззастенчивые голоса, напоминающие не то однотонный, протяжный крик нетрезвой бабы, обиженной кем-то в поле, не то вой похотливой волчицы, звучащий на опушках лесных по ночам раннею весной…
Каждый батальон двинулся к той барке, которая ему была раньше назначена, и сходни погнулись под мерными шагами сотен и тысяч ног…
2700 человек, не считая тех, кто пошел с лошадьми, разместились на семнадцати дощаниках и в десяти ладьях, которые побольше. Сначала все было сгрудились на левом борту, глядящем к берегу, но суда сильно накренились, и окрики старших заставили солдат рассыпаться по всей палубе на каждом судне. На передовой барке взвился государственный штандарт, грохнула пушечка, поставленная здесь, на носу, ей ответила другая, с кормы… Десятью выстрелами салютовала отходящая флотилия городу и тем, кто оставался на берегу, махая руками, шапками, платками, посылая пожелания и благословения отъезжающим…
Особенно выделялись из общего гула и шума плач, вой и голоса баб и девок, провожающих своих мужей, женихов и возлюбленных в дальний, долгий и опасный путь!..
Медленно на веслах движется караван вверх по Иртышу против быстрой речной струи… И долго, далеко провожают его по берегу толпы людей, больше женщины и девушки, желая хоть в последний раз перед разлукой наглядеться на своих желанных, ненаглядных кормильцев-поильцев или сердечных дружков.
Долго шла в этой толпе и салдинская поповна Агаша, тоже попавшая на проводы. В толпе офицеров, мелькающих на передовой барке, силится она различить знакомую постать, милые черты Феди… А он, в свою очередь, прислонясь у борта, ищет глазами любимую девушку в той веренице женских фигур, которая вьется по берегу, то появляясь на солнце среди чистых полян, то исчезая среди прибрежных частых зарослей и лозняка…
Но река широка, воздух пронизан светом. Больно и глядеть на сверкающую под лучами реку… Спотыкается нога девушки… Она, как и другие, начинает отставать от каравана, который не плетется по извилистым прибрежным тропочкам, а плывет прямой речной гладью… Как нарочно, попутный ветерок повеял с северо-востока; разом голый лес мачт речного каравана забелел парусами-крыльями… Надулись легонько паруса, словно груди лебедей, и быстро стали резать носы ладей и барок pgзвую, пенистую встречную струю речную… Уходит, убегает, тает караван в просторе сияющей реки… Остановилась Агаша, машет в последний раз рукой, шепчет последний привет:
— Миленькой, дружочек мой!.. Храни тебя Господь!..
Гагарин приметил, как побежала поповна за караваном, дождался, пока вернулась она, чтобы отвести ее в слободу, куда и сам собирался в гости, отдохнуть после сутолоки и угара последних дней.
Наблюдая во время пути за своей возлюбленной, которая даже не могла притвориться и сидела печальная, молчаливая, с заплаканными глазами, с побледнелым прекрасным лицом, князь, улыбаясь в душе, подумал: «А в пору я паренька услал… При нем, поди, и делу моему с Агашей был бы конец. Выходит, я двух зайцев одним пыжом шибанул. „Дружку“ Бухалту помощничка такого дал, который ему поможет шею свернуть… А тут свободнее стало вокруг моей лебедушки, не придется мне на край постели тесниться, третьему место давать…»
И, довольный, посапывает Гагарин, пригретый, разморенный утренним теплом; наконец и совсем задремал, склонясь головою на плечо спутнице.
А та сидит, не шевелясь, заплакать хочет и не смеет, вздыхает только часто, протяжно и глубоко…
Обыкновенно в месяц и пять дней совершается путь от Тобольска до Ямыш-озера, а отряд Бухгольца затратил на этот переход вместе с частыми остановками и роздыхами ровно вдвое больше и только 1 октября прибыл на место, когда уже начались холода и могли ударить внезапно морозы.
Пока люди валили лес для стен и построек, пока шведы-инженеры и зодчие выбирали удобное место, разбивали землю по планам под городок-крепость, до 29 октября всем пришлось жить на барках, хотя на реке уже пошло сало, и она могла стать каждую минуту. Жили и на берегу, в наскоро сложенных бараках, шалашах и землянках, вырытых в сухом грунте, в прибрежных холмах.
29 ноября дружно принялась за установку стен, за постройку «квартер», то есть жилых помещений, казарм, амбаров, конюшен и мастерских, а через двенадцать дней упорного, но веселого труда, в котором принимали участие все люди отряда, даже кашевары и конюхи в свободные от прямого своего дела часы, работа быта кончена. Всем приятно было согреть озябшее тело, постукивая топором, подкатывая и складывая одно на другое готованные, притесанные бревна, завершая венцы срубов; да и сама по себе тянула всех спорая, дружная работа, плоды которой тут же выявлялись, росли не по дням, а буквально по часам в виде стен городских и прочных зданий, покрытых свежим тесом, так вкусно пахнущим и блещущим под лучами осеннего дня или одетых щеголеватыми листами белого железа, которыми крылись склады пороха, ядер, картечи и башни приворотные, высоко поднятые над раскатами и стенами крепостцы.
Здесь перезимовал отряд среди полного почти безделья, поправляя кое-что, готовя вьюки для долгих сухопутных переходов. Даже маленькие пушки должны были вьючиться на лошадей по две на каждую лошадь, словно сумы переметные в старину.
Охотой занимались много и с удовольствием. Свежая дичь всегда была в лагере для целого отряда, как и для офицеров. Кроме казенной чарки водки, солдаты ухитрялись еще добывать простое и «двойное» вино у разъезжих торговцев, которые часто заглядывали в новый многолюдный военный городок. А уж про офицеров и говорить нечего. Пьянство, азартные игры, ссоры и грубые связи с калмычками соседних улусов заполняли у них все долгие, сумрачные зимние дни.
Но вот потянуло теплом с юго-востока, от озера Чан, из-за высоких предгорий Змеиных гор… Повеяло весною, которая дружно и быстро наступает в этих местах. Закипела опять работа, позабылась зимняя скука и отупенье, стали готовиться в дальнейший путь.
На середину апреля назначили выступление; в начале марта уже послал Бухгольц Трубникова к Эрден-Журыхте, калмыцкому контайше, и к другим владетельным ханам и князькам с письмами и для устного успокоения этих осторожных дикарей. Надо было уверить, что не против этих ханов с их племенами идет большой русский отряд, а с мирными целями: произвести разведки в местах нахождения золотого песка у верховьев Иртыша.
Такое предупреждение особенно было необходимо в настоящую минуту, потому что еще весною прошлого года, задолго до выступления отряда Бухгольца, во все концы и края сибирских степей, через реки и горы, в самые дальние кочевки и улусы по обеим сторонам Иртыша до самого истока за озером Зайсан и выше — прокатилась одна тревожная весть: 10 000 московов с Темир-башем, «железным генералом», посланным от самого царя, идут разорять калмыцкие и киргизские улусы. Стариков будут жечь, мужчин-батырей, удалых наездников перестреляют, перережут. Девок и баб возьмут себе в добычу, как баранту, вместе со всем скотом, верблюдами и лошадьми. А детей и юношей силой заставят есть свинину, принять крещение и осквернить мечети и прах отцов своих, правоверных мусульман или наивных, но искренних буддистов.
Как будто в кварталах Тобольска, населенных инородцами, впервые народился этот слух, пущенный своими же, русскими, людьми, вроде Задора и его приятелей, сознательно или слепо оказавших услугу планам Гагарина относительно помехи походу Бухгольца. Месяца не прошло, как волнующие слухи разнеслись на сотни, на тысячи верст кругом, потому что как раз весною разъезжались из Тобольска кочевые улусники-торговцы, бухарские и китайские купцы, особенно склонные разносить всякие слухи и вести по белому свету…
И вести эти скоро вернулись в Тобольск в виде сообщений о скоплениях кочевых шаек у верховьев Иртыша и по обеим его сторонам, от Зайсана почти до Семипалатинской, недавно отстроенной еще небольшой крепостцы… До Бухгольца, наконец, с разных сторон стали доходить эти же слухи. И еще в Тобольске решил он послать вестника к кочевым ханам. Для этих поручений особенно рекомендовал Гагарин того же Трубникова. Теперь, когда дурные вести дошли до напряженного слуха Бухгольца, он едва дождался первых дней потеплее, и в начале марта поскакал Трубников с верительными письмами в широкую, синеющую без конца перед глазами степь, в Барабу, направляясь к дальним улусам, где, как было известно, находился сейчас контайша Эрдени.
Конечно, ехал посол Бухгольца не один. С ним были посланы писарь полковой Кононов, Чжан-Шал, крещеный калмык, вместо толмача, и три казака: Алешка Жданов, Филька Мухоплев и Силантий Пиленко, трубач.
Странным показалось этим спутникам, что офицер направил путь не прямо на восток, через холмы в открытую степь, а стал подниматься по берегу Иртыша к его истокам и озеру Зайсану, вокруг которого разбросано немало калмыцких кочевок.
Но здесь же, как знал каждый сибиряк, часто бродят шайки воинственных киргизов каменной орды. Почти вечно воюют между собою эти два племени, родные по крови, но различные по вере и обычаям: одни — буддисты, другие мусульмане. И даже во время перемирия, какое теперь настало между народами, не могут удержаться удальцы киргизы, разбойники и воры по природе. Переплыв на своих горбоносых неутомимых конях Иртыш, покидая его левый берег, где владения Хаип-Магома-Батура, повелителя дикокаменной орды, появляются барантачи обычно по ночам на правом берегу, во владениях калмыков, нападают на одинокие юрты, на небольшие улусы, угоняют скот, прихватывают пленников и снова исчезают за рекою. А там, в горах и в степях родных, легче найти червонец, затерянный в песке, чем этих удальцов, которым не страшен даже гнев их собственного повелителя хана…
На вторую же ночь наехала такая шайка на Трубникова и его людей, отдыхавших вокруг большого костра. Человек двадцать всадников стали со всех сторон приближаться к костру, оцепив его широким кольцом, чтобы оставаться вне выстрела дальнобойных по тому времени фузей, хватающих на триста-четыреста шагов.
Вот один всадник отделился от общего кольца и, припав за шею лошади, подъехал поближе, зорко следя за группой московов, очертания которых резко чернели на фоне яркого пламени костра.
— Гей! Что за люди? — крикнул всадник, приблизясь так, что можно было переговариваться свободно. — Зачем вы здесь? Откуда? Сейчас давайте ответ.
Толмач не успел еще перевести Трубникову вопроса, который и без того понятен был офицеру и трем его конвойным, как заговорил один из них, Пиленко, держа на прицеле свою фузею, как и все остальные.
— Отвечать ему, што ли ча, господин потпорутчик?.. Разом сыму с коня разбоничью башку эту бритую! Прикажите «огонь»… пра! Што с ими калякать… Пра!
— Молчи! Видишь, еще надъезжают собаки… их уже с полсотни наберется, а нас шестеро… да и то на этого — плоха надежда! — поведя глазами в сторону Чжан-Шала, толмача, негромко отозвался Трубников. — Темно в степи, нам от огня плохо во тьму стрелять… А им хорошо. Если начнем костер гасить, они тут и налетят! Надо потолковать с ними. Так смирно сидите, пока они близко не подбежали. Я сам спрошу!..
И громко по-калмыцки крикнул Трубников передовому всаднику:
— Гей!.. А вы что за ночные люди? Барантачи-разбойники?
— Нет! Мы посланы разъездом от нашего хана пресветлого, от Хаип-Магома-Батура. Посланцев Эрдени-контайши калмыцкого провожали на этот берег, теперь возвращаемся к нашему хану. Давайте же ответ: вы кто такие?
— А мы посланы к вашему хану и к Эрдени Журыхте от светлейшего князя губернатора Сибири и наместника его царского величества с большими вестями. Так вы берегитесь трогать нас! — пригрозил Трубников. — Лучше примите вести, передайте их вашему хану, а нас пустите нашим путем.
Всадник молча стоял на месте несколько мгновений и вдруг, выпрямясь на седле, повернул к кучке своих, которая темнела на вершине ближнего холма, за цепью всадников, окруживших костер. Очевидно, там были начальники шайки, теперь уже достигающей почти ста человек. То и дело из темноты ночной выплывали всадники и чаще, теснее становилось их кольцо, широкое и редкое вначале.
Через две-три минуты снова подъехал всадник, уже не укрываясь, как раньше, за шею лошади.
— Мой господин, Таанат-бай, сказать изволил: если правдивы слова ваши и нет грязи на языке у вас, он желает сам проводить послов сибирского большого начальника, наместника белого царя, к своему повелителю Мамай-салтану, сыну Абулхаир-хана, брата Хаип-Магома-хана. По воле Аллаха, недалеко за рекой стоит Мамай-салтанэ со своими воинами, которых многие тысячи. Желаешь ли, посол, сделать так, как говорит мой господин Таанат-бай?..
Переглянулся со своими Трубников, выслушав киргиза.
— Вот оно што! Уже и тут, у нас под боком, племянник ханский с целой ордою… У этих вон и фузеи видны за плечами… Ничего не поделаешь. Надо на мир идти… Поедем к Хаипу сперва, потом и к контайше доберемся, коли Бог даст! — решительно проговорил Трубников и крикнул:
— Ладно! Присылайте сюда одного из ваших как аманата, что не тронете нас, если мы выйдем к вам с миром… Тогда и мы оружие спрячем, ружья повесим за спину, к вам подъедем для разговора дружеского.
Опять скрылся всадник, а через несколько минут явился он же и прямо въехал в группу московов, которые ожидали, сидя на конях. Он был без копья, старинный мушкет торчал в чехле за плечами; не было видно за поясом ни пистолей, ни кинжала.
Двинулись теперь все семеро к той группе всадников, которая маячила вдали на холме среди сумрака ночного. Киргиз был в середине. Кольцо всадников уже разомкнулось во многих местах, и они тоже потянули гуськом к вершине холма.
Быстро закончились переговоры. Седой Таанат-бай, с широким, скуластым лицом и глазами, сверлящими, казалось, самую душу, приветствовал московов и предложил отдохнуть до утра в одной из войлочных палаток, которые быстро стали разбивать его уздени. А на рассвете придется переправиться через реку и ехать к Мамай-салтану, стоящему в пяти-шести переходах от берега со своими улусниками и другими батырами, снарядившимися на войну, когда прошла весть, что ведет на них свое войско русский начальник.
Спокойно проспали в шатре русские, не то почетные гости, не то пленники, потому что сильная стража всю ночь охраняла их сон. На заре тронулись в путь, и через неделю Трубников очутился в большом лагере Мамай-салтана. Поздно было, когда достигли они киргизского кочевья, но Трубникову не дали даже передохнуть и часа через два, среди глубокой ночи, ввели в обширную, убранную коврами юрту племянника ханского, который сидел на кошмах в своей высокой шапке, обвернутой белой чалмой с драгоценной пряжкой посередине.
— Кто ты и что скажешь, посланец? — задал вопрос через толмача Мамай-салтанэ.
Трубников объявил ему свое звание, сказал о поручении, данном Бухгольцем, показал письмо, написанное к контайше, и добавил, что может его отдать только самому Эрдени, но и для Хаипа-хана имеет поручение тайное и важное от губернатора Сибири.
— Могу и тебе сказать об этом поручении… Но сам я плохо владею вашей речью, боюсь, не напутать бы. Есть ли при тебе надежный толмач, который не выдаст того, что я скажу, никому на свете, кроме тебя и хана Хаипа-Магомы-Батура?
Задумался немного тяжеловатый на вид и не быстро соображающий, тучный киргиз с крохотными, заплывшими жиром глазами. Потом крикнул что-то в соседнее отделение палатки, а толмачу, бывшему тут раньше, дал знак уйти.
Пятясь, с низкими поклонами, скрылся толмач, а из-за войлока, делящего юрту пополам, выскользнул худенький седой мулла в зеленой чалме, означающей, что он побывал на гробе Магомета и числится ходжой. Маленькое сморщенное личико уже приняло пергаментный вид, беззубый рот провалился, ушел глубоко внутрь, придавая бабье выражение этому лицу, с редкими волосками, торчащими вместо усов и бороды. Но глаза, живые, быстрые, были еще ясны, полны ума и блеска.
Очевидно, он должен был подслушивать за прикрытием, что здесь будет происходить, а теперь вошел, ласково улыбаясь, приветливо кивая Трубникову, в то же время продолжая худыми пальцами безостановочно перебирать зерна янтарных четок, висящих у него на руке, беззубым ртом шепча беззвучные молитвы.
— Здоров, бачка! — наконец, перестав кивать, обратился он к Трубникову. — Добрый час, добрый урус, приходи! Храни тебя Аллах и ваш Исса!.. Сказывай свой дела… Я шалтай-балтай могу по ваш, по москов. Панимай яхши…
Сказал, затих, слушает, четки перебирает, губами шевелит, ровно не живой, а искусно сделанный истуканчик. Трубников негромко заговорил:
— Письма везу я хорошие от моего начальника подполковника Бухгольца. Да сам он совсем не правдивый и добрый человек… Пишет он контайше о мире. Просит пропуска до Зайсана и далей. А у него в руках запечатанный пакет от самого царя. И раскрыть тот пакет он должен только на месте, когда придет в Эркет-город… А как там он укрепится, еще к нему будут на помощь люди посланы. И тогда с двух концов пойдут наши на ваших людей. А губернатор князь Гагарин еще недавно вам о мире писал, и вы ему писали и на том шерть {Шерть — присяга.} давали, как и наши посланные вам поручались верою нашей, что мир будет между улусами вашей орды и калмыцкими и между войсками да людьми сибирской стороны, которые под начальством губернатора князя Матвея Петровича. Того ради и сказал мне князь: ехать сперва к контайше, письма ему Бухгольцевы отдать да и свое слово сказать, остеречь!.. А тут меня твои люди перехватили. Не хотелось мне спора и драки затевать. Думаю: пускай раньше ты, все улусники и хан Хаип-Магома узнают неверность Бухгольцеву и остерегутся… Вот что я должен был открыть самому Хаип-хану. Ты теперь ему все передай, а меня отпусти к контайше. Надо, чтобы его люди тоже готовы были: Один ты не сладишь с нашими: больно много нас, почитай, тысяч шесть! — удвоил умышленно цифру Трубников и замолчал, ждет ответа.
Передал старый мулла Мамай-салтану слова «уруса», и стали оба тихо совещаться между собою. Наконец пришли к решению. Старик, еще ласковее улыбаясь Трубникову, еще чаще закивал головой, которая, в зеленом тюрбане, казалась слишком тяжелой и большой для тонкой высохшей шейки муллы.
— Яхши!.. Харпю, бачка! Аллах много добра даст, што правду любишь… И для губернатора вашего тоже много богатства и здоровья даст!.. И тебе дары будут… А к контайше пока тебя пускать нельзя… Надо, чтобы ты ехал к самому Хаип-Магома-хану. Ему все говори. А к контайше мы можем другого человека посылать… Тоже ваш, урус. Он давно, раньше тебя пришла… Твое слово сказала, а мы не верила… Теперь верила. Эта улан ваш, урус была прежде, теперь наш стала… Моссельмен теперь… А мы с эта улан еще будем свой уздень посылать, хорош человек… Ему будет верил контайша. Вместе будем поход делать, не будем твой Темир-баш, Буколт до Эркет-Нор допущать… Воевать ево будем!..
— Да неможно этого никак. Где еще там ваш Тургустан-городок, в котором проживает хан Хаип?! Пока вы меня доведете, пока што! А подполковник будет уже у своего места!
— Нет, не бойся! Мы и то поход делали, еще ничего верно не слыхамши. И Хаип-Магома-Батур, хан наш светлый, не в Тургустане… Поближе гораздо… Тоже с войском наготове… Туда мы тебя в неделю довезем. А человек ваш, который к нам перешел, он тут. Я его позову! — через муллу объявил Мамай-салтан офицеру.
— Што делать! Видно, так и надо! — с досадой пожал плечами тот и, по знаку Мамая, занял место на кошме, поодаль, закурил поданную ему трубку, чтобы сократить время ожидания.
Через несколько минут высокий, стройный человек, одетый по-киргизски, вошел в юрту и, низко поклонясь Мамай-салтанэ, обернулся с поклоном к Трубникову, которому сразу показалось знакомо густозагорелое, но не калмыцкое лицо вошедшего.
— Челом бью господину порутчику Федору Максимычу! — громко, весело прозвучал знакомый голос.
— Сысойко!
— Он самый и есть!
— Да как ты попал сюды?..
— Так же само, как и ваша милость, с вестями важными от господина губернатора. Да мне, слышь, не больно поверовали эти… люди добрые! — кинув взгляд на муллу, который насторожил уши, слушая быструю беседу «урусов», сказал Задор. — А вот ты счастливее. Я знаю, тебе тута придется оставаться, а меня хотят к контайше слать. А я уж и прежде побывал у нево… И тамо народ взбулгачил… Такое же войско наготове стоит. Поди, и без упрежденья нашего теперь навалятся на господина Бухалта. Не дадут ему дальше продираться. Повернет в Питер, не солоно хлебавши, коли только жив ошшо будет!.. Давай все-таки письмо к Эрденю. Велят мне ехать поутру, не одному, с большою ордою, с их дворянами важными, чтобы крепче мир замирить с контайшою на эту пору, пока нашего Бухалта не выпрут из Ямыш-городка…
— Ну, нечего делать, бери, вези! — отдавая Задору письмо, хмуро проговорил Трубников. — Што говорить там надо, не учу тебя. Сам знаешь не хуже меня…
— Сдается… А што прикажешь, господин подпорутчик, дома сказать, друзьям и знакомым, когда я поверну в Тобольск? Как видно, раньше тебя там буду, — не то дружески, не то с затаенной насмешкой спросил Задор.
— Што? Кланяйся всем, хто обо мне спросит… Чево же боле?
Еще суровей стало лицо офицера, скорбь и досада пролегли в складках между бровей, в углах плотно сжатого рта.
Хочется ему передать особый, горячий привет Агаше, тем более что близок бывший батрак, теперь отщепенец мусульманин, к поповскому дому на Салде. Но что-то, словно против воли, помешало Трубникову.
— Скажи там, штобы старались выручать меня поскорее, ежели эти… приятели задержут тута надолго… От них всево станется.
— Скажу, скажу! Ужли приятеля в неволе оставлю… Да и сам господин князь-губернатор так милостив к твоему благородию… Недаром тоже важное поручение поручил… Вызволит, коли што.
И, обернувшись к Мамаю-салтану, бойко по-киргизски заговорил Задор:
— Вот письмо я получил, как видишь, господин! Когда угодно могу в путь сбираться.
— Хорошо. А теперь иди к себе и твоего приятеля возьми с собою, пусть он отдохнет с пути. Завтра еще потолкуем все вместе перед твоим отъездом.
Поклонился Задор по-восточному и вышел с Трубниковым, тоже отдавшим почтительный поклон племяннику ханскому.
А тот еще долго толковал со своим советником муллой о неожиданном госте и о мудреных делах, совершающихся в этом обширном мире по воле Аллаха.
После пасхальной заутрени, отслуженной попом Кириллом в той же походной церкви-шатре, раскинутой в стенах крепостцы-городка у Ямыш-озера, пока придет время построить настоящую церковь, весело разговелся отряд, все почти люди хватили лишнего ради великого Светлого Праздника, раньше чем пойти на покой после долгой ночной службы. Даже часовые, расставленные на постах, и те вполпьяна пошли на места. Утешаются, что до света не далеко, когда дневная смена прийти должна. Но и остерегаться особо нечего, как думают они. Правда, пока ехали по Иртышу караваном, часто виднелись вдали — и на правом, и на левом берегах — кучки всадников, которые время рт времени появлялись на горизонте, словно желая проверить путь каравана, затем исчезали в просторе степей или в лесных зарослях, подбегающих к берегам реки. Не раз и осенью появлялись эти разведчики, когда шла стройка Ямышева городка. Свои конные патрули, разосланные по обоим берегам Иртыша, доносили о больших отрядах кочевников, которые виднелись порой, или натыкались они на признаки ночевок, на остатки лагерных стоянок, покинутых уже довольно сильными отрядами, судя по приметам и конским следам.
Но зимние холода загнали по домам, по дальним улусам кочевников, тихо было всю зиму. Охотники, заходившие и заезжавшие верхами порою очень далеко, не видели больше вражеских следов. И весною все было, по-видимому, покойно кругом.
Прежние опасения неожиданного нападения ослабели, разъезды посылались все реже, не охватывали широкого круга, как раньше. Кочевники успели усыпить недоверие московов, и те довольно беспечно встретили вешнее солнце и тепло, готовясь к дальнейшему походу. В крепостце должен был остаться небольшой гарнизон из казаков, который теперь и нес сторожевую службу, а остальные казаки охраняли весь косяк лошадей отряда, пущенных в степь у стен городка на первую вешнюю траву… Больше полутора тысяч коней рассыпалось по степи и под охраной сотни верховых днем паслось, а по ночам загонялось в несколько огромных загонов, устроенных под самыми городскими стенами. И до утра, сидя у костров, сторожили их люди, пустив в ночное на пастбище своих верховников, занятых целыми днями.
Разговевшись тут же, у костров, всем, что принесли из города товарищи, сидели очередные сторожа в пасхальную ночь и мирно толковали о предстоящем походе, вспоминали дом, семью, а то и сказки слушали, страшные, увлекательные вымыслы, которые так хорошо умеют рассказывать иные из них.
Костры ярко пылали, кидая в черное ночное небо мириады искр вместе с клубами дыма и пламени от горящего сухого валежника. Свет заставлял жмуриться, слепил глаза, и еще чернее и непрогляднее казалась степная даль, одетая ночным туманом и мглою.
Вдруг какой-то гул послышался со стороны степи. Не то поток воды катился и падает с высоты на валуны, перекатывая их, не то земля загудела, прерывисто и тяжко дыша… Все ближе рокот неясный, все тверже и отчетливее мерные удары чего-то тяжкого, твердого о грудь земли… И быстро вдали стали обозначаться очертания большого табуна неоседланных коней. Неизвестно почему, неведомо откуда неслись кони. Может быть, мирно паслись за сотню верст, но что-то грозное всполошило, напугало их… Нападение барсов, волков или пожар степной?.. Кто знает! Но сюда скачет табун; уже видно, как веют гривы по ветру среди неясного, предрассветного сумрака, средь полусвета, полутьмы, дрожащей, неверной, как глаза продажной прелестницы… Голые спины у скакунов — так кажется, по крайней мере… Только что-то порою затемнеет, словно тащат они, за собой каждый какую-то непонятную ношу, не то живую, не то мертвую… Или это волки присосались, впились в шеи лошадям, и те несут на себе свою смерть, изнемогая в последнем стремлении, в этом бешеном беге? Или рыси на самых загривках и уже пьют горячую алую кровь, пока ноги скакунов не подкосились и не грохнули они на траву, орошая ее струями жаркой, остро пахнущей крови?.. Сообразить, разобрать не успели сторожа, как уж совсем близко подскакал табун, мчавшийся раньше широким полукругом, а теперь сбившийся в несколько растянутых рядов, словно эскадроны конницы на ученье.
И неожиданно поднялись человеческие фигуры из-за лошадиных шей, всадники крепко сидят, втиснувшись искривленными ногами в голые бока неоседланных лошадей. Гикнули все разом! Стрелы посыпались на сторожей, грянули выстрелы, засвистали копья, пущенные метко сильной, привычной рукой… Едва успели схватиться за свои ружья казаки… Но пока их наставили на рогатки, пока выбили огонь, стреляя наудачу, несколько из сторожей уже легли раненными, а нападающие, разделясь на три части, делают свое дело. Одни со сторожами перестреливаются, другие залегли перец воротами крепостцы, в которой уже слышны смятение, тревога, рокот барабанов и звуки голосов… Эти должны задержать выход людей из крепостцы, пока третий, самый многочисленный отрядец ломает загоны, выгоняет в степь лошадей… Вот уж все полторы тысячи коней на свободе. Прирожденные коноводы-пастухи, калмыки и киргизы, окружили сбитый в кучу табун, гикнули, и погнали его вперед, в необъятную степь, которая уже светлеть начинает, ожидая солнечный восход.
От выстрелов, от гика и крика ошалели кони, мчатся вперед, подняв хвосты, распустя гривы… А за ними совсем демонами мчатся погонщики монголы…
Сообразили в крепостце, что случилось… Выстрелы ружейные со стен и из башен грянули вслед убегающим врагам. Потом и пушечный удар прокатился в тихом предрассветном воздухе. Но от этих залпов и пушечной стрельбы еще больше обезумели и без того напуганные кони… Правда, пули и картечь уложили несколько врагов, упало и лошадей около десятка. Зато остальные еще безумнее ринулись вперед, так что даже еле поспевают за табуном его новые господа-захватчики.
Не отважился Бухгольц сейчас же выслать из крепостцы людей, не зная, нет ли засады кругом. Ждать решил до утра, тем более что без коней и не догонят его люди уносящихся всадников… А нападающие, пользуясь этим, почти без потерь скрылись из виду так же быстро, как и появились…
Дождался утра Бухгольц. Выслал людей на разведку. Неутешительные вести принесли люди.
Куда ни глянуть глазом, на этом и на другом берегу дымятся костры, видны отряды вражеские, которые еще держатся поодаль из опасения орудий, стоящих на стенах Ямыш-городка… Но ночью они ближе подберутся, правильную осаду поведут, все выходы и пути отрежут русским из городка. Только к реке, к воде, и останется один свободный путь. Нет у степных кочевников подходящих суден, чтобы и тут поставить сильную заставу…
— В осаду попали мы, господин подполковник! — доносит пятидесятник, старый сибиряк, сам производивший разведку. — Одно и есть — по реке скорее назад уходить!..
Ничего не ответил Бухгольц, отпустил разведчиков.
— Трубку мне долговидную! — приказал он своему денщику, взял подзорную трубу, пригласил двух-трех офицеров-шведов, знакомых с инженерным делом, с правилами фортификации, стратегии, и вышел на башню.
Не солгали разведчики. При свете дня видно, что осажен городок отовсюду отрядом по крайней мере тысяч в десять человек. Нападать на городок, отлично укрепленный, они, конечно не решатся. Но и на них нельзя пойти без лошадей. Конные будут ускользать от удара, заезжать могут сзади, со всех сторон и поражать, особенно по ночам, в степи… Надо сидеть за стенами, пока есть запасы боевые и съестные припасы. А потом?!
Думать не хочется сейчас Бухгольцу об этом «потом»…
Однако пришлось подумать, и очень скоро… Ночью ушли из городка, очевидно, спустясь со стен или подкопавшись где-нибудь, несколько инородцев, которых немало в отряде, и крещеных и некрещеных, в качестве конюхов, слуг, кашеваров, шорников и всякого рода мастеровых. Есть и среди ратников десятка два крещеных, но совсем еще необруселых туземцев.
Можно ли положиться на них! И предавать они могут всякий шаг отряда, и запасы пороховые взорвать способны или подмочить, попортить оружие… Мало ли что! Одинокий враг в своем собственном стане, да еще затаенный, лукавый, беспощадный, опаснее тех тысяч врагов, которые темнеют за стенами, порою врассыпную подскакивают близко, джигитуют у самых стен, вызывая на единоборство батырей-урусов, увертываясь от пуль, посылаемых в этих головорезов, как в жаркий полдень увертывается от оводов легкий степной конь…
И пришлось уступить общим настояниям, сделать так, как подсказывало и собственное благоразумие. Ночью, бесшумно спустились к реке люди, что могли нагрузили на суда, остальное подожгли вместе с городком, с его стенами и зданиями…
Сами уселись как попало и быстро вниз по течению, подгоняемые сильными ударами весел, поскользили дощаники и ладьи, пущенные по самой середине реки, чтобы больше обезопасить людей от выстрелов из ружей и тучи стрел, какую пустили в уходящих враги, метко целя в барки, ярко озаренные среди ночной тьмы заревом огромного пожара, охватившего Ямыш-городок.
Задолго до возвращения всего отряда весть о неудаче Бухгольца дошла до Тобольска. Принес ее первый Задор, уже очутившийся здесь же в своем обычном виде и доложивший подробно Гагарину как о своих приключениях, так и о том, что Трубникова задержали у дикой орды и послали к самому Хаип-хану, не совсем, очевидно, доверяя русскому офицеру.
— Ничего, вернем малого! — улыбнулся Гагарин как-то странно загадочно. — Не оставим его тамо долго, чтобы тут кто не скучал… А тебе за службу спасибо! И награда вот!
Принял тугой кошель, кланяется, благодарит Задор, а сам глядит на князя, переминается.
— Што еще надо? Говори, Сысоюшко.
— Слышал я, пока не было меня тута, приезжал из Рассеи полковник, князь Долгоруков, словно бы с розыском каким… Не против твоей ли милости новые наветы?
— А тебе што? — вопросом на вопрос откликнулся князь.
— Да, сдается, знаю я, откеда ветер дует, противный твоему вельможному сиятельству. Фискалишка этот, шиш проклятый, Ивашка Нестеров… Он мутит!.. А я… Случается, встречаемся с им. Он по ночам часто бродит, где и я бываю… И ежели твоей милости на пользу было бы, так я его, как курчонка…
Не договорил один, не отказывается другой, думает что-то. Потом негромко заговорил:
— Благодарствуй за верность и охоту добрую, Сысоюшко… Нет, леший с ним! Князя, што приезжал, я не боюся! Свой брат! Хотя и «Долгорукой» поистине, да и у меня сундуки не пусты… Как приехал, так и уехал. Мне зла не будет от него. Он царю скажет за меня, а не против. А что тут Ивашкины следы есть, и это ты верно угадал. Да трогать не стоит гадину, руки марать! Его не будет, другого пришлют. А он пока не страшен. По службе доносит, что слышит. Черт с ним! Будем знать да остерегаться. Да так делать надо, чтобы страху не иметь перед царем и Богом.
Говорит, а у самого губы дрогнули, словно от кривой усмешки.
— Што толковать! Твоя правда, светлейший князь! А все же поопасайся ты гада! Я слышал, он такое на тебя взвести думает… И сказать боязно…
— Что?.. Говори. Лучше знать заранее… и меры взять.
— Изволь. Первое, будто ты от себя теперь с Хиной и с западными государствами большой торг повел, чем сама казна торгует… И будто бы деньги те, прибытки всякие, тебе надобны на великое дело… Вот, ты шведов наймал, давал им оклады… А этот гад сказывает, готовишь в них себе верных людей, как война начнется у себя…
— У меня, с кем… еще война?.. — нахмурясь, быстро спросил Гагарин.
— С Рассеей, с царем самим, у коего ты задумал Сибирь отнять…
— Ха-ха-ха!
Смеется губернатор, но смех его звучит как-то странно, деланно.
— Дальше.
— Хочешь будто старину здесь водворить… и тем людей закупаешь… И кочевых ханов задариваешь… И оклады верстаешь зря, сыплешь золото, чего-то ожидаючи. Оно верно, слово тебе стоит сказать и…
— Молчи! Не болтай попусту!.. И хотел бы я чего такого… так еще не пора! — значительно проговорил Гагарин. — А тем болей, что и не хочу, не думаю. Пусть болтает шпын, языком треплет. Видимое дело, подачки новой хочет! Шут с ним, кину горсть-друтую в его пасть несытую, вот и примолкнет!
— Добро бы… А мне сдается, он и рубли возьмет, и свое вести будет по-старому… У Иуды свой расчет… Право, лучше бы…
— Нет, нет!.. Вижу, преданный ты человек… И можешь знать, что я тебя никогда не оставлю. А пока иди!.. Ты куды, в слободу теперь?
— Куды же инако… Домой, к попу Семену. Не поизволишь ли сказать там чего?
— Кланяйся. Скажи, буду дней через пять. Все недосуг. А зайдет речь о… о Феде… Любит его поп, и Агаша дружила с ним. Успокой, скажи: вернем его скоро обратно…
— Добро!
Поклонился при этом Задор, чтобы не видел Гагарин невольной глумливой насмешки, прозмеившейся по лицу батрака.
— Челом тебе бью, князь-боярин милостивый!..
Еще раз поклонился и вышел Задор.
Исхудалая, измученная сидит на своей постели Агаша, озаренная только светом лампады у киота в углу. Слушает рассказ Задора, который сидит тут же, на краю, не то довольный, не то озлобленный.
— Вот, слышь, каковы дела у меня… Бросил я нашу веру хрестьянскую… Буданцем стал! Буддой Бога звать у калмыков-то… И дали мне много всякого добра у хана, и в жены он мне свою неблизкую родную пожаловал, и слуг, и коней, всякой всячины… А я и ишшо могу брать жен, хоть пять, хоть десять! Да сам не хочу… Одну только еще возьму… Тебя!.. Пойдешь ли со мною? Ханшей тамо станешь, княгиней ихней, буданской, калмыцкою… Не один там я такой… Есть и Зеленовский, поляк, и немцы, и шведы. На ихних девках поженились, калым большой взяли, ныне господа живут… Поедем, люба!..
— Нет, Сережа, не пойду… Отца не кину, веры не сменю… Грех!..
— Грех! Вера? Ха!.. И никакой тута смены нет! Ихний Бог, что и наш. На небесах сидит, правду любит… Ни бурханов у них, ни идолов. Только одно обличье Будды. Так они Бога своего зовут. Какая же измена веры?.. Бог у всех один… А зато не подвластной девчонкой проживешь, а сама приказывать людям станешь… Едем, слышь?
— Нет… Может, ты и прав… Да я не могу… Вон, второю женою быть зовешь, а тамо и еще наберешь. Куды я тогда, как постарею? Знаю обычаи ихние., Пока женка молода, потоль и в ласке. Нет… Не хочу!
— Ишь, какая умная. А не слыхала, што у нас тута хрещеные по много баб держут? И дома, и на стороне… И девки наши не то бабы тоже двоих-троих мужей знают, да не явно, а потайно, крадучись… так лучше ж прямо, а?
Не отвечает девушка, только крупные слезы градом падают из глаз, окруженных темными кольцами.
— Да што с тобою? Али и впрямь больна была без меня?.. Скажи…
— Была… и теперь недужится… — торопливо отозвалась девушка. — Я… слышь… — совсем тихо заговорила она, покраснев до корней волос, — тута я… порошки твои пила, што ты давал про всяк случай… помнишь? Недели нет, как приймала… Еще не в себе после них. Много крови ушло.
— Во-о-т што!.. Ну, так я и тревожить тебя не стану! — протяжно отозвался Задор. — Ишь, какое дело!.. Неуж князенька так сумел? Чудно! Меня, чу, не было… А может, и ты по-будански жить стала тута без меня? — не то шутливо, не то с угрозой вырвалось у Задора.
Задрожала, помертвела девушка так, что стало жалко и загрубелому батраку.
— Ну, ну! Не трепыхайся, кралечка моя! Шутки шучу я… А, слышь, порошочки-то каковы! Как рукой сняло… хворь-то твою, которая девкам словно бы и не подобает. Ха-ха-ха!.. Ничего! Один Бог без греха… Я сам в грехах по уши завяз и вылазить не сбираюсь! Што уж мне тебя судить?.. Ну, прости, Христа ра… Не! По-новому сказать надо: «Ом-мани пад-ме хум». Так буданцы сказывают свою мольбу. Спи, отдыхай… Я ужо приласкаю тебя, как совсем оздоровеешь. Тогда сызнова и потолкуем, хочешь ли в степь со мною… Али будешь тут сидеть, ждать… у моря погоды! Прости!
Ушел Задор. Агаша сошла с постели, кинулась перед иконами на колени и до утра молилась о далеком друге, просила Бога, скорее бы освободил он из неволи раба своего Федора…
Глава IV
ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА
Прошло еще два года.
Много событий, крупных и мелких, пронеслось за этот срок и в Сибири, и на Руси.
Убитый, подавленный неудачей вернулся Бухгольц, прожил до зимы в Тобольске, бродил повсюду, словно еще надеясь, ожидая чего-то, пока не вернулся из морского похода Петр и не вызвал к себе в Петербург неудачника.
Все по чистой правде рассказал он царю, не скрыл, что считает одного Гагарина виновником такой ужасной неудачи, но не имеет тому прямых доказательств в руках. Разве может указать, что еще при нем губернатор Сибири стал продолжать дело, начатое подполковником, только немного иначе. Послал раньше послов и к дикокаменным казакам, и к калмыцким ташпам, заверяя их в дружбе, объясняя случай с Бухгольцем каким-то недоразумением… В то же время от себя послал с людьми подполковника Ступина, который настроил ряд маленьких «острогов», подобрался к тому же Ямыш-озеру и двинулся к Зайсану, откуда прямой путь за золотом Эркета.
Слушает, соображает Петр, сопоставляет доклады Бухгольца с доносами Нестерова, который прямо передает слухи, будто от Гагарина пошли злые внушения, поднявшие кочевников против подполковника с его отрядом.
Совсем иное доложил Долгорукий, посланный царем на ревизию Сибири. По его словам, на местах там все идет хорошо. Гагарина любят, боятся, а новый губернатор старается укреплять власть царя в полудиком краю, изыскивает средства пополнить казну без особого обременения обывателей, именно так, как любит это Петр. И если нашел там ревизор некоторые непорядки и злоупотребления, то они исходят не от Гагарина, напротив, он борется с ними с первых дней приезда своего в Тобольск.
— А полк лишний драгунский, тысяча человек почти, зачем завел князь?.. С кем воевать собирается? — вдруг задал вопрос царь.
— И ничего не завел лишнего! — быстро отвечал Долгорукий, у которого на всякий спрос свое слово заранее приготовлено, по общему совету с Гагариным. — Просто гарнизон тобольский был, почитай, целиком взят Бухалтом в поход. А тут непокойно стало кругом. Надо было людей верстать для городской обороны и для рассылок. А когда в скорости и те люди вернулись, которые шли с Бухалтом на два, на три года, оказалось, что много их стало с прежними… Помаленьку князь и распускает лишних.
— А зачем ссорит князь Журухту с Хаип-ханом? К войне обоих подбивает, когда раней мирить их пытался да в согласие приводить… Не знаешь ли?
— И то слышал! — живо подхватил князь, язык которого густо позолотил Гагарин. — Как вышла беда с Бухалтом, и стал думать губернатор, што лучше этим двоим между собою резаться, чем в дружбе жить, крепнуть силами да на нас, на русских, зубы оскаливать, ножи точить… Пусть двое дерутся, а он радоваться будет, на их рознь глядя… Вот как говорил мне князь Матвей Петрович.
— Слышу… вижу: хорошо ты запомнил речи его умные. Ну, добро! Спасибо за службу…
Отпустил царь продажного слугу, но не успокоился.
Однако и заняться вплотную делом Гагарина не было времени. Война со шведами стояла на самом переломе, на крутом резу…
Только складывал Петр в своей памяти все, что касалось Гагарина и великой, богатой Сибири, чтобы в более удобное время заняться обоими.
Видя, что от Петра нет особенно грозных вестей, смелее стал Гагарин проявлять полноту и силу власти своей в Сибири, стараясь пустить здесь поглубже корни.
Даже с Нестеровым завязал дружбу, стал задаривать фискала, полагая, что молчание, царящее со стороны «Парадиза», обусловлено в известной мере и хорошими отзывами продажного ревизора, не подозревая, что Нестеров отписывал подробно Петру обо всех «дарах и закупах» губернатора, подобно Меншикову, желая этим приобрести большее доверие государя. А в своих доношениях по-прежнему сообщал все, правдивое и ложное, что только мог услышать и вызнать о губернаторе.
Настал 1718 год. Еще раньше дошли в Тобольск дивные вести: исчез было бесследно царевич Алексей со своей любовницей, простой дворовой девкой Афроськой, которую подсватал ему его бывший учитель, потом приспешник, Никифор Вяземский.
Сын из-за границы писал Гагарину осторожно, условными знаками, что родился у молодой царицы сын, а это дало мысль Петру окончательно отстранить от престола первенца как слабосильного и слабоумного и заточить его навеки в монастырь. Желая избегнуть такой участи, царевич Алексей скрылся у австрийского императора, но был найден и возвращается домой.
Друзья из Москвы и Петербурга в то же время сообщили Гагарину, что на него надвигается большая гроза. Близким людям Петр очень резко отзывался о князе и говорил, что ждет лишь удобного времени, дабы рассчитаться с хитрым «сибирским царьком», как он выразился, за все лукавства, хищения и неправды великие против сибирских людей и самого царя.
Гагарин понял, что близкие люди — это Меншиков и Екатерина, которых князь при каждом удобном случае буквально осыпал подарками огромной цены. И если они решились таким кружным путем предупредить Гагарина о грозящей опасности, значит, последняя велика и отвратить ее не могут даже оба близких царю человека.
Днями и ночами голову ломал Гагарин, отыскивая способ уладить дело, одолеть тайных и явных врагов, которые, очевидно, взяли большую силу у Петра… Призывал он на совет Келецкого, толковал и с Нестеровым, который часто заглядывал к «благодетелю», изъявляя самую рабскую покорность и собачью преданность. Даже с Задором заводил речи о неожиданной опале, которая, весьма возможно, ожидает князя со стороны Петра, потому что окружающие завидуют положению сибирского губернатора, имеющего возможность «золото лопатами грести»…
Келецкий советовал на время переменить всю систему управления, снова дать больше воли подчиненным, вернуть им возможность наживаться по-старому и тем создать себе естественных защитников вместо врагов, какими были почти все сибирские чины и служилый люд по отношению к жадному губернатору, желающему все захватить в свои лапы… Затем надо ехать в Петербург, просить об отпуске по состоянию здоровья или хотя бы о замене другим лицом на время. Этот другой сразу очутится в худших условиях. Давать царю того, что давал Гагарин, он не сможет, и князя неизбежно призовут снова править краем, который только в его руках дает необычайные до этого времени доходы.
— Умно, да канительно!.. Позовут назад либо нет — еще бабушка наворожила да на двое положила. Научат тут люди и нового, как ему быть, по моим следам как идти, деньги грести… Нет, подумаем еще!.. Да и в Питербурх без зову ехать боязно… а с зовом и вовсе страшно… Посидим лучше здесь тихим манером…
Нестеров уверял, что тревожные слухи — вздор. Он, фискал, хорошо пишет про благодетеля… А ему царь верит больше, чем всем вельможам своим…
— И не думай ни о чем, благодетель! Живи, как жил, в свое удовольствие, тешь свою душеньку, радуй нас, смердов последних, рабов твоих! Раз жить на свете! Так что там печалить себя задарма, еще ничего не видя…
Хотел бы верить Нестерову Гагарин, и сам был он склонен легко смотреть на жизнь, избалованный вечной удачей. Но смущали князя глаза фискала, которые или по сторонам предательски бегали, или, если уж глядели в глаза князю, загорались какими-то искорками не то собачьего страха, не то дьявольской глумливости…
А Задор, послушав князя, прямо отрубил:
— Последние, видно, приходят светлые деньки твои, князь-государь, коли сам не спохватишься… Не езди туда сам, а и позовут, тоже уприся… Хворь, мол, либо што! Да надо поспешить, на здешнем ружейном заводе пусть поболе ружей делают… В год их и то не боле 1000 стряпают эти копуны твои, мастера ружейные… А надо больше!.. Купить бы где за рубежами али из Москвы под какой-либо отговоркою вытребовать… Да у Демидовых свинцу, железа взять, да зелья больше наготовить… да пушек… И ждать потом дурных вестей не с пустыми руками… Разумеешь, благодетель?.. А людей? Их найдем!.. Я со дружками со своими в месяц целу Сибирь подниму, лишь бы знали люди, за кем идут… Все едино: помирать! Так, хоша не в казематах царских, там, в Питере, в болоте вонючем, чухонском… А сюды царь и послать-то не сможет силы ратной… На шведа ему людишек не хватает… под боком трудно воевать… Где же здесь што сделать, когда и город-то на многие сотни верст! Вон, тута люди в гости на праздники за триста верст катят, на тройках мчатся так, что дух замирает! А уж военную команду не погонишь на тройках… пешком-то они нескоро к нам дойдут, а по пути и леса, и горы, и болота есть! Найдем место — спать уложить незваных гостей!..
Развивает Задор широкий план междуусобной войны, большого народного раскола, разрухи государственной, а у самого лицо покраснело, глаза засверкали, как у кошки в ночной темноте, ноздри вздрагивают, раздуваются.
Даже страшен показался Гагарину этот парень-бродяга, постоянно веселый, услужливый, балагур и певун залихватский.
— Добро… я еще помыслю!.. — медленно говорит Гагарин совсем не то, что думает. Но он боится сразу оборвать смельчака, отвергнуть его планы, чтобы тот на князя не повел нападения, как дерзает повести и на кой-кого повыше. И совсем ласково продолжает хитрый, уклончивый вельможа: — Ты, Сысоюшко, еще походи, повызнай: так ли все оно, как сам думаешь?.. Сколь много народу готово против новизны всякой встать, за старину, за веру древнюю?.. Шепни там одному, другому что надо… Только с разбором, клятву взяв, что не выдаст тот человек ни тебя… ни… других… Понял? А тамо и придешь, мне скажешь. Ужо и поглядим…
Ушел Задор, исполняя желание Гагарина; снова пустился колесить по городам и поселкам сибирским, по скитам потаенным раскольничьим, много добрых вестей припас, но уж не суждено ему было передать те вести князю, свидеться хотя бы разок еще с ласковым губернатором Сибири.
В апреле того же 1718 года явился в Тобольск гонец от самого Петра, денщик его, полковник князь Волконский, грозную весть сообщил, от которой затрясся Гагарин, хотя не его лично касалась она.
— Анлевировали цесаревича и Апроську ево посланные от государя граф Петр Толстой да капитан Александр Румянцев, выманули ево из крепости неаполитанской Сент-Эльмы, в которой он укрывался вместе с девкою, с Апроською, сидючи под опекой тестя, австрийского цесаря, и привезли обоих в Москву. Здесь спервоначала обошлось дело. Только подстрекателям к побегу плохо пришлося. Розыск в Суздаль перекинулся, где в монастыре бывшая царица Евдокия, теперь инока Елена проживала. Невзначай туды прискакал Преображенский бомбардир капитан-поручик Скорняков-Писарев.
— Гришка-запивоха?..
— Он самый… В люди вышел! Разыскал столько, что и саму царицу-иноку под арест взял, и епископа Досифея, и ключаря тамошняво монастырского Пустынина Феодора, да певчего же Федьку Журавского… Да под конец притянули и любовника ейного Степана Глебова, с которым снюхалась царица-инока через попов тамошних. Погодя — и епископа Ростовского Досифея загребли… Кончилось тем, что сана ево лишили и колесовали вместе с Кикиным, Глебовым, с попом Пустыниным и с Федькой Журавским, который Глебова к царице водил да письма переносил злодейские… И еще многих казнили либо ноздри рвали и сослали в разные места. Скоро и к тебе их повезут… А, слышь, Авраама Лопухина, родного брата же разведенной царицы, также клеймили и в ссылку ево, и Собакина Григория не пощадил. А княгиню Настасью Голицыну да Варвару Головину при целом полку обнажить да батогами бить велел, а потом в монастыри разослал. И царицу иноку Елену в монастырь же в строгий, в Старую Ладогу вывез… Там она под стражей сидит… Долгорукие оба брата, особливо Василий, тоже врюхались. Василья и теперь томят под замком, слышно, сюда пошлют в ссылку ево, к тебе же… и Семена Щербатовых, князька… И… Э! Всех не перечтешь!..
— Господи! — только и вырвалось у Гагарина.
— Пожди, не вздыхай. Не все еще… Теперь и сестру, царевну Марью Алексеевну на допросы позвал… Чуть не дыбой стращал!.. А под конец сызнова за сына взялся. Отлучение царевича от наследья и трона давно оглашено было {См. приложение № 1.}… А теперь полный суд по форме пойдет… Больше 130 человек одних судей назначено. Вот список их, я захватил для тебя… Гляди, тут и твоя фамилия… И тебя зовет. Должен ты царя с его сыном непокорным рассудить. Читай, гляди!
Взял лист Гагарин, руки у него дрожат, в глазах помутилось. Но, пересиля себя, начал он проглядывать имена. Действительно, все первые люди в государстве собраны тут: начиная с Александра Меншикова, светлейшего князя, «сердечного друга», затем шли имена графа Апраксина, старика генерал-адмирала и второго Петра, канцлера Головкина, сенаторов князя Якова Долгорукова, графа Мусина-Пушкина, барона Шафирова, Стрешнева, князей Петра и Дмитрия Голицыных, Петра Толстого, ближнего стольника, Ромодановского, Самарина, Чернышева, Головина, маршала Адама Вейде, бояр Салтыкова, Бутурлина, губернатора Москвы Кирилла Нарышкина, губернатора Сибири Гагарина, генерал-полицеймейстера Антона Девьера, вице-губернаторов Архангельска, Азова, полковников, майоров, даже флота поручиков Меншиковых и многих других людей всех званий и состояний из лучшего дворянства империи.
Опустил Гагарин лист, рта раскрыть нет силы. Да и в голове пусто, словно водою налили ему череп и потонули в ней мысли и воспоминания…
Молчит и Волконский. А потом совсем тихо заговорил:
— Надо ехать! Видишь, дело неотложное… Да это еще не беда… А, слышь, и тебя есть касаемое… Как уж собрался я с приказом царским к тебе, позвал меня государь и говорит: «Ты побудь до самого отъезда князя… Хоть болен скажись… А там покажешь вот этот мой приказ и все его бумаги, что есть в дому, соберешь, опечатаешь и следом за ним сюда вези поскорее… Есть у меня— большие жалобы на губернатора… Так нужно улики иметь!» Я ордер принял, абшид взял, откланялся… А меня по пути и перенимает… сам понимаешь, кто?! И так ласково говорит: «Слышь, князенька! За кем вина не живет! А Гагарин добрый человек, и подводить его грешно! Как приедешь, прошу тебя: не таись от него, скажи твое посольство тайное. Он сам тебе отдаст, што надо… А ты уж не забирай огулом… Понял?!» Я подумал да и согласился! Руку мне целовать дали! Совсем уж тут я спасовал… Ну вот по приказу той высокой персоны и делаю… Открываю тебе тайну свою, поручение царское строгое. Может, мне за это смерть будет… а отказать не мог ей!
Теперь оба замолкли. Только часы громко тикают, большие, английской работы, стоящие на особой подставке у стены.
Наконец тяжело с кресла поднялся Гагарин, в пояс поклонился Волконскому, обнял его, поцеловал крепко.
— Спасибо, старый друг! Вижу, есть добрые люди на свете и приятели нелицемерные… Сам я выдам тебе бумаги, это верно… Ну и, там, остальное… Вези, передавай, чтобы, значит, приказ исполнить царский… Не утаю ничего… А пока я собираться стану в путь, уж не откажи, у меня поживи… Последи за «преступником», — горько улыбаясь, сказал он. И, взявшись за голову, продолжал: — А теперя не взыщи! От добрых от вестей от питерских вовсе голова раскололась моя! Виски завинтило, просто смерть! Пойду прилягу, может, пройдет. Да и тебе с дороги поотдохнуть не мешает!.. Я велю тебя проводить.
Важный дворецкий по целому ряду покоев провел гостя на половину, назначенную для особенно важных гостей. Волконский быстро заснул.
А Гагарин до утра совещался с Келецким, делал распоряжения. Слуги в доме тоже не спали, из кабинета, из опочивальни князя, из кладовых, из подвалов выносились какие-то сундуки, ящики и складывались на повозки, в экипажи, в дрожки. Целый обоз скоро выстроился на заднем дворе губернаторского дворца. Лошади быстро и бесшумно были выведены, запряжены; десятка два верховых окружили обоз, когда он выехал из задних ворот и в темноте ночной быстро направился к Салдинской слободе, к дому попа Семена.
Келецкий и Федор Трубников, всего неделю назад вернувшийся из почетного своего плена, провожают обоз как доверенные люди Гагарина.
И только на другое утро, почти к полудню, когда прискакал из слободы усталый, измученный, не спавший всю ночь Трубников и рассказал Гагарину, как доехал обоз до цели, как разместили там все сундуки и тюки, — тогда лишь вздохнул посвободнее князь и с улыбкой, с громкими шутками стал водить денщика царского, гонца нежданного по своему наполовину опустелому дворцу, раскрывая все двери, показывая все похоронки и углы.
Не осталось здесь ничего такого, чего не желал бы или опасался Гагарин показать посланному Петра.
Из этих остатков Волконский отобрал и запечатал очень немногое, что ему показалось подороже или поинтереснее для царя. Остального не тронул.
— Сам уж припрячь, Матвей Петрович, что подороже у тебя! — сказал Волконский. — Не грабить же тебя хочет царь… Ему, видно, бумаги какие-то нужны… Так я и взял, что мне сдается поважнее.
Говорит, сам улыбается лукаво.
За это, вернувшись к себе вечером в спальню, нашел на столе Волконский большую шкатулку, тюленьей кожей обитую, ключ в замке торчит и надписано на бумажке рукой Гагарина: «На поминки от друга благодарного».
Раскрыв шкатулку, Волконский увидел ряды червонцев, стопки целые, на 10 000 рублей ровно. Запер он шкатулку и под кровать ее поставил, улыбается лукаво и весело. Хорошо спалось ему в эту ночь на мягкой постели, под стеганым атласным покрывалом, которое оказалось нелишним, несмотря на то, что май близко.
А Гагарин в ту же ночь сам отправился в гости к попу Семену.
Позвали деда Юхима, и Агаша тут же, Келецкий, Трубников.
Рассказал Гагарин о своем вынужденном отъезде в Россию, о своих опасениях.
— Если тут, как я жду, без меня приедут рыться в моем дому, хочу от чужих рук уберечь понадежнее кое-что… Может, и сюда пожалуют разведчики… Следят за мною, поди, в десять глаз. Тот же Ивашка Нестеров пронюхает, что сюды я возы посылал! Так нельзя ли повернее похоронку найти?.. Вот, помню, говорили вы про тайник могильный, откуда ты, дед, вещи редкие вынес, их Агаше подарил… Не скажешь ли мне, где та похоронка? Туды хочу я спрятать, что подороже для меня.
— Можно сказать! — отвечает угрюмый старик. — Благо, Сысойки нету в дому… При ем бы, все одно, хошь и не прячь! Все вызнает и унесет, ворюга… А теперя схороним, и черт не найдет!.. Недалеко и тайник тот… На берегу, слева от дороги на Арамильскую слободу… Хошь сейчас можно ехать туды… К свету все обладим.
— Ладно! Так снаряжай повозки две… А я скажу Зигмунду, что взять надо.
Вышел Юхим. Молчит Агаша. Поп Семен мрачнее тучи сидит.
Заговорил Трубников.
— Неужели, ваше превосходительство, никак остаться нельзя? Ну, хворью отговориться либо как, чем на явную опасность ехать. А там, спустя время…
— Ох, невозможное дело, Феденька! Не знаешь ты государя. С ним упрямиться начать — хуже будет! Слышал, никого он не жалеет: ни жены бывшей, ни сестры родной, ни сына-первенца… Так уж со мною?! Целый полк пришлет, понесут меня, хотя бы и на смертном одре… Покорностью да кротостью лучше с ним. Да и на друзей еще я надеюсь. Видно, не миновать ехать! И то скажу: много раз голова на ставке моя бывала, да вывозила кривая. Авось и теперь последнюю ставку не проиграю Фортуне-причуднице, а что-либо еще от нее возьму!..
— Дай Бог! — отозвался Трубников.
— Аминь! — пробасил обычно молчаливый при Гагарине отец Семен.
Только Агаша сидела молча, пригорюнившись, словно не замечала окружающих, а видела что-то вдали, за стенами этой горницы.
— Все готово, ехать можно! — объявил Юхим, появляясь в горнице.
— А! Хорошо. Пойдем, Зигмунд… Ты говорил, что сундучки и укладки, помеченные мною, стоят в моей горнице? Идем, старик, с нами, и двоих парней позови посильней. Сундучки небольшие, да тяжелые… Пускай поосторожней сносят с телеги…
Ушли втроем они. Поп Семен к шкапчику прошел в своей горенке, налил стакан, выпил, крякнул.
— Ух! Кхе-кхе!.. Сон, было, морил… а вот теперь легше стало… Надо, значит, и мне собираться в путь… Юхим сказывал, что придется там подсобить… А людей брать нельзя.
— Да… едем, отец Семен… Веселее будет! — отозвался Трубников.
— И я с вами! — решительно заявила Агаша. — Здесь одна не останусь. Страшно мне што-то!.. Да и поглядеть охота… как это все там?..
— Ну, известно, девки народ цикавый! — отозвался отец. — Да, поди, князь позволит… Поезжай, по мне… Только вот как дом-то?..
— Надолго ль! Дом запрем до утра…
— И то… Иди просить у князя… Ужли не возьмет?..
Быстро выбежала из горницы девушка, обдав горячим взглядом Трубникова, словно поманив за собою.
Тот, как бы против воли, так и потянул следом за Агашей. Девушка поджидала в сенях, обняла, крепко прижалась, поцеловала дружка беззвучно, но горячо и зашептала:
— Уезжает старый… Волюшка нам… То-то!.. Уж никуды не отпущу я тебя!..
Глава V
САЛДИНСКИЕ КЛАДЫ
Небеса светлеют на востоке:
Чуть окрасились края облаков, медленно скользящих в бездонной синеве. Ветер предрассветный зашевелил неподвижные до этих пор листья деревьев и кустов на берегу Курдюмки-реки.
Две крепкие, укладистые телеги стоят у невысокого, с округлою вершиной холма, который подымается почти у самой воды среди лесной заросли.
Кони, не выпряженные из телег, наклоня головы, пощипывают сочную траву, вздрагивая порой всею кожей, встряхивая головами, словно желая услышать серебристые трели своих бубенцов и колокольцев. Но их нет. Тихо подъехали к холму по лесной дороге люди.
Юхим правил передовыми лошадьми. Во второй телеге кучером сел Трубников. Здесь же, на куче сена, покрытого коврами и мехами, сидел Гагарин с Агашею рядом. А перед ними, вздымаясь грудой, лежали сваленные укладки и сундучки. Вторая телега нагружена еще больше, и поп Семен с Келецким еле примостились там среди клади.
Все сошли у холма и быстро поднялись на его ровную, словно по лекалу округленную вершину. Здесь лежало много каменных плит, порою громоздясь одна на другую. Нельзя было понять: занесло ли их сюда в незапамятные времена в те дни, когда еще ледяные горы носились по водам, покрывавшим теперешнюю сушу, и роняли на дно камни, унесенные с высоких горных кряжей, откуда скользнули в воду эти ледяные громады, или уж гораздо позже рука человека притащила издалека и уложила рядами огромные глыбы на вершине одинокого холма?
Чуть пониже самой маковки холма виднелось целое сооружение из темных плит. Четыре из них лежали, полуушедшие в землю, образуя как бы люк, ведущий куда-то. А пятая покоилась сверху на этих четырех, как лежит подъемная дверь на ходу в подполье. Верхний конец этой пятой плиты был свободен, лежал поверх других, а нижний словно вдвинут был под выступ камня, лежащего под ним с этой стороны.
— Вот и могильник… и похоронка моя! — ткнув носком тяжелого, подкованного сапога в верхний камень, сказал Юхим. — Под этим камнем.
— Под камнем? — недоверчиво отозвался Гагарин. — Но его и всем нам не поднять. Как же ты один мог?..
— Всем! — протянул насмешливо дед. — Если еще и коней припряжете, так не стянете той плиты ни на пядень! А вот как я проберусь в нутро да открою «замок», так и вчетвером ее посунем, куды надо!
— В середину холма? Что же, ты сквозь землю пройдешь что ли?..
— Может, и сквозь землю… Ось, дивитесь!..
И старик спустился до половины холма, где росла прямо из него могучая вековая лиственница, словно боком прислоненная к холму, так, что одна половина ствола высоко поднималась над землею, а с другой стороны ветви висели над самой вершиной холма. И здесь под нижними ветвями в темном бугристом стволе чернел большой провал — отверстие дупла, образовавшегося с годами в стволе такой ширины, что два человека не могли бы обхватить его руками даже и тут, на высоте девяти аршин над землею.
Юхим, волоча за собой довольно длинный и крепкий шест с нарубками, захваченный из дому, подошел к отверстию дупла, которое с вершины холма можно было достать рукою. Опустив в это отверстие четырехаршинный шест, ушедший туда целиком, старик с силой и ловкостью, каких и ожидать нельзя было от него, вскарабкался на дерево, спустил сперва ноги в отверстие и скоро весь скрылся, спускаясь на дно пустоты по своему шесту, как по лестнице.
Скоро оставшиеся на холме услыхали какую-то возню именно под той плитой, которая лежала поверх остальных четырех. Словно железом ударили снизу по ней три-четыре раза. Все вздрогнули, застыли, не сводя глаз с плиты, ожидая, что вот-вот она заскользит и откроет могильные тайны.
Но плита лежала неподвижно. А за плечами у них снова забасил дед Юхим.
— Ну, стоять нечего… Я «замок» снял, надо двери отчинять! Берите ломы, хлопцы!
Густо помазав для чего-то салом камни, лежащие выше плиты, взяв один из четырех ломов, тоже захваченных им, старик первым уперся снизу в плиту. Она словно зашевелилась легонько…
Трубников, Келецкий и отец Семен последовали примеру деда. Плита действительно довольно легко заскользила по нижним камням благодаря обильной смазке салом. Под нею затемнело большое отверстие — ход, прорытый в холме, ведущий в какое-то подземелье.
Когда дверь-камень была отодвинута совершенно, показался довольно отлогий скат, ведущий в глубину. Там было темно, будто бы сама ночь притаилась на дне провала. А тени деревьев, стоящих кругом, словно тоже скользили беспрерывно туда одна за другою, сильнее сгущаясь на глубине.
Юхим, выкресав огонь, раздул трут, зажег восковую свечу, припасенную за пазухой, дал и другим по свече. Молчаливой процессией, словно в катакомбы древнего храма, сошли все по тропинке на дно провала. Там было довольно просторно, вырытая в основании холма пещера выложена была по бокам почернелыми от лет тяжелыми брусьями, вроде подземного жилья. На каменном полу чернел пепел от истлевшей старой хвои, попавшей сюда, очевидно, из бокового входа, узкого и низкого, где с трудом, согнувшись, мог пройти человек. Ход вел между корнями лиственницы в дупло дерева. А эти толстые, мощные корни выглядывали здесь из-под земли, как черные змеи, склубившиеся в смертельной борьбе.
Всем стало жутко в огромной пустой могиле, особенно когда в углу пришедшие разглядели груду всяких костей и даже целый остов небольшого животного, побелелый от времени.
— Как же ты открыл плиту, дед? — против воли негромко спросил Гагарин, словно он был не в пустом подземелье, а в храме во время торжественного служения.
— А вот, гляньте… Эти длинные, тяжелые два камня, што похожи на засовы… А вот в верхнем камне, что лежит под плитою, в ем — две пазухи… И в плите есть две пазухи, против этих. Когда плиту сдвинешь на место да эти два камня вставишь в четыре пазухи концами, так засовы и не дают двинуться плите… А снизу можно вытащить оба запора. Тогда и плита скользит кверху по нижнему гладкому камню… вот, как вы видели. Да теперь не время толковать… Будем сносить вещи.
Старик первый вернулся к телегам, с Трубниковым вместе взял за железные скобы одну тяжелую укладку, и они осторожно стали спускаться с нею в тайник.
Поп Семен с Келецким тоже принялись за дело, выбирая ношу по силам.
Гагарин и Агаша остались внизу; князь указывал, как ставить ящики и сундуки, наполненные золотой, серебряной посудой, золотым песком и просто червонцами и рублевиками. Он говорил, как складывать тюки с редкими мехами, прочно упакованными в сухие кожи. Тайник был совершенно сухой, сырость не грозила попортить дорогих шкурок.
Агаша оглядывалась с любопытством и вдруг различила в дальнем углу тайника что-то похожее на дверь. Вернее, это был тяжелый щит, сколоченный из толстых широких брусьев и вставленный в каменную нишу.
— Глянь, князенька, што тута? — позвала она Гагарина.
Гагарин поглядел и с тем же вопросом обратился к Юхиму.
— Так… склеп там невеликий… с костяками людскими… Могилы. Лучче не рушить! — неохотно отозвался старик.
— Ничего… Ты знаешь, как открыть эту дверь? Так раскрой… Я не могу! — дергая за тяжелое железное, изъеденное ржавчиной кольцо, приказал Гагарин.
— Сколько ни тянуть за кольцо, а ее нихто не отворит, ежели не знать сноровки, — так же понуро отозвался Юхим. — Гей, паничу, тяните за кольцо посильнее. А ты, батько Семене, дай мне вон тот ломик да помогай.
Взяв небольшой лом, Юхим уперся острым концом в среднее узкое бревно, которое выдавалось между двух остальных, составляющих дверь… На этом среднем бревне, словно для украшения, были грубо вырезаны шишки хвойного дерева. В одну из них уперся ломиком могучий старик и стал нажимать на бревно снизу вверх. Оно, не связанное с двумя остальными, словно ушло на два-три вершка в верхнюю обвязку двери, где была выдолблена пустота, невидная снаружи. Дверь стала медленно поворачиваться на своих деревянных пятах, потому что с одной стороны обвязка оканчивалась двумя выступами, заостренными и входящими в два гнезда, выдолбленных вверху и внизу в каменной нише, которую и закрывала эта древняя дверь.
Когда она раскрылась, оказалось, что щиты, составляющие дверь, достигают полуаршина толщины и пробить такую преграду можно было бы только хорошим пушечным выстрелом, да еще и не одним. Открылся и секрет механизма этой двери, которая имела почти одинаково в вышину и в ширину около трех аршин. Среднее бревно выступало снизу сквозь толстую обшивку. Стоило дверь прикрыть — бревно опускалось в свое сквозное гнездо и попадало в довольно глубокий выем, выдолбленный в каменном полу. Тогда, не подняв среднего бревна на должную высоту, невозможно было раскрыть и двери.
Пещера, немного поменьше первой, была за этой дверью. В ней царила полная тьма. Юхим обратился к Трубникову:
— Панычу подержить дверь… А я свету дам…
— Зачем держать? Она и так может, — заметил Гагарин.
— Не! Ось, подивитесь!..
Старик отпустил край двери, и она, очевидно, повешенная с умышленным уклоном, медленно стала захлопываться, причем среднее узкое бревно, служащее мощным засовом, с легким шумом заскользило по гладкому каменному полу пещеры, увлекаемое общей тяжестью двадцатипудовой двери.
— Вот как тут все прилажено… с виду просто… а хитро! — покачивая головой, заметил Гагарин.
Трубников в это же время уже взялся за край и придержал дверь. Юхим первый вступил во второй склеп, озаряя его двумя свечами, которые поднял над головою. За ним шли Гагарин и Келецкий. Поп Семен издали боязливо заглядывал в отверстие двери. Агаша, словно нечаянно прижавшись плечом к Трубникову, осталась около него.
Понемногу глаза освоились с полумраком, и вошедшие различали в глубине у стены два каменных гроба, крышки с которых были сняты.
Подойдя ближе, Гагарин и его спутники увидели в этих гробах остатки двух скелетов, из которых один был значительно больше другого. Кости частью истлели, а уцелелые совершенно почернели. Только черепа сохранились получше да тазовые кости и голени. Но эти останки буквально были покрыты золотыми украшениями дивной работы, усаженными крупными самоцветами. На черепах темным блеском старого золота сверкали высокие, восточного образца тиары; ниже, где раньше была шея и грудь, протянулись звенья ожерелий и золотых лат или блях, служащих для украшения царской одежды. Широкие золотые пояса с драгоценными камнями, потемнелыми за долгие века пребывания под землей, тяжелые браслеты ручные и ножные, перстни с бриллиантами и рубинами, сияющими даже и при слабом свете, цепочки, унизанные камнями, — все это лежало нетронутым.
Старик, очевидно, не хотел тревожить сон мертвецов и взял для Агаши только то, что лежало вокруг гробов, а не в них…
Гагарин онемел от восторга. Первым его движением было собрать всю эту груду сказочных богатств и взять с собою… Но мысль, что его могут арестовать на пути, отнять все, что при нем, — это соображение образумило князя. Отогнав искушение, он только осторожно коснулся всех вещей, приподнял их, чтобы камни заиграли при огне; но раньше приказал зажечь побольше свечей.
Вглядываясь в тонкий чекан и резьбу поясов, тиар, князь вдруг вздрогнул.
На розовом крупном бриллианте, украшающем тиару скелета, который поменьше, были врезаны те же загадочные два знака, как и на рубине, теперь уже попавшем в пухлые белые руки Екатерины…
Молча показал Гагарин Келецкому на бриллиант. Тот взглянул, кивнул головою и протянул руку ко второй тиаре, украшающей череп более крупных размеров.
— И там тоже… Пусть вельможный князь приглядится…
Действительно, на сапфире, еще большем, чем рубин, попавший к Гагарину от Васьки Многогрешного, синели те же два знака: «Земля ждет».
Решив не трогать пока сокровищ, оставить их мертвецам до своего возвращения, Гагарин взял только из меньшего гроба большой перстень с изумрудом чудного блеска, который по своей величине должен был некогда покрывать полпальца неведомой царицы, кости которой лежат рядом с останками ее супруга царя…
На изумруде те же два знака бросились в глаза князю, когда он дрожащей рукой надевал кольцо на мизинец другой руки.
— Сюда и мои ларцы поставим. Мертвые пускай берегут их! — овладев собой, распорядился Гагарин.
Все принялись за прежнюю работу, в этом втором склепе у стены складывая ношу одну за другой…
Солнце уже поднялось над синей полоской дальних лесов, когда кончена была переноска. Сама тяжело захлопнулась дверь, отпущенная Агашей, которой пришлось держать ее края, пока сносились сверху и устанавливались на местах сундучки, тюки и ларцы. Потом все, кроме Юхима, через подземелье гуськом вышли на вершину холма, с наслаждением вдохнули в себя прохладный ароматный лесной воздух после гнили и праха могильного, которым дышали два часа…
Медленно сдвинули тяжелую плиту на прежнее место, затем слышно было, как дед возился, вставляя снизу свои каменные замки в гнезда плиты… Наконец и он появился из отверстия дупла, сел на телегу; Гагарин с Агашей снова оказались вместе позади старика. Они тронулись вперед; вторая телега с попом, иезуитом и Трубниковым покатила за ними.
— А скажи, дед, как ты напал на эту могилу? — спросил Гагарин, молчавший до сих пор.
И бессонная ночь утомила его, и в первый раз пришлось ехать в таком неудобном экипаже. Но лесная дорога была мягка, тряски почти не ощущалось, а живительный утренний воздух, пропитанный ароматами трав, цветов и нагретой солнцем хвои, вливал бодрость в каждую грудь. И князь встряхнулся, дрема рассеялась, захотелось самому говорить и слышать людскую речь.
— Як я на нее напал?.. А рысь меня навела! — полуобернувшись, заговорил дед. — Бачили, костяк там лежит. То рысь була… Я вышел ее искать, бо вона стала ягнят у нас резать… Вже лет десять будет назад… а то и больше… Гонялся за нею, пока в это дупло не загнал. Ну, думаю, ты не уйдешь теперь… Обошел дерево с холма, влез на сучья, сунул дуло в дупло да тарарахнул картечью!.. Думаю: конец!.. Пождал немного… хотел уже лезть за рысью, а из дупла дым повалил. Это листья загорелися от выстрелу… Ну, думаю, сгорела, голубушка!.. Жду еще, пока дым пройдет. Гляжу, а он уж из-под этих камней повалил, потянулся струйками… Эге, думаю себе, из дупла под деревом, под кореньями, ход в эту могилу либо в холм пробит… Туды, значит, и рысь ушла… Может, она между корнями и вырыла себе ходы… Как дым прошел, я сунул ружье в дупло, не достал дна. Сломил тогда деревцо подлиннее… Ковыряю по дну — не слышно, чтобы рысь там мертвая лежала… Я еще хвои, листьев приволок, в дупло набил их и подпалил… Долго горело. Дым стал из-под камней клубами валить… Слышу, под середним камнем что-то возится… царапает камень… Рысь, значит… А там — и затихло… От дыма ошалела… Я и ушел. Вернулся на другой день, полез в дупло, перед собою рогатину держу с пикой… Вижу — дыра. Я пошел по ней. Вдруг — провал… Еле удержался на краю… Выкресал огонь, свечку зажег, гляжу — моя рысь лежит клубком, подохла от дыму. А мураши по ней уже ползают. Аж черно! Я огляделся… кости увидал… Это рысь добычу таскала для своих котят, когда те были у нее. А потом… и другое увидел. Вещи всякие… и двери… Понемногу все и разыскал: что да как?
Умолк старик. Трясут лошади легкой рысцой, чтобы на кореньях не сильно встряхивало телегу. Вот и дорога большая, что мимо слободы пролегла.
Вышел из телеги Гагарин, пешком пошел со своими, как будто на утреннюю прогулку выходили они, подышать чудным воздухом в прохладном темном бору, а не ездили нарушать молчание и покой позабытой могилы…
Часть шестая
РАСПЛАТА
Глава I
СТРОГИЙ СУДЬЯ
3 мая выехал из Тобольска Гагарин с Волконским и Келецким — шумно, пышно, как всегда, только поезд прислуги и вещей, посланный вперед, был не так велик. Самое дорогое и ценное лежало, сокрытое кладом в древнем могильнике у Салдинской слободы или припрятанное в усадьбе попа Семена в надежных похоронках и подвалах, которые обычно засыпались землею. Только изредка двери их откапывались и раскрывались для принятия нового добра, пришедшего по большей части дурными путями; а там снова засыпались и прикрывались дерном раскрытые среди ночи узкие входы в обширные подземные срубы.
Только часть тюков и сундуков гагаринских осталась наверху, в амбарах и кладовых.
— Если придут без меня иуды, будут спрашивать тебя, поп: «Что укрыл здесь господин губернатор, отъезжая из Тобольска?» — ты им и покажешь этот хлам… Они возьмут и оставят тебя в покое с дочкой!
Так учил попа перед отъездом своим Гагарин, хорошо знающий обычаи сыска и характер Петра.
Часть бумаг и вещей, опечатанные Волконским, шла с вещами полковника и с багажом самого князя. Но на этот раз и князь взял с собою немного мехов, серебра, посуды средней ценности, такое, чего не жаль было бы потерять, если на пути или в Петербурге вздумают рыться среди вещей губернатора. Наконец, довольно всякой рухляди оставалось в доме, на виду, для ожидаемых ревизоров, в амбарах и в сараях: посуда, утварь, тюки мехов, ковров, товары шелковые, рога маральи, пряности — всего понемногу. Ключи были оставлены у дворецкого вместе с описью вещей. Только особенно важные бумаги: письма китайских министров, калмыцких ханов и других князей, тайные отчеты, которые вел сам князь по своим огромным операциям разного свойства, письма от друзей и единомышленников своих, вплоть до коротеньких посланий Меншикова, чего Гагарин не мог положить в подземелье, не решался брать с собою или доверить кому-нибудь, — все это он спрятал в небольшом потаенном шкафу, о котором знал только захожий мастеровой, работавший в кабинете под личным надзором Гагарина. Но и мастерок не знал, для чего он рубит нишу, обшивает ее досками и ладит шкафчик с плотными дверьми. Потом князь при помощи Келецкого оклеил дверцу теми же обоями, какими был оклеен и весь покой. И самый зоркий глаз не мог бы угадать, что за тяжелым диваном, стоящим у стены, есть надежная, скрытая похоронка, наполненная важными документами.
Устроив так дела, успокоенный немного, пустился в путь Гагарин. Почти под самой Тюменью его смутила странная встреча. Под вечер на широком тракте, недавно поправленном для проезда губернаторского, показалась встречная почтовая тележка, тарахтящая и громыхающая на быстром ходу. Ямщик погонял коней, а те неслись, как только умеют мчать сибирские кони.
В тележке, как можно было разглядеть из окна кареты, сидел одинокий проезжий в картузе и армяке, какие обычно надевают в дорогу купцы, но держался он на сиденье совсем не по-купечески прямо, как привычно военным, особенно курьерам и фельдъегерям, постоянно висящим над спиной и загривком ямщиков, чтобы тяжелыми кулаками побуждать их к быстрой езде.
Поравнявшись с каретой, проезжий снял быстро свой картуз, как и все это делают при встрече с хозяином Сибири. Но также быстро покрыл он голову, а лицо его еще глубже ушло в поднятый воротник армяка, и тройка быстро скрылась из глаз позади кареты в неверном полусвете, полусумраке наплывающей белой ночи…
— Што за дьявол! — вырвалось у Волконского, смотревшего на дорогу из окошка с левой стороны кареты. — Купец, а безбородый! И вот хоть побожиться — две капли воды похож на нашего Пашкова, на Егора…
— На денщика государева? — тревожно спросил Гагарин, выйдя из своего дремотного раздумья, обычно овладевающего князем в пути.
— Вот, вот. Да нет… быть не может! Показалось мне!
И, успокоясь, Волконский снова откинулся на мягкие подушки широкого сиденья, способного заменить постель, притих, задремал.
Но Гагарин не успокоился и, наклонясь к Келецкому, тихо шепнул по-французски:
— Вот оно… чего я боялся!.. Второй посол, да еще так его послали, чтобы без меня он нагрянул… Как ты думаешь, Зигмунд?
— Должно быть, так, мой князь… Да мы ведь тоже приняли свои меры. И не следует беспокоить себя лишними думами…
— Положим… А все-таки думается! Знаешь, коли неудача — от родной сестры можно хворь захватить нехорошую… Ну, да будь они все трижды прокляты!
С этим полувосклицанием снова откинулся назад Гагарин и погрузился в свои думы. Ни он, ни Волконский не ошиблись. Это действительно скакал в Тобольск второй денщик Петра лейб-гвардии капитан-поручик Егор Пашков, тайно ото всех посланный следом за Волконским с поручением проверить, как исполнит тот свое дело, и с приказом — забрать до последней бумажки, до самой малоценной вещи, что только найдет в доме Гагарина после него. Также велено было Пашкову разыскать и взять все, что мог бы губернатор перед отъездом передать в чужие руки или спрятать вне своего жилища.
Пашков, свободный от воздействия Гагарина, бывшего теперь далеко, точно исполнил приказ Петра. Много помог ему Нестеров, которого должен был призвать Пашков, знающий о фискале от самого царя.
Шпион, словно чутьем проведав о прибытии тайного ревизора, без зову явился к царскому посланцу, едва тот въехал в дом губернатора. С Нестеровым вместе обшарил приезжий целый дом, оставил только ненужный хлам, а все остальное приказал нагрузить на барки, везти водою до Верхотурья, потом — дальше в Петербург.
Разнюхал фискал и заветный шкафчик в стене, потому что дня два ходил по дому, выглядывал, постукивал, выспрашивал осторожно прислугу. Особенное внимание обратил шпион на кабинет Гагарина. Здесь у стенки, где диван, увидел легкие остатки мусора, не дочиста унесенные мастером и потом Келецким… Диван был мгновенно отодвинут, стена выстукана… И с торжеством своими руками раскрыл нишу фискал при удивленном Пашкове, подал ему связки бумаг, значение которых было ясно при первом взгляде…
И на Салдинскую слободу указал Пашкову шпион; там тоже побывали они. Но благодаря хитрости Гагарина взяли только то, что и раньше было обречено на жертву князем. Попа Семена и Агашу Пашков не тронул, не имея на то приказаний.
Нестеров же указал приезжему, у кого из служащих можно найти точные сведения о проступках Гагарина по управлению краем.
Больше трех дней собирал и записывал показания Пашков. И наконец в конце недели помчался обратно, довольный удачным исполнением важного поручения, данного Петром. Хотя прямых улик не было в руках у Пашкова, но косвенных, и очень сильных, — без числа!.. А большего и не нужно, если Петр предрешил, что следует почему-нибудь построже расправиться с сибирским губернатором, который, по общему отзыву, больше имеет доходов от этой «губернии», чем Петр от целого царства. К тому же Русь до Урала — и объемом гораздо меньше, чем богатая, необъятная Сибирь.
14 июня прямо к заседанию суда, к допросу царевича попал в Петербург Гагарин. 19 числа он вынужден был видеть второй допрос Алексея, пытку измученного худого юноши, которому было дано 25 ударов «на виске». Больным вернулся князь домой.
А еще пять дней спустя прибыл в столицу Пашков, никому не показываясь, явился прямо к царю и отдал подробный отчет о своем розыске.
Это случилось 24 июня, в тот самый день, когда в Сенате должен был состояться приговор Верховного Суда по делу царевича.
Пашков увидел Петра после бессонной, мучительной ночи, с воспаленными глазами, с желтым, обрюзглым лицом. Царь тупо поглядел на него и хрипло пробормотал:
— Гагарин?.. Да, да… знаю! Хорошо… После… повечеру. Теперь мне нет часу. Ступай!
Сам вскочил, велел подать одноколку, быстро покатил к Сенату, где с семи часов утра стали съезжаться члены Верховного Суда, учрежденного Петром для разбора этого тяжкого неслыханного процесса, где царь-отец во имя прав народа на лучшую участь боролся насмерть с собственным сыном, правление которого и даже самая жизнь грозили уроном, новой смутой обширному царству, едва начавшему оправляться после долгого ряда печальных, бесславных лет внутренней междуусобицы, разорения и поношения от внешних врагов.
Почти все 129 человек, составляющих Верховное Судилище, были налицо в большой, длинной зале заседаний. Ждали только Меншикова, которому дано было знать, что суд в сборе. Не хватало еще нескольких запоздалых сочленов.
Незаметно, со двора, прошел Петр в проходную комнатку, где в другие дни рядом с присутственным залом дежурили курьеры. Теперь они были удалены и под страхом грозной кары не смели даже близко подойти, чтобы не слышать, о чем будет говориться в высоком собрании.
Осторожно, чуть приоткрыв дверь, Петр заглянул в зал, имеющий обычный, строго величавый, угрюмый и простой вид.
Зерцало, портреты, место государя, сейчас пустующее, столы секретарей, длинный стол, за которым темнеют кресла сенаторов… Все, как и раньше, такое давно знакомое царю.
Только необычен состав присутствующих здесь лиц.
Десятки лет знает их царь, видел каждого на своем месте, в военных советах, в адмиралтейской коллегии, на палубах кораблей под ядрами врагов, перед рядами полков, идущих на врага; у себя в кабинете с докладами о порядках и беспорядках в царстве и столицах его… Вместе со многими проводил он ночи, весело, шумно беседуя на пьяных пирушках или на затейных ассамблеях; играл с ними в карты или толковал о науках, о текущих событиях русской и европейской жизни. Большинство из них — высшие офицеры его гвардии, славные, довольно честные люди, но далекие от знания законов и вопросов права. Каждого царь знал хорошо и умел поставить на такое дело, где этот человек мог быть пригоден лучше всего.
Среди большой блестящей толпы, наполняющей зал, очень немного сенаторов, всего человек 15–20. Они знакомы с законами, опытны в решении самых запутанных тяжб. Но их голоса, естественно, могут потонуть среди сильного гула остальных ста человек, «случайных судей», как это хорошо понимает сам царь.
И странно ему видеть пожилых, давно знакомых людей в несвойственной им роли, от которой даже переменились их движения, манера говорить, сама наружность.
Петр словно их не узнает или видит в первый раз… Шумный, смелый, даже юркий обычно Антон Девиер, его генерал-адъютант, «хозяин» и полицеймейстер «Парадиза», жмется здесь к сторонке, словно хочется ему уйти от этих сотен глаз, даже и не глядящих на него. Весельчак краснощекий Василий Шереметев, поручик флота, потешающий обычно царя и всех своими шуточками и размашистыми движениями длинных рук, своим юным, крикливым тенорком и нескладным видом, — теперь он ходит, подняв плечи, от группы к группе, так степенно, чинно ведет разговор; даже голос его звучит глухо, басисто, точно ушел на дно впалой, узкой груди поручика. И, наоборот, ласковый на вид, мягкий в движениях, медлительный всегда Гагарин теперь так и снует по залу с холодным, злым блеском в заплывших глазах, словно желает всех заразить своей сдержанной яростью и злобой, под которыми на самом деле в самой глубине души таится животный страх за самого себя, за свое благосостояние и жизнь.
Никого почти не узнает Петр, кроме Якова Долгорукого, Стрешнева, маршала Адама Вейде да еще «друга души» Данилыча, который как раз в этот миг появился в зале. Эти четверо, да разве еще пять-шесть человек, менее значительных, остались сами собою, ходят, сидят, говорят и смотрят, как всегда. Только вполне понятная тревога и смущение видны на их лицах, которые давно и хорошо так изучил царь.
Прикрыв плотнее дверь, в ожидании, пока усядутся судьи, задумался Петр.
Хорошо ли он сделал, что этим «случайным» судьям поручил решать свою роковую тяжбу с первенцем сыном?.. Не лучше ли отменить затею, выйти, распустить собрание?.. Петр уверен: почти все будут рады такой развязке.
Он уже сделал шаг — и остановился.
Новая мысль пронеслась в напряженном мозгу.
Разве «юридический», формальный процесс, личная или правовая волокита идет между ним и сыном?.. Нет! Важно сейчас не близкое знакомство и знание законов, не опыт судьи. Отец тягается с сыном, оказавшим дерзкое непослушание, противное небесным и земным законам, которые признаны всеми живущими на земле! Сын возмутился против верховной воли государя и родителя своего.
И там сидят такие же, как и Петр, отцы или подобные Алексею сыновья. Не напрасно царь и юных, сравнительно, людей призвал в судилище. Пусть они подадут свой голос, пусть вступятся за царевича, если считают его правым… Если ошибается государь и отец, если деяния сына не грозят бедою царству и народу — сорока миллионам живых существ!
Ведь и Петр созвал судей не с тем только, чтобы они обязательно осудили Алексея, а чтобы рассудили тяжбу, судили виновного по совести, все равно, если даже, по их мнению, сам Петр окажется виновным перед сыном…
А при таком обороте дела чем больше людей самого разнообразного свойства, несходных по уму, по привычкам и положению будут судить и разбирать тяжбу Алексея и Петра, тем больше надежды получить настоящее, продуманное, всестороннее и верное решение, непреложное, как приговор небес.
Успокоясь на этом выводе, слыша, что за дверью наступила тишина, означающая начало заседания, Петр снова чуть приоткрыл дверь и стал слушать чутко-чутко, словно хотел уловить не только звуки и сказанные слова, а самые затаенные мысли, скрытые соображения, тончайшие побуждения, руководящие каждым из тех, кто подымает голос в этом судилище, какого еще не знала история до сих пор и вряд ли будет знать в веках грядущих.
Как первоприсутствующий Меншиков заговорил раньше других.
Еще когда собрание рассаживалось по местам — старейшие — вокруг стола, сколько хватило мест, остальные — широким полукругом на приготовленных стульях и креслах, — Меншиков умными, лукавыми глазами своими несколько раз обежал ряды, вглядываясь в каждое лицо, словно желая угадать, для чего пришел сюда этот человек: осудить или оправдать собирается несчастного, неразумного царевича, посмевшего сначала так безрассудно восстать против гнета родителя и царя, перед которым теперь начинала склоняться целая Европа, которого опасались монархи сильных народов… А затем сам же Алексей окончательно погубил себя еще более безумным шагом, когда в порыве нелепого доверия или неудержимого страха решился покинуть свое каменное гнездо в далеком Неаполе — крепость Сент-Эльмо, сменив добровольное уединение в ней на подневольное заточение в казематах Петропавловской крепости, неразлучное с допросами, пытками и дыбой.
Сам Меншиков раздвоился в решении задачи, поставленной на очередь грозным роком и ожесточенным Петром.
Пощипывая свои тонкие, ровно подстриженные усики, странно чернеющие под навесом пышного, высокого парика, падающего длинными локонами на плечи, князь Ижорский, опершись локтем на стол, подперев голову рукою, попытался заглянуть в самого себя.
Жаль ему Алексея. Он знает лучше всех, как мало виноват безвольный, вечно алкоголем отуманенный юноша в своих преступлениях и грехах, свершенных им вольно или невольно. Но есть за Алексеем одна тяжелая, непоправимая, непростительная вина: он — сильнейший претендент, законный, прямой наследник Петра, его трона, царства, созданного, увеличенного, укрепленного ценою тяжких усилий и целых потоков людской крови!
И для этой роли непригоден Алексей. Меншиков понимает это даже яснее, лучше, чем Петр.
Что же делать? Как надо поступить? Особенно теперь, когда у Петра есть и трехлетний внук от того же царевича, стоивший жизни своей матери принцессе Шарлотте; когда растет и второй малютка — сын, рожденный от Екатерины, которая до сих пор предана и покорна светлейшему князю не меньше, чем своему державному мужу.
И, конечно, регентом при будущем царе-ребенке, сыне, внуке ли Петра, безразлично, при его вдове-царице — первым будет он, Меншиков, еще не старый, полный сил и широких, честолюбивых замыслов…
В силу таких соображений ум внятно и властно подсказывает светлейшему, что Алексей должен быть осужден людьми, как осудила его сама природа, создав таким искалеченным, неприспособленным, негодным не только к царствованию, но и к самой заурядной жизни приличного человека.
Грязное распутство, дикое, непробудное пьянство, злобное раздражение против тех, кто не изъявляет рабской покорности перед самодурным Алексеем, — эти свойства не помогли бы ему устроиться хорошо и в частной жизни. А взойдя на трон, он неизбежно явится тираном, пожалуй, еще похуже, чем недоброй памяти сам Иван IV.
В этом убежден и царь наравне с Меншиковым.
Значит!?
Тут князь постарался скорее отвлечь свое внимание в сторону от неизбежного вывода и подумал про себя:
«Что мне голову ломать… решать?! Как все скажут, так и я… Благо, голос мой придется подавать последним!»
Так порешив, видя, что высокое собрание разместилось, расселось и все налицо, он поднялся и заговорил сначала вычурно звонко и нараспев своим голосом слегка носового оттенка. Но потом стал оживляться все больше и больше, и с середины речь его полилась, сильная, выразительная, захватывая, увлекая всех, как сам был захвачен своими ощущениями и словами князь Ижорский, бывший челядинец и рядовой, а теперь главный верховный судья, решающий не только вопрос о жизни и смерти царевича всероссийского, но и судьбу целой монархии, одной из сильнейших на земле. В этой игре слепого, злого случая честолюбец видит действие Высших, Божественных сил. В своем ложном убеждении он черпает вдохновение и отвагу, находит источник для мыслей и силу для слов.
Сначала сжато и кратко изложил светлейший историю побега царевича, коснувшись даже смерти принцессы Шарлотты, словно бы эту гибель молодой женщины считал отчасти делом рук Алексея, слишком дурно обращавшегося со своею женой.
Напоминая судьям последний указ, изданный в Москве 3 февраля того же, 1718 года {См. приложение № 1.}, этот грозный обвинительный акт Алексею, оглашенный Петром перед своим народом и целым миром как бы для его собственного оправдания, Меншиков нарисовал картину воспитания царевича, в котором и сам принимал немалое участие. Затем перечислил заботы отца о сыне, старание Петра просветить его «многими политическими науками, обучить военному делу и чужим языкам», чтобы приготовить из него «достойного наследника российского престола».
— Но тщетны были старания любящего отца и государя! — продолжал князь, поднимая голос, увлекаясь своей ролью «коронного обвинителя», прокурора, ради которой покинул, забыл спокойный, бесстрастный тон президента-докладчика. — Напрасно отец и царь увещевал сына и наследника, приводил его к исправлению и ласкою, и сердцем гневным, а иногда и наказанием отеческим! Напрасно брал с собою во многие воинские кампании, где все же охранял жизнь царевича от опасностей боя, проча себе в наследство, сам в тех же боях своей царской жизни не щадя! И в Москве не раз оставлял государь сына, вручая ему управление некоторыми государственными отраслями для научения в будущем деле царском. И в чужие края посылал наследника, чая, что там, среди просвещенных порядков и людей, приучится к добрым нравам и регулярному государственному управлению, склонится к трудолюбию и добру царевич. Увы! Все доброе ненавидел сын государев и наследник, ничему не внимал, не обучался, но непрестанно имел обхождение с людьми непотребными и подлыми, кои закоснели в мерзейших обычностях своих и царевича к тому же приучили!
Благоразумно умолчал обвинитель о том, что заброшен оставался Алексей и мальчиком, когда Петр веселился, кутил, и потом, юношей, был одинок царевич, жил без призора в Москве, не видя отца по годам, предоставленный самому себе или учителям, вроде Вяземского, которого ученик колотил, получая взамен от наставника грозные послуги в виде дворовой девки Ефросиньи, с которою юноша так сблизился потом. Не говорит Меншиков, что он, назначенный «блюсти за воспитанием царевича», прекрасно знал, какие люди окружали юношу; видел, как свита, монахи, попы постепенно втягивают его в пьянство и разврат, совращают в раскол, подстрекают против отца, надеясь по смерти Петра получить влияние и силу при будущем царе Алексее.
Меншиков не только не принял мер, чтобы пресечь «дурную» жизнь юноши, он словно незаметно и сам потакал этому. А затем пример Петра тоже мало мог исправить Алексея, который, придя в возраст, очутился в числе «собеседников», застольников и собутыльников на шумных пирушках, устраиваемых державным хозяином невского «Парадиза».
Обо всем этом молчит светлейший, а сразу переходит к женитьбе Алексея, явно для всех присутствующих искажая истину.
Он говорит, что Петр, «желая сына от помянутых непотребств отклонить», убедил Алексея избрать себе супругу из семьи какого-либо чужестранного государя по его собственной воле, где он полюбит.
— И царевич, улюбя внучку герцога Волфенбительского, свояченицу цесаря Римского, а племянницу короля Английского, просил отца, дабы позволил на оной жениться, что и было учинено, невзирая на многие траты и иждивения!
Несмотря на важность роковой минуты, невольная улыбка пробежала по губам у многих, когда было помянуто о «любви» Алексея к невесте.
— Сухопарая немка — ведьма! Уродина! Жердь сухая… Чертовка рябая!
Так, не стесняясь, своим приближенным, даже слугам аттестовал двадцатилетний младожен свою семнадцатилетнюю, действительно некрасивую супругу. А Трубецкого, Гюйсена и других посредников, устроивших этот брак, обещал колесовать и посадить на кол, как только примет власть по смерти отца.
Вот почему улыбка, как бледная дальняя зарница среди темной, воробьиной ночи, промелькнула на устах у тех, чьи сердца сейчас мучительно сжимаются страхом, жалостью и тревогой.
Но Меншиков, если и уловил эту улыбку, делает вид, что не видел ничего, дальше ведет свою звучную, подчеркнутую речь.
— И хотя супруга оная была ума довольно изрядного, обхождения честного и любезного, хотя по своему избранию взял ее царевич, — еще раз повторяет скользкое утверждение беззастенчивый оратор, — но жил с принцессою в крайнем несогласии, умножив обхождение свое с непотребными людьми, на стыд имени и дому царскому, и при той жене своей взял бездельную девку-работницу, жил блудно с оною, явно беззаконно поступая, оставя жену, которая вскоре и жизнь свою кончила хотя и от болезни, однако думать можно, что и сокрушение от непорядочного жития супруга-царевича много тому вспомогло!
Актер по природе, умеющий прекрасно играть разные роли даже перед таким взыскательным и опасным «зрителем», как Петр, здесь Меншиков дал волю своим способностям; горестные ноты звучат в голосе, даже лицо, негодующее и скорбное, слегка побледнело.
Минуя фальшь докладчика, слушатели тоже почувствовали стеснение в груди, припомнив тихую, ласковую, хотя и некрасивую Шарлотту-Софию, ее печальное житье в России и мучительную смерть.
Заметив перемену настроения, Меншиков с новым жаром, подъемом, почти возвышаясь по трагизма, продолжал:
— И што же государь-отец!? И тут не иссякла, не истощилась мера долготерпения родительского. Только с великой угрозой, в самый печальный час погребения невинной страдалицы объявил первенцу своему: лишите-де царевича наследства, ежели он не оставит худых нравов, не будет покорен воле отца и не примется усердно за изучение того, что наследнику государства знать достойно. И не поглядит на то, што один у него сын, ибо тогда еще не было другого царевича рождена от матушки царицы нашей. И подтвердил, што лучше чужого достойного учинить наследником, нежели своего непотребного, который растеряет все стяжания царские, добытые с помощью Божией, опорочит славу и честь народа российского, для которого сам государь и здоровья не щадил, и живота своего, во многих баталиях участвуя своей высокою персоной. И не желает государь по смерти принять кару на Суде Божием за то, што вручил правление народом сыну, зная верно о непотребности его к делу!
Петр слушает речь Меншикова и словно себя слышит самого, даже беззвучно, одними губами повторяет каждое слово. Желая дать свободу судьям, он не явился в это Судилище, чтобы из страха перед царем не покривили душой судьи. Но все-таки хорошо, что Меншиков умеет так выразить мысли и чувства царя-отца, вынужденного судиться перед Богом и людьми со своим первенцем-сыном.
А Меншиков, словно угадывая, что не одно только «высокое собрание» ловит каждое слово его умной речи, еще больше вдохновляется, еще тверже и внушительней звучат его слова:
— В ответ на милость, не имеющую примера, на любовь отцовскую и терпение неистощимое царевич ответил неправдивым, притворным писанием, выразил желание отречься и принять иноческий обет. А сам, выждав, когда государь для дел военных, себя и жизни своей не жалея, отбыл в Дацкую землю, — в тот час и скрылся царевич, добрался до австрийских земель, во владения цесаря Римского, коему при личном разговоре многие жестокие клеветы возвел и на отца государя, и на царицу, как и на слуг их верных!
— О себе смекает Данилыч! — негромко шепнул соседу — боярину Стрешневу князь Иван Ромодановский.
— Жалобы принес свояку-цесарю царевич, будто извести его готовы и родитель его, и царица-матушка!.. — возмущенным, негодующим голосом продолжает Меншиков, как будто невыносима его сердцу такая клевета, такой «лживый» навет, как будто не собраны здесь сейчас судьи, чтобы при свете дня, на основании холодной, бездушной буквы закона лишить жизни того, кто убежал на чужбину именно из желания спасти себя от смерти.
Это соображение мгновенно зашевелилось в мозгу у каждого из здесь сидящих, но некогда им остановиться, вдуматься в него — надо следить за порывистой, быстро и бурно текущей теперь речью «ревнителя закона», добровольного обвинителя.
А тот совсем увлекся сейчас. Покраснело лицо, глаза мечут искры, голос наполняет весь обширный зал присутствия.
— Не помышляя о возможности толикого проступка и бесстыдства беспримерного, государь потревожился родительским сердцем, узнав об исчезновении с пути сына, приказал искать следов его, опасаясь свершенного над царевичем злодеяния. И узнал весть невероятную, што сам царевич бежал, взяв с собою и девку свою непотребную, и после свидания с цесарем — укрыт последним в Тироле, в крепости Эренбери. А когда прислал государь в Вену нарочитых послов, требуя выдачи сына, тот и дальше проследовал, поселился в неапольской крепости, в полной тайне. И лишь по многим трудам и проискам, употребя ласку и угрозы, удалось выманить царевича из этого убежища. Да и то по пути он думал бежать далее и укрыться у папы Римского, чем еще больше мог бы расплодить смятение и опозорить отца государя. Но Бог к тому не допустил. Получив от царя обещание полного пардона за побег свой, вернулся в отечество царевич. И получил оное прощение, но с уговором, чтобы открыл в полной мере своих подстрекателей, сообщников и всех тех, кто способствовал бегству или к оному побуждал.
При этих словах светлейший быстрым, словно случайным, взглядом скользнул по лицам нескольких важнейших вельмож, сидящих, как нарочно, один за другим. Это были: князь Яков Долгорукий, князь Голицын, граф Мусин-Пушкин, Тихон Стрешнев, барон Петр Шафиров, боярин Петр Бутурлин и, наконец, князь Матвей Гагарин — все те, кого сильно скомпрометировал Алексей в последних своих показаниях, данных уже под ударами кнута.
И вздрогнули они все, невольно потупились, словно принялись разглядывать свои отметки на листках бумаги, положенных перед каждым судьей.
А Меншиков, довольный действием своей мимолетной стрелы, принял еще более сокрушенный, скорбный вид и негодующе бросил вопрос:
— И што же было потом, господа высокое собрание? Вы сами ведаете хорошо. Невзирая на милосердие отцовское, какое ограничилось только публичным оглашением о лишении наследья строптивого сына, царевич продолжал упорствовать, скрыл главнейших пособников своих, как мать родную царицу-иноку Елену, как тетку царевну Марию Алексеевну, как многих других, кои все же раскрыты были и кару достойную, даже до смерти, понесли!.. А в ту же пору открылись и новые вины самого царевича, его тайные замыслы на овладение престолом хотя бы силою и при жизни отца, на каковую злодейски помышлял царевич, как сам сознал при допросе и пытке… И мера терпения отца и государя преисполнилась!..
Глухо, зловеще прозвучали последние слова. Вздрогнули многие словно уже услыхали похоронный звон, возвещавший о смерти Алексея, услышали стук падения камней и земли на крышку гроба юного царевича…
Меншиков, выдержав паузу, тем же зловещим, ровным и глухим голосом продолжал:
— Все вы свидетели того, что правду сказал я в сей миг, хотя и горькую, самую страшную. Зная, что за единый побег, за измену отечеству, за поругание отца и государя царевич по российским законам достоин смерти, простил его государь, суду не подверг за первую вину, только лишил престола и царского наследия. Теперь же, узнав новые вины, много более тяжкие, чем прежние, поборол государь чувства отеческие к сыну, помня долг и обязанность повелителя многих народов и земель. Подобно Аврааму, не дрогнувшему принести единственного сына на алтаре Господу, решил и государь лучше принести жертву крайнюю, нестерпимую, чем погубить все царство. И положил в мыслях: судить сына-царевича сообразно законам Божеским и установлениям государственных законов, принятых в царстве. Высоким судьям сего Верховного Судилища известно, что сперва государь просил совета у духовных властей царства, высших и меньших. Вот это рассуждение духовного чина, поданное царю по вине царевича, подписано осмью епископами, четырьмя архимандритами, святой жизни мужами, высоко почтенными, и двумя учеными священноиноками {См. приложение № 2.}. Его оглашу вам теперь.
Внятно прочел Меншиков «рассуждение» епископов, которые тоже хорошо поняли, чего ждет от них царь, начиная свое писание, помянули о «тяжкой вине сыновней, равной греху Авессалома», наказанного смертью по воле самого Бога; затем смиренно указали, что судить дела гражданские им не подобает вообще, а тем более касаться таких высоких особ. Но, исполняя волю царя, они все-таки решаются привести подходящие примеры из Старого и Нового Завета, говорящие как о строгой каре, так и о безмерном милосердии родителей к детям, даже и преступным.
Дальше проведено было девять мест из Ветхого Завета и столько же из Нового. Сперва поминался грех Хама, поругавшегося над отцом и проклятого, история Авессалома, грозные заветы книги Исхода и Второзакония, присуждающие смерть непокорным детям; потом в Евангелии и Апостолах было выбрано все, что можно было истолковать в том же смысле… Но здесь небольшую подтасовку допустили смиренные отцы, приписав Учителю жестокую заповедь, несущую смерть непочтительным детям, когда Он только помянул древний Закон, Им часто отвергавшийся, только для уличения фарисеев, не соблюдающих самых строгих заповедей, где им это было выгодно.
Снова после этого лицемерно повторили иноки и епископы, что не смеют и думать о том, чтобы «явиться судьями над теми, кто поставлен над ними от Бога». Затем осторожно перечислили, уже без пунктов, места из Священного Завета и Евангелия, где говорится о прощении и милосердии к самым нераскаянным грешникам, помянули тексты о «блудном сыне», приводя и слова того же Давида, который простил Авессалома и просил щадить бунтовщика сына. Не забыта здесь и прелюбодейка жена, прощенная Назареянином, возгласившим: «Милости хощу, а не жертвы!» И многое еще другое…
«Кратко рекше: сердце царево в руце Божией есть! Да изберет сам тую часть, куды рука Божия его преклоняет» — так кончили свое рассуждение осторожные отцы святители, не решаясь прямо подтолкнуть поднятую руку Петра, не имея мужества и задержать эту разящую руку…
Небольшое молчание настало после чтения бумаги, где первою стояла подпись смиренного Стефана, митрополита Рязанского, того самого, который всего семь лет назад в Успенском соборе сказал такую проповедь, так разгромил новые порядки Петра, такую горячую молитву прочел «Алексию, человеку Божьему», поминая и отсутствующего царевича, что вся Москва и Петербург всколыхнулись, а сам царевич добыл список с проповеди, хранил его много лет как святыню.
Но это было семь лет назад! Теперь же хитрый украинец Стефан, стараясь услужить Петру и смыть свой старый грех, особенно подробно изложил «карающие» тексты в епископском отзыве, поданном по делу того же несчастного Алексея.
Выждав немного, Меншиков снова заговорил, как бы желая, подвести итог всему оглашенному:
— Теперь слово и решение за вами, государи мои, господа Верховное Судилище. Вы, господа министры, сенаторы, чины военные и гражданские, сюда призванные волею самодержавного государя нашего, многократно собирались в этой палате, слушали выписки из дела и подлинные письма от его царского величества к царевичу, равно и ответы последнего, слышали устное признание виновного сына, и читалась вам собственноручная запись его, гласящая, что желал он смерти отцу своему и государю, даже на духу попу своему в том каялся и бунт учинить хотел, сам собрался при жизни отца во главе мятежных стать. И многое иное, не менее тяжкое! И ныне хотя не подлежит нам, подданным его величества, судить такие дела, но исполняя указ государя, по чистой совести, никому не похлебствуя и без всякого страха, внимая поучениям и заповедям Закона Божия, а равно помня Уложение и Воинский артикул, не забывая уставы иных христианских государств, равно как древних, особливо римских и греческих цесарей, должны мы согласиться и приговорить: чего достоин царевич Алексей за все вышереченные вины свои? Особливо за то, что повинную свою царевич писал неправдиво, что с давних лет искал получить от отца при жизни его престол через бунт, надеясь на чернь, что скорой кончины желал отцу и государю, — за все сие какая кара ему подлежит? С сокрушением сердечным, со слезами на очах, яко рабы и подданные, но должны мы сие обсудить и свое истинное мнение, как повелел самодержавный наш повелитель, постановить должны не в виде приговора, но как велит то изложить чистая христианская совесть. Прошу вникнуть, господа верховные судьи, обсудить в себе и между собою, а затем поименным, открытым голосованием мнение подать!
Последние слова страшнее всего поразили сидящих. Никто не ожидал, что открыто придется подавать свой голос в таком тяжком деле, в этой запутанной самим роком нечеловеческой тяжбе…
И долго еще сидели все, подавленные, растерянные, когда Меншиков уже замолк, отирая с лица и со лба крупные капли пота, проступившие после утомительной, долгой речи, которая и его самого взволновала не меньше, чем слушателей.
Закрыв свои сверкающие глаза, прислонясь плечом к двери, за которой он сидит, затих и Петр, замер, словно повис на высоте и сейчас должен рухнуть вниз с головокружительной быстротою, не зная, спасен он будет или разобьется вдребезги…
Вдруг дрогнуло мертвое молчание, которое наполняло зал несколько мгновений и всем показалось тяжелее горы, длиннее вечности…
Несколько голосов, словно против воли, вырвалось, переплелось, снова смолкло и опять зазвучало.
Полуслова, полувздохи, не то вопросы, не то оправдания перекинулись от одного к другому… Больше молодежь подала голос, еще о чем-то желая спросить, что-то выяснить, нащупывая какую-то надежду… Между тем и пришли все сюда, чувствуя, что придется произнести одно страшное слово. А после речи Меншикова еще больше убедились, что только одно это слово смеют и должны они сказать, если не хотят сами очутиться на одной доске с царевичем, которого так тяжко «допрашивал» отец, подвергая кнуту и дыбе наравне с последними из преступников, своих рабов и подданных.
И это слово, которое придется сказать: «смерть»!
Но первый никто не решается сказать его…
Отсрочить бы, заменить бы другим, самым страшным, только другим, если уж нельзя ждать чуда, не придется услышать слова: «Прощение, пощада, жизнь!..»
Из общего гула, неясного и печального, как дальний похоронный перезвон, долетающий в подземную тюрьму, вырываются отдельные слова, вопросы, обращенные друг к другу и к президенту Меншикову.
— Ужли сейчас надо и решать?..
— Может, еще дело не совсем кончено?.. Мысли свои преступные, правда, выявил царевич. Но не видно из дела и допросов, што приступил и к свершению бунтовского замысла… А за мысли полагается ли по закону смертная кара?
— Да и можно ли нам царевича прирожденного судить, как обычайных злодеев? Особливо ежели помнить, что и теперь у англичан право есть святое: «Судить каждого должны равные его!» А мы же где равны царевичу, хотя бы и преступил он законы?
— Да может еще и так быть: мы осудим… А царю-отцу жаль станет! — говорит какой-то пожилой, седой сенатор, негромко, словно опасаясь, что Меншиков или другие из усердных прислужников передадут его слова царю.
И вообще, каждый здесь боится сказать слово по душе, опасаясь предательства. Еще оно и хуже, что Петр приказал судить без себя. Ему могут на каждого наговорить таких ужасов, что потом не оберешься беды.
И стихли понемногу вопросы, угасли голоса. Но решения общего еще нет.
— А ежели еще просить государя, пусть бы сам решал, как ему Бог положит на душу. Дело очевидное, что вина велика… Но и кары той, какую закон велит, мы назвать, поди, не сможем! — говорит негромко Нарышкин соседям своим Дмитрию Голицыну и Якову Долгорукову.
Те молчат. Понурился прямой, честный князь Яков. Брат его Василий уже сослан. Надо себя поберечь хоть немного. То же думают и Голицын, и другие, «оговоренные царевичем», самые влиятельные вельможи, которых обжег глазами Меншиков во время своей речи.
Они и сейчас чуют на себе острый взгляд фаворита, который несомненно заменяет и здесь особу царя, как это бывает очень часто в других важных государственных делах.
Молчат все. Один лишь человек подхватил вопрос Нарышкина и решился заговорить.
Это князь Гагарин, губернатор Сибири.
Что-то необычайное, странное владеет им сегодня. Нет особо дурных вестей по его личным делам. Царя он видел, тот говорил с ним довольно дружелюбно, хотя не так, как раньше бывало, до отъезда в Тобольск. Но словно бык, которого выводят из хлева и собираются вести под топор, затосковал вдруг без причины, готов бы наброситься на каждого… Хотел бы и Меншикову крикнуть, что он лжец и лицемер, и упрекнуть этих вельмож, раньше подстрекавших Алексея, а теперь затихших, безмолвных, оробелых, подобно лакеям, укравшим господское добро и готовым свалить на другого свой грех… А больше всего бесит Гагарина сам Алексей! Глупец! Начал смело, умно, кончил так глупо, и теперь из-за него все первые люди земли вынуждены подличать, говорить не то, чего бы хотели, спасая собственную жизнь, или должны пожертвовать всем и бесполезно, потому что Гагарину ясно: царевич заранее осужден царем!
Кроме того, князю показалось, когда, он садился, что за дверью, там, в углу залы, мелькнуло в узком просвете страшное, бледное лицо, такое знакомое ему, как и всем, здесь сидящим… Конечно, Петр способен явиться незамеченный, выслушать прения судей, чтобы убедиться в преданности или в крамоле каждого из них…
И, словно не владея собою, желая только излить трепетное нетерпение и злость, сдавившую грудь, стремясь положить конец своему и общему напряжению, ускорить развязку подлой трагикомедии, князь резко, громко заговорил:
— Помилуй Бог! Мало наслушались мы, господа министры и сенаторы и прочие господа присутствующие? Еще ли не ясно дело? О чем и кого еще просить сбираемся, когда прямая воля государя нам сказана: судить и мнение ваше положить. А там его воля, конечно! Мы должны так решать, чтобы не страшно было явиться перед Вечным Судией нам, судиям земным… А перед законом все равны, и царь, и нищий! Давно и сам его величество о том постановить изволил! Так и я скажу открыто. Ежели бы мой родной сын такое содеял… Один приговор ему бы я дал: смерть! И то самое, чаю, должны мы по закону объявить за проступки нестерпимые царевича Алексея… А подтвердить наше мнение либо отринуть волен уж сам государь-отец, как Бог ему внушит. Я сказал. Кто за меня либо против — его дело. Решайте, государи мои!
Еще последние звуки голоса Гагарина дрожали в воздухе, но и другие, и сам он ощутили такой холод в груди, везде, что дух перехватило у многих. Побледнели самые румяные лица, потухли, опустились книзу самые смелые и яркие, самые лукавые и беззастенчивые глаза.
В эту минуту гулко стали вызванивать часы в соседнем покое. Девять ударов должно прозвучать. Все, как один, считают про себя эти звонкие, протяжные удары, хотели бы удесятерить их, чтобы бой длился часы, дни, без конца… Потому что с окончанием боя зазвучит один роковой вопрос, на который, против воли, придется дать единственно возможный ответ…
И часы, пробив, умолкли…
Вопрос зазвучал:
— Господа министры, сенаторы и прочие присутствующие здесь! Вы слышали сказанное его превосходительством, господином князем Гагариным. Мнение оглашено. Я по долгу своему сейчас опрашивать начну, от самых младших и до старейших, по списку сему о согласии либо о несогласии с оным мнением. Так угодно ли вам будет?
— Угодно! — не дружно, не сразу прозвучало несколько подавленных голосов.
— Повинуюсь закону, указу его царского величества и вашему жел; нию. И приступаю с помощью Всеблагого Господа!
Взяв лист с именами судей, он развернул его и остановился глазами на самом крайнем имени, стоящем в конце длинного списка, занимающего три страницы большого листа плотной синеватой бумаги.
Настало мгновенное молчание. Среди трепетной, напряженной тишины, когда, казалось, слышно было шуршание камзолов на груди у всех там, где порывисто билось каждое сердце, прозвучал голос Меншикова, внятный, но прерывистый, как будто готовый сорваться на каждом звуке:
— Согласие либо несогласие свое благоволит каждый из вопрошаемых изъявить на мнение господина губернатора Сибири. Господин обер-секретарь! — обратился светлейший к Анисиму Щукину, сидящему за своим столом с двумя дьяками. — Второй список для отметок у тебя готов ли?
— Готов, ваша светлость!
— Отмечай.
И, обратясь к младшему из дьяков, Меншиков только спросил:
— Какое мнение?
Вскочил, пробормотал что-то невнятно жалкий, растерянный служака и снова сел, будто надеясь укрыться на своем стуле от тяжелой необходимости подать первый голос.
— Громче! Не слышали мы… — поднял голос Меншиков.
— Со… согла… согласен! — наконец выдавил из горла более внятно тот и снова сел.
За ним второй голос, такой же жалкий и ничтожный, проговорил это слово… Третий, четвертый, десятый, сотый… Все повторяют его, это небольшое, гибельное слово. И каждый раз оно звучит, словно удары заступа по сырой земле, где начинает раскрываться и зиять черным провалом могила юного царевича Алексея…
Никто не посмел прибавить крохотной частички «не» к трехзвучному, несущему смерть слову «согласен».
Последним поднялся Меншиков. Он стоит, опираясь рукой на стол, как будто раздавлен хорем. Говорит тихо, но внятно:
— Мой черед сказать слово… Ежели бы я знал, што моей жизнью вместе с моим решением изменю волю судьбы… Ежели бы мое одно «нет!» перевесило все подтверждения, единодушные, какие мы сейчас слышали, я бы сказал это «нет»! Но… сдается, только сам Господь и его величество могут теперь изменить решение общее… А я против сердца моего… терзаюсь жалостью, но по чистой совести обязан также сказать: согласен, что за вины свои смерти достоин царевич Алексей! И посему… Господин обер-секретарь, прочти изготовленный проект приговора. А вас прошу каждого, ежели не будет замечаний либо изменений оного, подписать своеручно для немедленного подания его величеству {См. приложение № 4.}!
Меншиков сел.
Обер-секретарь стал читать заранее приготовленный приговор. А Петр, не ожидая больше ничего, едва поднялся со стула, грузно, пошатываясь, словно от вина, даже не заглушая своих гулких, тяжелых шагов, вышел из покоя, пошел по коридорам к выходу, твердя про себя:
— Осудили… ну что же!.. А этот вор!.. Гагарин первый посмел!.. Он, немало сам виновный… сына мне часто с пути сбивавший, он первый же на него посмел… Добро! Пожди, судия праведный! Буду я судить и тебя… предатель!
Глава II
БИБЛЕЙСКАЯ ЖЕРТВА
Словно лавина катилась с огромной крутизны и несла самого Петра, Алексея, судей верховных — всех, кого впутала судьба в тяжбу царя-отца с сыном-царевичем. Будто у всех была отнята их воля и, в глубине души желая одного, они делали совершенно другое, ужасное, отвратительное для них самих и для целого мира.
Утром 25 июня Петр распорядился, чтобы Алексея привели и поставили перед его «судьями», изможденного и своей чахоткой, и пыткой, дыбою, плетями, вынесенными уже четыре раза. В последний раз — вчера еще — худые плечи его вытерпели пятнадцать ударов, от которых кровавые полосы остались на теле…
Вчера же прямо из Сената, где прозвучало осуждение Алексею, Петр кинулся в Петропавловскую крепость, где в Трубецком раскате помещен царственный узник, и там допытывался целых два часа: верно ли показал на разных лиц царевич, не поклепал ли на кого, не укрыл ли еще виновных?..
Но Алексей, словно потерявший способность ощущать боль, под ударами кнута и после них упорно, угрюмо повторял:
— Поведал я всю правду, писал, что вспомнить мог! Не скрыл никого и не поклепал ни на единого человека…
Безумным кажется порою царевич, особенно когда подымают его на виске и кнут, просвистав, падает на нежное, бескровное тело страдальца… Глаза тускнеют, устремленные постоянно на лицо отца; пена проступает на побелелых губах, а нижняя челюсть так часто-часто дрожит и зубы выстукивают мелкую, внятную дробь. Но не плачет теперь, не синеет от воплей и мольбы царевич, как в первые разы… Ужас у него в глазах и ненависть безмерная, но молчаливая, пугливая, как у дикого зверя, попавшего в западню, откуда нельзя выдернуть раздробленной лапы, потому что малейшая попытка рвануться причиняет смертельную муку… И стоит изловленный зверь, видя приближение врагов, чуя смерть, еще более мучительную, чем это ожидание ее…
Петр все понимает, все чувствует!.. Но вместо того, чтобы разорвать на руках сына веревки, разогнать палачей, крикнуть юноше:
— Прощаю! Ко мне! На грудь! Забудем все…
Вместо этого он еще удваивает его телесную муку пыткой допросов, очных ставок и видом людей, которых неизменно приводит с собою…
Это все те же, бывшие «друзья», приверженцы тайные Алексея, о которых он поминал в своих показаниях, теперь ставшие его судьями и палачами.
Но им тоже достается каждый раз хорошая пытка, когда они смотрят на истязание юноши, которого почти толкнули на безумный шаг, а теперь покинули, как низкие холопы и предатели.
И Алексей старается даже не поглядеть в их сторону, а при случайной встрече глазами такое презрение выявляется на измученном, потемнелом лице его, что «судьи» готовы были бы очутиться на месте истязуемого, не встречать бы только этих глаз, этой гримасы отвращения, вызванного их собственным видом!..
Пытая Алексея в самый день приговора, при тех же неизменных спутниках своих, при Шафирове, Стрешневе, Бутурлине, Голицыне, при князе Якове и Гагарине, Петр все ждет, что царевич выйдет из своей странной закостенелости, из угрюмой подавленности и бросит новые тяжкие обвинения в лицо этим прежним друзьям и многим иным! Тогда с настоящим наслаждением станет пытать и терзать их Петр, а не с болью в сердце, как делает это с сыном…
Но Алексей уже покончил все счеты с людьми и миром… Он хочет покоя… Какого-нибудь, все равно! Пусть это — прощение, пусть — смерть… лишь бы покой!
И хотя целый ураган мог бы он поднять парой-другой слов, но не делает этого… Пойдут новые сыски, допросы… Опять лишних несколько раз станут больно вязать тонкие, бледные руки Алексею, подымут на виску, кнут, глухо шлепнув, врежется в плечи, в бока… или снова приведут бедную девушку, его любовницу, робкую, простую, которая боится всего, не знает, что надо говорить, о чем следует молчать. Она-то своими необдуманными показаниями совершенно и потопила Алексея…
Нет, слишком все это нестерпимо!..
И, снеся последние пятнадцать ударов, лишась сил и сознания, Алексей все-таки промолчал до конца. Только еще более страшным, печальным взглядом окинул отца, когда глаза его уже туманились от беспамятства…
А свидетели допроса и пытки, особенно Гагарин, стараются владеть собой, не выдать стыда и жалости, от которых клубок стоит у каждого в горле.
Поймав на себе испытующий взгляд Петра, нагибается к нему Гагарин и негромко замечает:
— Теперя бы, когда поослаб духом царевич, хорошо бы привести его в сознание и… снова поспросить. Пожалуй, и выдал бы кое-что поважнее…
Взгляд, которым Петр ответил советчику, оледенил князя. Но ничего не сказал царь. Врачу, стоящему тут же, всегда наготове, дал знак войти к сомлевшему Алексею, а сам быстро вышел из застенка.
Еле поплелся за другими Гагарин. Взгляд царя повлиял на него не лучше, чем плети на царевича…
А тут вечером узнал князь еще одну грозную весть.
Вернулся из Тобольска Пашков, сменивший там слишком мягкого Волконского, привез какие-то тяжкие улики против губернатора Сибири… И Волконский арестован, скоро будет судим, как только кончится дело царевича.
Перед самым обедом узнал эти новости князь. И обедать не смог, и не спал всю ночь… Думал все одно и то же: неужели решимость в осуждении Алексея ему не помогла, а только повредила; Екатерина и Меншиков — неужели не выручат его из ямы, как бы глубока ни была она?..
«Сам полез… сунулся сам в силок, старый дурень! — бранил себя в сотый раз Гагарин. — Надо было в Тобольске отсидеться, не лезть сюда в эту кашу, где многие увязнут, как вижу теперь. И первый — я!..»
Настал лень 26 июня, ясный, солнечный, с тихим ветром.
От 8 до 11 утра, долгих три часа, длился последний допрос Алексея при тех же свидетелях-судьях, скорее — соучастниках его, и при Меншикове.
Петр сам при этом походил больше на безумного, чем на человека, вполне владеющего сознанием и волей.
А в четыре часа дня, выйдя из Троицкой церкви, где совершалось служение накануне полтавской годовщины, Петр с неизменной свитой снова появился в раскате, в тюремной келье, где на своем узком ложе, запытанный, замученный, лежал узник.
Увидя отца, он вдруг приподнялся на локте… Что-то заклокотало у него в груди… Отхаркнув кровью прямо к ногам Петра, одно только слово прохрипел Алексей:
— Детоубийца…
И снова повалился навзничь, тяжело, порывисто дыша.
И отец сжалился наконец над сыном, решил сократить его долгое, мучительное умирание, прервать тяжелые муки, которые могли затянуться на недели, на месяцы…
Привести в исполнение приговор теперь — это значило облегчить агонию осужденному… И Петр шепнул несколько слов маршалу Адаму Вейде.
Тот отшатнулся сразу, но, сделав усилие, даже стиснув зубы и сжав кулаки, овладел собою, вышел… А через четверть часа из соседней крепостной аптеки принес небольшую серебряную чарку с последним лекарством для истерзанного телом и душою царевича.
Бескровная казнь совершилась… Смерть Сократа, добровольная и потому прекрасная, насильственно постигла Алексея…
Твердою рукой ему влит был в рот его последний кубок… После этого все быстро ушли, кроме караульного офицера и двух врачей.
В седьмом часу вечера после сильнейших мучений и судорог Алексея не стало.
На другой день его тело, анатомированное сначала, лишенное внутренностей, в простом гробу из тюремной кельи было вынесено в дом губернатора… Там под глазетовым покровом стоял простой дощатый гроб в ожидании последних обрядов.
Горели свечи… Монах читал печальные псалмы…
А в раскрытое окно веял летний нежный ветерок. Пальба, звуки музыки доносились от нового почтового двора, где царь с царицей, со всеми вельможами весело, шумно справлял годовщину полтавской славной победы и вино лилось ручьями… Грохотали орудия салютами с верков крепости…
Но ничего не слышал больше царевич Алексей… Он наконец, как сам того желал, успокоился навеки!
В глубокой тайне свершилось это мрачное дело — гибель сына, казненного руками родного отца.
Молчат участники казни не только из страха перед Петром, но не желая также подвергнуться всеобщему презрению людскому и вселить окружающим ужас.
Объявлено просто народу и министрам иностранным, т. е. послам, что от апоплексии умер царевич, напуганный смертным приговором, прочтенным ему накануне.
Ни о пытках, ни о последнем допросе в утро смерти, ни о самых подробностях ее — ни звука!.. Но стены заговорили, когда люди не посмели…
Самые неясные, противоречивые толки пошли в народе, здесь, в Петербурге, в Москве, повсюду. И как ни различны эти толки, но в них одна правда повторяется на разные лады: пытали, почти до смерти замучили Алексея, а потом рука отца покончила его страдания.
Иностранные резиденты, обычно посылающие самые подробные доклады своим государям обо всем, что они видят и слышат, сперва ограничились, конечно, передачей официального извещения о смерти Алексея. Но немедленно же пошли добавочные «рапорты», писанные шифром, «цифирью», где каждый передавал то, что ему удалось вызнать у близких к делу лиц, что он считал за самое верное.
И по рукам стали ходить какие-то списки с описанием «злого деяния в Трубецком раскате, убиения царевича Алексея, от руки родителя приявшего мучительную кончину». Только разные роды смерти описывались в них. По одним — Петр собственноручно обезглавил сына, по другим — ему были вскрыты жилы. Говорилось и об яде, и об удушении подушками…
Письма резидентов, перехваченные на почте «черным кабинетом» Петра, доставили много неприятных минут их авторам, особенно голландскому министру де Би и австрийскому посланнику Плейеру. А своих «подыскателей» просто выслеживали, колесовали, рвали ноздри и ссылали в Сибирь, изрядно наказав плетьми…
И все же не унимались люди, особенно раскольники, как стали теперь звать людей, придерживающихся старого толка.
Но наконец время взяло свое… Толки стали смолкать. Кончилась шведская долголетняя война. Все царство обрадовалось этой счастливой минуте. В «Парадизе» стены дрожали от салютов пушечных, от грохота «потешных огней» и веселых, пьяных кликов. Никому не тревожила сна бледная тень несчастного царевича, погибшего так рано и не по своей вине.
А он сам, вернее, его тело тихо истлевало там, в земле, в склепах крепостного собора Троицкого, где положили его рядом с телом его жены, тоже несчастной принцессы Шарлотты-Софии.
Глава III
СУД НАД СУДИЕЮ
Прошло семь месяцев со дня казни Алексея.
Гагарин, первый из его судей-обвинителей, сам теперь под судом.
29 января 1719 года он давал Сенату первое свое объяснение по пунктам обвинения, предъявленного ему как губернатору Сибири, по нерадению которого неудача постигла поход Бухгольца за песочным золотом Яркенда, поход, стоивший так много денег и человеческих жизней. Помимо того был предъявлен еще бесконечный список его провинностей, больших и мелких грехов и преступлений, начертанных на нескольких листах.
Был вызван фискал Нестеров, его главный обвинитель, и Бухгольц выступил со своими разоблачениями, и многие другие, знакомые с делами Сибири, как тот же бывший ее губернатор князь Черкасский, которого заместил Гагарин семь лет назад.
Кроме того, послан был гвардии майор Лихарев в Тобольск и по всей Сибири, чтобы еще подробней разыскать все улики, вызнать преступления Гагарина и обиды, нанесенные им кому-нибудь…
Этот ревизор приказал с барабанным боем объявлять по городам, что «бывший губернатор князь Гагарин — вор, весьма худой и недобрый человек. И все, кто знает его злые дела и казнокрадство, должны о том доносить без страха и стеснения».
Обвинители, конечно, явились со всех концов, жалоб справедливых и вздорных посыпалось без числа.
Все собрал Лихарев и представил Петру, а тот весь смрадный и тяжкий этот груз швырнул в лицо, обрушил на голову Гагарину, ставшему ненавистным для него со времени суда над Алексеем.
Допросы шли без конца, все два с половиной года, которые провел в своей тюремной келье Гагарин, в той самой, где он был у заточенного Алексея, где видел допросы и пытку царевича.
Теперь его самого пытают, и «часто, жестоко», как отмечает летопись тюремная.
Исхудал, осунулся князь-губернатор, наместник и царек Сибири. Но упорно защищается против всех обвинений. Он знает, что в главном преступлении явных улик нет против него, а то, что открыто бумагами и несомненными показаниями свидетелей, слишком незначительно, чтобы привести за собою смертную казнь… И бодрится кряжистый князь.
Лишь бы оставлена была жизнь! Все он готов отдать за эту жизнь, что ни собрано в его дворцах здесь и в Москве, и в губернаторском тобольском доме… То, что припрятано в Салде, даст ему возможность, уйдя за границу, по-царски кончить дни!.. А земли, дома перейдут пускай теперь же сыну и дочери…
И, рассчитывая на такой исход, посылает тайных пособников Гагарин ко всем, кто еще имеет влияние и силу при Петре… Но их нет почти, таких людей.
Даже Меншиков попал в опалу за «многие дары», принятые в виде мзды за попустительство ворам и казнокрадам: Гагарину и другим, ему подобным…
Екатерина боится вмешаться в дело, если бы и желала помочь кому-нибудь… Главное сделано: царевича Алексея нет. Сын его, малютка Петр Алексеевич, растет в доме у Меншикова. И какая-то затаенная надежда на огромное счастье и власть впереди все чаще и чаще светится в темных, бархатных глазах бывшей ливонской пленницы Марты Скавронек, теперь императрицы Екатерины, вместе с мужем приявшей такой высокий титул, как воздание за счастливо оконченную борьбу со шведами…
Одинок остался в своем каземате Гагарин… Не берут даже его сказочно щедрых даров, огромных взяток, которые он предлагает через разных людей.
— Денег не берут! Конец мне, значит! — бледнея и холодея, прошептал Гагарин, услышав, что отказываются все от посулов князя.
Но еще надеется упорный старик. Терпит допросы, виску и плети… Ничего не открывает такого, что бы дало судьям известное право подписать приговор, давно составленный и внушенный Петром.
Вдруг новая пытка придумана была мучителями.
Вызвали из-за границы Алексея Гагарина, хотя отец и дал знать сыну, чтобы он скрылся в Англии, не возвращался теперь домой.
Обошли юношу, подложным письмом отца заманили его на родину. Здесь поставили к допросу… И под пытками, под кнутом изнеженный, слабый барич предал родного отца… Вспомнил о «речах воровских» относительно престола Сибири, указал на письма, полученные за границею от отца, темный смысл которых был им истолкован таким же образом…
Он готов был и себя обвинить в чем угодно, пойти под топор немедленно, только бы избавиться от пытки!
И затем на очной ставке, понуря голову, едва выжимая слова из стесненной груди, сын вынужден был «уличать» родного отца!
Юношу сослали в матросы. Сестру постригли в монастырь. Все имения, дворцы, несметные богатства Гагарина взяты были в казну.
В той же знакомой хорошо зале Сената, перед его же товарищами былыми прочли князю приговор, в котором целых 20 пунктов перечисляли «главнейшие вины и злодеяния» его, не считая многих иных.
С поднятой головой слушает этот перечень Гагарин. Жизнь, проведенная в лени, в распутстве, в обжорстве, пьянстве и стяжании, посвященная всем грехам, не вытравила в этой душе наследственной искры доблести старых «викингов», разбойников по крови, но отважных, гордых, честолюбивых людей… Недаром из Скандинавии явился на Русь предок рода Гагариных.
Читает секретарь обвинения.
Тут собрано все, содеянное и несодеянное, что таилось в замысле на дне души или нагло проявлялось при свете дня на глазах рабской, приниженной толпы прислужников, челяди, целого народа, еще слишком задавленного и темного после веков татарщины, после кровавой поры собственных тиранов: Ивана IV и иных…
«И доказано есть, — читает монотонно секретарь, — что оный сибирский бывший губернатор, князь Матвей Петрович Гагарин: 1) угнетал крестьян податями в свою пользу, обременяя и разоряя людей непомерно!»
Умный Петр это тяжкое обвинение приказал поставить прежде всех.
Потом идут остальные:
«И питал намерение поднять бунт в Сибири, отложиться от государства Российского, для чего даже объявил себя „сибирским царем“; притеснял купцов, торг ведущих с Китаем, накладывал излишние пошлины; наилучшие товары от них силою и беззаконием отбирал.»
Словно какой-то красный огонек сверкнул в глаза Гагарину… Он припомнил огромный рубин, первое сокровище, захваченное в Сибири, с таинственными знаками на нем… Но ведь этот рубин перешел теперь в иные руки… Он уже у Екатерины, как узнал недавно князь…
И, словно в ответ на эти мысли, звучит новый пункт обвинения, оглашаемого секретарем:
«Пытался подкупать не только министров и сенаторов, но и лиц, близких к самой особе его императорского величества. На жалобы сибиряков по поводу тяжелых податей и поборов, вызванных не столько войною, сколько корыстолюбием самого губернатора, неизменно отвечал: „Не я повинен! Творю волю царскую. Будь я хозяином здесь, Сибирь зажила бы припеваючи!..“ Потакал и подстрекал недовольство в среде раскольников, сеял слухи, что их силою будут перекрещивать, мучить и живыми сожигать в случае сопротивления, — чтобы больше сеять смуту в краю и тем подготовлять восстание. Не носил парика, как по регламенту установлено, одевался по-русски, в боярские одежды, чтобы угодить черни, соблюдал строго посты и обряды, похвалял старинные книги и обычаи, чтобы подкупить народ. Позволял сибирякам для того же совращения и ради корысти своей нанимать за себя рекрутов из простых, черных людей и брал за то большие выкупы. Вошел в заговор и с митрополитом Сибири Филофеем Лещинским, а ныне схимником-старцем Феодором, и, когда тому было приказано уйти в изгнание в Киевскую лавру, губернатор князь Гагарин удержал его в Тюмени, где будто бы тот трудится, обращая в христианство язычников остяков и иных. Закрыл все пути из Сибири в Россию, за исключением Верхотурья, где его друг воевода-комендант Траханиотов мущин и женщин проезжающих подвергал подробному, позорному весьма обыску, раздевая, нет ли при людях писем и вестей о том, что творится в Сибири».
Кривая улыбка исказила на миг застывшее, словно окаменелое лицо князя.
Эта застава, единственная для Сибири, эти обыски введены были самим Петром за много лет до управления Гагарина… Но теперь и такую, явно чужую меру ставят в вину ему, ничего и никого не стесняясь, разыгрывая совсем неряшливо комедию суда. Да что и думать! Разве полгода назад сам Гагарин не принимал участия в подобном же трагикомическом, еще более ужасном зрелище?..
И по-прежнему с лицом, напоминающим восковую маску, слушает «преступник», виновный не более, чем все те, кто сейчас сидит за судейским столом, избегая встретиться взорами со своим вчерашним товарищем, другом-благодетелем, а нынче подсудимым, казнокрадом и бунтовщиком…
«Непокорных ему ссылал без суда в дальние места губернатор сибирский князь Гагарин, а многих и след простыл ныне, — читает вязким, скрипучим голосом обер-секретарь Сената. — Без нужды увеличил милицию и сам ставил в сыновья боярские, верстал окладами не по закону. Собрал второй драгунский полк, когда и одного было достаточно для того краю. Увеличил пехоту, артиллерию, поручил начальство над таковыми пленным шведским офицерам, раздав им многие суммы, десятки тысяч рублей. Лил пушки на сибирских заводах и строил ружья. Чтобы добыть излишние снаряды, обманул его царское величество, уверя, что потребен поход в Бухару за золотом, и тем путем добыл много снарядов, а также на 10000 человек амуницию и оружие, все полное снаряжение. Допускал в обиходе своем непомерную и преступную роскошь, какой и при царском дворе не слыхано, уставляя столы золотыми и серебряными приборами, куя лошадей также золотыми и серебряными подковами слабо, чтобы те отлетели, переходя в руки черни и тем обольщая ее…»
Много еще читает обер-секретарь. И в конце одно короткое, самое ужасное слово: «А за все сии вины присуждена… смерть через повешение».
Но и при этом слове не дрогнул Гагарин.
Низкий, истовый поклон отдал Петру, судьям своим и вышел под конвоем четырех преображенцев.
В тот же день, вечером 16 июля, явился Петр без спутников, один к заключенному.
— Слушай, Матвей! — опустясь на табурет перед стоящим князем, заговорил он. — Все кончено. Вина твоя доказана. Ты приговорен. Но не хочу так предать тебя смерти, пока не услышу твоего сознания. Чтобы потом твоя душа не пострадала за ложь крайнюю и перед кончиною самой… И сам покойнее быть хочу. Понимаю, что многое и не так, как решили судьи о твоей виновности… Но главное-то справедливо! Ты помышлял о сепаратном владении в Сибири, о царстве Кучумовом под твоим жезлом. Сознайся! И слово мое тебе порукой: все прощено тебе будет! — неожиданно прозвучало обещание, от которого кровь кинулась в бледное, пожелтелое лицо осужденному.
— Да, да! Что глядишь так испуганно… словно безумный? Или не понял… или не веришь словам моим? Открой все по совести. Как думал… что замышлял?.. Кто были помощники и пособники тебе здесь, при мне, и там, у тебя, в Сибири? Все без утайки изложи мне одному здесь. Я давно чую, что есть заговор на меня. Силы слабеют, так надеются многие захватить власть мою. Открой их… и будешь спасен! Главная твоя вина забудется. А прочие?.. Хоть и доказаны оне, да я же сам знаю: все кругом виновны в твоих грехах. Всех же надо казнить, или тебя простить следует. Слышишь, что я сказал? Так главное мне открой! И все будет забыто. Волю тебе верну. Сына верну, дочь возвращу, добро, имения, богатства все твои получишь обратно… Слышишь? Надо всеми врагами своими посмеешься, как они теперь издеваются над тобою… Слышишь?.. Говори же… Все открой…
Горят глаза у Петра, он бледнее узника теперь, подергивается сильно, порывисто лицо, голова клонится к плечу в обычном тике. Даже тонкая полоска беловатой пены появилась и быстро сохнет в углах губ у Петра.
Молчит Гагарин. Сначала рванулась было истерзанная душа его, надежда сверкнула в очах радужными крыльями, и взмыла на этих крыльях мысль Гагарина, вырвалась на простор, на свет, на волю из этой мрачной тюрьмы, где пол обрызган его кровью, стекавшей по плечам, исхлестанным плетьми…
Но сразу потускнел загоревшийся надеждой взор, застыло лицо ожившее, на мгновенье.
Бледный призрак истощенного, чахоточного юноши скользнул легким светлым облачком во мраке полуосвещенного каземата. И тому, родному сыну, обещано было полное помилование за чистосердечное признание и раскаяние. Сын принес это раскаяние, признался даже в своих самых затаенных мыслях, против воли, быть может, назревших в глубине души под влиянием сурового обращения отца… И за эти именно помыслы, не приведенные даже в дело, не получившие осуществления, погиб Алексей…
Что же может ждать теперь он, Гагарин, если даже откроет свою душу перед инквизитором, который не только казнит по произволу, но желает еще успокоить собственную совесть сознанием своей полной правоты, убеждением в виновности казнимого…
Сразу поняв все это, опять замкнулся в себе Гагарин. И только надменно, с застывшим своим лицом, как жгучую обиду, бросил один ответ:
— Пускай умру, но не виновен ни в чем. И сознаваться мне нет нужды… и не желаю…
Медленно поднялся с места Петр, впился взором в Гагарина, сжав кулаки, нагнувшись вперед, словно готов был тут же кинуться на упорного вельможу и своими руками привести в исполнение состоявшийся приговор… Но потом, овладев собою, глухо проговорил:
— Ин, ладно! До завтра, князь!
И вышел из каземата.
Чудный летний день выдался 18 июля 1721 года, когда перед окнами Юстиц-Коллегии была устроена невысокая виселица, развернулись шпалерами войска, загремели барабаны, и князь Гагарин стал на позорном помосте, и над головой его закачалась, как змея, веревка с петлей на конце…
В одной батистовой рубахе, в коричневом камзоле и таких же коротких бархатных штанах стоит он, тупо озираясь вокруг. На ногах у осужденного шелковые тонкие чулки, но мягких сапог бархатных не дали ему, и простые, просторные лапти надел он, потому что отекли, распухли его больные ноги…
Пышный кружевной ворот рубахи раскрыт, видна еще довольно тучная, но сильно одряблелая, складками нависающая книзу грудь, волосатая, широкая.
Много народу сбежалось посмотреть на казнь. Но не различает никого Гагарин. Даже ближние ряды солдат, шпалерами окружающие виселицу, кажутся ему каким-то цветным частоколом… Но вот ожили глаза князя. Среди кучи солдат-конвойных он увидел юношу в простом матросском платье и девушку в черном иноческом одеянии.
Его дети!.. Алексей… Наташа… Их сюда привели… Их заставляют перенести эту пытку… Ему тоже приготовили последнее, самое тяжкое испытание.
Закрыл глаза старик, и впервые после двухлетней муки пыток две слезы вытекли из-под этих крепко зажатых, пожелтелых век…
Но он снова раскрыл глаза и стал глядеть в распахнутые настежь окна Юстиц-Коллегии, за которыми по приказанию Петра теснились все сенаторы, чтобы видеть «экземпель», данный им царем, позорную казнь и муку их недавнего товарища…
И, выделяясь среди всех, темнеет там постать самого Петра.
Скрестились снова взгляды осужденного и судьи…
Вихрем заклубились мысли в уме князя, тысячи чувств, воспоминаний столкнулись в стесненной груди…
Солнце так ласково, ярко светит… Так хочется жить… Спасти себя, этих бедных детей, страдающих за чужую вину… Что, если поднять руки, крикнуть?.. Исполнить то, что требовал вчера от него Петр… Если молить о прощении?..
Может быть, насытится сатанинская гордость. Дрогнет это каменное сердце и уста, точно вырезанные из дерева, произнесут слово прощения.
Уже готов был сломиться Гагарин. Но взгляд Петра, который поймал князь, был так спокойно-жесток и беспощаден, что Гагарин только выпрямился гордо и отвернулся от этих окон.
Принесли длинную рубаху-саван, накинули на князя, пролепетавшего последнюю молитву, принявшего отпущение грехов от духовника, стоящего тут же, на позорном помосте. Шелковым большим платком покрыли лицо казнимому…
Миг… Петля обвилась вокруг шеи, врезалась веревка в жирные ее покрова, сдавила сосуды, нажала на гортань…
Вытянулось, потом изгибаться, корчиться стало короткое грузное тело, словно большую рыбу на крюке вытащили из воды… Ноги задергались, заплясали в последнем отчаянном танце смерти.
И через 10 минут врач, присутствующий при казни, мог заявить, что «преступник мертв».
Но и после смерти не оставлено было в покое тело Гагарина.
Когда уж совсем разлагаться стало оно и отвратительный запах душил сенаторов, заседающих за своим судейским столом, едва упросили они Петра убрать этот страшный и омерзительный «пример».
Но недалеко был убран труп. Высокую виселицу поставили на ближней площади, и туда подвесили снова полусгнившие останки бывшего всемогущего царька Сибири. Народ с ужасом и отвращением глядел на это варварское зрелище.
В Сибирь хотел послать остатки тела Петр, чтобы там, в Тобольске, повисели они до окончательного распада на устрашение тамошним ворам и казнокрадам.
Но уж коснуться нельзя было трупа, не только везти за тысячу верст.
И тогда на рогожах перенесли эту груду гнили и костей, поместили на том же каменном столбе, где еще раньше водружены были на спицах и дотлевали теперь головы преступников, казненных по делу царевича Алексея.
Эпилог
ЖИВОЙ В МОГИЛЕ
Испуганная, проснулась среди ночи Агаша, почувствовав во сне, что кто-то стоит у ее постели.
— Хто тут!? — громко крикнула она, различив в полумгле черную высокую постать, склоненную над ней.
— Тише, я… Аль не узнала? — прозвучал знакомый голос.
— Сережа!.. Откуда? Жив еще… Господи! Два года не было. Я уж думала…
— Радовалась, што не вернусь, как и твой князь-старичина. А ты тут?.. Я, слышь, все знаю… И нынче шел, думал, застану с тобою энтого… красавчика Фединьку, офицерика, щеголя пригожего… Ну уж тогда бы…
Не договорил Задор. Но вся задрожала девушка.
— Убить его хочешь! За што?.. Господи!
— За то, не ходи пузато, не сиди на лавке, не гляди в оконце… в чужое ошшо! Да и не убил бы я ево, нет… А помаленечку, по кусочкам бы тельце белое, дворянское, холеное строгать бы стал тупыми ножами. Деревянной пилою распилил бы после пополам… А тебя заставил глядеть на забаву… Да и попу-батьке от меня не поздоровится, што дочку-шлюху унять не умеет.
— Што ты?.. Как смеешь?
— Как смею? Дура! Не смел бы, не сказал бы. Я не зря два года пропадал! За мною такая сила стоит… Свистну — и не то ваш дом, Тобольск целый по бревнушкам разнесут, подпалят мои люди со всех четырех концов и выйти никому из пожарища не дадут!.. Не то свои — и калмыцкие народы, и киргизы меня слушать станут, ежели я их на доброе дело, на разграбление города поведу. На Томский городок и то уже 5000 косорылых войной идти изготовилось. От меня знаку ждут. Да я их попридержу пока. Иное я решил теперь повершить… Старое, большое дело доделать хочу.
— Старое дело?
— Али забыла! Какая ты нынче стала беспамятная! Ласки барича ум отщибли, зацеловал девку навовсе! Ха-ха-ха…
— Оставь, Сережа. Не кори! Ежели и было што… сам подумай… Тебя нету… Слышно, убили тебя коряки, когда бунт у них был. А тут я одна. Знаешь, наше дело женское, девичье… Могла ли я противиться? Есть ли сила? Ну и…
Слезами залилась она. Не от мысли о том, как ее взяли силой, не от страха перед этим человеком, который Бог знает чего может потребовать теперь…
— Вот как! Не мил тебе энтот… Фединька-хват… Так, значит, полусилом, полуохотой побаловалась, покуль меня не было! Верить будем, девушка, што правда, коли не врешь. Да энто скоро объявится. Слушай, за каким я делом к тебе! Для подъему людей, для того, чтобы волю хрестьянскую сделать, штобы не крепи да цепи, а раздолье привольное узнали души хрещеные. На все на это денег много надо — кого задарить, чего закупить. Потому, ежели и отымем мы склады ружейные и зелейные тут и в иных городах, все мало нам будет! А я уж и пути наладил, как получить оружие и припасы воинские из чужих краев. Только денег надо… А я прослышал, клад великий положил князенька смышленый перед отбытием своим на муку и на смерть. И про те клады ты знаешь, батько твой и Юхимко-дед. Да я уж был у него.
— У деда?.. Болен он, недужен давно… помирает…
— Помер уж! Я было его спрашивать стал… Пригрозил… А он, старый сыч, возьми и помри… тут же, в одночасье… Я тогда к тебе и пробрался. Слушай! Знаешь меня! Не откроешь клада мне, созову своих дружков, вольницу удалую. Всю Салду спалим. Попа запытаю, ежели не скажет. Дружка твово вытяну из пасти у черта, не то из его жилья в Тобольске. При тебе замучаю… Ежели ты сейчас не скажешь: как взять добро гагаринское?.
Громкий веселый смех, которым разразилась девушка, поразил даже Задора.
«С ума сошла от страху!» — мелькнуло у него в уме.
Но Агаша, весело смеясь, вдруг притянула его к себе, крепко обняла, жарко зашептала:
— Глупый… милый! Столько не видались, а он пугает ранней всего… О кладах выпытывает… Да ты обойми лучше… Приласкай… Ждала ведь как… Истомилась вся! Ночей не спала. Вот и в сей час… Тебя во сне видела, а ты и разбудил. Брось… Целуй! Обнимай! Тебе ли не скажу? Все укажу, нынче же. Особливо для дела для такого. А ты меня не покинешь после?
— Кралюшка! — искренне обрадованный, полный страсти и восторга, зашептал Задор, сжимая крепко до боли в объятиях девушку. — Тебя ли кину? Сказывал и опять говорю: первою женою будешь… Царицей сделаю… Кралюшка…
Стиснув зубы, крепкими поцелуями отвечает девушка на бешеные ласки друга…
Со свечами в руках стоят оба: Задор и Агаша в первом подземелье, в недрах могильного холма. Озирается Задор: пусто кругом.
— А где же клады?..
— Здеся, здеся, миленькой… Вот я свечу подержу, а ты маленьким ломом нажми, посунь кверху энту середнюю доску в той двери тяжелой… Потом я подержу ломик, а ты и потяни за кольцо… Дверь раскроется… А тамо…
Не слушает Задор. Охваченный лихорадкой ожидания, чуя, что еще миг — и огромные богатства станут его добычей, вонзил он острый конец лома в указанное место, приподнял бревно-запор. Всею силой помогать стала ему теперь Агаша, придерживает на весу тяжелое бревно, ушедшее немного кверху…
Потянул, раскрыл дверь Задор. Пахнуло тлением из второго подземелья. Но он ничего не слышит, выхватил одну свечу из рук Агаши, зажег еще пару, вроде воскового факела, озаряет внутренность пещеры, заставленную сундуками с золотом и серебром. И вдруг блеск золота из двух каменных гробов ударил ему в глаза.
Кинулся туда хищник и даже замер от восторга. Он хорошо знает стоимость этих редкостных вещей, этих огромных самоцветов, которые и оценить трудно даже целыми грудами золота… Жадно забрал он в охапку все, что лежит в первом гробу, вместе с костями и прахом, и кинулся за дверь… к ногам девушки, которая следит за каждым его движением…
Из второго гроба вторую охапку выбросил он на первую груду сокровищ… потом дернул один небольшой ящик, с огромной натугой поднял его на грудь и кинул у самой двери, только поправее, чтобы не стояла помеха на ходу, когда потащит он другие ящики и сундуки…
Но, взявшись за второй сундук, силач понял, что не справится с этим грузом. Тогда, схватив свой ломик, Задор с сокрушающей силой обрушил первый удар на крышку тяжелого сундука, чтобы раскрыть, выбрать содержимое и увезти в мешках, которые тоже не забыл принести с собою.
Второй удар прогрохотал по сундуку… И, словно отзываясь ему, грохнула тяжелая дверь, отпущенная Агашей, захлопнулась, заключив в древней, ограбленной, поруганной могиле живого человека, оскорбителя мертвецов…
Спокойно, словно не слыша криков и стуков там, за толстой, крепкой дверью, куда безнадежно ударял заключенный своим жалким ломиком, Агаша собрала все украшения, лежащие грудой, сложила их в мешок, связала; потом сгребла в одну кучу к дверям толстый слой хвои, который за три года снова набрался здесь, насыпался через широкое отверстие дупла. Затем девушка прошла по узкому ходу и в самое дупло, оттуда еще нагребла и спустила в пещеру побольше хвои, подожгла кучу, которая весело затрещала, зазмеилась огоньками, закурилась густым, черным дымом, и сама быстро скрылась в темном ходу, волоча за собою мешок с драгоценностями.
По веревке с узлами, привязанной снаружи к ветвям Задором, выбралась она из дупла на холм, отвязала веревку, сложила ее в мешок. Еще нагребла несколько охапок хвои, бросила в дупло, наполнив его почти на аршин, затем свечой, которую осторожно несла перед собою, подожгла несколько сухих ветвей, бросила их в дупло, на хвою и скоро увидала, как густой, удушливый черный дым повалил оттуда, изо всех щелей, из-под камней, лежащих на могиле, там, где под плитами скрывался второй ход в подземелье…
Тогда только разжались побледнелые, стиснутые крепко губы девушки.
Она облегченно, протяжно и громко вздохнула, словно песню начать захотела, и даже проговорила вслух:
— А теперя к Феденьке!..
ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 1
МАНИФЕСТ О ЛИШЕНИИ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ ПРЕСТОЛА ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1718 г
Божиею милостью, мы, Петр 1-й, царь и самодержец Всероссийский и пр. и пр. и проч. Объявляем духовнаго, военнаго и гражданскаго и всех прочих чинов людям Всероссийская народа, нашим верноподданным.
Мы уповаем, что большой части из верных подданных, а особливо тем, которые в резиденциях наших и в службе обретаются, ведомо, с каким прилежанием и попечением мы сына своего перворожденнаго Алексея воспитать тщились. И для того ему от детских его лет учителей не токмо русскаго, но и чужестранных языков, придали и повелели его оным обучать, дабы не токмо в страхе Божием и в православной нашей христианской вере греческаго исповедания был воспитан, но для лучшаго знания воинских и политических (или гражданских) дел и иностранных государств состояния и обхождения, обучен был и иных языков, чтоб читанием на оных гисторий и всяких наук воинских и гражданских, достойному правителю государства принадлежащих, мог быть достойный наследник нашего Всероссийскаго престола.
Не то наше все вышеописанное старание о воспитании и обучении помянутаго сына нашего видели мы вотще быти: ибо он всегда вне прямаго нам послушания был и ни о чем, что довлеет доброму наследнику, не внимал, ни обучался, и учителей своих, от нас приставленных, не слушал, и обхождение имел с такими непотребными людьми, от которых всякого худа, а не к пользе своей научитися мог. И хотя мы его многократно ласкою и сердцем, а иногда и наказанием отеческим к тому приводили, и для того и во многие кампании воинския с собою брали, дабы обучить воинскому делу, яко первому из мирских дел для обороны своего отечества, а от жестоких боев его всегда удаляли, проча наследства ради, хотя во оных и своей особы не щадили; також иногда и в Москве оставляли, вруча ему некоторый в государстве управления для предбудущаго обучения; а потом и в чужие край посылали, чая, что он, видя там регулярныя государства, поревнует и склонится к добру и трудолюбию, но сие семя учения на камени пало: понеже не точию оному следовал, но и ненавидел, и ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонности не являл, но упражнялся непрестанно во обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубыя и замерзелыя обыкности имели.
И хотя мы, желая его от таких непотребств отвратить и ко обхождению с честными и знатными людьми склонить, увещевании своими возбудили, чтоб он избрал себе в супружество из знатных чужестранных государей свойственницу (как инде обыкновенно, тако ж и у предков наших, российских государей, чинилось, что с другими государями своились), дав ему на волю, где он излюбит. И он, улюбя внучку тогда владеющаго герцога Вольфенбительскаго, а своячену родную его величества, ныне государствующаго цесаря Римскаго, а племянницу короля английскаго просил нас, дабы мы ему оную в жены исходатайствовали и позволили на ней жениться; что мы и учинили, не пожалея на сие супружество многих иждивений. Но по совершении того супружества (от котораго мы чаяли особливаго плода и перемены худых обычаев и поступок его, сына нашего), усмотрели мы весьма противное той надежды нашей: ибо хотя оная супруга его, сколько мы усмотреть могли, была ума довольнаго и обхождения честнаго, и он ее по своему избранию взял; но однако ж он с нею жил в крайнем несогласии и еще вящше умножил обхождения с непотребными людьми, на стыд дому нашему перед чужестранными государи, с тою супругою его свойственными, в чем нам великия жалобы и нарекания были; и хотя мы его частыми напоминании и увещевании к правлению приводить трудились, но все то не успевало. На последи он, еще при той жене своей, взял некакую бездельную и работную девку и е оною жил явно беззаконно, оставя свою законную жену, которая потом вскоре и жизнь свою скончала, хотя и от болезни, однако ж не без мнения, что и сокрушение от непорядочнаго его жития много к тому вспомогло.
И видя мы его упорность в тех его непотребных поступках, объявили ему на погребении помянутой жены его, что ежели он впредь следовать нашей воле и обучаться тому, что бы наследнику государства пристойно, не будет, то его лишим наследства, не смотря на то, что он у меня один (ибо тогда еще другаго сына не имел), и дабы он на то не надеялся, понеже мы лучше чужаго достойнаго учиним наследником, нежели своего непотребнаго: ибо не могу такого наследника оставить, которы бы растерял то, что через помощь Божию отец получил, и испроверг бы славу и честь народа российскаго, для котораго я здоровье свое истратил, не жалея в некоторых случаях и живота своего; к тому же и боясь суда Божия вручить такое правление, знав непотребнаго к тому, увещевая его с многими обстоятельствы, как ему поступать в пути добродетели надлежит; и дал ему время на исправление.
И хотя он на то ко мне ответствовал, признавая себя во всем том винна и представляя, что будто он, за слабостью своего здравия и ума, труда понести во обучениях потребных не может и для того сам себя за недостойна наследства признавает и оттого отреченна себя иметь просит, но мы, увещевая его родительски и угрожая, и прещением трудились его на труд добродетели обратить; и по отъезде своем, для воинских действ в датскую землю, оставили его в Санктпитербурхе, дав ему время на размышление и поправление. Но потом слыша о прежних его непотребных без нас поступках, писали к нему, чтоб он был к нам в Копенгаген, для присутствия в кампании военной и лучшаго обучения.
Но он, забыв страх и заповеди Божия, которыя повелевают послушну быть и простым родителям, а не то что властелинам, заплатил нам толь многая вышеобъявленныя наши родительския о нем попечения и радения неслыханным неблагодарением: ибо вместо того, что к нам ехать, забрав с собою денег и помянутую женку, с которою беззаконно свалялся, уехал и отдался под протекцию цесарскую, объявляя многая на нас, яко родителя своего и государя, неправдивыя клеветы, будто мы его гоним и без причины наследства лишить хотим, и яко бы он от нас в животе своем небезопасном, и просил онаго, дабы его не токмо от нас скрыл, но и оборону свою против нас и вооруженною рукою дал. И какой тем своим поступком стыд и безчестие перед всем светом нам и всему государству нашему учинил, то всяк может разсудить, ибо такого приклада и в историях сыскать трудно! И хотя его цесарское величество о его непотребных поступках и как он с свояченною его, а с своею женою, жил, известен был; однако ж, по его многому домогательству, дал ему место к пребыванию, где он просил себя так тайно держать, дабы мы о нем ни малого известия получить могли. И когда мы, по долгом его в пути медлении, признали, что то не просто, родительски о нем соболезнуя и опасаясь, не прилучилось ли ему в пути несчастия, послали его искать в разные пути: и по долгом труде осведомились о нем, через посланнаго нашего от гвардии капитана Александра Румянцева, что он в некоторой цесарской крепости в Тироле тайно содержится. И потому писали мы собственноручно к цесарю, прося онаго о присылке его, сына нашего, к нам. И хотя цесарь к нему посылал, представляя ему то наше желание и увещевая, дабы ехал к нам, повинуясь воле нашей, яко родителя и государя; но он многими неправдивыми на нас клеветами цесарю представлял, чтоб его он в руки наши, аки некакого ему неприятеля и мучителя, не отдавая, от котораго будто он чает пострадать смерть, и к тому склонил, что тогда его к нам не посылал, но наипаче по прошению его, отослал в дальняя места владения своего, а именно в Италии лежащий город Неаполь и содержал его тамо в замке, под иным именем, секретно.
Однако ж мы, через помянутаго ж капитана нашего от гвардии, уведав о его там пребывании, послали к цесарю тайно советника нашего Петра Толстого, да помянутаго ж капитана от гвардии Румянцова, с граматою в крепких изображениях писанною представляя, коль неправо бы то было, ежели бы он сына нашего противно божественных и гражданских прав, удержать похотел, по которым и простые родители, а не то что самодержавный государь, яко мы, полную власть без всякого суда над детьми своими имеют, и представляя правые и добродетельные к нему, к сыну нашему, поступки и против того его противности, и на последок объявляя, какия злыя следования из того удержания и ссоры между нами произойтит могут: ибо мы того так оставить не можем, наказав вышеупомянутым нашим посланным еще и жесточае того говорить на словах, и что мы всякими способы и образы принуждены будем то удержание сына нашего мстить. И притом писали собственноручно и к нему, к сыну нашему, представляя ему тот богомерзкий поступок и преступление перед нами, яко родителем, за которое Бог в заповедях своих непокорливых чад угрожает вечною смертию казнити; и угрожая притом его родительскою нашею клятвою, тако ж и представляя, яко его государь, объявить его, ежели не послушает и не возвратится, за изменника отечествию, и при том обнадеживая, ежели воли нашей повинуется и возвратится, прощением того его преступления.
И те наши посланные от цесаря позволение по многим домогательствам и по тому письменному нашему и изустному их представлению, к нему, сыну нашему, ехать и его склонить в возвращению; и при том им было объявлено от цесарских министров, какия будто ему от нас гонения и опасности живота его были, о которых он цесарю доносил и для того к сожалению привел, что оный его в свою протекцию принял, и что увидя наши подлинныя и честныя представления, повелит цесарь его всяким образом из своей стороны к возвращению к нам склонить, со объявлением, что он его против всякой правости от нас, яко от отца, удерживать и за то с нами в ссору придтить не может.
Но хотя те наши посланные наше собственноручное писание, приехав, вручить ему желали; но оные к нам писали, что он их к себе сначала и допустить не хотел; но от вицероя цесарскаго к тому ж таким образом приведен, что он его позвал к себе в гости; потом, противно воле его, их ему представил; но он, и приняв от них ту нашу грамоту и отеческое увещевание, с угрожением клятвы, нималой склонности к возвращению не явил, но отговаривался, представляя на нас многая несправедливыя клеветы, как будто он за многими от нас опасностьми не может и не хочет возвратиться, хвалясь, что цесарь его обещал против нас не токмо охранять и оберегать, но и противно воле нашей престола российская) и вооруженною рукою доставить; что видя, те наши посланные употребляли всякие способы его к тому возвращению наговорить, как добродетельными от нас обнадеживаниями, так и прещением и угрозами, и что мы его и вооруженною рукою отьискивать будем, и что цесарь за него с нами войны иметь не похочет, и прочая. Но он за все то не посмотрел и не склонился к нам ехать, пока уже видя сию его упорность, цесарский вицерой ему именем цесарским представлял, чтоб он к нам ехал, объявляя, что цесарь ни по какому праву его от нас удержать не может и при нынешней с Турки, тако жив Италии с Гишпанским королем войне, с нами в ссору вступать не может, и про что он увидя и опасаясь, чтоб противно воле его нам не выдали, уже склонился к нам ехать и объявил о том тем нашим посланным, тако ж и цесарскому вицерою, и к нам о том, признавая преступление свое, оттуды писал повинную, с которой при сем список приобщается, и тако сюда ныне приехал.
И хотя он, сын наш, за такия свои противныя, от давних лет против нас, яко отца и государя своего, поступки, особливо ж за сие на весь свет приключенное нам безчестие через побег свой и клеветы, на нас разсеянныя, яко злоречивый отца своего и сопротивляяся государю своему, достоин был лишения живота; однако ж мы, отеческим сердцем о нем соболезнуя, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания его освобождаем. Однако ж, в разсуждении его недостоинства и всех вышеписанных и непотребных обхождений, не можем по совести своей его наследником по нас престола российскаго оставить, ведая, что он, по своим непорядочным поступкам, всю полученную по Божией милости нашими неусыпными трудами славу народа и пользу государственную утратит, которую с таким трудом мы получили и на токмо отторгнутыя от государства нашего от неприятелей провинции паки присовокупили, но и вновь многая знатные городы и земли к оному получили, тако же народ свой во многих воинских и гражданских науках к пользе государственной и славе обучили, то всем известно.
И тако мы, сожалея о государстве своем, и верных подданных, дабы от такого властителя наипаче прежняго в худое состояние не были приведены, властию отеческою, по которой, по правам государства нашего, и каждый подданный наш сына своего наследства лишить и другому сыну, которому хочет, определить волен, и яко самодержавный государь для пользы государственной, лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления, наследства по нас престола нашего Всероссийскаго, хотя б ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем по нас помянутаго престола наследником другого сына нашего, Петра хотя еще и малолетна суща: ибо иного возрастнаго наследника не имеем. И заклинаем преждепомянутаго сына нашего Алексея родительскою нашею клятвою, дабы того наследства ни в которое время себе не искал и не претендовал. Желаем же от всех верных наших подданных, духовнаго и мирскаго чина, и всего народа всероссийскаго, дабы,
по сему нашему изволению и определению, сего от нас назначеннаго в наследство сына нашего Петра за законнаго наследника признавали и почитали, и во утверждение сего нашего постановления, на сем обещанием перед Святым олтарем над Святым Евангелием и целованием Креста утвердили. Всех же тех, кто сему нашему изволению в которое нибудь время противны будут и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том вспомогать станут и дерзнут, изменниками нам и отечеству объявляем. И сие для всенародного известия повсюду объявить и разослать повелели.
Дан в Москве, 1718 году, февраля в 3-й день за подписанием нашей руки и печатию. Петр.
№ 2
РАЗСУЖДЕНИЕ ДУХОВНОГО ЧИНА О ЦАРЕВИЧЕ АЛЕКСЕЕ, 18 ИЮНЯ 1718 г
Смотря на тяжкую вину сыновнюю, подобно Авессалому, на отца своего возставшему, еще же к тому смотря на лицо обидимое, которое есть отец и государь, полномочную власть над сыном имущий, не дерзаем сицеваго дела разсуждением своим определительно касатися: ибо сие дело весьма есть гражданскаго суда, а не духовнаго, и власть превысочайшая, а наипаче в царствии, которое есть монархиа, суждению подданных своих не подлежит, но творить, елико хощет, по своему изволению, без всякаго совета степеней низших; однако ж, понеже велено нам, не на декрет, но в наставление, поискати от Священных Писаний образцов и статей, сему делу приличных; того ради, повеление монаршеское исполняючи, мы, вси здесь в царствущем великом граде, в Санктпитербурхе ныне присущие и нижеподписанныи духовныя лица, приискали от Священных Писаний то, что возменялося нам быти сему ужасному и безприкладному делу сообщно:
I) Отцеругатель, сын Ноев проклят был от отца и рабом братома своима осужден! (Бытия, гл. 9).
II) Заповедь Божия: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и долголетен будеши на земле». (Исход, 20).
Князю людей твоих не речеши зла. (Исход, 22).
III) Аще хто злоречит отцу своему или матери своей, смертию да умрет. (Исход, гл. 21). — Тожде пишется и в книгах Левит. Во гл. 20. Тожде и Сам Христос вспоминает, у Матфея, во гл. 15 и у Марка во гл. 7-й.
IV) Аще кому будет сын непокорив и губитель, непослушаяй гласа отца своего, и гласа матери своея, и накажут его и не послушает их, да поймет отец его и мать его и да изведут его пред старцы града своего и пред враты места своего и да рекут к мужем града своего: «Сын наш сий непокорив есть и губитель и не послушает речи нашея, ветуя пиянствует, и да побиют и мужи града сего камением и да умрет; и да измете злое от себе сами, да и друзие, слышавши убоятся». (Второй Закон, гл. 21).
V) Злословяй отца или матерь, угашает светильник свой (Притчи Соломоновы, гл. 20).
VI) Делом и словом чти отца своего да найдет ти благословение от него: благословение бо отчее утверждает дом чад, клятва же материя искореняет основание (Сирах, гл. 3). Там же, нисше: «Чадо, заступи в старости отца своего и не скорби его в животе его».
VII) Людие израильтестие, бывши в плене Вавилонском, собраша серебро и послаша во Иерусалим, ко Иоаки-му, жрецу великому и ко всем людем, и рекоша: «Се послахом к вам серебро, да купите на сребре всесожжение за грех и фимиам и сотворите требу и вознесете на требник Господа Бога Нашего и молитеся за житие Навуходоносора, царя вавилонскаго и за житие Валтасара, сына его, да будут дни их, яко дние небесные». (Варух гл. 1).
VIII) Мардохей, слышав помышление евнухов царских, и иже стрежаху двор, и разуме, яко готовят руце свои убити царя Артаксеркса, и сказа царю, яже они помышляют; и испыта я царь, и исповедашася, и повешаны быша. (Книга Эсфири, гл. I).
IX) О Авессаломе ведома история в Книгах 2-х царств. Гл. 15, 16, 17, 18. И сия убо поелику возмогохом воспо-мянути от священных писаний Ветхаго Завета.
От Новаго Завета.
I) Сам Христос бысть повинуясь отцу мнимому, Иосифу и матери своей. (Лука, гл. 2). И кинсон повеле даяти Цесарю. (Матф., гл. 22 и 17).
II) Аще хощеши внити в живот, соблюди заповеди, еже не убиеши, не прелюбы сотвориши, не лжесвидетельствуеши, чти отца и матерь, и возлюбиши искренняго своего, яко сам себе. (Матф., гл. 19).
III) Иже аще речет брату своему: «Рака!» — повинен будет сонмищу. (Матф., гл. 5).
IV) Яко раби Божий всех почитайте, братство возлюбите, Бога бойтеся, царя почитайте, раби, повинуйтеся во всяком страсе владыкам, не токмо благим и кротким, но и строптивым: се бо есть угодно пред Богом. (Поел. I Петра Апост., гл. 3).
V) Всяка душа властем предержащим да повинуется: несть бо власть, аще не от Бога; сущие же власти от Бога учинени суть; тем же противляяйся власти, Божию повелению противляется; противляющи же себе грех приемлют; князи бо не суть боязнь добрым делом, но злым. Хощеши ли не боятися власти, благое твори, и имети будеши похвалу от него: Божий бо слуга есть, тебе во благое. Аще же злое твориши, бойся: не бо без ума меч носит. Божий бо слуга есть отмститель во гневе злое творящему. (К римляном, гл. 13).
VI) Чада, послушайте своих родителей о Господе: сие бо есть праведно, чти отца своего и матерь, яже есть первая заповедь во обетовании, да благо ти будет, и будеши долголетен на земли, и отцы не раздражайте чад своих, но воспитовайте и в наказании и учении Господни. Раби, послушайте господий своих по плоти, со страхом и трепетом, по простоте сердца вашего, якоже и Христа; не пред очима точию работающе, яко человекоугодницы, но яко же раби Христовы, и творяще волю Божию от души с благоразумием служаще, яко же Господу, а не яко человеком. (К эфессфом, гл. 6). Тожде пишет и во послании к колоссаем, в главе 3-й.
VII) Воспоминай, тем начальствующым и владеющым повиноватися и покорятися, и ко всякому делу благу готовым быти. (Тит., гл 3).
Поместного собора, иже в Гангре, правило, 14. — Аще которое чадо родители свои, паче же верные суща, оставляше, отходит изветом благоверия и подобные чести не воздают родителям своим, честнее творяще мнимая от них благочестие да будут прокляти.
Златоуст Святой, в слове 1-м о Анне пророчице, матери Самуиловой, сице глаголет: «Не токмо, еще родити, творит отца, но чинно воспитати, ниже родити, но чинно воскормити — мати творит, и сие истинно, яко не естество, но добродетель отцев творит, исповедят родители сами. Воистину бо часто, егда видят сынов злых нравов и рожденных в злобе, от числа своих сродников измещут, отчуждают и иных себе усыновляют, еже и не единою близостью бяху сопряжени, и может ли что от сего быти чудеснее, яко их же родиша, отмещут, и их же не родиша, приемлют?.. Не без вины сие рекошася нами, но да увеси большую силу соизволения, нежели естества, и яко оная паче, нежели сие обыче отцев творити: Божьяго бо смотрения сие есть дело, да и чад, от естественной любви отдаленных, не оставит, но ниже паки вся си попустит. Аще бо кроме всякой потребы естественной чада своя отцы любили бы, но токмо за добрые обычаи и дела многие б за невежество свое изгнаны были и весь род человеческий разсыпан и расточен был бы. Аще же паки единой добродетели попустили ли бы и беззаконных ненавидити не повелел, но от них обезчещены и многая злая пострадавши, естественною нуждою обязани, сыном противным и безчестящым и беснующымся ласкатиси, не преставали, к последнейшему безумию род человеческий пришел бы. Ибо аще ныне уже егда весьма на естество возлагатися не могут сынове, во многих ведят злобны от дому и имения отеческих отпадших, обаче часто надеющееся на родительскую любовь, оных обезчещают. Аще бо не повелел Бог сицевых воспящати и отмщеватися и злобствующих от себя отчуждати, какового бы беззакония не дерзнули сотворити?.. Сия ради вины и на нужды естественны и на обычаях сыновних, любви отеческой утверждатися повелел Бог, да мерно и мало согрешающим чадам, по званию естественной любви, прощают; злых же и неуврачеванною язвою болезнующих наказуют, дабы снисходительством своим всяких злоб их не научили. Коликое убо есть смотрение Божие, понеже и любити чада повелевает и любви предел полагает?»
Сию выписку сделали мы, духовныя лица, от Священных Писаний, по указу монаршескому, обаче не в приговор, ниже для издания декрету, яко же выше речеся, ибо сие дело не нашего есть суда: кто бо нас судей постави над теми, иже нами обладают? Како главу наставляти могут удове, иже от нея наставляеми и обладаеми? К сим же суд наш духовный по духу должен быти, а не по плоти и крови; ниже вручена есть духовному чину власть меча железнаго, но власть духовнаго меча; иже есть глагол Божий: Сам Христос верховному апостолу запретил меча употребляти. «Вонзи, — рече, — нож твой в ножницы твоя». И паки иным апостолом запретил огнь с небеси сводити на пожжение самарян. Сими образы хотел Христос научити, яко духовным лицам не подобает духом ярости, но духом кротости поступати, ниже на смерть чию настояти, ниже крови искати, но единаго истиннаго покаяния и смерти духовныя, яже есть мертвым быти греху, живым же — Богови, по глаголу апостольскому. (К римляном, гл. 6).
Вся же сия превысочайшему монаршескому разсужденшо с должным покорением подлагаем, да сотворит Господь, что есть благоугодно пред очима Его: аще по делом и по мере вины восхощет наказати падшаго, имати образцы, яже от Ветхаго завета вышеприведохом; аще благо изволит помиловати, имать образ Самого Христа, Который блуднаго сына кающагося восприял, жену в прелюбодеянии яту и камением побиения по закону достойную, свободно отпусти, милость паче жертвы превознесе. «Милости, — рече, — хощу, а не жертвы!..» И усты апостола Своего рече: «Милость хвалится на суде». Имать образец и Давида, который гонителя своего, сына Авессалома хотяша пощадети: ибо вождям своим, хотящим на брань противу Авессалома изыти, глаголаше: «Дощадите ми отрока моего, Авессалома!» (В кн. Вторых Царств, гл. 18). И отец убо пощадети хотяше, но само правосудие Божие не пощадело есть того. Кратко рекше: сердце Царево в руце Божией есть. Да изберет тую часть, аможе рука Божия того преклоняет.
1718 г. юня 18. Подписи: Смиренный Стефан, митрополит Рязанский. Смирен. Феофан, епископ Псковский, Смиренный Алексий, епископ Сарский, Смирен. Игнатий, епископ Суждальский. Смирен. Варлаам, еписк. Тверской. Смирен. Аарон, еписк. Корельский. Смирен, митрополит Савропольский Иоанникий. Смирен, митрополит Фиваидский Арсеншь Феодосии, архимандрит Троицкаго Алекс. — Невскаго монастыря. Иоаким, архимандрит Антониевскаго монастыря Римлянина. Иоанникий, архимандрит Воскресенскаго Деревяницкаго монастыря. Кириллова монастыря архимандрит Иринарх руку приложил. Иеромонах Гавриил, профект и проповедник Слова Божия. Иеромонах Маркелл, учитель.
№ 3
ПОКАЗАНИЯ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ ПЕРЕД СЕНАТОМ 17 ИЮНЯ 1718 г
Резидент цесарский Блеер писал к вице-канцлеру имперскому Шонборну: «Призывал де его, Блеера, в Санктпитербурхе Авраам Лопухин и спрашивал его, Блеера, „где-де обретается ныне царевич и есть ли де об нем ведомость?“ И при том ему объявил: „за царевича-де здесь стоят и заворашиваются-де уже кругом Москвы для того, что де об нем, царевиче, разных ведомостей много; мне-де хочется ведать, подлинно у вас ли де ныне царевич обретается?“ И то де Блеерово письмо было приложено к письму графа Шонборна, которое он, Шонборн, писал к нему, царевицу в апреле; и он-де, царевич, то приложение, прочтя, сжег; и когда-де он, царевич, девке Афросинье сказывал, что близ Москвы есть бунт, и то из той вышеупомянутой ведомости, а что о Аврааме Лопухине он, Блеер, к нему, Шонборну, писал, того он ей, девке, не объявил. Он же, царевич, сказал, что-де Иван Афанасьев на него, царевича, сказал о черни, как о том объявлено в подлинной выписке, и он-де, царевич, надеялся на чернь, слыша от многих, что его, царевича, в народе любят, а имянно-то Сибирскаго царевича, и от Дубровскаго, и от Никифора Вяземскаго, и от отца своего духовнаго протопопа Якова, который ему говаривал, что-де „меня в народе любят и пьют про мое здоровье, говоря и называя меня надеждою российскою“.
А потом, отведши светлейшаго князя Меншикова, Петра Павловича, Петра Андреевича, Ивана Ивановича {Петр П. Шафиров, П. Андр. Толстой и Ив. Ив. Бутурлин.}, и говорил им: „К тому же де имел он надежду на тех людей, которые старину любят так, как Тихон Никитич“ {Тихон Никитич Стрешнев.}.
А познавал-де их из разговоров, когда с ними говаривал, они-де старину хвалили, а больше-де в том подали ему надежду слова Василия Долгорукова, когда ему говорил: „Давай-де отцу своему писем отрицательных от наследства, сколько он хочет!“, о чем ясно в первом его, царевича, повинном письме написано. К тому ж де говорил мне, что я умней отца моего, и что отец мой хотя и умен, только людей не знает; а о мне-де говорил: „Ты-де умных людей знать будешь лучше“. Алексей.
А про князя Василья (Долгорукий), что он матерно лаял отца моего, от него я сам не слыхал; а слыхал от других, а от кого не упомню. (Приписка собственной рукой царевича).
О прочих словах объявлено в первом письме. А надежду имел от слов многих людей, а имянно: от отца духовнаго Якова, Никифора Вяземскаго, Сибирскаго царевича, Дубровскаго и от Ивана Афанасьева (камердинер), что меня в народе любят, а Яков сказывал, что и пьют про здоровье надежды российской… И на народ надеялся на всякое время всегда; а на архиерея рязанскаго надеялся по предике видя его склонность к себе, потому, хотя я с ним ничего, кроме того, что я объявил, и не говаривал. А о Петербурхе — пьяной говаривал, в такой образ, когда зашли далеко в Копенгаген, то, чтоб не потерять, как Азова; а какими словами говорил, того не помню. (Приписано рукой Алексея в Сенате).
II. 1718 г. июня в 19 день, царевич Алексей с розыску сказал: „На кого-де он в прежних своих повинных написал и пред сенаторами сказал, то все правда, и ни на кого не затеял и никого не утаил. Он же пополнил: прежде сего, как был у него, у царевича, в Питербурхе, духовник его Яков Игнатьев и он-де, царевич, у него исповедывался и на той исповеди сказал ему, Якову: „Я-де желаю отцу своему смерти“. И он-де, Яков, сказал: „Бог тебя простит. Мы-де и все желаем ему смерти“. Также сам он, царевич, хотел учинить бунт и к тем бунтовщикам приехать, даже при животе отцове, и не жалея ничего, доступить трона“.
Дано ему, царевичу, 25 ударов.
Да июня ж 24 дня царевич Алексей спрашивай в застенке о всех его делах, что он на кого написал своеручно…
Киевскому митрополиту он писал, сказал царевич, чтобы тем привесть в возмущение тамошний народ. А дошло ли письмо до рук митрополита, того царевич не знает, и писем от него, митрополита к царевичу в побеге его не бывало»…
А с розыску сказал то ж, что и выше сего; а больше ничего не знает и никого не таит и не клеплет. Дано ему 15 ударов…
№ 4
ПРИГОВОР МИНИСТРОВ, СЕНАТОРОВ, ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧИНОВ, ЗА СОБСТВЕННОРУЧНОЮ ПОДПИСЬЮ, ПО ДЕЛУ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ, 24 ИЮНЯ 1718 ГОДА
1718, июня, 24, по выше писанному его царскаго величества имянному и за собственноручным подписанием сего текущаго июня в 13-й день данному указу, о суде царевича Алексея Петровича, в противностях против отца и государя его, нижеподписавшиеся министры, Сенат и стану воинскаго и гражданскаго, по неколикократном собрании в палате Правительствующаго Сената в Санкт-Питербурхе, слушав неоднократно выписки и подлинных во свидетельство им объявленных его царскаго величества к царевичу Алексею Петровичу писанных увещевательных писем и его, царевичевой, рукой на то учиненных на то же на письме ответов, и прочих во освидетельствование того дела принадлежащих розыскных актов или записок, и повинных его, царевичевых, собственноручных писем, и изустных как государю отцу своему, так и пред нами, яко учрежденными по его величества изволению судьями, учиненных объявлений (хотя им, яко его царскаго величества самодержавию принадлежащих, природным подданным по правам государства Всероссийскаго, того чинить отнюдь не надлежало, но то все ни от кого, кроме Бога Всемогущаго, в зависящей и никакими правы описанной и определенной его царскаго величества самодержавной власти и воле, по достоинству состоит, однако ж, повинуясь выше объявленному повелению царя и государя своего, то дерзновение приемля), — по здравому разсуждению и по христианской совести, не посягая и не похлебствуя, и не смотря на лицы, по прежде объявленным к сему делу приличным Божиим заповедям Ветхаго и Новаго Завета, Священным Писаниям Святого Евангелия и Апостол, тако ж и из канонов и правил Соборов Святых отец и у церковных учителей (приняв при том в помощь разсуждение от архиереев и проч. духовнаго чина, при Санкт-Петербурхе по указу его царскаго величества собранных, выше сего объявленное), — тако ж и по правам всероссийским, а имянно по уложению и по воинским артикулам и по вышеобъявленным в деле статьям (которыя права согласны со многих государств, а особливо древних римских и греческих цесарей, и прочих христианских государей с правами), — по предшествующим голосам, единогласно и без всякаго прекословия согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за вышеобъявленные все вины свои и преступления главныя против государя и отца своего, яко сын и подданный его величества, достоин смерти: потому что хотя его царское величество ему, царевичу, в письме своем с господином тайным советником Толстым и капитаном от гвардии Румянцевым, от 10 числа июля, 1717 г. из Спаа писано, обещал прощение в побеге его, ежели добровольно возвратится, как он царевич, и сам то в своем ответном на то письме из Неаполя от 4-го дня октября того же 1717 года с благодарением объявляет, что он за данное ему в самовольном его (токмо) побеге прощение благодарствует; но как он и того себя тогда ж недостойна сочинил, о том купно при иных его преступлениях и противностях против государя, отца своего, довольно объявлено в выданном о том от его царскаго величества от 3 числа февраля сего же году прежнем манифесте, а именно, что он поехал не добровольно. И хотя его царское величество, милосердствуя о нем, сыне своем, родительски, при данной ему на приезде с повинною в Москве в Столовой палате 3-го числа февраля ауденции обещал прощение во всех его преступлениях, однако ж то учинить изволил с таким ясным выговором, что ежели он, царевич, все то, что он по то число против его величества делал или умышлял, и о всех особах, которыя ему в том были советниками и сообщниками или о том ведали, без всякой утайки объявит, а ежели что или кого-либо утаит, то обещанное прощение не будет ему в прощение; что он по-видимому тогда приняв с благодарными слезами, обещал клятвенно, все без утайки объявить, и то потом и крестным и Святого Евангелия целованием с соборной церкви утвердил.
Но хотя его царское величество и сверх того, в подтверждение тому, на другой изволил ему, царевичу, то ж все собственноручно при вопросительных своих о том пунктах, о которых в выписке объявлено, объявить (и в начале оных изволил написать по сему: «Понеже вчерась прощение получил в том, дабы все обстоятельствы донести своего побегу и прочаго тому подобнаго; а ежели что утаено будет, то лишен будет живота». На что о некоторых причинах царевич сказал словесно, но для лучшаго, чтобы очистить, письменно, по пунктам нижеписанным); а при заключении от его же величества в 7-м пункте: «Все, что к тому делу касается, хотя чего здесь и не написано, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди; ежели же что укроешь, а потом явно будет, на меня не пеняй, понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон».
Но он, царевич, на то в ответ и на повинном своем письме ответствовал весьма неправдиво и не токмо многая особы, но и гланейшие дела и преступления, а особливо
умысел свой бунтовный против отца и государя своего и намеренный с издавшие лет подыск и произыскивание к престолу отеческому и при животе его, через разные коварные вымыслы и притворы, и надежду на чернь, и желание отца и государя своего скорой кончины, о чем всем потом по розыскам явилось, как выше сего в выписке объявлено, утаил; по которым его, царевичевым, всем поступкам и изустным и письменным объявлениям и по последнему от 22-го июня сего году собственноручному письму явно, что он, царевич, не хотел с воли отца своего наследства прямого и от Бога определенною дорогою и способы, по кончине отца своего государя, получить; но — чиня все ему в противность, намерен был против воли его величества, по надежде своей, не токмо через бунтовщиков, но и через чужестранную цесарскую помощь и войска, которыя он уповал себе получить, и с раззорением всего государства и отлучением от оного того, чего бы от него за то ни пожелали, — при животе отца своего государя достигнуть.
И явно по всему тому, что он для того весь свой умысел и многие ему в том согласующиеся особы таил до последняго розыску и явнаго обличения в намерении таком, чтобы впредь то богомерзское дело против государя отца своего и всего государства, при первом способном случае, в самое дело производить. И тем всем царевич себя весьма недостойным того милосердия и обещаннаго прощения отца своего учинил; что и сам он, как в прибытии отца своего государя, при всем вышепомянутом всех чинов духовных и мирских и всенародном собрании, признал, так и потом, при определенных от его величества, нижеподписавшихся судиях, и изустно и письменно объявил, что все выше сего в деле явлено.
И так, по вышеписанным Божественным, церковным, гражданским и воинским правам, которые два последний, а именно гражданския и военныя, не токмо за такое через письма и действительные происки против отца и государя, но хотя б токмо против государя своего, за одно помышление бунтовное, убивственное, или подыскание к государствованию, казнь смертную без всякой пощады определяют, коль же паче сие сверх бунтовнаго, мало прикладное в свете, богомерзкое, двойное родителю убивственное намерение, а именно вначале на государя своего, яко отца отечествия, и по естеству на родителя своего милостивейшаго (который от юных лет его, царевичевых, паче нежели с родительским попечением и любовью, ко всяким добродетелям его воспитал и к правительству и воинским делам обучать и производить и достойно к наследствию такого великаго государства с неусыпными трудами его сочинить тщился), — такую смертную казнь заслужило. Хотя сей приговор мы, яко раби и поддании, с сокрушением сердца и слез излиянием изрекаем, в разсуждении, что нам, как вышеобъявлено, яко самодержавной власти подданным, в такой высокий суд входить, а особливо на сына самодержавнаго, всемилостивейшаго царя и государя своего оный изрекать недостоило было; но однако ж по воле его то сим свое истинное мнение и осуждение объявляем с такою чистою и христианскою совестью, как уповаем не постыдни в том предстать пред страшным, праведным и нелицемерным судом Всемогущаго Бога, подвергая впрочем сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердное разсмотрение его царскаго величества всемилостивейшаго нашего монарха. Подписи: Александр Меншиков. Генерал-адмирал граф Апраксин. Канцлер, граф Гаврило Головкин. Тайный советник князь Яков Долгорукой. Тайный советник граф Иван Мусин-Пушкин. Тайн. сов. Тихон Стрешнев. Сенатор граф Петр Апраксин. Подканцлер и тайн. сов. барон Петр Шафиров. Т. сов. от лейб-гвардии капитан Петр Толстой. Сен. князь Дмитр. Голицын. Генерал Адам Вей-де. Ген. — поруч. Иван Бутурлин. Т. сов. граф Андрей Матвеев. Сен. князь П. Голицын. Сен. Мих. Самарин. Ген. — маеор Григ. Чернышев. Ген.-м. Иван Головин. Ген.-м. князь П. Голицын. Ближний стольник, князь Ив. Рамо-дановский. Боярин Алексей Салтыков. Губерн. Сибирский князь Матвей Гагарин. Боярин П. Бутурлин. Московск. губерн. Кирилло Нарышкин. Бригадир и гвардии маеор Волков Михайло. Гв. Преображенск. полку маеор князь Гр. Юсупов. Ген. — маеор и капитан от гвардии Пав. Ягужинский. От гвардии маеор Сем. Салтыков. От гвардии маеор Дмитриев-Мамонов. Гвардии Преображен, полку маеор Вас. Корчмин. Бригадир и генер. ревизор Вас. Зотов. Полковник Герасим Кошелев. Стольник Федор Бутурлин. Полк. Гаврило Норов. Окольничий, князь Юрий Щербатой. Санкт-Питербурхский вице-губерн. Степан Клокачов. От лейб-гвардии маеор Ушаков. От бомбардир капитан-поручик Скорняков-Писарев. От лейб-гвардии капитан князь Борис Черкасской. Архангелогородский вице-губерн. П. Лодыженский. Полков. Иван Стрекалов. Азовской губернии вице-губерн. Ст. Колычев. Гвардии капитан Петров-Соловово. От гвардии капитан Алесандр Румянцев. От гвардии капитан Семен Федоров. Ген. — полицыймейстер и ген. адъютант его ц. в-ва Антон Девиер. Гвар. капитан Лев Измайлов. Гв. капит. князь Ив. Шаховской. От гв. капит. Вельяминов-Зернов. Полк. П. Савелов. Гв. капитан Ив. Лихарев. Гв. капитан Ив. Захаров. Гв. капитан Алексей Басков. Стольник Дм. Бестужев-Рюмин. Полк, князь Вас. Вяземский. От флота поручик Ив. Шереметев. Князь Сергей княж Борисов сын Голицын. Стольник, князь Семен Сонцев-Засекин. От л. — гв. капит. князь Гр. Урусов. Стольник, князь Алексей Черкасский. Стольн. Матвей Головин. Полк. Долгорукой. Стольн. Леонтий Мих. сын Глебов. Полк, князь Ив. Барятинский. Стольн. Борис Неронов. Степан Нелединский-Мелецкой. От флоту цоруч. Вас. Шереметев. Стольн. Вас. Ржевский. Полк, и от лейб-гв. капит. Коншин. Капитан-поруч. Александр Лукин. Гв. подпоруч. Стефан Сафонов. Гв. поручик Федор Полонский. Адьютант Мих. Чебышов. От гв. капитан-пор. Друманд. Голенищев-Кутузов. Подполк. Ив. Бухгольц. От гв. капит. Ф. Митрофанов. От гв. капит. Иван Карпов. От инфант, подполк. Ст. Козодавлев. Полк. Ив. Колтовской. Полк, и Санкт-Питербурхской каменд. от л. — гв. капитан Яков Бахмеотов. Полк. Илья Лутковской. Полк, князь Мих. Щербатой. Полк. Артемий Загряжской. Гв. пор. Ив. Козлов. Гв. Бахметев. Гв. капитан Алексей Панин. От гв. капит. Вас. Парасуков. Гв. поруч. Ф. Волков. Гв. поручик Авр. Шамордин. Ген. — адъют. Ив. Полянской. От гв. прапорщик Ив. Веревкин. Гв. подпоруч. А. Танеев. От гвар. и от бомбардир подпор. Вас. Языков. От лейб-гв. капитан-поручик Пашков Егор. Обор-комиссар А. Зыбин. Поместного Приказу судья Кир. Чечерин. Ген. — квартирместр и обор-кригс комиссар Мих. Аргамаков. От гв. кап. — поруч. А. Бибиков. Подполк. Вас. Титов. Подп. Г. Козлов. Плац-подполк. А. Кисилев. Подп. Мих. Аничков. Подп. Наум Чоглоков. Подп. В. Батурин. Майор Ник. Скулской. Адмиралт. батальона маеор Кир. Пущин. Князь Федор Голицын. Кн. Яков Голицын. От бомбардир подпоручик Новокщенов. Гв. подпоручик В. Иванов. — Я ж подписал вместо подпоручика того ж полку Василия Коростелева, по его прошению, что он грамоте не умеет. Вас. Новосильцев, обор-кригс комиссар. Обор-кригс комиссар, князь Михайлов, княж Иванов сын, Вадба(о)лской. Стольн. князь Аф. Барятинский. Стольн. Андр. Колычев. Л.-гв. прапорщ. Дор. Ивашкин. Гв. подпоручик М. Хрущов и вместо прапорщика Аф. Владычина. Гв. подпоручик князь А. Шаховской и вместо капитана-поручика Девесилова. Обор-секретарь Анис. Щукин. Дьяк Ив. Молчанов. Дьяк Семен Иванов. От гв. капит. Ем. Мавр. Расправной Палаты судья Афанасий, Андреев сын Кузьмин-Караваев. Губерн. Москов. виц. — губерн. В. Ершов. Скрепил по листам обор-секретарь Анисим Щукин.