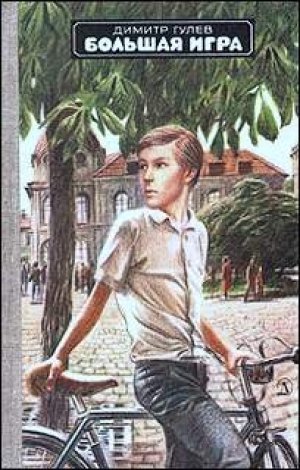
Никто из мальчиков раньше не видел этого парнишку. И новые жильцы вроде не переезжали в соседние дома. Не перетаскивались вещи, не стояли у подъездов открытые грузовики, набитые всяким хламом: разобранными на части шкафами, диванами, матрацами, столами, стульями, плитами, холодильниками, радиоприемниками, телевизорами и бог знает чем еще. Просто удивительно, сколько барахла накапливается со временем в каждой квартире! И люди так привыкают к нему, что и не замечают этого.
А они-то думали, что ничто не может ускользнуть от их мальчишеских глаз!
И вдруг на перекрестке стоит незнакомый пацан, жует резинку, поглядывает по сторонам, будто только их и поджидает.
— Стойте! — тихо сказал Крум.
Приятели заметили мальчишку еще издали и, немного озадаченные шепотом Крума, остановились.
Только вечно торопящийся куда-то Евлоги шагнул вперед — по инерции. Потом и он остановился.
Иванчо громко шмыгнул носом, пригладил ладонью стриженые волосы, насупился и сразу весь как-то подобрался.
Все эти мальчики учились в седьмом классе.
Никто не вел точный счет, сколько их, друзей-приятелей. То кто-нибудь отколется от компании, то присоединится, но дружили они давно и, хотя жили на разных улицах, неизменно собирались на одном и том же перекрестке. В школу не всегда удавалось идти всем вместе, но возвращались обязательно всей компанией. В середине — не впереди, а именно в середине — Крум, слева от него Яни, справа Евлоги, рядом с ним Иванчо Йота, а вокруг Спас, Андро, Дими — вот он, цвет седьмого «В».
Жили тоже все по соседству — на двух улицах, которые тут, на углу, как раз пересекались.
И класс у них был большой — дальше некуда.
«Тридцать шесть человек!» — устало вздыхала учительница Николова.
И это не считая кандидатов. Именно в их седьмой «В».
Но больше никого не принимали, в классе уже не было места для новых парт. Ветка и Венета, восьмой и девятый номер, как их называли по порядку фамилий в классном журнале, и так уже упирались носами в учительский стол. Химик Маролев едва протискивался между их партой и столом, чтобы подойти к окну, которое во время его уроков и зимой и летом распахивалось настежь.
В общем, класс был полным-полнехонек. А говорят, где-то закрывают школы из-за нехватки учеников…
«Да, да, это так! — вздыхала учительница Николова. — Но у нас рабочий район, многонаселенный. И учеников более чем достаточно. Хотя…»
Стоя на тротуаре, пацан не отрываясь смотрел на приближающуюся компанию. Даже рот раскрыл. Потом надул щеки, и у самых его губ появился белый тонкий шарик из жевательной резинки, которую он не переставая перемалывал во рту.
Маленький, гораздо меньше семиклассников, он держался независимо, в его светлых навыкате глазах не было и тени страха. Любопытства, впрочем, тоже не было.
— Бочка! — снова шмыгнул носом Иванчо. — Кто это?
Мальчики всегда чувствовали себя хозяевами перекрестка. Именно здесь они частенько собирались, и появление маленького незнакомца, стоявшего как раз посередине перекрестка, у фонарного столба, озадачило их.
Крум неопределенно пожал плечами. Крум… Крум Георгиев Бочев, номер двадцать один, но все и в школе, и на улице называли его Бочкой. Бочка.
Иванчо пересек газон и площадку.
Остальные шли следом.
— Ты кто такой?
Тонкий резиновый шарик у губ мальчишки лопнул. Мальчик облизнулся и невозмутимо продолжал мусолить жвачку во рту.
— Ты кто такой, я спрашиваю? — угрожающе надвинулся на него Иванчо. — Язык проглотил? — И вдруг широко улыбнулся: — Вместе со жвачкой?
Грозный вид Иванчо плохо вязался с его добродушной улыбкой.
Он был намного выше и крупнее маленького храбреца и мог без труда наподдать незнакомцу, но стоит ли? Приятели возвращались из школы, уроков еще задают мало, и впереди — длинный ласковый вечер, а потому настроение у всех было радостным, приподнятым, как всегда в первые дни после летних каникул. Иванчо поставил портфель на тротуар и стал отчаянно жестикулировать, что должно было означать (по крайней мере, ему так казалось): кто ты, как тебя зовут, откуда ты?
Он не сомневался, что друзья, видя, как он размахивает руками, просто лопнут со смеху. Ему самому было ужасно смешно видеть себя со стороны: как он шевелит губами и что-то бормочет, желая напугать мальчишку, вторгшегося так внезапно на «их» территорию. И вдруг Иванчо услышал:
— Придурок!
— Что?!
Иванчо даже рот раскрыл да так и замер с растопыренными руками.
— Что ты сказал?
— Придурок! — громко повторил мальчишка.
Иванчо обернулся к товарищам. Те застыли в изумлении, а некоторые, Андро например, едва удерживались от смеха.
Крум пристально разглядывал дерзкого мальчугана.
Иванчо растерялся: что значит теперь сила его мускулов и чемпионский вес! Сейчас, того и гляди, он станет посмешищем! Приняв еще более грозный вид, Иванчо прорычал:
— Что ты сказал?
— При-ду-рок! — беззаботно повторил мальчишка и снова энергично задвигал челюстями. — От слова «дурак»!
— Ты что, рехнулся?! — Иванчо хотел схватить мальчишку своими крепкими руками (клещи, а не руки!), но Крум бесшумно оказался рядом.
— Погоди! — остановил он Иванчо. — Ты же видишь, какой это фрукт!
— Фрукт! — чмокнул языком мальчишка, повторяя слово, которое Крум произнес твердо и пренебрежительно.
— Ну, ты и наглец!
— Не наглец, а мудрец, — поправил его мальчишка. — Да, кое-что знаю.
Мальчики подошли поближе и с нескрываемым интересом разглядывали маленького сорванца, а тот держал себя так беззаботно, словно только и ждал их.
— Ладно! — примирительно произнес Крум. — Давай знакомиться. Меня зовут Бочка. Крум Бочев, отсюда Бочка.
— Паскал! — сказал мальчишка. — Паскал Астарджиев! Без всяких «оттуда» и «отсюда»!
— Уж не француз ли ты? — полюбопытствовал Яни.
— Нет! И это не прозвище, — объяснил Паскал. — Мама когда-то учила французский, считает себя чуть ли не француженкой и потому так меня назвала.
— Хорош гусь! — воскликнул Спас. — Тебя с утра заводят или с вечера? Мелешь языком как заведенный!
Паскал впился в Спаса светлыми глазами, на остром личике мелькнула чуть заметная усмешка:
— У меня есть уши. Слушаю, как болтают старшие, и следую их примеру.
Иванчо угрожающе засопел. Крум повернулся к Андро:
— Еще один подражатель!
— При-ду-рок! — вдруг прыснул Андро и зашелся от смеха. — Ничего себе, прилепили прозвище Йоте!
Иванчо сконфуженно засопел. Была у него такая привычка — громко сопеть. Когда его вызывали к доске, он сопел от напряжения, даже если хорошо знал урок. Иванчо единственный в классе, а может, и в школе ходил с коротко остриженными волосами. И когда сердился или волновался, становился ужасно похож на неуклюжего и смешного младенца.
— Все культуристы придурковатые! Как правило, — продолжал Паскал без запинки. — У них мускулов мешок, а голова с булавочную головку.
Он говорил легко, свободно, четко выговаривая слова и, главное, без тени смущения. Мальчиков заинтересовал этот словно свалившийся с неба прямо под их фонарь маленький храбрец.
— Ты чавдарец? — спросил Крум.
— Какой еще чавдарец?
— Ну, кто еще не пионер, с синим галстуком, — озадаченно ответил Крум.
Чтобы такой мальчишка, как Паскал, не знал, кто такие чавдарцы?!
— А мы, пионеры, — продолжал Крум, — постарше чавдарцев и носим красные галстуки, как у Яни.
Низенький, коренастый Яни расправил сильные плечи, выпятил грудь. Он один из мальчиков был с красным пионерским галстуком, и поэтому Крум кивнул на него.
— Сам знаю, нечего объяснять, — буркнул Паскал.
— Ты, я смотрю, слишком много знаешь, — насупился Иванчо.
— Много! — согласился Паскал. — А ты разве не хочешь знать много?
— Знаю и я кое-что. Но с нами это не пройдет!
— Что не пройдет?
— Сейчас врежу — и узнаешь! — пригрозил Иванчо и так весь напрягся, что и вправду стал похож на культуриста. Вот только сравнение с булавочной головкой было не к месту: голова у Иванчо массивная, большая, лицо широкое и доброе. И хотя он изо всех сил старался казаться свирепым, добродушная улыбка не сходила с его лица.
А Паскал надул щеки, и шарик жвачки снова появился у его губ.
«Погодите! Погодите, — хотелось крикнуть Круму. — Тут что-то не так!»
И только он хотел заговорить, как все почувствовали, что их новый знакомый уставился во что-то позади них. Что там? Все мгновенно обернулись и увидели высокого сильного парня, приближающегося к мальчикам.
— Мой брат! — небрежно и в то же время победоносно произнес Паскал.
— Кто это?
— Да так…
Легким, но точным и резким движением снизу вверх брат вдруг стукнул Паскала по затылку.
— Считай, что мы с тобой договорились.
— Я хотел…
— Договорились! Раз и навсегда! — назидательно произнес старший брат.
— Договорились! Но я же чуть не выплюнул жвачку!
— У тебя ее предостаточно! Хоть жуй, хоть плюй, на все хватит.
— А по голове зачем? Мама говорит, нельзя по голове!
— Потому что твоя голова оказалась под рукой!
Братья уходили. Им вслед смотрели молчаливые и присмиревшие семиклассники.
— Мы подружились! — кивнул в их сторону Паскал.
— Ты уже успел наболтать им с три короба?
— Да так, поговорили немного! — скромно ответил Паскал.
Братья ушли с перекрестка, и теперь путь их лежал вдоль улицы. По обе ее стороны тянулись старые кирпичные дома с облупившейся кое-где штукатуркой. Дома были построены еще до войны, большей частью трехэтажные, с тесными двориками, разделенными тенистыми деревьями и высокой оградой. Где-то впереди, по направлению к вокзалу и центру города, на бульварах возвышались новые здания. Оттуда доносился глухой гул. Стоило остановиться, прислушаться — и с ударами собственного сердца можно было уловить этот смутный гул над кварталом, который обступали многоэтажные жилые и административные здания.
Брат Паскала, в линялой джинсовой рубашке, на которой поблескивали молнии и медные пуговицы, шагал, заложив руки за низко спущенный пояс джинсов, всем своим видом демонстрируя беззаботность, но когда Паскал бросал на него взгляд, то видел озабоченное, даже напряженное выражение лица брата.
Паскал тоже был в джинсах, но в светлой рубашке с короткими рукавами и так же, как брат, засунул руки под пояс джинсов.
— Чаво!
Брат не отозвался, поглощенный своими мыслями.
— Меня спросили, чавдарец я или нет. А я вот думаю: чавдарцы так названы в твою честь или ты носишь их имя?
Чавдар молчал.
— Носишь имя сына народного героя[1]! Как он был счастлив, что шел вместе с отцом бороться за свободу! А ты, кажется, хочешь стать официантом?
Чавдар молчал.
Паскал вздохнул:
— Нашел наконец работу?
Чавдар даже не взглянул на братишку.
— Но ведь ищешь, да? — бодро спросил Паскал. — А раз ищешь, значит, найдешь! Не можешь не найти! Если, конечно, тебе не надоест торчать в «Бразилии», «Колумбии» и вообще на этом «Латиноамериканском континенте»!
Чавдар засмеялся, опустил руку на шею брата.
Такая же манера говорить была у их матери: сквозь нарочитую бодрость проглядывали усталость и досада. Паскал не удивился бы, если бы сейчас брат дал ему подзатыльник за то, что он слишком много себе позволяет, но продолжал невозмутимо жевать резинку — отойти от брата подальше на всякий случай было невозможно. А потом, что такого, если и стукнет его Чавдар разок-другой? Ведь не чужой, да и не обидно, и не больно… А как ребята-то присмирели, когда увидели, какой у него старший брат!
— Чаво! Почему у нас кафе называют «Бразилия», — «Колумбия»?
— Потому что в этих странах растет кофе.
— А почему тогда Не «Ангола» или «Вьетнам»? Там тоже кофе растет.
— Потому что у тех, кто дает эти названия, голова не варит, — с неожиданным озлоблением ответил Чавдар. — Ты, наверное, есть хочешь?
Было как раз обеденное время, братья направлялись домой, знали, что обед, как всегда, готов, но есть обоим не хотелось, да и домой идти тоже.
— Я хочу найти настоящую работу — не просто отсиживать где-то часы или ноги бить в беготне, — спокойно ответил Чавдар. — Пусть тяжелую, но я хочу честно зарабатывать деньги. Понял?
— Понял. — На всякий случай в ожидании подзатыльника Паскал втянул голову в плечи, прижав жвачку к зубам, и только тогда произнес: — Понял, Чаво. Настоящую работу, за которую платят настоящие монеты.
— Деньги, а не монеты.
— Иногда ты говоришь: монеты.
— Ты, как губка, все впитываешь.
— Впитываю, — кивнул Паскал. — Слушаю и почему-то запоминаю, что надо и не надо.
— Не робей! — Чавдар еще крепче сжал рукой шею Паскала, почувствовав его волнение. — Я из тебя сделаю человека. Только ты много болтаешь, а иногда и сам не понимаешь, что говоришь.
— Понимаю, — быстро отозвался Паскал, растроганный нежностью брата. — Все понимаю, хотя…
Паскал смотрел прямо перед собой.
Не знал, что сказать. Всегда, когда он удивлял окружающих своими рассуждениями, он произносил слова и фразы, слышанные от взрослых, а о том, что сам чувствовал, помалкивал. А он частенько задумывался над всякими вещами.
— Ну, ты силен, Чаво! — проговорил он наконец, словно взглянул на брата со стороны.
Чавдар обнял его за худенькие плечи.
— А эти ребята вроде ничего, — добавил Паскал, совсем расчувствовавшись от братского объятия. — Несколько дней тайно наблюдаю за ними. Крум Страшный[2] у них за командира. Бочка его прозвище, и совсем он не страшный — наоборот, физиономия у него даже добрая. Он очень умный, и все с ним считаются, а с его сестрой мы в одном классе, даже за одну парту нас посадили…
— Да ну? — оживился Чавдар.
— А вот кто и правда страшный, так это Иванчо, — разошелся Паскал. — Котелок у него не очень варит. А Яни грек, но, представляешь, родился тут…
Паскал хотел уже порассуждать о наследственности, национальном самосознании, голосе крови и всяком таком, как брат перебил его:
— У кого из них сестра? У Андро?
— У Андро, — кивнул Паскал. — Спас футболист, у него потрясающий удар. А Дими плавает кролем. Отец у него работает в спортивном комплексе, и Дими каждый день ходит на тренировки. На четыреста метров он лучше всех. А сестру Андро зовут Лина. Наверно, Ангелина или Николина…
Чавдар молчал. Но Паскал почувствовал, что брат удивлен, и опять надул щеки; тонкий резиновый шарик раздулся и лопнул.
— Я тоже силен, правда?
Брат ничего не ответил.
Еще несколько шагов, и они оказались в узком дворике, вымощенном толстыми, потемневшими от времени каменными плитками, у самого входа в трехэтажный дом с высокими окнами. Против кирпичной стены с позеленевшим мхом был еще один тесный дворик, а дальше — трехэтажный дом с высокими окнами и крутой лесенкой, точь-в-точь как тот, в который они въехали несколько дней назад.
— Мы, кажется, соседи с Андро, — заметил Чавдар, когда они пересекали дворик.
— Они как раз напротив живут.
— Когда тебе в школу?
— Я тебе уже говорил, — обиделся Паскал.
Чавдар взъерошил мягкие, длинные, красиво подстриженные волосы братишки;
— В два?
— В половине второго.
— Отлично.
Братья жили на третьем этаже, в квартире, оставшейся матери от родителей. Бывшие жильцы освободили ее недавно, и семья Астарджиевых сразу же сюда переехала. Лестница, как и весь дом, была старая, со ступеньками из белого камня и металлическим витым парапетом. На каждой площадке в квартиру вела двустворчатая дверь с матовым стеклом. На третьем этаже под кнопкой звонка на стекле были приклеены два белых трафарета из школьной азбуки с красиво выведенными буквами: «Сем. Астарджиевых».
Надписи сделал Паскал.
— Сем. Астарджиевых, — сказал Чавдар, как только они поднялись на площадку. — То есть мы, вторая половина семейства Астарджиевых.
Паскал посмотрел на брата в надежде, что тот похвалит его за старание, но понял, что Чавдар думает о чем-то своем, и подавил вздох огорчения.
За стеклянной дверью раздался резкий звонок.
— У меня есть ключ. — Паскал показал на карман.
Чавдар снова настойчиво позвонил.
Послышались легкие шаркающие шаги. За толстыми стеклами мелькнул чей-то силуэт.
Паскал взял брата за руку.
Створка двери открылась.
— Разве у вас нет ключей?
Мать вопросительно посмотрела на сыновей. Она была худенькая, с увядшим лицом, гусиными лапками морщинок у светлых глаз и опущенными уголками губ.
— Ключи есть, — резко ответил Чавдар. — Но мы хотим, чтобы мама нас встречала. На пороге.
Мать выпрямилась и застыла на миг, потом повернулась и так же легко, скользящими шагами пошла на кухню. Слева находились две комнаты с окнами на улицу и темная прихожая.
От свежеокрашенных дверей, окон, стен, полов все еще шел запах краски, олифы и скипидара, в углах лежали неразобранные узлы с вещами, и от жилья веяло какой-то пустотой, беспорядком, будто хозяева еще не решили, куда что поставить.
Только кухня была обжита: новенькая электрическая плита, новые белоснежные шкафчики. На их фоне, правда, сразу бросалось в глаза желтое пятно старого холодильника. Повсюду на кафельных плитках, на блестящих стенках шкафчиков были наклеены веселые цветные картинки — целая серия похождений зайца и волка из мультфильма «Ну, погоди!».
Наклеил их Паскал.
И опять Паскалу захотелось, чтобы Чавдар его похвалил или хоть улыбнулся, но тот исподлобья, напрягшись следил за матерью.
В белой уютной кухне братьев ждал накрытый обеденный стол. Голос матери прозвучал ласково и примирительно:
-: Вы же знаете, отец в это время спит, могли бы открыть дверь своими ключами.
Чавдар порывался что-то сказать. Паскал всем своим существом почувствовал: сейчас брат скажет что-то резкое, злое. Дернув его за руку, Паскал умоляюще прошептал:
— Чаво!
Брат хмуро посмотрел на него.
— Смотри! — Паскал показал на боковой фасад соседнего дома с окнами, расположенными точно так же, как у них. — Как раз напротив живет Андро.
Чавдар равнодушно взглянул на соседний дом, но Паскал заметил, как брат хитро подмигнул ему левым глазом, и тут же с полным пониманием добавил:
— Ну, Андро. Из этих, моих новых знакомых.
У плиты спиной к ним, наклонив голову с коротко остриженными волосами (от этого нежная шея казалась особенно худой и девичьи беззащитной), мать подняла блестящую крышку кастрюли, и в кухне запахло чем-то вкусным.
— Подожди! Дай я! — Бабушка хотела сама завязать пояс белого школьного фартука внучки.
— Я сама! — вырвалась Здравка, повернувшись спиной к настенному зеркалу в прихожей.
Прихожая была темная. Сквозь входную дверь, выходившую прямо на улицу, не проникал свет. Весь дом, низкий, теплый, с глубоким погребом и толстыми железными решетками на окнах, почти незаметный среди соседних высоких домов, чем-то напоминал дупло дерева. Задняя дверь открывалась во внутренний дворик. Из погреба тоже можно было выйти во двор по пологой каменной лестнице. А с улицы у двери на стене висела прямоугольная мраморная доска с выдолбленными на ней буквами: «Здесь в 1939–1941 годах собирался нелегальный ЦК Болгарской рабочей партии (коммунистов)».
Имени печатника Крума Бочева, в квартире которого собирался Центральный Комитет партии, не было на табличке. Крум Бочев умер пятнадцать лет назад, но весь квартал называл этот дом его домом. Домом Бочева, где все еще жила семья печатника. Точнее, его вдова, бабушка Здравка, и внуки: третьеклассница Здравка, та самая, что стояла сейчас перед зеркалом — в последнее время она вдруг надумала каждый день ходить в белом праздничном фартуке, — и Крум.
А когда-то давно — ни Крум, ни Здравка этого не знали, но бабушка хорошо помнила то время — все соседи не переставали удивляться: неужели правда, что их сосед Крум — бывший подпольщик? Оказывается, революция готовилась здесь, в их квартале, а им и невдомек! Кто бы мог подумать, что тихий, молчаливый печатник, его скромная хлопотливая жена и их сын Георги, Гошо, как его называли в доме, посвятили жизнь такому великому делу! Сколько их, этих известных и неизвестных героев, о которых теперь пишут! А ведь они бывали, выходит, в их доме!
«Нет, нет, не может быть, — говорили люди в первые годы после победы народной власти, — тут какая-то ошибка. Возможно ли такое? Возможно ли, чтобы истинные герои, революционеры, жили тут, рядом, как самые обыкновенные люди? Ведь они рисковали всем, даже жизнью!»
Шли годы. С каждым годом голова бывшего печатника становилась все белее. Теперь он ходил на работу не в типографию, а в райсовет, и люди, сначала старики, а потом и молодежь, таким его и запомнили: приветливый, седовласый председатель райсовета, любивший вслух помечтать о том, как все вокруг переменится.
Перемены и впрямь происходили, но медленно. На первый взгляд даже незаметно.
А Гошо рос, вместе с друзьями участвовал в первых трудовых бригадах (они строили перевал Хаинбоаз, потом железную дорогу Перник — Волуяк), потом уехал в Ленинград — учиться в судостроительном институте. Целых шесть лет Гошо появлялся здесь только летом. Жильцы дома помнили его: крупный медлительный парень в синей спортивной куртке, с бледным лицом и удивительно ясными голубыми глазами. Многим он уже казался чужим, только бывшие одноклассники вспоминали частенько, какой Гошо прекрасный математик, как успевал решать в уме задачи, пока учитель только диктовал условия. Наверно, теперь это здорово помогает ему в постижении трудной науки кораблестроения, где, само собой разумеется, все должно быть точно вычислено.
Седовласого председателя райсовета уже не было в живых, а вокруг все менялось прямо на глазах. На ближних бульварах выросли многоэтажные здания, и теперь старые высокие дома казались карликами. Поднялись новый вокзал и гостиница, все вокруг принимало другой облик. «Новое! Новое! Новое!» — слышалось на каждом шагу, и уже мало кто помнил старого печатника, седовласого председателя райсовета. Редко вспоминали теперь и о приземистом домишке с решетками на окнах и мраморной доской у входа. Даже стали поговаривать, что домик, того и гляди, снесут и на его месте построят новый жилой дом, но кое-кто утверждал обратное: в старом доме скоро откроют музей. А пока там по-прежнему тихо и незаметно жили бабушка Здравка, ее внучка, та самая, что вертелась сейчас перед зеркалом (что это вдруг она вздумала каждый день ходить в школу в праздничном белом фартуке с широкими лямками?), и Крум. В эти минуты он как раз обедал.
— Здрава, не раздражай бабушку! — прикрикнул Крум на сестру.
— А ты научись жевать побыстрее! — ответила Здравка.
— Иди, а то опоздаешь. Хватит торчать перед зеркалом!
— Буду торчать, — поджала губы Здравка. — Сколько хочу, столько и буду. И не торчу я, а стою.
Услышала ее только бабушка и улыбнулась. Улыбка мелькнула в ее усталых, но молодых, не потерявших блеска глазах. Они всегда блестели так, когда Здравка хотела все сделать сама — ловкая, быстрая, толковая девочка.
«Толковая» — это у бабушки высшая похвала. Скажет про кого-нибудь: «Толковый», — и это значит, что человек не только справляется с любой работой, но и вообще можно на него положиться. И если сейчас бабушка хотела завязать Здравке пояс на фартуке, то вовсе не для того, чтобы ей помочь, а просто лишний раз прикоснуться к внучке, приласкать ее.
— Пять минут второго, Здрава! — крикнул из кухни Крум.
— Слушайся, слушайся брата! — шепнула бабушка. — Он у нас теперь в доме единственный мужчина.
— Не хочу его слушаться! — рассердилась Здравка. С тех пор как она стала ходить в школу, она вслушивалась, как произносится каждое слово. — Я не Здрава, а Здравка!
— Подумаешь, велика важность! — примирительно сказала бабушка.
— А тебе говорят Здрава?
— Не все равно?! Как ни назови, я бабка!
— Но ведь и ты была маленькая?
Бабушка Здравка улыбнулась, морщинки на ее сухом, худом лице засветились.
— Ступай! И смотри по сторонам, когда переходишь через проспект.
— Иду, бабуля, — тихо сказала Здравка, вдруг подобрев, и взяла портфель. — Привет! — крикнула она в кухню, где Крум все еще обедал. И, чмокнув бабушку в щеку, исчезла.
Школа, где учились Крум и Здравка (старшие классы в первую смену, младшие — во вторую), была совсем рядом. Это старая школа, когда-то единственная на весь район. Теперь ее подновили, надстроили два этажа, расширили двор. Школьные коридоры выходили окнами на бульвар, а классы во двор. Уличный шум не доносился сюда, и после переменок, едва только пустел двор, все здание казалось странно тихим. Только кое-где сквозь открытые окна вдруг послышится строгий учительский голос, зазвучит песня, и опять все как будто притаится, погрузится в тишину неповторимых, невозвратимых сорока пяти минут, времени между двумя звонками — первый всегда напряженный, второй — радостный, пронзительный, сулящий свободу.
В школе учились ребята из жилых кварталов, расположенных по обе стороны реки. Жившие на той стороне шли узким горбатым мостиком. Его построили специально для школьников, чтобы не шагать им в обход по дальним широким мостам. Но пользовались мостиком все, даже велосипедисты — из-за них по краям мостика поставили бетонные столбики, и мальчики обычно не трудились их обходить — перепрыгивали.
Перейти по мостику не велика трудность, а вот добраться до него и выйти на улицу на том берегу нелегко. Вдоль реки тянулось шоссе, по проезжей части которого с раннего утра до позднего вечера неслись потоки машин. И хоть существовали пешеходные дорожки и шоферам полагалось быть особенно внимательными при виде дорожного знака «Осторожно, дети!», куда там! Здесь смотри в оба! Если перед твоим носом затормозила машина, то слева может налететь другая.
Поэтому Здравка сначала посмотрела налево, откуда надвигалась лавина разноцветных машин: грузовиков, троллейбусов, автобусов, легковых автомобилей. Она ждала, когда светофор остановит поток. Здравка, прищурившись, поглядывала на светофор и сразу не поняла, почему это машины вдруг замедлили ход, а потом остановились.
Взглянув вперед, Здравка чуть не ахнула.
Посреди дороги стоял Паскал, ее новый одноклассник. В руке он держал палку с искусно нарисованным — ну просто совсем как настоящий! — запрещающим знаком, или, как его называл Крум, «Большим стопом»!
— Проходи!
Здравка заколебалась. Она увидела лица шоферов в кабинах, некоторые хмурые, некоторые улыбающиеся. Машины стояли, водители смотрели на пешеходов, и Здравка легко, как птичка, перебежала дорогу.
Паскал постоял, дождался, пока дорогу перейдут еще двое оцепеневших от удивления мальчиков, потом слегка поклонился, совсем слегка водителям — всем вместе: и рассерженным, и развеселившимся, — и, опустив руку с табличкой «Большой стоп», быстро зашагал к мостику.
Здравка ждала его у парапета.
Лавина автомобилей с воем помчалась по шоссе.
Паскал, с портфелем и со знаком «Стоп» в руке, шагал серьезно, сосредоточенно, будто все это было для него самым привычным делом.
Двое мальчиков смотрели на него разинув рот.
Здравка и Паскал шли рядом, мальчики за ними.
— Испугалась?
— Я? — обиделась Здравка. — Ты меня еще не знаешь!
Миновали мостик. И едва дошли до его края, впереди снова хлынула лавина машин. В нос ударил тяжелый запах бензина и отработанных газов. Машины мчались так быстро, что, наверное, перед глазами водителей белые полоски пешеходной дорожки сливались в одно целое.
Здравка бросила быстрый взгляд на Паскала. А он опять вышел на проезжую часть и не спеша поднял свою палку с красным треугольным знаком в желтом круге. Снова пронзительно заскрипели тормоза, зашипели шины. Здравка закрыла глаза. Услышала стук собственного сердца — тук-тук-тук! — и глухой гул движущихся машин, но стук сердца заглушал все: тук-тук-тук!
В первый раз она ощутила, как бьется ее собственное сердце. Когда девочка снова подняла глаза, то увидела Паскала посреди шоссе. Повернувшись лицом к машинам, он высоко поднял правую руку с запрещающим знаком. Машины замедляли ход, останавливались, гудели. Некоторые водители нетерпеливо сигналили, но Паскал стоял все так же невозмутимо.
Первыми с противоположной стороны двинулись по шоссе изумленно смотревшие на Паскала женщины с хозяйственными сумками. Здравка тоже сделала несколько шагов и в этот момент увидела тяжелую, длинную, как вагон, машину — грузовик с прицепом, покрытым темным брезентом. Грузовик, как по рельсам, скользнул в образовавшийся проем между машинами и двинулся прямо на Паскала.
«Берегись! Беги!» — хотела крикнуть Здравка, готовая броситься, оттолкнуть Паскала в сторону, но ноги налились свинцом и она не могла и шагу шагнуть.
Мальчики стояли рядом с ней, боясь пошевелиться. Только кончики их синих галстуков трепетали на ветру.
Длинная неуклюжая машина приближалась, росла, обдала Здравку запахом металла, нефти, нагретого смазочного масла. И плавно остановилась перед самым носом Паскала. Из высокой кабины смотрел оторопевший от изумления шофер, молоденький, худой, даже странно, что ему доверили такую громадную машину.
— Эй, парень! — крикнул он Паскалу, опустив боковое стекло. — Ты что, не в себе?
На лице Паскала не дрогнул ни один мускул.
И молоденький шофер большого грузовика сконфузился. Укрощенные машины терпеливо- ждали, пока Здравка, женщины и мальчики спокойно перейдут шоссе. И снова машины тронулись, но теперь медленнее, осторожнее. Озабоченные лица водителей явно смягчились. Кто-то не выдержал, нажал клаксон — в знак приветствия, хотя звуковые сигналы давно запрещены, нажал просто так, потому что вдруг повеяло далеким незабываемым детством, дыхание которого пронеслось сейчас над оживленной улицей.
Был как раз час обеда, четверть второго. Сквозь городской шум долетали веселые голоса ребят, уже заполнивших школу, и Здравка шла знакомой дорогой через мостик. Сколько раз она ходила по ней, но сейчас все казалось совсем новым: и река в каменных берегах, и шелковистое мягкое осеннее небо, и здания вокруг, и то, что ждало ее сегодня в школе.
— Ты что, совсем не боишься? — спросила она Паскала, когда мальчики припустили бегом и обогнали их.
— Только дураки не боятся опасности! — ответил Па-скал.
«А вдруг тебя бы задавили? — хотелось сказать Здравке. — А если бы машины не успели притормозить?»
«Не посмели бы, они меня видели издалека», — так же молча ответил мальчик.
— А мы с тобой сидим за одной партой, — громко засмеялась Здравка.
— Я нарисовал этот знак ради тебя. Чтобы ты могла спокойно перейти через дорогу.
— Ради меня?
— Ради тебя.
— Только ради меня?
— Только ради тебя.
— Но и другие перешли.
— Конечно, — великодушно согласился Паскал. — Именно так рождаются великие дела. Когда хочешь что-то сделать для одного-единственного человека.
— Ну да? — Здравка вдруг покраснела. — Какой ты странный! И имя у тебя… («Интересно, что скажет на это бабушка?» — подумала она.) Но ты смелый, — продолжала девочка, — смелый, бесстрашный и…
— И?
— И все.
— Я страшный! А не бесстрашный! И вовсе даже не смелый! Смотри!
Паскал скосил глаза, уставился на кончик носа, и его острое личико сразу стало смешным и некрасивым.
— Не надо! — остановила его Здравка. — Не делай так, прошу тебя.
Они подошли к школьному забору, еще немного — и войдут во двор, над которым уже разносилась протяжная трель первого звонка.
«А то мне будет неприятно сидеть рядом с тобой за одной партой, — хотелось сказать Здравке. — А я хочу сидеть с тобой!»
Но она промолчала. Толковая девочка, как сказала бы ее бабушка, никогда не признается в таких вещах даже самой себе.
Здравка решила, что они с Паскалом спрячут знак под партой. И всё! Если только Досё не наябедничает учительнице Геринской, хотя, впрочем, разве они сделали что-нибудь плохое? Теперь весь класс будет им завидовать: здорово они придумали, как переходить проспект! Даже Крум и его приятели лопнут от зависти!
Ох уж эти девчонки, эти девчонки!
Еще вчера играли вместе с мальчиками, хоть те и были заняты порой своими мальчишескими проказами. Девочки тогда, засунув кукол в картонные коробки, прыгали через веревочку, катались на роликовых коньках или на велосипедах и вдруг…
Стоп! Большой стоп! Такой же, как нарисовал Паскал, чтобы остановить движение на проспекте.
Ветка и Венета, восьмой и девятый номера… Неужели и они когда-нибудь вдруг отделятся от общей компании, отлетят от общей стайки — и словно тысячи километров лягут между девочками и их вчерашними товарищами?
Правда, Лина гораздо старше, ровно на три года старше Андро и Крума, но почему только теперь Крум задумался об этом?
Неужели три года имеют такое значение? Лину просто невозможно узнать.
А может, ему это только кажется?
Или они с Линой сейчас как раз в том возрасте, когда разница в один год равняется пяти?
Между обедом и ужином Андро всегда норовил перекусить, и его любимая еда в это время — толстый кусок хлеба с маслом и с чебрецом. Успел не успел сделать домашние задания, тут Андро все бросает и отрезает кусок хлеба. А заодно достает из футляра блестящий тромбон и, пока медленно, с удовольствием жует хлеб, протирает инструмент, чтобы ни пылинки, ни пятнышка. Для этого у Андро припасена специальная желтая, как воск, паста, которую он бережет только для тромбона.
Сто раз, тысячу раз Крум видел, как Андро перекусывает, радовался неуемному аппетиту друга, потому что, как говорит Андро, если играешь на духовом инструменте, нужно здоровье, легкие должны быть как кузнечные мехи.
И вдруг Крум стал замечать: а ведь после обеда сестра Андро Лина не стала бывать дома! Несколько месяцев назад это не произвело бы на него ни малейшего впечатления. Дома она, в школе — какая разница? Но вот Андро проглатывает последний кусок, старательно вытирает губы, берет в рот мундштук тромбона. Расхаживая по комнате, сжимает и разжимает свои гибкие длинные пальцы. Останавливается, слегка расставив ноги. И вместе с первыми, легкими, как дыхание, звуками музыки Крум вдруг ощущает: Лины нет рядом, ушло в прошлое время, когда они играли все вместе. И по вечерам вместо Лины из школы приходит совсем другая, незнакомая и далекая девочка.
Светлоглазая, как Андро, с поднятыми уголками миндалевидных глаз и с черными как смоль волосами, Лина казалась еще тоньше и выше в своей темно-синей школьной форме. Она уходила из дома в обед, возвращалась к вечеру и на их перекрестке почти не появлялась. Свою черную кожаную сумку она носила не в одной руке, а держала сразу обеими, как будто ей тяжело, и Крум знал: сумка набита учебниками, тетрадками, книгами и всякими девчачьими штучками, она и вправду тяжелая.
Кончились летние каникулы, когда семиклассники то целые дни проводили вместе, то расставались на две, три, четыре недели. Теперь они снова ходят в школу и все идет по заведенному порядку. Крум учился в первую смену. Придя домой, он обедал и сразу же после того, как Здравка отправлялась в школу, садился за уроки. Пока задавали немного, и, если сейчас не запускать, потом, осенью, когда заданий на дом прибавится, будет легче с ними управляться. Крум занимался старательно, вникал в прошлогодний материал, листал новые учебники, вчитываясь в то, что предстояло изучать. Многое казалось ему интересным, манило, он погружался в неповторимое, ни с чем не сравнимое состояние, когда ты еще не настолько взрослый, чтобы на тебя легли неотложные заботы и обязанности, но и не настолько мал, чтобы не чувствовать, как растешь с каждым днем, с каждым новым уроком, и не испытывать приятного волнения от того, что открывается мир…
— Крум, сынок, ты разве не пойдешь гулять?
Бабушка стояла в дверях комнаты, выходящей окнами во двор, и ласково смотрела на него.
Городской шум оставался где-то наверху, а во дворе, за фасадами домов, было тихо и уютно. Слева на оконных стеклах алеет долгий осенний закат, и вместе со светом уходящего дня что-то теплое, знакомое проникает в тесное пространство между домами, и кажется, что дома приближаются друг к другу в предвечернем покое.
Бабушка что-то спросила?
Крум поднял голову.
Он зачитался, на этот раз учебником физики: не оторвешься от всех этих формул. И вдруг в ушах зазвучал тромбон Андро, а перед глазами мелькнула Лина со своей сумкой, которую она сжимала обеими руками. Такая знакомая и в то же время совсем незнакомая — без привычной школьной сумки, в туфлях на высоких каблуках, с зачесанными кверху черными блестящими волосами. Такой увидел ее Крум, когда она шла по вечерней улице рядом со стройным парнем — тем самым, кого Паскал назвал братом.
И что сейчас для него важнее?
Физика с ее законами и формулами? Лина?
Как поразила она Крума и походкой, и зачесанными кверху волосами, и ухажером!
Или бабушка, стоящая в дверях с блюдечком золотистого, еще теплого варенья из айвы, сладковатым запахом которого пропитался весь дом?
— Поешь! Попробуй!
Крум взглянул на часы на этажерке с книгами.
Скоро половина пятого.
Андро уже давно съел бутерброд с маслом и чебрецом и сейчас, наверно, занят своим тромбоном.
Спас, конечно, уже во дворе, гоняет в футбол.
— Не хочется.
— Попробуй, попробуй! — уговаривает бабушка. — Это же не еда. Только попробуй.
Крум зачерпнул ложечку варенья, вдохнул густой, теплый аромат айвы.
— Вкусно!
— Была бы Здравка дома, давно уж облизала бы блюдечко.
— Оставь ей.
— Я оставила. Пенки.
— Она любит варенье.
— Она все любит, — вздохнула бабушка. — Глазами любит.
— Как это глазами? — спросил Крум, закрыв учебник и положив его на правый угол стола, на аккуратную стопку аккуратно обернутых учебников и тетрадок. На левом углу Здравка держала свои учебники, тоже заботливо обернутые Крумом. — Как это глазами, бабушка? — повторил Крум, поняв, что она говорит не только про Здравку.
— Да так… — Бабушка провела ложечкой по густому, золотистому варенью, осевшему на дно мелкой тарелки. — Большинство людей так любит, глазами. Увидят что-нибудь, и все. Вынь да положь! А по сути им совсем это ни к чему.
— А как же еще можно увидеть это что-нибудь, — Крум подчеркнул последнее слово, — если не глазами?
И вдруг понял, что он любит разговаривать с бабушкой, когда они одни. В такие минуты она становится немножко другой и разговаривает с ним, как со взрослым. Получается, что бабушка вроде расспрашивает Крума об уроках, о товарищах, а чувствуется: мысленно она далеко-далеко, в тех годах, когда отец Крума был еще мальчиком, а может, еще дальше — в юных годах самой бабушки и деда, которого Крум знал только по фотографиям в старых альбомах с толстыми переплетами.
— Ну, иди же погуляй, поиграй, — повторила бабушка. — Игра — это ведь тоже ученье.
— Ну вот, ты всегда так: начнешь и не договариваешь!
— Что тебе сказать… Сердцем должен видеть человек! Глаза и хорошее, и плохое видят со стороны. Снаружи. Только сердце человека чувствует, что добро, а что зло.
Крум понял: пока бабушка варила в кухне варенье и от медного таза с булькающим желе шел пар, она думала о чем-то своем, о чем он ничегошеньки не знает и даже не подозревает, но что странно переплетается с его сегодняшними мыслями и даже вносит в них ясность.
— А хорошее варенье мы тоже сердцем чувствуем? — Крум вдруг развеселился и решил сбить бабушку с толку.
— Варенье для еды. А человек и варенью, и обеду тоже радуется. И набрасывается на еду, даже если не голоден.
— Это обжоры. Как Иванчо, — вставил Крум.
Ему вдруг пришло кое-что на ум, от чего он хотел бы избавиться, чтобы не выдать свое волнение перед бабушкой.
— У Иванчо хороший аппетит, потому и ест. А вот наша Здравка на все набрасывается: попробует то, попробует это, все хочет отведать, хоть ей это и не нужно.
— Вырастет, — успокоил ее Крум, — и даже диету будет соблюдать.
— Вырастет, — согласилась бабушка, едва заметно улыбнувшись тонкими бледными губами. — Но запомни, что я тебе скажу: чему человек научится, пока маленький, то с ним навсегда останется, таким и вырастет.
— Да ты философ, бабушка! — засмеялся Крум. — И маленькой тоже была философом?
— Конечно, — ответила бабушка. — А разве иначе выросли бы у меня такие внуки, как ты и Здравка?
— Только тогда ты была маленьким философом, а теперь…На языке вертелось: «Большой философ», но он понимал, что это прозвучит насмешкой.
— А сейчас старый, — договорила за него бабушка. — Старая у тебя бабушка. Ну, иди погуляй. В играх тоже растет человек. А растешь, значит, ума набираешься.
— Я возьму велосипед.
— Бери.
В темной прихожей за входной дверью у стены поблескивали спицами и рулями, звонками и рамами два велосипеда: Здравкин — белый и его — оранжевый.
— Бабушка! — Крум нажал звонок оранжевого велосипеда, и бабушка выглянула из кухни. — Бабушка! — Крум поколебался. — Я глупый, да?
Бабушка удивленно посмотрела на мальчика.
— Я все выдумываю, да?
— Хороший ты мой, — помолчав, едва слышно прошептала бабушка.
Крум почувствовал комок в горле.
Что-то властное, никогда не испытанное поднялось в его душе. Десятки вопросов, смутных, неясных, мелькали в голове, хотелось подольше поговорить с бабушкой, но Крум понимал: на его вопросы никто, кроме него самого, не ответит, это и означало, что он растет и взрослеет.
— Привет, бабушка!
— Привет! — долетело до него. В голосе бабушки чувствовалась грусть и улыбка.
Спустя годы, стоило только Круму вспомнить детство, перед ним вставал этот мягкий осенний день. Наверное, с него началось осознанное постижение Крумом самого себя, то незабываемое, невозвратимое время.
Детство семиклассников проходило вдали от лугов, лесов и гор, они привыкли собираться стайкой на городских перекрестках и тротуарах, на мощенных булыжником или асфальтированных улицах, они росли, не зная ночного, усеянного звездами неба, покоя плодородных полей, красоты ранних рассветов, не радуясь естественной привязанности к животным. Их мир был совсем иным. Городские дети, они знали до тонкостей марки разных машин и давно свыклись со стальным гулом миллионного города. Их понятия о пространстве определялись бульварами, проспектами и площадями, они чувствовали себя дома именно в городе, под люминесцентным освещением, среди многоэтажных зданий, оживленных улиц, магазинов, звона трамваев, рева автомобилей, под небом с крестами антенн, в парках, где деревья, кустарники и зеленые газоны были так тщательно ухожены, что казались ненастоящими.
Место, где чаще всего собирались мальчики, было заброшенным пустырем, который благодаря упорству отца Иванчо еще не застроили. Пустырь с небольшим холмом, возвышающимся на самом его краю, находился как раз в углу микрорайона. От улицы пустырь был отделен низким покосившимся забором с одной стороны и каменной стеной — с другой. За дощатым забором, посреди просторного двора, стоял желтый крашеный дом. Там на втором этаже жил Иванчо Йота.
И оттого что дом находился совсем рядом с пустырем, Иванчо чувствовал себя счастливчиком: достаточно посмотреть в окно — и увидишь, есть ли кто-нибудь из ребят на площадке. Но в том, что пустырь был рядом с домом, крылись и неприятности. Зимой тут собиралась детвора всего микрорайона кататься с горки на санках и коньках. Все старались съезжать не к кирпично-бетонной стене, а к деревянному забору: что ни говори, в случае чего, когда летишь на санках с горы, врезаешься в доски. Оттого-то доски всегда были поломанные, расшатанные, а в заборе зияли дыры. Тщетно отец Иванчо пытался залатать забор.
Летом тут же гоняли мяч. Места было все же маловато, и поэтому забивали мяч в одни ворота, состязались, кто лучше забьет и кто быстрей отобьет мяч. А ворота расположены у того же забора. Каждый неотразимый удар Спаса в каменную стену разносился по этажам орудийным залпом, жильцы так и вздрагивали от неожиданности. Удар в забор был помягче, но тоже хорош: одной-двух досок в этой и без того сильно расшатанной изгороди как не бывало!
Высокий, сутуловатый, словно стесняющийся своего роста, издерганный бухгалтерской работой, отец Иванчо смотрел на свой дом как на оплот спокойствия и независимости. Каждую субботу и воскресенье он надевал старые брюки и возился во дворе или в доме, стараясь починить, что только можно. То менял черепицу на крыше с риском поскользнуться и грохнуться на каменные плиты во дворе, то подмазывал известкой цоколь, то красил оконные рамы, а весной белил известью стволы плодовых деревьев в саду. Больше всего хлопот доставлял ему все-таки забор — отец то и дело прибивал и укреплял расшатанные доски, и все это время Иванчо должен был стоять рядом и помогать отцу. Жильцы нижнего этажа палец о палец не ударили, чтобы навести порядок во дворе и в доме. Больше того, они беспрестанно хлопотали, чтобы дом снесли, а на пустыре построили большой жилой массив. Так что упорство отца Иванчо помогало мальчикам сохранить площадку для игр, но с другой стороны, он постоянно воевал с озорниками, которые не оставили в заборе целой доски.
«Ну какой смысл сохранять эту развалину, когда каждый метр земли в городе стоит так дорого! — доказывали жильцы нижнего этажа разным комиссиям, которые приходили осматривать дом и пустырь. — Ведь не архитектурный же памятник перед нами».
«Зато какой дом! — мысленно спорил с ними отец Иванчо. — Крепкий, ухоженный. И двор — не двор, а сад. Не зря ведь висит табличка у входа: „Дом образцового содержания“. Находятся же такие, кто вознамерился его снести, чтобы получить квартирку, прийти на готовенькое! Да они и новое жилье мигом запустят!»
И он прибивал доски, снова красил их, обивал железом, долговязый, худой человек в очках с проволочной оправой, съехавших на кончик носа, и в шерстяной шапочке, сползшей на затылок…
У Иванчо сжималось сердце при виде отца, а отец все ворчал:
— Не разевай рот, не стой сложа руки. Не притворяйся, что ты не видишь, куда нужно руки приложить! Учись трудиться! Ты и твои приятели все прахом пустите. И дом, и забор готовы сломать. Доски целой не осталось!
Иванчо молчал. Помогал отцу. Тайком вздыхал. Сердце разрывалось: именно в воскресенье, в самое лучшее беззаботное утро, отец обязательно находил какое-нибудь неотложное дело и не оставлял сына в покое. Отвертеться под предлогом, что надо учить уроки, или закрыться в комнате не удавалось. Вот и старался Иванчо хоть немного сохранить забор, вставая в ворота, прилагая отчаянные усилия, чтобы отбить точные удары Спаса. Зимой только он один съезжал на санках не к поломанному забору, а к бетонной стене, вытянув вперед ноги, чтобы защитить от удара санки…
Сейчас, подходя к пустырю, к потемневшей от дождей' стене, Крум сразу услышал глухие удары футбольного мяча. Спас был явно не один, и в воротах перед забором, как всегда, стоял Иванчо.
Крума так и подмывало пройти мимо дома Андро. После того вечера, когда он увидел Лину с братом Паскала, Крум ни разу не заходил к Андро. Бабушкины слова открыли ему что-то новое в нем самом, о чем он и не подозревал. Теперь, когда он услышал удары мяча, не было желания делать крюк и пройти мимо дома Андро и только потом направиться сюда, на пустырь, как ему хотелось раньше. Крум не понимал, что с ним, но был уверен: как бы он ни поступал, что бы ни делал, надо быть честным прежде всего перед самим собой, а уж потом перед другими.
«От людей убежишь, от себя — нет», — любила повторять бабушка. И еще: «От страха убежишь, от стыда — нет!»
Обойти дом Андро, никому ничего не объясняя, сразу направиться к пустырю — тоже как-то глупо. В то же время, хотя он знал, что Лина сейчас в школе и ему все равно ее не встретить, а может быть, именно поэтому не заходить к Андро было так заманчиво, сладостно-мучительно, что Крум поддался охватившему его настроению.
Обычно Лина возвращалась позднее, и Крум чувствовал ее приближение, еще не успев увидеть. Всем казалось, что он всецело поглощен игрой с друзьями, а Крум почти не сводил глаз с горбатого мостика. И вдруг его охватывало какое-то странное волнение. Появлялась тонкая фигурка Лины, обхватившей обеими руками сумку. Крум мгновенно преображался. Вот он — притворно сосредоточенный, взволнованный, оживленный… А все его существо — глаза, уши, колотившееся сердце — устремлялось навстречу девочке, которая медленно приближалась по тротуару.
Никто не кричал: «Лина идет из школы!» На улице и на пустыре тоже все было по-прежнему. Андро, например, даже не замечал появления сестры, а Круму в эти мгновения казалось, что все на свете переворачивается: внутри у него что-то кричало, рвалось, ликовало. И новый день, в сущности, начинался для него только сейчас.
Он и сам не понимал, что с ним происходит. Впрочем, Крум не очень-то задумывался над тем, что почему-то так волновало его. Так было до того вечера, как Крум увидел Лину с незнакомым парнем. Крум с мальчиками, как обычно, был в тот час на пустыре. Лина прошла мимо, даже не взглянув на недавних своих приятелей. Андро тоже было не до сестры. А у Крума все внутри похолодело, как будто он вдруг оглох, или нырнул в морскую пучину, или, наоборот, стремительно поднялся ввысь на самолете. И долго еще, пока Лина и незнакомый парень не скрылись за углом, он все проваливался куда-то, а потом вдруг ясно осознал: вчерашнее, привычное исчезло. Так Крум вступил в пору возмужания, но возмужания безрадостного, когда понимаешь, что ты уже не тот прежний и никогда не вернется беззаботность, в которой ты пребывал до вчерашнего дня и с которой еще не расстались твои друзья.
За спиной Крума послышался знакомый звонок, скрип-нули педали, мягко зашипели шины, и, не поворачивая головы, Крум узнал Яни. Больше никто не умел подъезжать так незаметно, неожиданно, и никто другой не произносил Крумово прозвище так: «Боцка», нечто среднее между «т» и «ц». Крум, Яни и все их приятели учились вместе с первого класса, хорошо знали друг друга, и давно уж никто не обращал внимания на то, как произносит Яни некоторые слова, когда он волнуется. Учителя тоже привыкли к этому. Это было нечто свойственное только ему, как и красный пионерский галстук, который он не снимал никогда.
— На пустырь, да? — спросил Яни, поравнявшись с Крумом.
Подражая Круму, он купил велосипед тоже оранжевого цвета. Велосипед у Яни всегда сверкал чистотой. Над крылом приделана фара, и сумка с инструментами находится под сиденьем, а не в багажнике — все как у Крума. Единственная разница — сине-белый греческий флажок, который Яни прилепил к раме, там, где у Крума пестрела яркая фабричная марка «Балкан».
— На пустырь!
— Ребята уже играют?
— Играют, — подтвердил Крум.
Яни искоса взглянул на приятеля.
Они ездили на велосипедах одинаково медленно, немного даже лениво, время от времени почти замирали на месте, не поворачивая руль для равновесия, соблюдая дистанцию, оба высокие, сдержанные, молчаливые. Только Крум был более светлым, не светлоглазым, а именно светлым, а Яни — типичный южанин, смуглый, со своеобразным овалом лица, прямым носом и густыми вьющимися волосами.
Сильный не по годам, замкнутый, Яни был загадочно молчалив, и мальчики не знали, что это — стеснительность или вообще таков у Яни характер, но впечатление о недоступности Яни еще более усиливалось. Яни открывался только в обществе Крума. Ему единственному отдавал он свою молчаливую, но верную и неизменную дружбу, и все знали: что бы ни случилось с Крумом, попади он вдруг в беду, рядом обязательно окажется Яни. Сначала его называли Грек, и только Крум упорно звал друга Яни, только Яни. Постепенно приятели, а скоро и весь класс привыкли к необычному, звонкому и краткому имени своего одноклассника.
Много лет назад, когда они пришли в первый класс, учительница Николова стала вызывать их по списку в журнале и спрашивать, где кто родился, кем работают родители, а сама внимательно поглядывала на каждого. Яни, помнится, так ответил на ее вопросы: «Родился в Софии, в Болгарии, но мы из Эллады, из города Лариса, а отец работает на заводе электрокаров».
В классе засмеялись — первый общий ребячий смех, который тут же сдружил их, и, вчера еще незнакомые, мальчики и девочки сразу почувствовали себя сплоченнее. Так же будут они смеяться вместе и во втором, и в третьем, и в старших классах и так же умолкать под спокойным и усталым взглядом учительницы.
Но тогда смех еще не успел замереть, как Иванчо встал из-за парты и крикнул: «Скажи: „Спас!“» — «Спас!» — не поняв, в чем дело, отчетливо повторил Яни, мягко произнося звук «с».
Класс снова залился смехом.
Учительница, терпеливо выждав, пока они успокоятся, тепло произнесла: «Садись, Яни!»
Яни сел. Он сел рядом с Крумом — совсем случайно, просто, входя в класс, они оказались рядом: светленький, аккуратный Крум и смуглый, черноглазый Яни. С тех самых пор уже столько школьных лет, каникул, зим и весен они неразлучны…
Удары мяча, голоса Спаса и Иванчо слышались все отчетливее.
— Что ты лупишь изо всех сил? — доносился усталый голос Иванчо.
— Сейчас опять повалит забор, — заметил Яни, медленно вращая педали велосипеда.
На мгновение все затихло. Потом, прежде чем Крум и Яни успели понять, что произошло, с пустыря донесся глухой удар, сопровождаемый сухим треском и криком Иванчо, одновременно ликующим и унылым:
— Попал!
Крум и Яни быстрее заработали ногами. Через минуту перед ними открылся пустырь с темным забором в глубине. Спас и Иванчо повернули головы, несколько мальчиков поменьше тоже перестали играть в мяч и уставились на забор.
Толстая доска вылетела почти под прямым углом, в образовавшейся щели застрял новый футбольный мяч Спаса — из кусочков светлой и черной кожи.
— Ну, все, забору конец, — оценил положение Яни. — Потрясающий у него удар!
Несмотря на все старания отца Иванчо, забор здорово был расшатан, и при каждой попытке вытащить застрявший мяч доски ходили ходуном.
— Подожди! — остановил Спаса Иванчо. — Подожди, так ты совсем забор повалишь.
С необыкновенной при его полноте ловкостью Иванчо перепрыгнул через забор. Отошел в сторону. Поднял сжатую в кулак правую руку. Нацелился. Напрягся и, молниеносно опустив руку, толкнул мяч плечом. Мяч вылетел на пустырь. Но зато теперь в дыре между досками застрял сам Иванчо.
— Пропади ты пропадом! — рассвирепел он, пытаясь вылезти.
Потом, убедившись в тщетности своих усилий, подался вперед, резко наклонился и, с треском выломав еще две соседних доски, выбрался.
Крум и Яни, облокотившись на велосипеды, молча наблюдали за происходящим.
— Ну, вот и все! Готово! — удивленно проговорил Иванчо, с невинным видом разглядывая доски, точно сломал их кто-то другой. — Вот уж теперь отец расшумится!
То, что отец Иванчо станет ворчать и в ближайшую субботу снова примется чинить забор, было настолько в порядке вещей, что мальчики снова принялись за игру, а Спас взял мяч. Он то ловко подбрасывал его ногой, то отбивал головой.
— Ну, вы идете? — спросил он Крума и Яни, не отрывая глаз от мяча.
Крум обернулся к Яни:
— Тебе хочется погонять мяч?
Яни безучастно пожал плечами. Он во всем следовал Круму и сейчас, как обычно, ждал, что тот решит. Конечно, можно и мяч погонять. А велосипеды оставить в стороне, у стены, чтобы какой-нибудь нечаянный удар не попортил спицы.
Но Круму играть не хотелось. Он все еще не мог отделаться от своих мыслей, все ощущал во рту сладкий и липкий запах айвового варенья. Смутное беспокойство и волнение не покидало его, а потому ему не сиделось на месте. А что может быть в таком случае проще, если у тебя есть велосипед? Знай себе крути педали. Монотонно шуршат шины, проносятся мимо машины, сверкает во всем своем осеннем великолепии заходящее солнце, а рядом молча крутит педали Яни и, как это бывает только у настоящих друзей, не стесняет его ни своим молчанием, ни говорливостью.
— Поехали!
Мальчики въехали на холм. Огляделись. С минуту постояли неподвижно, прислушиваясь к мерным ударам мяча, — Спас подкидывал мяч ногой, потом отбивал головой, снова ногой, снова головой. Слышалось недовольное ворчание Иванчо из-за сломанного забора, визг и крики малышей, возившихся со стеклянными шариками. Можно ехать куда глаза глядят, все улицы принадлежат им, и, как только Крум дал сигнал — нажал на звонок — и поехал вниз по улице, Яни быстрее завертел педалями, стараясь не отставать от товарища.
Не было поблизости ни лугов, ни лесов, до горы Витоши добраться нелегко, а мальчикам так хотелось побродить на просторе!
В маленьком скверике поставили скамейки, оградили газон, насыпали песок в песочницы, и в скверик стали приходить в основном женщины с малышами. Пенсионеры тоже целыми днями сидели в сквере со своими авоськами. И матери из-за своих отпрысков, а тем более старики не выносили громких мальчишеских криков, не говоря уж об их веселых играх.
Стало быть, мальчикам оставались тесные дворики, уличные тротуары, запруженные машинами проспекты, пустырь да школьный двор — правда, просторный, но заасфальтированный до самого забора, без единого деревца или кустика. Здесь можно было играть и в футбол, и во что угодно, но мальчиков не тянуло туда — какая там игра! Терялось ощущение свободы, охватывала какая-то скованность, точно просто продолжалась большая перемена…
Яни никогда не спрашивал, куда они направляются, поэтому Крум мог спокойно крутись педали и не оглядываться. Время от времени он слышал тихое шуршание шин за собой, ощущал присутствие друга — Яни неукоснительно следовал за ним.
Как только мальчики миновали узкие, сравнительно тихие улицы, где чувствовали себя хозяевами, Крум подался вправо. Ехали у самого края тротуара, а машины, поравнявшись с мальчиками, уносились вперед. Каждое неосторожное движение влево было рискованно: если даже зажатый потоком машин водитель заметит их вовремя, ему едва ли успеть свернуть в сторону. Если Здравка каталась вместе с ними, Крум никогда не ездил сюда и не разрешал ей выезжать на проспект. Договорились раз и навсегда: хочется поиграть в школьном дворе — слезай с велосипеда, пройди пешком опасную зону проспекта и по мостику, тоже пешком, толкая велосипед перед собой, перейди на другую сторону.
Школьный двор иногда все же манил, просторный и безопасный, особенно к вечеру, когда расходились по домам младшие школьники и никто не мешал, делай что хочешь: повороты, восьмерки, зигзаги — любые выкрутасы. Собиралась целая команда мальчиков, у всех «балканы» — и совсем новенькие, и видавшие виды. Кое-кто мог похвастаться французскими, английскими и итальянскими великами, но таких было немного, и они не возбуждали зависти то ли потому, что владельцы «балканов» были более дерзкими и искусными велосипедистами, то ли потому, что всякие гам задаваки и пижоны, как выражался Иванчо, вообще не очень-то имели здесь вес.
Собирались и девочки, и мальчики, приходили зрители с соседних улиц полюбоваться искусством своих товарищей и время от времени тоже сделать на велосипеде круг-другой.
Более скромное место во дворе занимали обладатели роликовых коньков, по-своему не менее искусные, чем велосипедисты. То стремительное, то медленное и равномерное жужжание роликов неизменно носилось над двором, сдавленным с одной стороны фасадом школы, с другой — жилыми домами.
Издали вся эта шумная вереница походила на пеструю карусель. Порой жильцы возмущались шумом и жаловались и школу, но директор школы, энергичная женщина, долгие годы работавшая учителем, неизменно отвечала: «Двор для детей, двор для игры! Где им еще поиграть, если не здесь!» И сразу пресекала все жалобы и объяснения.
Сейчас Крум, как обычно, направился к школьному двору. Недалеко от большого моста, по которому тянулись бесконечные потоки автомобилей, троллейбусов и трамваев, Крум свернул влево, к крайней полоске шоссе. Он сделал предупредительный знак левой рукой, и водители дали им с Яни возможность спокойно проехать.
На мосту они слезли с велосипедов. Прошли сквозь густое скопление автомобилей и только на другом берегу реки снова сели на велосипеды. Невдалеке, по направлению к центру города, бросалось в глаза старое здание райсовета. Стены здания недавно покрасили в светло-желтый цвет, колонны и оконные карнизы — в коричневый, и на фоне унылых соседних зданий дом этот привлекал глаз. Только ли глаз? Или сердце тоже? «Главное, сердце», — частенько говорила бабушка Здравка.
«Но почему я точно в первый раз его вижу?» — подумалось Круму.
Здание было совсем недалеко от перекрестка и их пустыря, и Крум не раз слышал от бабушки о своем деде, печатнике с белыми усами и тонким благородным лицом, но никогда еще не переступал порога райсовета. В его сознании мемориальная мраморная доска на доме никогда не связывалась ни с ним самим, ни со Здравкой, ни даже с бабушкой. Крум знал, что память о деде — неделимая часть жизни их семьи, его самого. Не зря ведь его часто зовут внуком Крума Бочева, а Здравку — внучкой Крума Бочева. Ну и что из этого? Крума, признаться, это мало волновало.
До сегодняшнего дня, до этой минуты.
Но почему?
Может, и вправду увидел старый дом не глазами, а сердцем?
— Ты всегда смотришь на этот дом, когда мы проезжаем мимо, — сказал Яни, замедляя ход.
Может быть, друг почувствовал его волнение?
— Покрасили его, — пожал плечами Крум.
Значит, он всегда посматривал на здание райсовета. Конечно, в такие минуты в памяти сразу возникал дедушка. Крум отчетливо представлял, как дед выходит из здания, неспешно шагает домой, энергично, уверенно и в то же время плавно, — говорят, у Крума походка точно такая.
Было приятно, что райсовет отремонтировали. Старый дом стал строгим и красивым, не похожим на другие дома на проспекте, единственным в своем роде.
— Надо как-нибудь зайти туда посмотреть, — небрежно заметил Крум.
— Сходим! — улыбнулся Яни.
Мальчики двигались справа, по краю тротуара, но теперь уже не было необходимости пересекать улицу. Свернули в первую прямую улочку и, не слезая с велосипедов, оказались в школьном дворе.
Велосипедистов здесь было немного. Любителей летних роликовых коньков и того меньше, только изредка слышалось длинное «жжжи» — и снова все замирало. Было еще рано, вернее, Крум и Яни пришли слишком рано — вторая смена в школе еще не кончилась, а кому охота играть под строгими взглядами учителей, поглядывающих в распахнутые настежь окна? Шумная ватага в школьном дворе под этими взглядами невольно чувствует себя скованно.
Яни взглянул на часы. Поднял глаза к крайнему левому классу на втором этаже — там училась Здравка.
До конца последнего урока оставалось не больше пяти-шести минут.
— Подождем?
— Подождем, — согласился Крум. — Но знаешь, ее тут один провожает. И она так гордится этим! Говорит, никто ей больше не нужен. А этот Паскал — шут гороховый, да и только! Скоро сам увидишь.
— Я его видел. И никакой он не шут гороховый и не француз. И голова у него варит.
— Брат у него тоже не дурак, — осторожно заметил Крум.
Мальчики прислонили велосипеды к забору и уселись на низкую каменную стенку, словно специально устроенную для отдыха, — здесь хорошо посидеть: перед тобой двор, школа, а уроки кончились и можно не волноваться, что вызовут к доске, да и вообще в класс идти не надо.
— Знаю я его брата. — Яни сердито вздернул голову, и в глубине его темных глаз что-то сверкнуло. — Давно уж отслужил в армии, а еще не устроился на работу. И не учится нигде, знай слоняется без дела.
Крум искоса посмотрел на приятеля.
Стало быть, Яни тоже видел Лину с братом Паскала — не мог не видеть. Наверно, это он и имел в виду?
…- Потому и Паскал такой, — закончил Яни.
— Какой? — поймал его на слове Крум.
Крум впервые осознал, что именно с появлением на пустыре Паскала, а потом Лины в обществе его рослого брата что-то в нем самом изменилось. Никто этой перемены не замечал, только он сам, но чувствовал ее теперь везде и всегда.
Круму вдруг подумалось: как раз сейчас Андро пробует спой тромбон — надувает щеки, тонкие губы сведены от напряжения. А Спас с Иванчо гоняют мяч. Небось опять выломали в заборе доску-другую. Отец Иванчо пока на работе, а вот завидят его — и ходу! Евлоги, конечно, спешит сейчас в магазин — помогает больной матери. Надо отдать ему должное: он успевает купить нужное за невероятно короткое время. Никто лучше Евлоги не знает магазины и продавцов во всем районе, он просто летает по улицам, быстрый и неутомимый. Мальчики порой даже злились на него: дома им всем кололи глаза этим Евлоги, вечно ставили его в пример. А вот Дими в это время… Кстати, который сейчас час? Крум посмотрел на свои часы. Да, Дими уже целый час в спортивном бассейне. Тренеры заметили его год назад. «Симчо, — говорили они отцу Дими, — твой парень плавает, как угорь. Какой он гибкий да ладный! Пусть приходит к нам, подучим парня!» Дими не раз рассказывал приятелям, как все это было. И теперь каждый день у Дими долгие тренировки, дорожка за дорожкой. Кожа его просто пропиталась водой, а лицо изо дня в день становилось тоньше, обглоданное усталостью от тысяч метров, которые он проплыл за год тренировок. К областным соревнованиям его не допустили: приберегали к республиканским. Дими был уже в хорошей форме, как говорили тренеры, и под с шитой на вырост одеждой угадывалось сильное, неутомимое, мускулистое тело.
У всех свои заботы, обязанности.
«Все заняты! — подумал Крум. — И на пустыре появятся, только когда освободятся».
Да, одноклассники — его верные и преданные друзья. Конечно! Но самым верным среди них, самым дорогим, выбранным среди всех сердцем, а не умом, не глазами, был, конечно, Яни. Да, грек Яни, родившийся здесь, в Болгарии, но помнящий родину своих предков — Элладу. Яни никогда не скажет «Греция», всегда «Эллада».
Летели годы, но каждый раз, когда хотелось кому-то довериться, понять, оценить новых людей, Крум прислушивался прежде всего к голосу собственного сердца.
И сейчас он понял, что спрашивает не Яни, а себя самого. Что же это заставило его задуматься? Паскал? Этот пацаненок, эта малявка? Или его брат Чаво? Или сразу вдруг повзрослевшая Лина? А может, возникшее ощущение, что выросли они с ребятами из недавних детских игр и проказ? Или заботливо выглаженный пионерский галстук друга, который тот носил, не снимая?
Сейчас… Что это значит — сейчас? В отличие, скажем, от вчера, когда отец был участником бригадирского движения, или от того, еще более далекого времени, когда дедушка каждый день ходил в райсовет? Или еще более далеких времен?
Изменилось ли что-нибудь? И что именно?
Строятся новые здания, Крум помнит: вместе с Яни, Иванчо, Спасом, Андро, Евлоги, Дими, вместе со всем классом они однажды чуть не свалились в глубокий котлован строящегося вокзала. Удивленно смотрели они на взрытый грунт, спорили, где раньше стоял тот или иной дом, фантазировали, каким будет этот новый вокзал, как протянутся тут туннели, переходы и железнодорожные линии. Здание выросло прямо на глазах! Разъехались в разные стороны строители, и снова зазвенели трамваи, зашипели битком набитые троллейбусы, разноцветными жуками помчались легковушки, исчезая в подземных туннелях. Все пошло своим чередом, торопливо и озабоченно двигался поток людей и автомобилей, только теперь в новом, бетонно-асфальтовом русле.
Что-то уходило, менялось, но что?
«А может быть, мы сами! — размышлял Крум. — Растем, меняемся, становимся другими, вот и классный руководитель сказала: „Как вы изменились с прошлого года!“. Да нет, я все такой же! — Крум дотронулся до груди, лица. — Конечно, такой же! И Здравка, и Яни, и ребята, только бабушка стала еще меньше ростом!»
Яни заметил невольное движение друга. Пригладил галстук на груди. Темные глаза мальчика мягко засветились, в их блестящей глубине словно отразился медленно уходящий день. Ровно и протяжно зазвенел школьный звонок, и сразу все ожило: и школа, и двор. Из классов хлынул радостный, ни с чем не сравнимый гвалт, сразу поглотивший все другие звуки. Так бывает только после звонка с последнего урока. И тотчас из широкой входной двери высыпала стайка девочек в школьной форме с белыми воротничками и синими чавдарскими галстуками. Казалось, они давно стояли за дверью и только и ждали, чтобы прозвенел звонок. Классы и коридоры заполнял тот же радостный гвалт, и из дверей кучками выбегали школьницы.
— Крум, Крум! — перекрыл общий шум звонкий голосок Здравки.
Девочка быстро отделилась от подруг, и мальчикам, стоящим у ограды, вдруг показалось, что она не бежит, а плавно скользит по направлению к ним.
В одной руке Здравка держала портфель, другой крепко сжимала руку Паскала. Стараясь не отставать, он тоже бежал изо всех сил. Его всегда серьезное лицо слегка порозовело.
— Вот и я, — произнесла Здравка не переводя дыхания и легко остановилась перед Крумом и Яни.
— Вот и мы, — следом за ней повторил Паскал.
— На сегодня все, — подхватила Здравка.
— Последний урок, последний звонок, — важно заметил Паскал и тут же принялся за жвачку.
В правой руке у него тоже был портфель и палка с нарисованным знаком «Стоп».
Несколько Здравкиных одноклассников двинулись было за Здравкой и Паскалом, но, увидев Крума и Яни, остановились поодаль.
— Хотят перейти проспект вместе с нами, — повернула к ним голову Здравка. — Да вот смелости не хватает.
— Ты о чем? — удивился Яни.
— Смелости не хватает идти с нами, — с досадой пояснила Здравка. — Смеются над Паскалом, а сами завидуют.
— Это у болгарина вторая натура — зависть! — выпалил Паскал одним духом.
— Все болтаешь? Прав Спас. Как заведенный болтаешь, — недовольно посмотрел на него Яни. — Много ты понимаешь в натуре болгарина!
— Я читал, знаю. — Паскал переложил жвачку за щеку.
— Они и правда нам завидуют, — упорно повторила Здравка. — Орут как сумасшедшие! Как в цирке! А Досё вон глаза вылупил.
— Строите из себя клоунов, вот цирк и получается, — пожал плечами Яни.
— Лучше бы занимались больше, чем смеяться, — сказал. Паскал и пристально уставился на кончик своего носа. — И шоферы, и пешеходы — все!
— Не надо так, прошу тебя. — Здравка дернула его за рукав. — Знаешь, что я боюсь.
— Ладно, не буду. Но я все впитываю, как промокашка. И трудно отвыкаю от своих привычек.
«Здравка-то командует», — подумал Крум, удивленный, что своенравная Здравка наконец-то нашла себе товарища, такого же сумасбродного, как она сама, и в то же время податливого, сговорчивого. На него и на Яни не могло не произвести впечатления, что его сестренка и Паскал словно дополняли друг друга.
Но как они не похожи! Паскал повыше ростом и не такой худенький, как Здравка, острое личико придает всему его облику что-то нервное, порывистое. Низко спущенный пояс джинсов удлиняет фигурку, но создает ощущение небрежности в одежде. Куда ему до аккуратистки Здравки, у которой каждая складочка заботливо отглаженного фартучка с широкими белыми воланами через плечо так и веет чистотой. Короткие волосы Здравки старательно зачесаны и заплетены в две толстые косички.
Паскал не носил чавдарского галстука. Здравка и Яни, наоборот, всегда с галстуками — наглаженными, пышными, шелковистыми. У одной синий галстук, у другого — красный, пионерский.
«А ведь я тоже галстук не ношу! — подумал вдруг Крум. — Когда нам говорят, что надо быть в пионерской форме, повязываю галстук. Но сам, без подсказки, как Яни и Здравка, — такого не бывало.
А достаточно ли носить сначала синий, чавдарский, потом красный, чтобы быть настоящим пионером? И что это значит — быть пионером? Ведь, конечно, мало только повторять слова о своей любви к родине, о доблести труда, о прилежании в учебе и внимательном отношении к людям».
Двор опустел, одноклассники Здравки и Паскала расходились по домам. Как всегда в этот час, на асфальте остались одни велосипедисты и любители роликовых коньков.
— Дай мне велосипед покататься! — попросила Здравка. — А Паскал возьмет у Яни.
Крум колебался. Меняться со Здравкой велосипедами совсем не хотелось. Про себя он называл ее велик девчачьим, никогда на нем не ездил и не любил, когда сестра садилась на его велосипед. Хотя на вид «балканы» почти одинаковы и куплены одновременно, только расцветкой разные — один оранжевый, другой белый. А Яни? Даст Паскалу велосипед? Вдруг Паскал вообще не умеет ездить? Если бы Здравка попросила у Яни велосипед для себя, куда ни шло, но для этого говоруна…
— Здрава, ты знаешь… — строго начал Крум, но Здравка нетерпеливо перебила брата самым ласковым тоном, на который была способна, и с этим своим непередаваемым «братик», нежным, умоляющим и твердым одновременно, против которого он просто не мог устоять:
— Прошу тебя, братик! Только один кружок, и мы вернемся. Мы никогда не катались вместе с Паскалом, он умеет, у него был «пежо», а у его брата и сейчас есть, только он ему не дает, да и Паскал не хочет. Да? — Она повернулась к Паскалу в ожидании подтверждения своих слов.
— Вместо «пежо» мне обещали «скейт-борд», французский, — небрежно пояснил Паскал, ни на минуту не переставая жевать резинку.
Яни уставился на него, и его темные глаза округлились. Крум навострил уши.
— Слышали? — торжествующе крикнула Здравка. — Он нам тоже даст покататься. На «скейт-борде» мчишься куда быстрее, чем на санках. Да? — снова обратилась она к Паскалу.
— Потрясающе! — сдержанно кивнул он.
— Ну что ж, давайте, — не выдержал Яни. — Не по одному, а по пять кругов сделайте. Давайте! — повторил он одно из любимых словечек Крума.
Здравка и Паскал положили портфели на каменную ограду.
Здравка села на велосипед Крума и легко рванула вперед. А Паскал сначала внимательно осмотрел велосипед Яни, поставил ногу на педаль, оттолкнулся и только тогда перекинул другую ногу через сиденье.
— Неплохо, — похвалил Крум.
— Так он же на «пежо» ездил, — ядовито заметил Яни. Крум внимательно посмотрел на друга.
Они все так же сидели рядом на теплой, низкой ограде, а медные солнечные блики играли на окнах школы. Здравка и Паскал выделывали на велосипедах немыслимые восьмерки и зигзаги. Паскал то догонял девочку, то отставал, и тогда Здравка неожиданно вырывалась вперед. Все было радостно и привычно, как в давно знакомой игре.
— Ты из-за «скейт-борда» разозлился? — поколебавшись, спросил Крум.
Мальчики видели эти доски, пластмассовые или металлические, слегка вытянутые, почти эллипсовидные, с роликовыми колесиками, как у летних коньков. Встанешь, оттолкнешься — и колесики тотчас зажужжат, доска вихрем понесется по асфальту. Со стороны кажется — кататься на них легко, но, едва ступишь на маленькую доску обеими ногами, возникает ощущение, что все вокруг тебя превратилось в наклонный каток, и только тот, кто отлично умеет сохранять равновесие и владеть своим телом, испытывает ни с чем не сравнимое удовольствие — точно отрываешься от земли и летишь, летишь.
Мальчики искали их в спортивных магазинах, но нигде таких досок не продавали, даже не производили еще, а те, что появлялись у кого из знакомых, были, оказывается, привезены из-за границы. Даже название у них иностранное — «скейт-борд».
И вот Паскал, у которого к тому же был «пежо»…
«Но почему был? Он и сейчас есть», — мелькнуло в голове у Крума. Ведь Здравка так и сказала: «У его брата есть!»
А раз у его брата есть «пежо», значит, Лина наверняка его видела на этом велосипеде.
Настроение сразу испортилось, в душе поднялась неприязнь и к Лине, и к Андро. Не к Паскалу и его брату, а именно к Лине, которая заглядывается на французский велосипед, и к Андро, который спит и видит какой-то невиданный и неслыханный саксофон — купить его можно только на валюту.
«У нас все необходимое есть, да и вообще понятие „бедность“ не существует на нашей улице, но почему даже Здравка, его собственная сестра, бредит вещами, которые не каждый может иметь? Не отвечай мне, Яни, друг! Ничего не говори. Так же, как ты промолчал, когда я спросил про Паскала, не говори ничего и сейчас. Ты же знаешь мою глупую привычку задавать вопросы, на которые я сам должен найти ответ. Да, это вопросы к самому себе, но произнесенные вслух единственному другу. Да, Яни рассердился на Паскала и на его брата и из-за „скейт-борда“ и из-за всего, чего у них с Яни не было и о чем они даже не помышляли, но что сводило с ума даже таких девчонок, как Здравка…»
— Здрава! — сердито позвал Крум.
Здравка и ухом не повела. Быстро и легко носилась она по асфальту, поворачивая руль то вправо, то влево, выделывая невероятные пируэты, и Паскал не поспевал за ней. В какое-то мгновение они даже подъехали к самому входу в школу и прокатились по железной решетке, о. которую школьники вытирали ноги.
— Здрава! — теперь уже испуганно крикнул Крум. — Шины проколешь!
Плоская решетка снова зазвенела, Здравка и Паскал дали задний ход, Здравка даже приподняла переднее колесо велосипеда, норовя скорее проскочить, но заднее колесо уже застряло между железными прутьями. Девочка потеряла равновесие и остановилась.
— Это еще что за номера! — рассердился Крум. — Если проколола шину, сниму заднее колесо с твоего велосипеда.
Издали нельзя было разглядеть, что произошло. Но Здравка уже вытащила колесо. Паскал сделал плавный поворот вокруг нее. Крум и Яни направились к ним, чтобы наконец забрать свои велосипеды, но тут из школы вышли директор и Здравкин классный руководитель. За ними с огромной сумкой на молниях семенил коротко остриженный мальчуган в школьной форме с белым девчачьим воротничком.
Это был Досё, сын классного руководителя Геринской, женщины энергичной, похожей на мужчину. Над губой у нее даже пробивались небольшие усики.
Паскал мгновенно слез с велосипеда и чинно вытянулся. И резинку жевать перестал.
Здравка сняла ногу с педали и грациозно коснулась железной решетки.
Похоже, Геринская сделала ей замечание, потому что Здравка медленно, с явной неохотой слезла с велосипеда и замерла, вызывающе подняв голову.
Геринская и директор ушли. За ними все так же уныло и безропотно плелся Досё Геринский, а Здравка и Паскал не стали садиться на велосипеды.
Заднее колесо было в порядке, если не считать двух светлых полосок — следов решетки.
— Она сказала, чтобы мы ездили осторожнее! И не воображали о себе бог знает что, если уж нам удалось перекрыть уличное движение. И чтобы больше это не повторялось. Хочет, чтобы мы были осторожными, как ее слюнтяй Досё.
— От женщины с усами, — Паскал принялся жевать резинку, — другого и ждать нечего!
Все знали, что у Геринской властный, суровый характер, угодить ей трудно, еще труднее заставить ее выйти за рамки холодной, безразличной строгости, которую некоторые называли принципиальностью, а Здравка считала проявлением дурного характера. И вот надо же — жуткое невезение: попасть в класс именно к Геринской!
— Вдобавок ко всему, — вздохнула Здравка, — будет родительское собрание! Специально чтобы жаловаться на нас!
— А ты боишься? — спросил ее Крум.
— Я? — с искренним возмущением воскликнула Здравка. — Ты меня не знаешь!
— Знаю, — усмехнулся Крум.
— Боится этот слюнтяй Досё, — подхватил с видимым безразличием Паскал. — И больше всего собственной матери!
— А ты не боишься матери? — спросил его Яни.
Паскал резко повернулся к нему, точно хотел что-то сказать, но промолчал, и все вдруг заметили, как он побледнел. Казалось, щеки мальчика сразу пожелтели, а тонкий нос заострился, и сам он весь сжался, потемнел.
Крум и Яни сели на велосипеды.
— Идите домой, — сказал Крум. — И все-таки поосторожнее с этим «Большим стопом» на проспекте. — Злость его прошла: велосипед в порядке, да и Паскал, грустный, беспомощный, вызывал острое чувство жалости. — Мы покатаемся!
Паскал вдруг протянул к мальчикам руку. На маленькой ладони лежали две нераспечатанные жевательные резинки в ярко-фиолетовых блестящих обертках. Паскал отвел взгляд, но мальчики и Здравка с удивлением заметили, что подбородок его слегка вздрагивает, а уголки тонких губ страдальчески опустились.
Не сейчас, а гораздо позже мальчики поймут, что эта самая длинная улица в городе, по которой столько хожено ими, будет помниться им всю жизнь.
Сейчас Крум и Яни были в самом начале этой улицы. И город на крутом, застроенном с незапамятных времен холме величественно возвышался перед ними. Длинная и прямая, носящая имя нашего национального героя Георгия Раковского, улица черным асфальтовым острием, окаймленным по краям пышной зеленью, врезалась в середину холма. Кое-где на перекрестках мальчиков останавливали мигающие светофоры у белых пешеходных дорожек, но они неутомимо крутили педали и бесстрашно мчались к манящему бетонно-кирпичному лабиринту. То и дело их обгоняли машины, но Крум и Яни крепко сжимали рули велосипедов, ни разу не дрогнув и не свернув с дороги. Конечно, можно ездить и по соседним улицам, тихим и узким, но там гранитное покрытие, а мальчиков привлекал асфальт: шины тихо шуршат, нет той противной тряски, как на граните, — дергаешься, как припадочный. «Не гранит, а булыжник!» — говорил обычно Яни, замедляя ход, чтобы не попортить велосипед.
А вот асфальт совсем другое дело!
Яни ехал неторопливо, привыкнув покорно следовать за другом: какая разница, куда они направляются. Крум был сегодня более озабочен и задумчив, чем обычно. Из головы не выходило печальное лицо Паскала, и, хоть они с Яни ни словом не обмолвились об этом, он догадывался, что и Яни, и Здравка тоже заметили неожиданную перемену в Паскале.
«Что случилось? — спрашивал себя Крум. — Почему Паскал вдруг решил подарить нам импортную жевательную резинку, а сам даже бросил жвачку? Такой уж он воспитанный? Или просто сдержанный? Что это?»
Время от времени из боковых улиц вырывались лучи заходящего солнца, которое садилось за синеватыми очертаниями Люлина, расплывчатыми, как мираж. Нежный купол Витоши синел над холмом в ясном, по-осеннему неярком небе. Заходящее солнце золотило улицы и деревья, здания и мостовые, вдруг проникая в темные глубины города, освещая его укромные уголки, лишая их тени и таинственности. И на душе Крума вдруг потеплело.
Он опять спрашивал себя: что это? Люди вокруг него переменились или он сам вдруг стряхнул детскую наивность и веселость и хочет понять что-то очень важное, самую суть, понять и найти себя, свое место в этом мире? Бабушка Здравка, любимая, заботливая и добрая, заменила им со Здравкой рано умершую мать. Образ матери жил в сердце Крума светлым весенним облачком, таким нежным и легким, что он никому не говорил о нем, боясь, как бы чье-нибудь неосторожное и грубое прикосновение не разрушило самое сокровенное и дорогое в его жизни. И чем Крум становился старше, тем больше понимал отца: тот никогда не говорил о маме, но она словно присутствовала в доме. Крум чувствовал: мама живет в сердце отца, в душе его звучит мамин голос. И мама смотрит на них с ее единственного в доме портрета на стене, где она изображена во весь рост.
Крум любил Здравку, готов был защитить ее, сделать все, чтобы ей жилось хорошо, весело. Жизнерадостная, дерзкая и озорная, как мальчишка, она, казалось, ни о чем таком не задумывается. Крум спрашивал себя иногда, вспоминает ли сестренка, кому она обязана жизнью. Он был уверен, что когда-нибудь и перед ней всплывет образ белого облачка, от которого остался тяжелый земляной холмик, утопающий в цветах.
До недавних пор Крум считал, что сюда, тайное тайных его мира, никто посторонний не проникнет, но незаметно в этот тайный мир, где жила тоска и жажда неиспытанной материнской ласки, вошла Лина, старшая сестра Андро. Круму становилось хорошо уже оттого, что Лина рядом и можно видеть ее, слышать ее голос. Он был тогда еще маленький, такой маленький и глупый, что не спрашивал себя, отчего это так: достаточно просто ощущать Линино присутствие, дышать с ней одним воздухом. С годами это чувство росло в нем, захватывало целиком, наполняло непонятной легкостью и без того легкое весеннее белое облачко, которое жило в нем.
Может, все это оттого, что Лина странно напоминала смутный образ матери, сохранившийся в его памяти?
Привязанность это или что-то большее?
И почему он только теперь задумался об этом, когда ощущение ее близости разрушилось, поблекло, стало будничным, черным и вылилось в непонятное стремление стать сильным и твердым? И одновременно родилось какое-то ожесточение?
Крум думал о друзьях, казалось готовых идти за ним в огонь и в воду, но сейчас понял, что только Яни можно назвать настоящим другом, остальные просто товарищи, хорошие товарищи, вместе с которыми Крум вырос. Тоска, внутреннее ожесточение и желание стать другим, не таким, как раньше, не похожим на сверстников, выливалось в беспокойные и тревожные вопросы. Они то вспыхивали огоньками, то гасли и пробуждали в мальчике новые, «взрослые» мысли.
«Кто ты?» — спрашивал он себя. И отвечал: «Бочка, Крум Георгиев Бочев». — «Есть у тебя товарищи?» — «Есть! Яни, Евлоги, Андро. Конечно, и Иванчо Йота. И Спас, и Дими…» — «А Лина? Лина! Не отвечаешь! Хорошо, крути педали, притворяйся, что просто отправился на прогулку с Яни. А перед ним тебе не совестно? Думаешь, он не понимает, что с тобой? Молчишь. А кто ты? Школьник? Пионер?» — «Школьник. Пионер». — «А что значит школьник? Ты вот учишься, а знаешь, для чего? Кем ты хочешь стать? Ведь без учения нет будущего, разве вам не говорили в школе?» — «Нет. Впрочем, нет, нет… Именно этого нам не говорили, но мы сами знаем… Учимся, чтобы стать знающими, образованными людьми, понимать мир вокруг себя, знать и уметь многое…» — «А пионер? Что значит быть пионером? Молчишь! Разве ты и вправду не знаешь, что значит быть пионером? А ты любишь учиться? Положа руку на сердце? Ведь многим не хочется учиться. А ты можешь представить жизнь без учебы?» — «Нет». — «А без пионерской организации?» — «Не знаю. Тоже нет». — «Почему? Размышляешь, осознаешь себя как личность, мечтаешь стать сильным, твердым, непоколебимым? Но для чего? Чтобы потешить свое самолюбие? Чтобы одержать верх над кем-то? Над кем — еще сам не знаешь. Или…» — «Погоди, погоди! Молчи. Отец, дед, мемориальная доска на доме… Что общего между всем этим: свежеокрашенным райсоветом, долгой командировкой отца в Ленинград, дядей Костакисом и заводом электрокаров, Яни, родившимся в Болгарии сыном Эллады, Евлоги, тренировками Дими, Иванчовым забором, нашими играми на пустыре, Линой? Между всезнайкой Паскалом с его вдруг померкнувшей улыбкой, его братом Чаво, городом и нашей школой у реки? Какое отношение все это имеет ко мне? А раз я школьник, могу я не быть пионером? Не в том дело, чтобы носить каждый день красный галстук. Важно быть связанным со всем, что происходит дома или в городе. Возможно ли это?»
— Эй!
Крум и Яни незаметно свернули с широкой прямой улицы. Теперь мальчики ехали по гранитному покрытию, но шины шуршали по-прежнему почти бесшумно, потому что гранитные блоки были залиты бетоном. Узкие улицы вели к школе, где уже третий год училась Лина.
— Идите сюда!
У входа в магазин на той стороне улицы стоял Чавдар — старший брат Паскала. Рядом с ним сверкал металлической отделкой велосипед. Крум и Яни сразу узнали этот велосипед — не надо было даже переходить улицу, — узнали по раме и особому изгибу руля, по диаметру колес и цветной яркой наклейке.
Мальчики остановились.
Школа и просторный асфальтированный двор будто вымерли, на улице ни души, только у магазина чувствовалось некоторое оживление.
— Вы из нашего микрорайона?
Крум и Яни молчали.
— Кажется, вы дружите с Паскалом, моим братом? — спросил Чавдар.
Он говорил тихо, но мальчики отчетливо слышали его через улицу и хорошо видели: Чавдар был в обычных своих джинсах, в рубашке с закатанными рукавами. Взгляд как у Паскала — спокойный, бесстрастный.
— Идите сюда!
Что-то было загадочное в его крупной фигуре. Яни повернулся к Круму.
Как всегда, он ждал, что скажет Крум. Но на этот раз Крум молчал.
— Боцка! — позвал Яни шепотом, и голос его чуть дрогнул от волнения.
Крум судорожно проглотил слюну, оттолкнулся от газона, у которого они остановились, когда их позвал Чавдар, и плавно покатился к другому краю тротуара.
Яни повернул за ним.
— Вы что, разве меня не знаете? — сдержанно усмехнулся Чавдар.
У Паскала была такая же улыбка, неуловимая, быстрая, когда смеялись только губы, а глаза оставались серьезными.
— Я хочу попросить вас кое о чем. — Чавдар посмотрел налево, в сторону толпы у магазина, посмотрел вправо, туда, где в глубине улицы бесшумно двигались троллейбусы, потом остановил свой дерзкий взгляд на мальчиках. — Вы домой едете или куда-то по делам?
Крум, поглощенный своими мыслями и меньше всего ожидавший встретить сейчас брата Паскала, растерялся. На него нашло странное равнодушие, он вдруг показался себе никчемным, жалким, беспомощным.
— Да так, катаемся, — ответил он как можно безразличнее.
— Вот и хорошо! — оживился Чавдар. — Очень кстати вы подъехали. — И он взглянул на облицованный белым известняком фасад школы, на окна последнего этажа. — Вы не маленькие, и я вам могу довериться. Этот велосипед мне мешает, — продолжал он, кивнув на свой велосипед. — У меня нет времени, я хочу вас попросить отвезти его домой. Вы ведь знаете, где мы живем? То есть я и Паскал. На третьем этаже.
Крум кивнул. Если бы они не знали, что «пежо» принадлежит Чавдару, могли бы подумать, что тут кроется что-то неладное, чуть ли не кража.
Конечно, неудобно толкать перед собой велосипед, вся прогулка пропадает, но велика ли важность прогулка? И угораздило же их налететь на Чавдара!
Душой овладело глубокое безразличие ко всему на свете. Единственное, что хотелось Круму сейчас, это чтобы Яни не понял, не догадался, почему так скис его товарищ, иначе Крум чувствовал бы себя еще хуже. И перед собой-то стыдно, а перед другом и подавно.
Крум сам не понимал, что с ним. Ведь он, в общем-то, и смелый, и непреклонный, и каких только планов не строит! Товарищи его любят, уважают, знают, что он ловок и сообразителен и не перед какой опасностью не отступит. А в то же время он способен взять да и убежать, лишь бы не смотреть в глаза тому, кто ему неприятен. Не раз случалось, что Крума обманывали, а он чувствовал себя неловко из-за того, что другие врут, пасовал перед наглостью.
Крум был искренен и в мыслях и в поступках, но всегда ли хватало у него душевной стойкости и силы? Силы открыто воспротивиться глупости, лжи, несправедливости?
Вот и сейчас он чувствовал себя слабым и жалким перед рослым братом Паскала. Его подавляло уныние, хотя это и не был страх, вовсе нет!
Конечно, они с Яни могли отказать Чавдару. Тому и в голову не придет, что мучает сейчас Крума. Он наверняка считает их с Яни мелюзгой, смотрит на них так, как они на Паскала. А что, собственно, плохого в том, что Чавдар попросил их отвезти его велосипед домой? Наоборот, другие бы даже обрадовались! Им доверен почти новенький «пежо»! Конечно, обрадовались бы. И Евлоги, и Иванчо, и Спас, и…
Тогда почему же он не радуется? А Яни принимает это как должное.
Значит, тут есть что-то касающееся только его одного!
Крум повернулся, скользнул взглядом по стеклам белой школы, блестевшим в лучах заката.
Чавдар посмотрел на часы на руке — сильной мужской руке с набухшими под напором молодой крови венами. На правой руке он носил массивный браслет такого же серебристого цвета, как часы. И вообще во всем его облике было что-то небрежное, раздражающее, нарочитое.
— Ну, в путь, ребята! — дружески поторопил Чавдар. — Паскал, наверно, дома или на улице, где вы обычно собираетесь. На пустыре. Вот удивится, как увидит вас с велосипедом. Только сразу ему не отдавайте, — закончил он со своей неуловимо быстрой улыбкой.
Мальчики на минуту замялись.
Яни слез на землю. Наклонил в свою сторону велосипед Чавдара. Двинулся. Спицы заднего колеса зазвенели тонко, протяжно.
— Можно? — проглотил слюну Яни. — Можно потом немного покататься?
— Что за вопрос? Конечно! И не потом, а сейчас, — ответил Чавдар. — Я же вам его дал.
— Я покатаюсь по нашей улице или в школьном дворе, по асфальту! — возбужденно говорил Яни.
— Ты ведь Яни, да? — с интересом спросил Чавдар. — Грек?
Яни кивнул:
— Грек. Но я родился в Болгарии.
— Идем! — тихо, но решительно позвал Крум.
Никогда он не думал, даже мысли не допускал, что Яни может так растаять из-за какого-то паршивого велосипеда. В этот миг он готов был даже поссориться с другом, но в глубине души сознавал, что все его мысли и действия продиктованы сейчас совсем другим и велосипед тут ни при чем.
— Ты поезжай на «пежо»! — сказал. Крум Яни. — А я буду толкать твой «балкан».
Круму не раз приходилось отвозить домой велосипед Здравки, если она вдруг заиграется и бросит его посреди улицы, так что Круму нетрудно было сейчас толкать велосипед Яни, крепко ухватив правой рукой руль.
— Привет! — крикнул им вслед Чавдар.
— Привет! — весело ответил Яни, устремившись вперед.
Крум въехал на широкую асфальтированную улицу, которая, казалось, карабкалась вверх вместе с росшими на ней зелеными деревьями по крутому холму, увенчанному кафедральным собором. Яни ехал впереди. По сторонам рядами стояли разноцветные машины, у пекарни, из которой шел аппетитный запах свежего хлеба, толпились люди, много народу было и перед овощным магазином, и перед угловым кафе с белыми круглыми столиками и тонкими витыми железными стульями, но Крум ничего не замечал. Люди, дома, улицы, мостовые — все сливалось перед его глазами в одну пеструю ленту, только звон тяжелых колоколов собора отдавался в ушах, и он не мог понять, что это — колокольный звон или оглушительный стук его собственного сердца?
Где-то позади остались Чавдар, школа, Лина в одном из притихших классов, где-то там навсегда остался и он сам, Бочка, вчерашний мальчишка с пустыря…
— Яни! — крикнул Крум, когда они въехали на шоссе. — Яни, подожди! — Его охватило непонятное нетерпение, желание немедленно действовать, в душе не осталось и следа былого уныния и безразличия. — Стой!
Яни подождал его.
— Держи! — Крум подтолкнул «балкан» к приятелю.
Теперь Крум был опять спокоен, уверен в себе, словно сбросил одежку, которая стала мала. И вдруг он ощутил с необыкновенной ясностью, что отныне каждый свой поступок он будет проверять прежде всего судом собственной совести. А жить по совести — это значит прежде всего думать не о себе, а о других людях, жить не только с открытыми глазами, но и с открытым сердцем, как говорила бабушка.
— Боцка, ты куда? — долетел до него крик Яни.
— Поезжай домой! — махнул рукой Крум. — И не говори никому, где я. Я вернусь попозже.
Стоило закрыть глаза, и Крум видел, как они целуются.
В сумерках не разглядеть лиц, но Крум ясно различал два сблизившихся силуэта. Подойти ближе он не осмелился, да и велосипед здорово мешал, но Крум упорно тащил его по незнакомым улицам, проспектам, перекресткам, руки онемели, но он все шел за Линой и Чавдаром, шел как загипнотизированный.
Потом они вошли в парк. Вдали от освещенных широких аллей, вдали от людей, в укромном уголке они целовались. Крум не различал их лиц, но отчетливо представлял, как Лина приподнимается на цыпочки и будто взлетает, даже время от времени отрывает от земли ногу, слегка сгибая се в колене, совсем слегка…
Даже плотно зажмурившись, Крум не мог прогнать это видение. Оно стояло перед глазами, просто голова разрывалась. И тогда Крума охватила твердая решимость во что бы то ни стало понять, что же происходит, когда человек растет, становится старше…
— Крум, Крум, сынок, ты что, спишь?
Стоя на пороге, бабушка озабоченно смотрела на него.
— Ты не заболел?
— Уроки учу, бабушка! — сухо ответил Крум, чувствуя, что слова застревают в горле.
Бабушка тоже услышала напряженность в голосе внука и, притворив дверь, бесшумно ушла.
Позже, не сейчас, он поймет, что матери всегда оставляют сыновей наедине с самим собой: так надо, так требует их возмужание, потому что настал тот долгий и мучительно-сладкий период, когда сын уже не ребенок, но еще не мужчина.
Но это Крум поймет позже, а сейчас он чувствовал себя одиноким, покинутым всеми. Душевное смятение сменилось гневом, благородным возмущением: как бесцеремонно врываются взрослые к тебе в душу, как портят все!
Чавдар, бесспорно, принадлежал к миру взрослых. И когда Крум искал наиболее точное определение того, что он видел и что пытался понять, на ум приходило слово «похитили».
Лина была похищена Чавдаром. Конечно, похищена! Это слово оправдывало кипевшее в Круме возмущение, делало его гнев справедливым, а планы спасения его Дульсинеи реальными. Да, да! И нечего тут смеяться!
Яни, Дими, Евлоги, Андро, Спас, да и ты, Иванчо, нечего вам хихикать!
Все мы читали историю приключений благородного испанского рыцаря, а у всякого настоящего рыцаря есть своя Дульсинея, хоть и не Тобосская.
Лину нужно спасти, вырвать из цепких лап Чавдара.
Крум зажмурился и вдруг совершенно ясно увидел руки Чавдара: на одной серебристые часы, на другой — серебристый браслет. Эти руки обнимают хрупкую фигурку девочки. Она вздрагивает, словно хочет вырваться, убежать, и в то же время тянется к этим рукам как зачарованная. И вдруг замирает.
Чавдар сильный, крепкий, но и Крум не из трусливых. У Крума есть верные друзья, он чувствует их поддержку и готов сразиться с любым похитителем…
— Ты меня звал?
Снова приоткрыв дверь, бабушка растерянно смотрит на Крума.
В это время Крум стоял на стуле с циркулем в руке. Вот-вот бросится в атаку против коварного и сильного врага! Еще миг — и проткнет его!
— Ты что-то кричал, — кротко сказала бабушка.
Крум сконфуженно слез со стула.
Ну почему его не понимают?! Даже бабушка не может понять. Собственная бабушка, самый близкий человек. Готова его уверить, что это циркуль, а вовсе не копье, и комната — не поле боя. И Чавдар — обыкновенный парень, такой же, как все. А Лина… Что ж, видно, пришло ее время. Наряжаться стала, и лицо у нее меняется, когда приберет волосы кверху, и в походке не осталось ничего детского, девчоночьего! «Ладно! Ладно! Я и сам это знаю! — кричит в Круме благородный рыцарь, продолжая размахивать копьем и пришпоривать своего Росинанта. — Но я не примирился и никогда не примирюсь с этим, иначе я буду таким, как все…»
— Оставь меня, бабушка, — мирно говорит Крум, стараясь не выдать своего волнения. — Я учу уроки.
— Учи, — соглашается бабушка. — Но надо и погулять, поиграть. Ребята тебя зовут, ты уж с каких пор не выходишь. И на велосипеде не катался, и не играл! Уж не поссорился ли с ребятами?
Крум весь сжался:
— Нет.
Ну при чем тут велосипед? Разве велосипед — его Росинант?
Но разве не кончается волшебство в тот самый миг, когда поверишь, что циркуль — это циркуль, комната — комната, Чавдар — парень как парень, а Лина обыкновенная девушка, которая сама встает на цыпочки и даже вытягивается на одной ноге, чтобы быть поближе к губам своего избранника.
А может, понимание этого и есть возмужание, начало зрелости? Видеть все в истинном свете, знать цену вещам и не примиряться?
— Оставь меня, бабушка, — печально сказал Крум.
Бабушка вышла так же бесшумно.
Велосипед помешал Круму в первую же минуту, когда в школе прозвенел ровный электрический звонок и из двери высыпали школьницы в сине-белой форме. Невозможно было разглядеть в этой толпе Лину, к тому же Круму не хотелось, чтобы Чавдар его заметил: с чего это Крум остался возле школы, а не ушел вместе с Яни? С этого момента Крум возненавидел велосипед, просто глаза бы на него не глядели! А когда Лина наконец появилась и пошла с Чавдаром по крутой улочке вверх к холму, Крум совсем растерялся. Что делать? Ехать по улице? Они увидят его. Попробовать затеряться на тротуаре среди прохожих? Вряд ли это получится. Не лучше ли отправиться домой? Да, конечно, так было бы ему спокойнее… Но Крум знал: рано или поздно что-то подобное должно было случиться с ним. Ему надо было увидеть, как Лина целуется в темном парке и не считает это постыдным. А его бросало в краску только при одной мысли о прижавшихся друг к другу фигурках, сердце обливалось кровью, и все его существо противилось посягательству…
Посягательству на что?
Крум понимал, что Лина и Чавдар вступили в мир взрослых, это в порядке вещей, но почему, почему так мучительно трудно ему пережить то, что он узнал про Лину и Чавдара.
Крум толкал велосипед перед собой, шел, держась поближе к газону, и издалека наблюдал за Линой и Чавдаром. Иногда, если было много народу, ускорял шаг, чтобы не потерять их из виду, а когда прохожие редели, нарочно отставал. Кровь стучала в висках, одеревенели ноги, каждый шаг давался с трудом, но тайное желание понять, что же, происходит с ним, неудержимо влекло вперед. Крум не жалел, что сейчас один, без товарищей: разве им объяснишь, куда и зачем он идет? Даже Яни вряд ли понял бы друга сейчас.
Как всегда, Лина держала сумку обеими руками. Чавдар почтительно шел рядом. Но когда они поднялись на холм и вокруг разлилось золотистое море заката, Чавдар взял у девушки сумку. Позолоченные купола храма искрились, сверкали и будто плыли в синем нежном и высоком небе. Ржаво-зеленые кроны каштанов, окружавших просторную, величественную площадь, поглощали шум, а вверху блестели медные немые колокола. Внизу, в теплом сумраке, тонули городские кварталы, почти невидимые отсюда, из самой старой части Софии. Вдали возвышался купол Витоши, нежный и воздушный, словно вобравший в себя синеву далеких просторов. На его фоне все принимало неповторимую волшебную окраску. От золотисто-синего вольного неба и серого гранита веяло дыханием вечности. Здесь, на древнем холме, который со всех сторон обступили волны белокаменного города, оно ощущалось особенно сильно.
Звон колоколов Крум слышал не раз и издали, и вблизи. Он был почти таким же привычным, как гудки паровозов у них в квартале, будившие людей по ночам. Если Круму случалось оказаться на площади в тот момент, когда били колокола, он с удивлением поднимал глаза к сводчатым проемам колокольни. Неприступные белые стены поднимались в небо, а вверху раскачивались колокола. Маленькие торопливо, большие медленно, торжественно, а самый большой бил так оглушительно, что казалось: вот-вот расколется небо. Звон его несся над городом, над полем — к синему полукружью окрестных гор.
Здесь всегда, каким бы ни было оживление вокруг, Крума охватывало ощущение простора и света. Нигде краски города не казались ему такими яркими и глубокими, как на этой круглой площади, обрамленной свежей, рано скошенной травой и деревьями — маленькими островками зелени, на одном из которых, как раз позади старинной церкви святой Софии, находилась могила писателя Ивана Вазова и памятник ему — огромная гранитная глыба, принесенная каменными водопадами витошских морен.
Крум любил эту площадь и вид, открывавшийся отсюда, и, когда думал о своем городе, перед глазами у него сразу вставал именно этот уголок, может быть и вправду самый красивый в Софии. Он удивился, что Лина и Чавдар пересекли площадь быстро, не глядя по сторонам, не обращая внимания на тяжелые кроны осенних каштанов, где сквозь густые листья поблескивали рыжие крупные плоды.
Наверно, что-то волновало их, а вот Крум, как бы ни был озабочен, о чем бы ни думал, никогда не мог равнодушно и торопливо пересечь эту удивительную площадь. Он еще не знал, что прекрасное тоже надо видеть не глазами, а сердцем, не знал и того, что существует иная красота, которая открылась сейчас Лине и Чавдару. Оттого и бредут они, как слепые, и видят только друг друга.
За университетом Лина и Чавдар свернули в узкую улочку, тупик, как показалось Круму, и он прибавил шагу, чтобы не потерять их из виду. Хотел даже сесть на велосипед — на тротуаре почти не было прохожих, но тут же остановился, пораженный. На улице снова показались Лина и Чавдар. Но теперь она была не в школьной форме, а в белой кофточке и красной клетчатой юбке. «У Лины шотландка!» — сказала как-то с восхищением Здравка. И правда, хорошая юбка, заколотая впереди булавкой, даже не булавкой, а булавищей. Но самое важное — юбка шла Лине, делала девушку еще стройнее и недоступнее.
На плечах у нее была накинута короткая замшевая курточка с молниями. А волосы Лина не стала зачесывать кверху и туфли оставила те же — на низком каблуке, в которых ходила в школу.
«Кто знает, — подумал вдруг Крум, — что она теперь носит в сумке, раз уж стала бегать на свидания! Того и гляди, туфли переобует и волосы наверх зачешет».
Крум едва успел юркнуть в темную подворотню университета, оставив велосипед на улице. А когда выглянул, увидел, что Лина и Чавдар направились к кафе, где в полумраке, как в пещере, горели большие белые светильники в форме глобусов.
Подождав, пока уменьшится поток машин на проспекте, Крум перешел на другую его сторону. Здесь было тихо, оживление, спешка и суета остались позади. На низеньких, окрашенных в зеленый цвет скамейках сидели люди.
Время текло медленно.
Что делает сейчас Яни?
Отдал ли «пежо» Паскалу?
Когда же снова покажутся Лина и Чавдар? Скоро ли пойдут домой?
Крум огляделся. Где-то за спиной, вырисовываясь на фоне Витоши, в красноватых отблесках заката возвышался памятник воинам-освободителям. И Крум вдруг подумал об отце, который каждую неделю, как по расписанию, или звонит им, или присылает цветные открытки из Ленинграда. На открытках отец писал письма домой. Он купил, наверно, целую гору открыток: почерк-то у него крупный, чертежный, с четкими, почти печатными буквами. Отец писал, что работы у него много, наказывал детям слушаться бабушку, учиться хорошо. Отец присылал сразу по восемь, девять, десять открыток, заботливо проставляя номера в правом углу. Будущим летом отец мечтает забрать всех к себе — и Крума, и Здравку, и бабушку. Тогда они своими глазами увидят город Ленина, эту северную Венецию, выросшую, как каменная гирлянда, на островах Балтики и Невы…
Сначала Крум украшал открытками их со Здравкой комнату: приклеивал их к обоям, расставлял на этажерке с книгами, потом Здравка завела альбом и стала вклеивать открытки туда.
Мимо медленно проходили люди, по проспекту мчались автомобили, а Крум все не сводил глаз с кафе, успокаивал себя тем, что вход расположен высоко, виден хорошо и он не упустит Лину с Чавдаром даже теперь, когда стемнело и уличные фонари засветились матовым молочно-белым светом.
Солнце село. Низко над землей плыли синеватые прозрачные сумерки. Водители включили фары, и металлические капоты заблестели. Крум сел на спинку скамейки, чтобы лучше был обзор. Впрочем, большинство молодых людей сидели на скамейках точно так же.
Лина и Чавдар все не появлялись.
В ярко освещенном кафе было полно народу, в открытых окнах второго зала кафе, для курящих, стояли облака синеватого дыма. Широкие ступеньки вели в оба зала. А где, интересно, Лина и Чавдар?
Паскал не говорил, курит ли его брат. Вроде Круму не доводилось видеть его с сигаретой — ни его, ни Лину.
Наконец показались знакомые фигуры. Да, это они!
Как и раньше, Чавдар нес битком набитую сумку Лины, теперь-то Крум точно знал, что там лежит вместе с учебниками, тетрадками и другими девчачьими штучками.
Но вместо того чтобы идти к дому, они направились к парку.
Крум неотступно следовал за ними. Уже поздно, бабушка, наверно, беспокоится, но уходить не хотелось.
На перекрестке Лина и Чавдар спустились в тоннель, вышли с другой стороны на аллею парка, и силуэты их медленно растаяли в сумерках.
Крум быстро пересек улицу. Прошел по мостику и островку посреди ярко освещенного озера с фонтанами. Выключил фары. И увидел: едва Лина и Чавдар вошли в темные аллеи, силуэты их слились.
Присев на корточки среди густых кустов и пахучих сухих трав, Крум видел, как Лина привстала на цыпочки, вытянулась и точно взлетела вверх. Он не различал лиц Чавдара и Лины, но живо представлял, как они целуются.
Потом Чавдар и Лина сидели на скамейке, а Крум, опустившись на траву, почувствовал себя ограбленным, раздавленным, опустошенным.
Крума звали гулять — он не выходил.
Звали обедать — жевал нехотя.
Утром уходил в школу — один!
И один возвращался! И был молчалив как никогда!
Мальчики шли как всегда: Крум в середине (не впереди, а именно в середине), с одной стороны Евлоги, с другой — Яни, рядом Иванчо Йота, Спас, Андро, Дими. Ребятам весело, все обсуждают, чем бы заняться после обеда, а Крум молчит!
И все постепенно замолкают.
Приходили, звали его — сначала высвистывали с улицы, потом заглядывали в низкие окна:
— Бочка! Бочка!
Крум не откликался.
— Ушел! — слышался притворно бодрый голос Иван-то, но Крум догадывался: Иванчо сам не верит в это, никто из ребят не верит, что Крума нет дома.
Да и куда ему деться?!
Куда?
Здравка в школе, дома только бабушка, она не досаждает Круму вопросами, хотя тревога за мальчика не покидает ее. Бабушка не любила лишний раз беспокоить учителей расспросами о внуках, знала: если что, дети и сами справятся со своими бедами. Должны справиться, она их так воспитала. Да и какие у детей заботы, кроме учебы? Все у них в порядке — и у Крума, и у Здравки, и у их товарищей. Сыты, одеты во все новенькое, велосипеды у всех. Спасу вон пятый футбольный мяч покупают, знай гоняй себе по пустырю… А вот Евлоги жалко! Мать у него болеет, вечно он бегает с хозяйственными сумками. Умный мальчик, добрый.
А мать Крума и Здравки, ее невестка, рано оставила детей своих, бедная. Столько лет Гошо тоскует о ней! И дети… Чем больше растут, тем чаще спрашивают про покойную мать. Особенно Здравка. Крум-то более сдержанный, а последнее время из него вообще слова не вытянешь. И учеба парню не в учебу, и игра не в игру!
Так уж водится: материнскую ласку да материнский укор ничто не заменит. А Гошо ушел в работу, работа и дети для него все. Гошо молчун, Крум в него пошел и в деда. Бывало, станет Гошо уж совсем невмоготу, только и скажет: «Главное — дети и работа; важно, чтобы работа была по душе. Для этого и жить надо. Другое все проходит».
Как он там, в далеком городе?
Уж столько учился, так опять его послали.
Вот и товарищи Крума снова идут, стучат в дверь.
— Бочка! — кричат. — Бочка!
Крум не отвечает.
Мальчики уходят..
Дом снова затихает, низкий, вросший в землю, настоящее дупло.
Бабушка Здравка пришла сюда пятьдесят лет назад, сразу после свадьбы. Тут прошла ее жизнь, в этих комнатах, среди этой мебели, только телефон поставили и паровое отопление провели — вот и все новшества.
Что такое с Крумом, почему не идет гулять?
Видит бабушка Здравка, не слепая: растет Крум, вон как вытянулся, только что-то стал невеселый.
— Крум, сынок, — приоткрывает она дверь, — ты почему не выходишь, раз ребята зовут?
Заранее знает, что он ответит: «Учу уроки!»
А то она не видит, какие это уроки!
Что тут поделаешь? И бабушка Здравка снова закрывает дверь.
Написать отцу? Стоит ли его тревожить? Мало ему своих забот, еще о доме думать! Шуточное ли дело — целый завод закупает.
В темной прихожей раздается настойчивый звонок.
«Кто бы это мог быть?» — думает бабушка Здравка и медленно идет к двери.
Открывает.
— А, это ты, Яни! — обрадовалась она. — Входи!
Держа руль велосипеда, на тротуаре стоял Яни. Он никогда не звал Крума при других мальчиках, стеснялся произнести свое обычное «Боцка» вместо Бочка, а то все станут хохотать как сумасшедшие, но бабушка Здравка уверена, что Яни уже приходил вместе со всеми, потом сделал вид, будто уходит, и вернулся один.
— Входи, — приглашает она и чувствует, как на сердце полегчало.
Яни ставит велосипед в прихожей. Прислоняет его к стене рядом с велосипедами Здравки и Крума.
— В комнате он, — заговорщически шепчет бабушка Здравка.
Хочется ей погладить Яни по голове, всех товарищей Крума хочется приласкать. Знать, здорово она состарилась, если сердце стало таким мягким.
Перед тем как войти в комнату, Яни прислушался, но из комнаты не доносилось ни единого звука. Бабушка Здравка снова заговорщически кивает головой. Яни открывает массивную коричневую дверь и входит.
У стола лицом к окну сидит Крум.
— Это я. — Яни останавливается у стены.
Крум молча поворачивает голову. Лицо его спокойно, даже задумчиво. На столе в беспорядке лежат раскрытые тетрадки, учебники, книги. Именно по этому беспорядку (Крум обычно учит каждый предмет отдельно) Яни понимает: что-то с его другом неладно.
— Мы тебя звали.
— Я слышал.
— Не отвечаешь, не выходишь. Заболел, что ли? Крум устало улыбается.
— Ты такой с тех пор, — Яни упорно смотрел прямо в глаза другу, — как мы отвезли «пежо» Паскалу. То есть я отвез, а ты куда-то исчез.
Яни замолчал. Подошел поближе и сел на кровать, застланную красным покрывалом. У другой стены — кровать Здравки, так же аккуратно застланная. Кровати совсем одинаковые. Только над Здравкиной висит худенький, насмешливый и вместе с тем печальный Буратино. Взглянув на него, Яни вдруг вспомнил, как сползала с лица Паскала улыбка.
За дверью послышался легкий шум, будто мышка пробежала. Дверь бесшумно отворилась, и вошла бабушка Здравка с подносом, разрисованным крупными цветами. На подносе стояли розетки с айвовым вареньем, два тяжелых хрустальных стакана с водой, и свет угасающего дня преломлялся и сверкал в выпуклых гранях стекла.
По тому, как бабушка угощала гостей (соседок — кофе с вареньем, товарищей Крума — вареньем или вареной тыквой), как накрывала на стол, какую посуду доставала из буфета, легко можно было догадаться, кто из гостей ей особенно дорог.
Поэтому сейчас Крум удивился: надо же, вынула хрустальные стаканы и розетки.
«Неважно, чем ты угощаешь гостя, может, в доме нет сейчас ничего особенного! Важно красиво подать угощенье», — любила повторять бабушка.
Здравка и Крум всегда радовались, если бабушка приглашала их друзей к ужину. Тогда все рассаживались в просторной кухне вокруг стола и с таким аппетитом наваливались на еду и лакомства, что не обращали внимания, в каких тарелках и чашках все это подавалось. Случалось, в доме не оказывалось ничего особенного, но ароматный горячий чай, жирная брынза, светло-желтый сыр и неизменное варенье из айвы со свежим мягким хлебом находились всегда. Крум особенно гордился скромным, но великодушным и сердечным гостеприимством бабушки, которое так умиляло его друзей. Сытые и растроганные, они не знали, как и благодарить бабушку Крума.
— Отведайте варенья! С чистой водой. — Бабушка Здравка бесшумно поставила поднос на стол и вышла.
— Потрясающая у тебя бабушка! — сказал Яни.
Крум нахмурился. Есть не хотелось, надоело ему это варенье, в доме все пропахло айвой и сиропом, ну да ладно — протянул руку к подносу, взял свою розетку.
— Вкусно! — облизнулся Яни.
Съев варенье, Яни чисто подобрал ложечкой остатки. Выпили воды, которая прогнала приторную сладость, но оставила во рту свежий аромат прогретых солнцем айвовых садов.
Крум молчал. Его не тяготило это молчание. Не в первый раз случалось им с Яни вот так же сидеть и молчать. Но пожалуй, сейчас все-таки чувствовалось какое-то напряжение, словно друзья что-то скрывали друг от друга.
— Я на велосипеде, — сказал вдруг Яни. — На своем.
Крум кивнул.
За тонкой кухонной занавеской сквозь чисто вымытое стекло виден был внутренний дворик. Высоко над фасадами домов синее небо, и синева эта становилась все гуще, приобретала фиолетовый оттенок. Мальчики не видели пролетающего самолета, но в небесной синеве остался его белоснежный след. Будь сейчас они во дворе, наверно, можно разглядеть самолет — крошечную серебристую полоску. Просто невероятно, что в этой «полосочке» десятки людей.
— Боцка!
Крум рассеянно смотрел на улицу.
По углам комнаты сгущался сумрак, но мальчикам не хотелось зажигать свет.
Яни был такой же, как всегда, — не слишком разговорчивый, сдержанный, исполненный внутреннего достоинства. И вдруг в первый раз за всю жизнь Крума стало тяготить присутствие Яни.
Крум боялся увидеть даже мысленным взором тени Чавдара и Лины. Он смотрел прямо перед собой широко раскрытыми глазами и вдруг подумал: а ведь они с Яни уже взрослые.
— Я пойду! — произнес наконец Яни.
С того памятного вечера Крум и Яни ни разу не оставались наедине. Крум так и не знал, передал ли Яни «пежо» Паскалу, сказал ли ему, где встретился им его старший брат.
Круму вдруг захотелось спросить Яни обо всем этом. Кажется, чего проще! Но что-то мешало ему это сделать. Глупо интересоваться всякой ерундой, да еще после того, что он узнал куда более важное про Лину и Чавдара. И про себя тоже.
Яни нерешительно остановился на пороге.
— А мать этого Буратино-Паскала и его брата, — безразлично произнес он, глядя на деревянного человечка на стене, — сидела в тюрьме.
— Что? — Крум раскрыл рот от изумления. И тотчас почувствовал, как исчезает его сонное безразличие, его ленивые ядовитые мысли. Все вдруг снова всплыло: похищение Лины, его гнев, насмешливость Паскала, неприязнь к Чавдару. — Что ты сказал?
— Сидела в тюрьме, — так же безразлично повторил Яни. — Злоупотребление служебным положением и денежными средствами.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю! — сверкнули темным блеском глаза Яни. Комната теперь уже не комната, а поле боя, и они — не просто мальчики Крум и Яни, а рыцари и воины, несущиеся в атаку.
— Яни!
— Я здесь!
— Ура! Вперед!
— Бабушка, погладь мне галстук, пожалуйста!
— Сейчас, сынок!
— Здрава! — крикнул Крум, продолжая энергично жевать и отпивая большими глотками теплое молоко. — Принеси мне галстук!
— Еще чего! — послышался голос Здравки, слившийся со звуками музыки, которую каждое утро передавали в это время по радио. — Ешь быстрее и возьми сам, что тебе нужно!
Сестра выговаривала слова подчеркнуто четко, но сейчас это не понравилось Круму, заставило его насторожиться.
— Я с тобой еще поговорю, — пригрозил он.
— Ну, не надо, не надо с утра, — примирительно сказала бабушка, застилая край стола старым одеяльцем, на котором обычно гладила. — Оставь Здравку в покое!
С давних пор в чулане хранилась гладильная доска, но бабушке трудно разгибать металлическую стойку, и поэтому она редко пользовалась доской, особенно если гладила мелкие вещи.
Удивленная внезапными переменами в настроении внука (то парень молчаливый, замкнутый, то веселый, возбужденный, вскакивает на ноги ни свет ни заря), бабушка Здравка уж и не знала, чем его порадовать. Как бы рано ни встал Крум, бабушка уже хлопотала на кухне, тихонько, чтобы его не разбудить. Жарила отбивные, янтарно-желтые, пышные, обваленные в яйце, или румяные, сочные блинчики с мягкой корочкой растопленной брынзы, а к чаю подавала мармелад из шиповника или айвовое варенье («Опять это варенье, бабушка!»). В кухне вкусно пахло и душистыми горными травами, и свежим кипяченым молоком.
По радио звучит музыка, весь дом просыпается в свете розовеющей на востоке зари.
— Раз, два, поговорим! Три, четыре, мы с тобой! — отсчитывала такт Здравка.
С тех пор как начались занятия в школе, вернее, с тех пор как Паскал пришел в их класс, Здравка каждое утро делала зарядку. Не ленилась встать пораньше, натянуть черное трико. Волосы завязывала черной ленточкой, на ноги надевала маленькие кожаные тапочки на шершавой резиновой подошве, чтобы не скользили, включала радио — и каких только пируэтов не выделывала!
— Настоящая балерина! Наша балерина! — радовалась бабушка.
— Не балерина, а гимнастка, — поправлял ее Крум.
Ему было смешно, как это Здравка может увлекаться гимнастикой! Разве это для девчонок? Хотя, если судить по телевизионным передачам, художественной гимнастикой занимались как раз женщины и девушки.
Его самого к спорту совсем не тянуло. Он недоумевал, видя пристрастие Спаса к футболу, не любил смотреть футбольные матчи по телевидению, не понимал, что тут увлекательного — бегать километр за километром, как Евлоги. Вот плавание — дело другое. Крум не раз собирался пойти с Дими в бассейн поплавать, пока Дими тренируется на своих отгороженных пробковыми канатами дорожках.
— Бабушка, стой! — крикнул Крум, видя, что бабушка идет в комнату за галстуком. — Здрава принесет, она должна слушаться старшего брата.
— Я не Здрава, три, четыре! И тебе не прислуга, раз, два!
— Да я принесу, велика важность! — все так же весело сказала бабушка.
— Ты принесешь, а она тут будет кривляться, да? — рассердился Крум.
С тех пор как Крум узнал от Яни тайну Паскала и понял, почему тогда так потемнело лицо маленького гордеца, он стал ощущать какое-то смутное превосходство над Чавдаром, и ему хотелось несколько умерить восторги сестры перед новым товарищем, который оказывал на нее влияние не только по части утренней гимнастики. Здравка вообще смотрит в рот Паскалу: Паскал сказал то, Паскал сказал это. Что он ни скажет, все повторяет…
— Я еще с тобой поговорю! — пригрозил Крум, посмотрев на будильник.
Он боялся прийти на пустырь последним. Сейчас это было бы неудобно, именно сейчас, когда ему так захотелось, чтобы их мальчишечья компания была сплоченной как никогда.
Но радио вдруг умолкло. Стало тихо. И в этой необычной тишине в дверях появилась тонкая, гибкая фигурка Здравки.
— А ну повтори!
Крум уставился на сестру. Что повторить? Мало того, что не слушается…
— Ладно, занимайся своей гимнастикой, — сказала за ее спиной бабушка, взяв в руки помятый пионерский галстук Крума, валявшийся в шкафу с тех пор, как прошел торжественный день начала нового учебного года, когда, естественно, все школьники были в галстуках.
— Крив-ля-ет-ся! — повторила по слогам насмешливо и вызывающе Здравка. — Браво, браво, старший брат! — продолжала она огорченным тоном, и в этом ее «старший брат» было столько иронии, что Крум совсем растерялся. — Ты слышишь, бабушка? Еще мне замечание делает!
— Делаю, потому что я старший. А отец и бабушка сказали, что теперь я единственный мужчина в доме!
— Ну уж! — Встав на носки, тоненькая темная фигурка снова закружилась. Здравка вошла в комнату, включила радио и стала отсчитывать такт: — Три, четыре… Кривляется, три, четыре… Кривляется…
— Она уже не маленькая, бабушка, — поджал губы Крум. — И не защищай ее, а то она совсем от рук отбилась с тех пор, как сидит за одной партой с этим Паскалом. Уж и на языке его словечки. — Крум хотел сказать «мелет языком, как Паскал», но вовремя удержался. — Хорошо, хоть резинку не жует.
Бабушка вопросительно взглянула на внука.
Он ждал, что она скажет «Толковый паренек!», Паскал уже приходил к ним домой, вместе со Здравкой они учили уроки, играли, и бабушка, по обыкновению, разговаривала с Паскалом, не навязчиво, спокойно, но тем не менее узнала все, что хотела узнать, как знала она все о товарищах Крума, и о них самих, и об их родителях.
Знает ли бабушка, что мать Паскала сидела в тюрьме и что ее судили за злоупотребление деньгами и служебным положением? Так сказал Яни, сын бесстрашного разведчика из Грамоса.
Каких только историй не рассказывал им его отец дядя Костакис по воскресеньям, историй о партизанах с непокорных греческих гор.
Они-то с Яни сразу решили никому не говорить о тайне Паскала и Чавдара Астарджиевых.
— Я про Паскала, бабушка!
Бабушка водила утюгом по красному шелку галстука, и шелк покорно расправлялся под утюгом.
Знает ли бабушка про Паскала? Почему молчит?
Если уж дядя Костакис узнал его тайну, то от бабушки и вовсе не скроешь.
— Готово!
Бабушка поставила утюг на подставку и подняла галстук, выглаженный ее морщинистыми, темными, но все еще сильными и умелыми руками.
Крум посмотрелся в зеркало.
Он был в белой рубашке с короткими рукавами. По утрам уже стало холодновато, поэтому он надел еще короткую куртку из плащевки. Куртка мялась, по дороге из школы можно ее снять и сунуть в портфель. Так же как Лина складывала свою замшевую курточку.
Красный шелк пионерского галстука лежал красиво и мягко. Крум остался доволен собой — волосы аккуратно подстрижены, лицо похудевшее, брови выгорели, и весь он ловкий, подтянутый. Крум подумал, что надо бы всегда так ходить в школу. Они с ребятами договорились: с сегодняшнего дня все ходят в школу в пионерских галстуках.
— Красавец ты мой! — Бабушка смотрела в зеркало на внука.
Крум знал, что для нее он лучше всех на свете, но уловил печальный вздох и понял, отчего грустит бабушка.
Повернулся. Поцеловал бабушку в мягкую, бархатную щеку. Крум редко проявлял такую нежность.
Она тоже — странно! — была скупа на ласки к нему.
— Я пошел, бабушка!
— В добрый час! — Бабушка проводила Крума до двери, как провожают мужчин.
Дом проснулся, проснулись и улица, и оживленный проспект. Весь город ожил в это осеннее, тихое и туманное утро.
Здравка затихла. Наверно, одевается или еще возится в ванной.
— А что скажешь про Паскала, бабушка? Бабушка молчала.
Молчала долго.
И наконец произнесла:
— Толковый ребенок!
Бабушка сказала это задумчиво, без обычной своей радости, что в жизни становится все больше толковых людей. Сказала «ребенок», а не мальчик, а сама смотрела в сторону, точно всматривалась во что-то далекое, невидимое.
Крум вышел.
Хлопнула входная дверь.
Дом с мемориальной доской остался позади. Друзья ждали Крума на пустыре, под фонарем. Сквозь облупившуюся синюю краску столба можно было различить ребячьи имена, нацарапанные когда-то. На душе было легко и радостно. Крум вдруг ясно понял, что у него с друзьями все еще впереди. Да, все в сегодняшней жизни связано с прошлым, но и с этим утром тоже. Поколение людей волнами сменяют одно другое, а на самом высоком гребне сегодняшней волны они — мальчики и девочки в красных пионерских галстуках.
Легкие, воздушные, и в то же время их прикосновение чувствуешь, как ласковую руку. Удивительно, что только теперь мальчики это поняли.
Сегодня они, договорившись заранее, все пришли в школу в белых рубашках и пионерских галстуках. Сколько, бывало, договаривались о всяких пустяках, а вот это что-то ни разу не приходило им раньше в голову!
Им говорили: «Приходите в школу в пионерских галстуках».
И они вынимали галстуки из сумок, ящиков, разглаживали руками, повязывали кое-как на рубашку или даже на свитер, а уж о цвете рубашки никто и не думал.
И конечно, это было совсем не то!
Другое дело, когда мальчики сами решили прийти в пионерских галстуках. Ребята испытывали необыкновенную гордость, просто крылья за спиной выросли, когда шли все вместе — Крум в середине (не впереди, а именно в середине), с одной стороны Евлоги с сумкой в левой руке, с другой — Яни, рядом Иванчо Йота, Андро, Дими, Спас, — весь, так сказать, цвет седьмого «В».
По дороге их встречали одноклассники, с удивлением спрашивали:
— У нас сегодня какое-то торжество?
Мальчики молчали, только улыбались, и все понимали, что Крум — Бочка — опять что-то придумал. Сегодня они поразят весь класс своими красными галстуками и белыми рубашками.
Шли быстро. Уроки выучены назубок, письменные задания выполнены чисто и аккуратно. Нельзя же, в самом деле, нарядиться в белую рубашку и красный галстук, а потом сгорать со стыда у доски. Сегодня семиклассникам все казалось легким, заманчивым, осуществимым.
Иванчо даже постригся совсем коротко, и покрытое летним загаром лицо казалось еще темнее по контрасту с круглой стриженой головой.
Только Андро чувствовал себя неловко. Когда мальчики собрались у фонаря на пустыре, он единственный был без пионерского галстука. В белой рубашке, небрежно расстегнутой куртке, Андро пришел последним и, увидев, что все нарядились, как на парад, усмехнулся:
— А я забыл галстук!
Он любил посмеяться, все это хорошо знали, но сейчас сразу же почувствовали: Андро бодрится, ему сейчас вовсе не весело.
— У кого-нибудь есть еще один галстук? — спросил Крум.
Мальчики переглянулись. Иванчо пожал плечами. Засопел.
— Тогда возвращайся домой, — тихо сказал Крум. — Или в галстуке, или шагай сам по себе. — Он даже не взглянул на Андро.
Все знали характер Крума, поняли: сейчас не до шуток. И даже вздрогнули: неужели Крум поссорится со старым товарищем?
— Иди! — повторил он еще тише.
— Эх, вы! — засмеялся Андро. — Шуток не понимаете?
И, открыв портфель, вытащил свой галстук — мятый, не стиранный, наверно, с прошлого года. И это когда мальчики все, как один, намерены явиться в школу в красных пионерских галстуках!
— Хороша шуточка! — рассердился Яни, тот самый Яни, который никогда не терял спокойствия. Не было случая, чтобы он вышел из себя.
Смех застыл на тонких, насмешливых губах Андро.
«Отпор! — мелькнуло в голове странно притихшего Крума. — Именно отпор!»
Отпор «похищению» Лины, отпор Чавдару с его синими джинсами, синей рубашкой с засученными рукавами и массивным серебряным браслетом на правой руке, отпор «пежо» и «скейт-борду», а заодно тем, кто злоупотребляет деньгами и служебным положением и попадает в тюрьму.
— Мы же договорились, — сказал Иванчо Йота тоном обиженного, толстого и обгоревшего на солнце ребенка. — Я даже постригся.
— Остригся! — поправляет его Спас. — Почти под нуль.
— Ну и пусть остригся! — шмыгнул носом Иванчо. — И не под нуль, а под номер два… И потом, мы ведь решили…
— Решили, — виновато сказал Андро, впрочем не особенно смущаясь.
— Нарушаешь правила игры. — Иванчо уже готов был простить Андро.
«Игра, игра»… — вслушался в его слова Крум.
Какая игра?
Игра в пионеры?
Не могут же они играть в школьников? Они и на самом деле школьники.
А в пионеры могут?
Ведь играют во что-то, чего на самом деле нет.
Если они настоящие пионеры, разве тогда красные галстуки, пионерские отряды, пионерские знамена — игра?
Или это их гражданский долг, как учеба? А может, даже нечто большее?
«Подожди, подожди!» По привычке Крум развел руками, и все уставились на него.
— Подождите!
Большой стоп!
Как тот, который нарисовал Паскал. Опять Паскал! Опять Лина! Опять Чавдар!
— Подождите! — снова выпалил Крум.
Яни и Евлоги, Спас, Иванчо Йота, Дими, Андро — все ждали.
Верно, Андро поступил нехорошо. Нарушил их договоренность. И вроде даже посмеялся над товарищами, отправившись в школу в неглаженом, измятом галстуке.
Но не смеялись ли они сами над всем этим раньше, когда шли на пионерский сбор или в школу в неглаженых, нестираных галстуках? Не смеялись ли, пусть невольно, над пионерскими символами? Над собой?
А что ж это, как не насмешка, глумление, пренебрежение? Насмешка и глумление над чем?
«Некрасиво звучит, Бочка! Некрасиво и слишком сильно!» — слышались Круму голоса товарищей, но он продолжал безжалостно судить и себя, и их, и все плохое, что было в их сегодняшней жизни.
Мальчики, похоже, догадывались о том, что обдумывает сейчас Крум, почему он вдруг посерьезнел.
Крум искал в себе силу и опору, чтобы воспротивиться Лине, Чавдару и их постыдной тайне — целуются уже, а у самого мать сидела в тюрьме. И ему вдруг раскрылась тайна о нем самом. И первое, о чем он подумал, был его пионерский галстук, его принадлежность к пионерской организации.
Да, быть пионером — это вовсе не шутки, это дело серьезное.
— А вы знаете, что значит быть пионером? — спросил Крум скорее себя самого, чем товарищей.
Мальчики в недоумении уставились на него.
— Ты что, экзамен решил нам устроить? — озадаченно спросил Яни.
Андро усмехнулся: «Пронесло!» И снова почувствовал себя уверенно.
Иванчо ощутил зыбкий холодок, пробежавший по стриженой голове.
Спас шагнул, словно решил подкинуть мяч ногой.
Дими представилась водная дорожка в плавательном бассейне.
Евлоги перебросил сумку в другую руку. Он был левшой, иногда и писал левой рукой.
Евлоги всегда в минуты смущения стремился освободить левую руку.
Чистые рубашки надели, алые галстуки на груди — что еще нужно этому Круму?
Что значит быть пионером?
Да это каждый знает! Даже чавдарцы…
— Быть первым! — резко произнес Крум.
— Хорошо, пусть так, — не сразу согласился Иванчо. Казалось, ему нужно какое-то время на размышление. — Но в чем первым?
— Во всем! — сказал Крум, взглянув на часы. — Пошли!
Шли быстро. Домашние задания чисто написаны, уроки выучены назубок, как все легко, осуществимо и заманчиво!
— Разве у нас сегодня пионерский сбор? — изумленно раскрыв рты, спрашивали мальчиков разные там лентяи и сони и оторопело останавливались на тротуаре, на горбатом мостике, на школьном дворе.
Но они молчали. Таинственно перемигивались. Чувствовали: что-то задумал их Крум, их Бочка, и если даже не придумается еще что-нибудь особенное, то заставить весь класс остолбенеть от удивления тоже неплохо. Да что класс! Всю школу поразили друзья Крума белыми рубашками и красными пионерскими галстуками!
Это была самая обыкновенная софийская речка, летом почти исчезавшая в своем каменном русле, весной — полноводная, во время проливных дождей в горах — бурная. Случалось, речка вырывалась из тесного русла, разливалась до самых крутых берегов, угрожающе бурлила. Была она тогда темно-коричневой и мутной, в чем-то похожей на металлическую вереницу автомобилей, тянувшихся по шоссе вдоль ее берегов.
«Вода поднялась! Вода поднялась!» — кричали тогда ребятишки и бегом мчались к мостикам; свешиваясь через перила, они часами смотрели на мутные бурные волны. Чем дольше смотрели, тем явственнее им казалось, что это не вода течет, а мост движется и они вовсе не какие-то там обыкновенные мальчишки, а морские капитаны. Или, еще лучше, пираты. А может быть, опытные лоцманы. В общем, моряки, которые бесстрашно ведут свои корабли по океану при девятибалльном шторме.
Под двумя широкими мостами у перекрестков, плотно прижавшимися к обшитому каменными блоками руслу, река, хоть и полноводная, корчится, как укрощенный зверь, не в силах побороть мощные, непоколебимые опоры. Совсем другое дело стоять на горбатом мостике, воздушном, легком, без всяких опор перекинувшемся дугой от одного берега до другого. Стоишь, а вода так и кипит! Страшно, сердце замирает — и в то же время до того здорово! Кажется, отрываешься от берегов, от самой земли, и всего тебя вдруг наполняют самые дерзкие, самые головокружительные мечты.
Ни одного проливного дождя или быстрого таяния снегов в горах не пропустили Крум, Яни, Андро, Спас, Иванчо Йота, Евлоги. Усядутся, бывало, как птицы, на перила мостика и смотрят на воду. А малыши из их квартала летом даже переставали шлепать по теплым лужам и ручейкам на улицах и тоже приходили сюда — смотреть на реку с мостика. Неудержимо, как магнит, влекли к себе ребятню ее буйные воды.
А в обычное время речка как речка, течет спокойно, из городских труб спускают в нее отходы, и тогда стоит невыносимая вонь.
Самое противное — это вонючие стоки канализации. Иногда, если в игре мяч неожиданно укатывался вниз, мальчики спускались по крутому, выложенному каменными плитками берегу. Несколько метров вниз, а как все меняется! Теперь уже не видно домов, только верхние этажи самых высоких зданий, а высоко над головой — незнакомое небо, не круглое, от горизонта до горизонта, а удлиненное, как огромный небесный канал.
Пока мальчики не подросли, каждый спуск к реке казался им рискованным и опасным приключением. Приходилось съезжать вниз по острым камням, не обходилось и без порванных брюк. А сейчас мальчики спускались вниз легко, почти бегом. И вверх поднимались одним духом. Правда, для этого хорошо быть в обувке на резиновых подметках, а еще лучше — с шипами: легче держать равновесие.
Но чем старше становились мальчики, тем меньше привлекало их русло реки. Ну и что здесь особенного?!
Река течет, а ее русло год от года становится все уже, невзрачнее, и только маленький гранитный обелиск у берега, как раз над сводчатым выходом подземного канала, по-прежнему привлекает внимание ребят. Обелиск невысок, мальчики легко достают подбородком до самого его верха. Пройдет еще несколько лет, и он едва будет доходить им до груди, но ведь в школу каждую осень приходят новые первоклассники, и они тоже измеряют свой рост по обелиску из темно-серого полированного гранита с гладкими, как стекло, гранями. На серой поверхности камня выдолблена пятиконечная звезда, а под ней дата — 28.Х.1943.
Только это: звезда и дата. И больше ничего.
А вокруг движение, жизнь, стремительно мчатся машины, озабоченно шагают люди…
А мальчикам, родившимся гораздо позже даты, выбитой на гранитном обелиске, всегда казалось, что он стоит тут испокон веков. Они не задумывались, кто и когда поставил обелиск на берегу реки. Так было до того дня, когда Крум однажды пришел в школу взволнованный, побледневший и неожиданно пригласил друзей к себе.
Мальчиков позвала бабушка Крума, он догадывался зачем, но ничего не сказал ребятам. Они собрались осенним вечером, как раз накануне двадцать восьмого октября, три или четыре года тому назад. Уже с порога мальчики почувствовали сладкий аромат вареной тыквы и корицы.
Тыкву любили все, всегда ели ее с удовольствием, тыкву продавали на всех перекрестках — кусками, надрезанными пополам и испускающими тонкий аромат. Под запотевшими стеклами ручных тележек продавцов блистали все оттенки тыквы — от коричневого до бледно-желтого. Дольки большие и маленькие, водянистые и суховатые, случалось, безвкусные, а иные так и тают во рту. Но обычно продают печеную тыкву, размякшую на черных противнях, и коричнево-черный сок уже вытек. А бабушка Здравка решила удивить своих гостей особенной тыквой.
Мальчики сидели в кухне вокруг большого стола. Порой слышались шаги и голоса прохожих, мелькали их силуэты, но самих мальчиков за тонкой занавеской не было видно. Собрались только мальчики, девочка была одна — Здравка. Подвижная, худенькая, тогда еще малышка, она все жалась к брату и что-то лепетала, точно котенок мяукал.
Было тепло и уютно. На улице уже становилось прохладно, но стоило мальчикам войти в кухню, они мигом согрелись, да и бабушка Здравка встретила своих гостей такой приветливой улыбкой, что на сердце сразу потеплело. Паровое отопление еще не работало, но бабушка включила электрическую печку, и на этой печке в огромной зеленой кастрюле что-то булькало, варилось, из-под крышки вырывался ароматный пар, пахло вареной тыквой, корицей и еще чем-то.
Перед каждым гостем бабушка поставила тарелочку, положила вилку и бумажную салфетку. Подняв тяжелую кастрюлю и пронеся ее над мальчишечьими головами, бабушка опустила ее на стол.
Открыла крышку. И тут кухня наполнилась удивительным тыквенным ароматом. В первый момент мальчики даже не поверили, тыква ли это, — таким необыкновенно легким и приятным показался им запах.
Накладывали на тарелки себе сами — так решила бабушка Здравка.
— Каждый берет себе сам. Сколько душе угодно и сколько желудок вмещает.
Мальчики не стеснялись, брали. И наелась до отвала. Похоже, эта зеленая кастрюля была без дна.
— Ну и ну! — глотал и сопел, сопел и глотал Иванчо. — Никак не наешься.
И правда. Дети любили печеную тыкву и ели ее с удовольствием, но много ее не съешь. Тыква считается тяжелой пищей. А вот бабушкина вареная тыква до чего воздушна, легка и сладка!
Чем больше ее ешь, тем больше разыгрывается аппетит.
— Последний кусочек, и все, — несколько раз повторял Иванчо.
— Ешь, ешь! — подбадривала бабушка Здравка. — Насчет еды никогда не зарекайся!
Сама бабушка отщипывала себе совсем крохотные кусочки. «По-стариковски», — улыбалась она, а вот Здравка от гостей не отставала.
Наконец все наелись и вдруг увидели, что под оставшимся слоем тыквы в кастрюле лежат какие-то веточки.
— Чтобы не подгорела, кладу веточки. Шелковичные, — объяснила им бабушка Здравка, а Крум кивком показал на шелковицу во внутреннем дворике, на которую они не раз лазали за спелыми чернильно-сочными ягодами. — Крум мне нарезал веток. Вот тыква и варится на пару.
— А почему тыква такая сладкая? — спросил Иванчо, чувствуя, что следовало бы проявить особую вежливость к бабушке Здравке, например расспросить, как ей удается приготовить такую отличную тыкву.
— Мед кладу, — просто ответила она. — Ложечку лесного меда. А столовую ложку кладу в воду, вот пар и становится медовым.
— Знаю, знаю, — сказал Иванчо. — Потому и говорят: тыква сладкая как мед.
Все посмотрели на него с упреком: не очень-то это вежливо!
Ну что ж! Теперь, верно, и по домам пора.
Но тут Крум вопросительно взглянул на бабушку, она кивнула белой головой, он сразу посерьезнел и глухим от волнения голосом сказал:
— А теперь слушайте! Рассказывай, бабушка!
— Помню, было тихое туманное утро, как обычно бывает осенью здесь, в низине реки. Вдруг резко прозвучало несколько выстрелов, и эхо разнеслось по всему кварталу. Сначала люди настороженно прислушались, потом снова принялись за работу. Ведь вокруг было тогда полно фабрик, мастерских — и больших, и маленьких, в основном слесарных. Везде что-то стучало и громыхало, так что сухой треск выстрелов не привлек особого нашего внимания.
Но выстрелы не прекращались, теперь они явственно доносились со стороны реки. Стрельба все усиливалась, и тогда люди словно окаменели, весь квартал точно замер и поднялся на цыпочки, пытаясь разглядеть, кто стреляет и почему. У депо скрежетали вагоны и слышались гудки маневровых паровозов. Город гудел. Конечно, не так громко, как теперь. Городской шум был слабее, да и город был гораздо меньше теперешнего, и жителей в нем было, конечно, меньше. Ни теперешних высоких зданий, ни нового вокзала, ни гостиницы, ни проспектов у реки — ничего этого тогда еще не было. И школа была старая, низкая, с двумя рядами узких стрельчатых окон. На булыжной мостовой и немощеных улицах телеги поднимали тучи пыли. Таких телег теперь и в музеях не увидишь — эдакие квадратные сундуки на двух высоких колесах, чтобы не утонуть в городской грязи.
У реки все стреляли. Слышались грубые мужские голоса. Это торопливо шагали сюда полицейские.
«Внизу! Внизу!» — слышались выкрики, и полицейские прибавили шаг, их кованые сапоги так и стучали по булыжнику.
За кем же они гнались? За каким-нибудь преступником? Или бежавшим из тюрьмы заключенным? Кто знает…
Может, преследуют заключенного? В те времена по улицам часто гоняли арестантов, целые колонны людей в грубой полосатой одежде: в широких брюках и куртках без пуговиц, в шапках из такой же материи в темную и светло-коричневую полоску. На ногах неуклюжие деревянные сандалии или тряпочные тапочки на толстой деревянной подошве, которые хлопали по булыжнику. От икры ног до кистей рук — толстая тяжелая цепь. По обеим сторонам плотной колонной шагали охранники с карабинами.
Но все-таки вряд ли преследовали арестанта — с цепью далеко не убежишь, да и откуда у беглеца оружие?
Полицейские, красные, взмыленные — видно, человек у реки бежал быстро, — стали обходить его сверху. Стрельба участилась. В железные опоры моста рикошетом ударялись пули и тревожно жужжали вокруг.
Снизу изредка раздавались гулкие одиночные выстрелы, и после каждого выстрела полицейские откатывались назад, а потом бросались вперед с еще большим остервенением.
Тут вихрем налетели конные стражники. Сытые кони лоснились от пота, из-под копыт сверкали искры.
«Он на том берегу, на том! — послышались крики. — Перешел через реку!»
Только теперь полицейские сообразили, что им следовало бы обойти русло реки и с другой стороны. Тогда еще не было горбатого мостика, и им пришлось идти в обход по большому мосту.
Конные едва удерживали взмыленных лошадей, кони скользили по булыжнику — вот-вот упадут, преследователи вконец рассвирепели.
Наконец кольцо замкнулось. Полиция держала оба берега и мост. Те, что на мосту, криками подбадривали с опаской двигавшихся по берегу. Однако внизу у реки полицейским никого не удалось найти, только мирно поблескивала обмелевшая за лето река.
Казалось, только что рассвело, а вот уже и полдень: завыли фабричные сирены — так гудели они в обед и вечером, когда кончался рабочий день. Со всех сторон устремился к реке рабочий люд.
Полицейские кричали, требовали разойтись, не подходить близко. Из уст в уста уже неслась молва:
«Это не арестант! Не преступник, не вор, не мошенник! Политзаключенный…»
Политический!
Вот почему так остервенели полицейские, и пешие, и конные, и те, что в штатском, нетерпеливо сновавшие взад-вперед по берегу.
Совсем молодой он был, тот, кого преследовали, без шапки, в светлом плаще, какие тогда носили — широком, длинном до пят. Как крыло птицы, развевался плащ на ветру, и легко, как птица, перескочил парень через реку, но улететь, как птица, не мог — скрылся в отверстии канала, единственном защищенном месте у каменного русла, обстреливаемого со всех сторон.
Столпились полицейские. Спешились конные. Штатские чуть не стукались лбами. Сводчатое отверстие канала мигом окружили, только у темного его жерла никого не было. Двое полицейских, впрочем, расхрабрились, залегли в пыли на противоположном берегу, как раз напротив. Навели стволы карабинов на темное отверстие канала, но только подняли головы — из-под свода грянул выстрел. Звонкое эхо разнеслось где-то внутри, как будто под землей, глубоко под городом, и вернулось назад словно удесятеренное. Казалось, гремит сама земля.
Люди свешивались с мостов, облепили окна соседних домов, даже школы. Не обращая внимания на злобные крики стражников, они со страхом и горечью вглядывались в темноту канала: кто он, этот молодой человек без шапки, с пистолетом в руке, в развевающемся, как крылья птицы, плаще?
Что он политический, сомнений не было. Да это говорили и сами полицейские, и агенты в штатском. Неясно только, кто же он?
Так прошел день. Двинется кто-нибудь из полицейских к каналу или поднесут к отверстию фуражку, изнутри гремит выстрел. Время от времени полицейское начальство командовало стрелять. Пули свистели над водой и вместе с отбитым камнем шлепались на дно канала.
«Сдавайся!» — каждый час кричали полицейские.
Из канала не доносилось ни звука.
Снова затихала стрельба, умолкали крики преследователей, и тогда кто-нибудь осторожно пытался подойти к каналу, но из темноты снова раздавался гулкий короткий выстрел.
Ночью мы не спали. Не сомкнули глаз ни взрослые, ни дети, ни смелые, ни трусливые. Один прожектор заливал нестерпимо ярким светом вход в канал, другой шарил вверху по руслу реки, луч его ползал неуклюжим жуком, освещая желтую грязь и широкое отверстие канала.
Утром полицейские снова начали кричать:
«Сдавайся! Сдавайся, у тебя нет другого выхода!»
Но стоило им приблизиться, слышались выстрелы.
Надоело, видно, это начальству, поняли, что упорный человек в канале, такого не сломить, да и народ вокруг насмехается: «Пятьсот против одного!»
И тогда приказали швырнуть гранату.
Низкорослый полицейский наискосок подбежал к каналу, пока другие стреляли не переставая в его темную пасть.
Размахнулся и швырнул гранату. Раздался грохот, поднялась туча пыли, и крупные каменные блоки свода рухнули.
Но снова то же: только стражники приблизятся, изнутри щелкает выстрел.
Прошел второй день, вторая ночь, третий день и третья ночь. И только на пятый день, сколько ни кричали, ни стреляли, в канале никто не отозвался.
Полицейские, при полном вооружении, подобрались наконец к каналу.
А там никого!
«Как это так — никого? — забегало начальство по обоим берегам. — Как это никого? Не может быть! Там нет другого выхода. Проверьте еще раз!»
Вернулись — никого!
Только на седьмой день в тине нашли тело беглеца.
Узнали его по плащу. Документов при нем никаких не оказалось. А оружие исчезло — видно, в иле засосало. Как выследили храбреца, никто не знает. Полицейский, который приказал его арестовать, тайну на тот свет с собой унес.
Но это был политический. И он нашел выход…
Если нет другого выхода, то и смерть выход!..
Бабушка Здравка замолчала. Перевела дыхание, плечи ее, словно усохшие с годами, печально опустились. Она устала от своего рассказа, а может, от вновь пережитого волнения того памятного дня, тех далеких времен.
В кухне было тихо, кушанье в зеленой кастрюле давно остыло.
Мальчики сидели не шелохнувшись. Взгляд их был строг и сосредоточен, только светлые слезинки скатились по смуглым щекам Яни.
Маленькая Здравка спрятала лицо у бабушки на груди, бабушка тихо гладила девочку по голове. Казалось, гремели выстрелы, раздирали синюю холодную тишину осеннего вечера, а в теплом уюте бабушкиной кухни, в доме с мраморной доской у входа, навеки остались имена известных и неизвестных народных героев. И нежный душистый запах бабушкиной тыквы слился в душе мальчиков с образом гранитного обелиска, воздвигнутого недалеко от школы, как раз над сводом канала.
Раньше, до того как расширили проспект и заасфальтировали зеленые лужайки у реки, обелиск был заметен издали, а теперь он оказался на узкой полоске зелени между шоссе и набережной, точно его отодвинули в сторону, подальше от потока машин.
— Хотели даже совсем убрать! — задумчиво сказала бабушка Здравка. — Дескать, мешает! «Как он может мешать?» — сказала я им тогда. У этих молодых — и инженеров, и тех, кто в совете, — у них свои заботы. Смотрят на меня: зачем бабка пришла, что тут разговаривать, мало ей забот с внуками? А я им говорю: «Может, вы и ученые, и дипломы имеете, я тоже вырастила сына-инженера, но запомните: пока цветы не расцвели, плод не завяжется. А ведь этот плод должен потом дать начало новым побегам. Это вам говорю я, бабушка Здравка Крумова Бочева! Уважайте, храните как зеницу ока общую нашу память! Без этого, хоть во дворцах поселимся, духом будем бедны…» Смотрели, смотрели на меня они и засмеялись. Поняли! Вот и перенесли памятник. Нашли выход. А как же иначе! Погиб человек за правду, а то, что никто не знает его имени, ничего не значит. Жив он в народной памяти. Потому вам и рассказываю про те дни сейчас, чтобы вы знали. Хотели товарищи разузнать имя этого храбреца, да один уехал за границу, другой…
Бабушка Здравка снова замолчала, углубившись в свои воспоминания.
Мальчики еще долго не расходились. А на другой день, когда собрались на пустыре, чтобы вместе идти в школу, не сговариваясь, свернули к обелиску.
Венок из живых цветов лежал на гранитном обелиске.
Пятиконечная звезда…
Дата, которую не стерло время.
Мальчики догадались: цветы положил кто-то из них.
Но кто?
Крум? Яни? Евлоги? Спас? Иванчо Йота? Андро? Дими?
Маленькая Здравка?
Или бабушка Здравка?
Не спрашивали. Не хотели разузнавать.
Сегодня двадцать восьмое октября.
Безымянный герой будет теперь вечно жить в их памяти.
А вокруг гудели машины, сигналили нетерпеливые водители, но мальчики стояли на высоком берегу бледные, напряженные, с опущенными руками, не замечая, что стоят по стойке «смирно».
И спустя годы, когда они станут воинами в далеких гарнизонах, каждый раз, услышав команду «Смирно!», они будут вспоминать этот берег и день двадцать восьмого октября, навсегда ставший для них особо торжественным.
С тех пор каждый год они собирались накануне 28 октября у Крума, и бабушка Здравка угощала их тыквой, сваренной с медом на неочищенных веточках шелковицы, брошенной на дно двух больших кастрюль: одной уже не хватало для таких рослых, крепких ребят. А утром все вместе, и Здравка тоже, шли украшать осенними цветами темный гранитный обелиск, воздвигнутый в честь неизвестного героя.
План Крума был прост, как все гениальное.
Лина и Чавдар возвращались обычно с прогулок поздно вечером. Узкие полутемные улицы были пустынны в это время. Темно было и на горбатом мостике, по которому они переходили через речку. Вот там, на мостике, и было самое удобное место, по мысли Крума, чтобы окружить их и забросать самодельными бомбами.
На углу у бульвара находится склад вторсырья, где хранится разная ветошь. Ночью склад не охраняется, так что можно спокойно спрятаться за забором и стрелять оттуда, а с другой стороны влюбленную парочку атакуют Яни и еще кто-нибудь, например Иванчо. Им надо будет притаиться у школы.
Лину, конечно, никак нельзя считать похищенной Чавдаром, Крум в этом убедился. Наоборот, ей приятно, что Чавдар ждет ее после школы, приятно шагать, взявшись за руки. Тем не менее каких только планов мести не строил Крум! Сколько раз рисовал в своем воображении, как безжалостно караются эти изменники.
Почему изменники? И за что их наказывать? Круму не хотелось углубляться в длительные рассуждения на эту тему, ведь тогда, задуманная операция, выражаясь военным языком, теряет всякий смысл.
Не совсем пока ясны и роли Андро и Паскала в операции (без Паскала нельзя!), если главными противниками в ней являются Лина и Чавдар.
Кто станет воевать против брата и сестры?
Никто!
Поэтому, по крайней мере до сих пор, Крум держал в тайне даже от Яни, кто является объектом нападения.
Подготовка к нему шла между тем полным ходом.
Сделали бомбы — маленькие мешочки из плотной бумаги, наполненные песком и перевязанные бечевкой. Испробовали их. Подброшенные вверх, мешочки лопались при падении и осыпали все вокруг тучей пыли.
— Чудо, а не бомбы, — возбужденно причмокивал языком Паскал, очень гордый этим своим изобретением, ведь именно он придумал использовать для пакетиков толстую бумагу от мешков с цементом. На каждой стройке такой бумаги сколько угодно…
Чтобы пакеты не сразу рвались, нужно набивать их как можно плотнее и крепко перевязывать. Поэтому, положив две полных пригоршни самого мелкого песка (тоже, разумеется, со стройки) в квадратный кусок бумаги, мальчики брали его за края и закручивали до тех пор, пока не получался почти круглый твердый шарик. Только тогда бомбу завязывали. Яни и Иванчо обеими руками натягивали бечевку изо всех сил, а Паскал стягивал узел.
Позднее еще одна блестящая идея осенила Паскала — делать бомбы из высохшей, растертой в порошок извести, валявшейся там же, на стройке. Пыли от этих бомб поднималось еще больше, притом белой, особенной, совсем как от настоящего взрыва.
Самым привлекательным было то, что бомбы из песка и высохшей извести не представляли ни малейшей опасности для атакуемого: всего и неприятностей, что оказываешься весь в пыли. Помоешься — и дело с концом!
Мальчикам особенно нравилось, что бомбы придется бросать прямо через шоссе, над мчащимися машинами. Тут требуются и сила, и ловкость, и меткость. Евлоги, самому меткому стрелку, боевое задание формулировалось так: пригвоздить к месту Лину и Чавдара. Они в это время должны быть как раз посередине мостика. Когда Лина и Чавдар придут в себя от неожиданности, Яни и Иванчо отрежут им путь назад, а спереди на них обрушатся бомбы мальчиков, притаившихся у забора.
— Возьмем их в клещи! Мертвой хваткой! — Иванчо угрожающе размахивал то правой, то левой рукой и напускал на свое добродушное лицо такую свирепость, что Крум просто вздрагивал: что же будет, когда Иванчо узнает, на кого предстоит ему напасть?
Тренироваться было негде. Бросать бомбы на пустыре или внизу у реки небезопасно: мальчиков могут увидеть и потом сообразить, что именно они и есть таинственные злоумышленники. А чтобы все действительно осталось в тайне, Крум решил, что им необходимо обзавестись специальными масками. Так в любом случае они останутся неузнанными. Конечно, тут требуются не карнавальные маски животных, птиц или клоунов и всяческих толстяков с круглыми красными щеками, а маски-шлемы, что-нибудь вроде рыцарских. Тогда Круму и его друзьям будет обеспечена полная безопасность.
Приятели отправились в ближайшие магазины, и Евлоги, любимец продавцов микрорайона, выпросил ненужные картонные коробки — чем толще картон, тем лучше.
Резали картон, сшивали нитками, соединяли гибкой медной проволокой, раскрашивали в невообразимые цвета — каждый в меру своей изобретательности, а краски брали первые попавшиеся. Сверху приделывали картонные фигурки: кто солнце, кто луну, кто пирамиду. Получались отличные шлемы, широкие, доходящие до плеч цилиндры с двумя узкими прорезями для глаз и закругленным отверстием для рта. Водрузив шлемы на головы и пытаясь узнать друг друга, мальчики хохотали до упаду. Смех, заглушённый цилиндрами, раздавался глухо, как из бочки. Вот только место для ушей и носа оказалось непредусмотренным. И если уши еще как-то помещались под картоном, то нос совсем сплющивался.
— Ну и ну! — прыскал Андро. — Совсем сдурели!
Мастерской мальчикам служил подвал в доме Крума. Откроешь ставни во двор — и вмиг светлеет. Располагались на ветхих стульях, на рассохшихся бочках из-под квашеной капусты, на суковатых, точно окаменевших пнях, оставшихся от колки дров, на ящиках со всяким хламом. Готовые бомбы и шлемы мальчики прятали в укромных местах.
«Играют дети, чем-то заняты, ну и пусть себе тешатся», — тихо радовалась бабушка Здравка. Однако, услышав дикий хохот, решила все-таки спуститься в подвал — посмотреть, как они там.
— Нельзя! Бабушка, не входи! — закричал Крум, стоило только появиться ей на ступеньках.
По дружному ребячьему хохоту бабушка понимала, что ничего плохого в подвале не происходит, но на всякий случай спросила:
— А что это вы всё внизу сидите? И отчего такое безудержное веселье?
Сняв цилиндры, мальчики потирали сплющенные носы.
— Смешно нам, и все, — ответил Крум. — Но ты не входи сюда!
Бабушка постояла немного — видны были ее ноги в черных чулках, — потом пошла посидеть на лавочке во дворе, где в это время собирались старушки из соседних домов. Какое-то время бабушка походит по двору, посидит на солнышке, потолкует с соседками о погоде, о болезнях, о том, что нынче готовить на обед…
— Ну так что? — растерянно спросил Иванчо. — Как быть с носами?
— Да уж придумаем что-нибудь, — пожал плечами Дими, которому все эти приготовления казались чистым ребячеством.
Еще бы! Когда тренеры готовят тебя к республиканскому первенству по плаванию на сто и четыреста метров вольным стилем в группе юниоров, засекают хронометрами каждую пройденную дистанцию с точностью до десятых долей секунды, наблюдают, насколько технично движешься ты под водой, смешно сидеть тут и вырезать из картона ножницами бабушки Здравки некое подобие средневековых шлемов.
— Вырежем по три отверстия, — предложил Яни. — Одно для носа, а два для ушей! Что туг голову ломать!
— Вырезать недолго, — засомневался Иванчо. — Уши-то нам и надерут!
— Кто? — удивился Андро. — Кто надерет?
— Режьте! — решительно сказал Крум. — Отметьте точно, куда упираются нос и уши, и вырезайте!
Взяли ножницы, острые маленькие ножницы, и каждый вырезал на своем цилиндре три отверстия: для ушей круглые, для носа продолговатое.
— Теперь смотрите, — Крум ловко вырезал два полукруглых кусочка картона. — Это для ушей. Наушники. А вот это, — он вырезал продолговатый кусок картона и согнул его пополам, — для носа.
— Ладно, — задумчиво проговорил Иванчо, орудуя ножницами и от старания высунув язык. — Наушники, наглазники, наносник… Нет, так нельзя сказать, так не выходит.
Работа остановилась.
— Носник, — улыбнулся Спас.
— Лучше уж тогда сопельник, — засмеялся и Андро.
— Вот, смотрите! — Евлоги приложил вырезанные куски картона к ушам и носу.
Он все делал быстро, ловко, Крум не случайно возлагал на Евлоги самые большие свои надежды. Евлоги предназначалась ответственнейшая часть операции — первыми бомбами остановить Лину и Чавдара на горбатом мостике.
— Видите! Не отличишь от настоящих шлемов! — воодушевился Евлоги.
— Надо и Паскалу сказать, — напомнил Андро, кивнув на длинный темно-синий цилиндр, стоящий на расшатанной этажерке в углу.
— Чтобы его нос не расцвел, как баклажан.
— У него не нос, а носик, так что получится баклажанчик! — Иванчо выговорил длинное слово не без труда.
— Да, далеко тебе до Паскала, у него бы все это единым духом получилось! — насмешливо заметил Спас.
— А ты сам скажи быстро, — защищался Иванчо.
Паскал учился в школе во вторую смену и приходил обычно позднее всех, но, надо отдать ему справедливость, принимал самое деятельное участие в приготовлениях, хоть и не знал, на кого задумано нападение, как, впрочем, и все остальные. Похоже, эта неизвестность наполняла мальчишек особой решимостью, придавала их игре загадочность: кто его знает, чем все это кончится?
Никто не обратил внимание, как случилось, что Паскал теперь все свободное время проводил с ними и, стало быть, в курсе всех их планов. Андро участвует в подготовке нападения, рассуждал Крум, почему бы и Паскалу, их маленькому Буратино, как иногда его называли семиклассники, не принять участие в игре? Тем более, что всяких интересных идей у него хоть отбавляй, не то что у Иванчо. Придумал забросать неприятеля камнями. А если и вправду попали бы в голову?
Конечно, Паскал — брат Чавдара.
Но ведь и Андро — брат Лины.
А вдруг вместе с Чавдаром и Линой на мостике окажутся какие-нибудь прохожие? Выходит, обстреливать и их? Нет, ни в коем случае! Тогда пошлем Паскала к парочке. Уж он найдет, что сказать им. Задержит Чавдара с Линой, пока не пройдут посторонние. Подаст знак. Да они и сами увидят: пора! Огонь! Бомбы засвистят над асфальтом. Начнут рваться. Дым окутает мостик. Неприятель в панике отступит…
«Перед генеральным сражением, выражаясь военным языком, — думал Крум, — надо предвидеть и использовать малейшие случайности, любые неожиданности. В конечном счете они-то и решат исход боя!»
А Паскалу сообразительности и ловкости не занимать, даром что он младше всех. Надо будет задержать на мостике Лину и Чавдара, значит, задержит. Ребята уже хорошо узнали его, их маленького Буратино, и уверены, что ради общего дела он готов на все.
Подготовка операции шла полным ходом, оставалось только определить день и время начала военных действий.
Мальчики еще не знали, что в детстве самое прекрасное — это неосуществленные планы, ведь именно их несбыточность пробуждает все новые — возвышенные и благородные — мечты, тогда как сознание близости цели, легкой ее достижимости рождает в душе расслабленность, леность, успокоенность.
Пройдут годы, и старый дом Бочевых будет превращен в музей. Наши подросшие герои придут сюда однажды, чтобы привести дом в порядок, и вдруг найдут на лавках и старенькой этажерке позеленевшие от плесени картонные цилиндры, а в углу — кучу бумажных мешочков с окаменевшей известью и песком. Через годы, отделяющие их от осенних ласковых дней незабываемого и неповторимого детства, они поймут сокровенную и простую истину, что высокая мечта и труднодостижимая цель пробуждает в человеке силы, о которых он порой и не подозревает.
Если бы мальчиков спросили, зачем они затеяли это перепрыгивание на спор через речку — в предстоящей операции от них потребуется не бегать и прыгать, а бросать бомбы (Иванчо, например, целыми днями теперь тренировался в бросках), — Крум не смог бы дать ответа.
Но так ведь во всякой игре: чем больше таинственности, тем она привлекательнее!
Короче, решено! Прыгаем через речку, не бог весть какое трудное испытание! Когда Крум сказал друзьям, что после обеда им всем следует собраться на пустыре и быть в кедах и спортивных костюмах, мальчики обрадовались.
Все пришли в свитерах и футболках, а Спас даже натянул черно-белую майку футбольной команды железнодорожников. Его отец был машинистом, водил мощный электровоз, когда-то водил и дизель, и паровоз, так что у Спаса были все основания носить черно-белую майку.
— Мы вроде не в футбол собираемся играть, — заметил Иванчо, озираясь в недоумении, не перепутал ли он чего-нибудь.
Спас принес и один из своих футбольных мячей, напялил старые кеды со сбитыми, как всегда, носками, а Иванчо явился в новеньком тренировочном костюме, синем, с двумя белыми полосками на брюках с застроченной складкой, — все как полагается. Иванчо страшно гордился этими брюками, не говоря уж о куртке — белая отделка на рукавах, белая пластмассовая молния. Загляденье!
Костюм купили неделю назад. Конечно, не для того, чтобы гонять в футбол на пыльном пустыре, а серьезно заниматься спортом, как Дими. Вот как раз удобный случай обновить костюм! Не идти же в нем в школу из-за одного-единственного урока физкультуры!
— Ну, ты прямо как с витрины, — прищурился Андро (он-то был в своей обычной одежде).
У Дими через плечо перекинута спортивная сумка. Сразу после прыжков через речку он спешит в бассейн.
— Ты, конечно, в плавках, — сказал ему Спас, когда мальчики шли по горбатому мостику, — в них и прыгай!
Было ровно пять часов, Паскал еще не вернулся из школы, но приятели не стали его ждать. Он, конечно, маловат для этого испытания.
Мальчики спешили еще и потому, что после пяти возвращаются с работы родители, да и другим не обязательно видеть, что они болтаются у реки. Зачем? А идти на речку раньше, пока не сделаны уроки, не хотелось, это не в правилах Крума.
Правый, пологий берег у большого моста, там, где владельцы машин мыли свои автомобили, был довольно далеко, мальчики вовсе не собирались делать такой крюк. Разве не могут они спуститься по крутому, каменистому берегу?! Сразу у горбатого мостика мальчики начали спускаться к реке — одни лицом, другие спиной к воде.
— Здорово пружинят! — подпрыгивал в своих белоснежных кедах довольный Иванчо.
Давно уж было заведено у мальчиков их квартала: перепрыгнешь через речку — значит, ты уже не маленький! Не осмелишься — значит, еще подрасти надо! Так уж повелось.
Друзья Крума первый раз выдержали это испытание еще два года назад. Но сейчас Крум повел их влево, туда, где устье реки расширялось перед тем, как разделиться на два рукава. Значит, предстоит совсем новое испытание, настоящая проба сил, требующая смелости и ловкости.
Давно уж друзья не спускались здесь к реке. Сверху она казалась тоненьким ручейком, бегущим по камешкам, но сейчас, у самой воды, река вовсе не была так узка.
А Крум молча вел приятелей вперед, туда, где русло становилось все шире, где у каменного мыса острова поблескивали гребешки волн.
— Перепрыгнем, что за вопрос! — несколько беспокойно повторял Иванчо, то забегая вперед, то пружинисто подпрыгивая на месте, наслаждаясь эластичностью новых кед.
А вот и мост. Берег тут еще круче, река еще шире, вода споро мчится вперед и вдруг рассекается большими сцементированными камнями вдававшегося в реку мыса и, укрощенная, устремляется по двум узким рукавам.
Здесь самое широкое место реки, сюда и привел друзей Крум.
— Тут, — сказал он.
Мальчики все не раз перепрыгивали речку у горбатого мостика, но здесь…
— Поспешим! — торопил друзей Крум. — Времени у нас в обрез! Нечего собирать зевак вокруг!
Широкое каменное русло реки содержалось в чистоте, здесь регулярно убирали тину и наносную грязь. От нагретых солнцем камней исходило приятное тепло, речная долина казалась уютной, просторной и тихой. Шум автомобилей слегка доносился откуда-то сверху и замирал, и, только когда на мосту загорался зеленый свет, глухой гул сотрясал темные своды моста.
— Бочка, с разбегу, да? — спросил Иванчо и, отойдя подальше, разбежался, будто и в самом деле собрался прыгать.
— Да подожди ты, стой! — недовольно крикнул Спас. Иванчо остановился у самой реки, едва удержав равновесие, и отступил назад.
— Не останови ты меня, я запросто перепрыгнул бы! — засопел он.
— Ну что ж, прыгай! — рассердился Спас, стараясь не замечать новый костюм Иванчо.
— И прыгну! — продолжая свой бег на месте, крикнул Иванчо. — Без всякого разбега перепрыгну.
— Не выпендривайся, толстяк! — вскипел вдруг Спас. — Еле-еле ползет, а туда же! Без разбега он прыгнет!
Прыгать с места без разбега, поджав ноги и собравшись в комок, — дело непростое, и тут Спасу не было равных.
— Что? — раскрыл рот Иванчо, замерев на месте с поднятыми руками. — Что?
— Толстяк, — четко повторил Спас. — А сам небось боишься, как бы не испортить новый костюм!
— С чего это ты взял? — огорченно засопел Иванчо. Меньше всего ожидал Иванчо таких нападок от Спаса, чьи убийственные удары мяча он героически отбивал от отцовского забора.
И из-за чего?
Из-за какого-то тренировочного костюма!
Андро, как всегда в таких случаях, разбирал смех:
— Придурок, толстяк!
И все это предназначается Иванчо! Хорошо, хоть Паскала нет.
Крум молча ждал, когда приятели угомонятся.
— Вы кончили?
— А чего он задирается! — буркнул Иванчо, но Крум жестом остановил его.
— Или прыгаем, — тихо сказал он, — или расходимся по домам.
Крум взглянул на Евлоги, который чуть заметно кивнул ему, и направился к реке.
Было тихо, над рекой дул легкий ветерок, неумолчно журчала вода. Вверху, по обеим сторонам проспекта, все так же гудели, обгоняя друг друга, потоки автомобилей. Над массивными перилами моста время от времени мелькали фигуры прохожих, из-под свода тянуло сыростью, а там, дальше, над рекой повис, как радуга, тонкий горбатый мостик.
Крум напрягся, разбежался, у самой воды чуть приостановился и в тот же миг оторвался от прибрежной гальки, пролетел над речкой и легко, совсем легко опустился на землю.
Приободрившись, мальчики нетерпеливо задвигались.
Евлоги шагнул назад. Шаг, другой — и, даже не напрягаясь, будто переходит через ручеек, легко махнул на другой берег. И вот он уже рядом с Крумом. Потом так же неожиданно, одним махом, снова перепрыгнул речку.
— Это что же, Бочка? — насупился Иванчо. — Ведь прыгать будем только по одному разу?
— По одному, — сказал Крум.
— И еще по одному, — отозвался Евлоги и опять перепрыгнул через речку.
Он был высокий, легкий, на вид очень хрупкий, и, хотя все время мальчики проводили вместе, только сейчас они почувствовали, какая неиссякаемая энергия кроется в худеньком, но крепком и жилистом теле Евлоги.
«Вот уж друг так друг! — с восхищением подумал Крум. — Самый близкий мой друг. После Яни, конечно».
Крум понимал, что Яни чем-то превосходит Евлоги, но не мог точно определить чем. В душе его они составляли единое целое, как и вся их ватага — Андро, Спас, Иванчо, Дими и, разумеется, Паскал, ведь все они одарили его дружбой, которой хватит на долгие годы.
— Смотрите!
Прижавшись спиной к крутому берегу, Андро стремительно оттолкнулся и помчался, наклонив голову вперед. Бежал он быстро, не рассчитывая шагов, но подпрыгнул слишком далеко от каменной кромки реки и поэтому едва удержался на противоположном берегу. Андро приземлился на самом склоне, уперся руками в землю и только потом выпрямился.
Теперь был черед Яни. И вдруг со стороны горбатого мостика донесся чей-то тонкий крик. Обернувшись, мальчики увидели две знакомые маленькие фигурки.
— Паскал! — встрепенулся Иванчо. — Уроки кончились, идут!
Паскал уже бежал к мальчикам по узкой тропинке у набережной, а за ним белой бабочкой, готовой в любую минуту вспорхнуть, неслась Здравка в своем белоснежном фартучке и с белыми бантиками в коротких косичках.
«Только ее не хватало! — подумал Крум. — А вдруг Здравка проболталась Паскалу? Вот он и пришел к ним в подвал и давай выдавать идеи насчет задуманной бомбардировки».
Помнится, Иванчо сказал как-то Паскалу: «Ну не все ли равно, как это назвать? Наносник, наушник или сопельник? Что Андро нашел в этом смешного?»
Паскал помолчал и вдруг отрезал:
«Надносник!»
«Так это одно и то же. Надносник, наносник — не все ли равно?» — возразил Иванчо.
«Ошибаешься, — причмокнул Паскал, уставившись прямо на него. — Одно без „д“ — значит, ты лепишь его на нос, а другое с „д“ — значит, защищаешь нос».
«Все болтаешь, — заморгал Иванчо. — Или болтаешь или жуешь резинку! Много ты понимаешь!»
«И то, и другое, и третье, — ответил Паскал. — И болтаю, и жую, и знаю. А вот если и ты хочешь знать, то я тебе скажу: „уши“ начинаются с гласной и не нуждаются в этом „д“, чтобы было ясно, о чем идет речь. А „нос“ начинается с согласной, и, если не отделить приставку тоже согласной, будет ерунда!»
Иванчо разинул рот, не зная, что и сказать.
С тех пор мальчики стали серьезнее воспринимать Паскала, а его отсутствие в компании становилось все ощутимее.
Ну скажите, от такой девчонки, как Здравка, можно что-нибудь скрыть?!
— Вот и я, — спрыгнула она на крутой противоположный берег и, совсем как бабочка, сложила белые крылышки своего фартучка.
«Не хватало только, чтобы она спустилась сюда и надумала прыгать вместе с нами!» — ужаснулся Крум. И сердито крикнул:
— Только посмей спуститься вниз, Здрава!
Круму хотелось предупредить и Паскала, что подготовка к операции вовсе не требует, чтобы он перепрыгивал через речку, но тут Здравка дерзко ответила:
— Захочу и спущусь!
Паскал, как обычно, повторил за Здравкой:
— Вот и я!
Не успели мальчики и глазом моргнуть, как он вместе с портфелем съехал вниз по крутому берегу.
Иванчо обхватил его руками и, покружив, опустил на землю.
Крум недовольно огляделся.
Здравка стояла на берегу, люди свесились через перила моста.
Слишком долго, пожалуй, они собираются для такого пустякового испытания ловкости, смелости и умения хранить тайну.
— Ну же!
Яни перепрыгнул через речку.
Дими сначала перебросил свою спортивную сумку. Потом, поджав губы, с серьезным лицом — таким же серьезным оно, наверно, бывало, когда Дими плавал по водным дорожкам бассейна, — тоже перескочил на другой берег.
— Браво! Браво! — кричал каждому Паскал.
Спас подзадоривал Иванчо:
— Ну прыгай же, толстяк!
— Сначала ты, — набычился Иванчо. — И не очень-то дразнись.
— Ладно, я буду дразнить тебя чуть-чуть.
Спас отошел, напрягся и прыгнул наискосок, прижимая к груди футбольный мяч. Он приземлился далеко от береговой кромки.
— Браво! — опять крикнул Паскал. — Да здравствует «Локомотив»!
А Иванчо все продолжал свой бег на месте.
— Ну же! — торопил его Крум.
— Я разогреваюсь, — сопел Иванчо.
— Смотри, перегреешься, — засмеялся Паскал.
— Не торопи!
И вот Иванчо неудержимо понесся вперед. Бежал, ступая не на цыпочки, а на всю ступню, новые кеды звонко шлепали по нагретым камням. Еще миг — и Иванчо, оказавшись над рекой с поджатыми ногами, стал похож на круглое синее облако.
Но он был тяжел, очень тяжел, и прыжок получился слабый. К тому же Иванчо раньше времени вытянул ноги. Перелетев через реку, он уперся в наклонную насыпь, как и Андро, но не смог ухватиться за нее руками. Медленно, величественно, а скорее покорно, не поднимая брызг, Иванчо шлепнулся в воду.
— Не шлепнулся, не упал, а сел, — так позднее оценили случившееся мальчики.
— Нет, — вступил в разговор Паскал. — Я один видел его со спины, Здравка стояла высоко, не могла хорошо разглядеть, а я видел, как он прыгал. Он сел в воду на корточки, как садятся на горшок.
Шлепнулся, упал, сел, присел — какая теперь разница? Но, очутившись в воде, Иванчо проявил неожиданную активность. Замахал руками. Зашлепал ногами. Завертел головой то влево, то вправо. И изо всех сил старался плыть. Насколько бесшумно и покорно он свалился в воду, настолько энергично стал барахтаться сейчас. Тучу брызг поднял вокруг себя! Однако все его усилия были напрасны, Иванчо неумолимо тащило по течению.
Дими в ужасе воскликнул:
— Тонет!
Волны действительно уже накрывали круглую голову Иванчо, и его короткие стриженые волосы стали издали казаться черными и блестящими.
— Тьфу, тьфу, — шумно отплевывался он и опять погружался в воду.
Его несло прямо на каменные опоры моста.
Мальчики оцепенели.
Иванчо тянул руки к спасительному берегу, пытался ухватиться за скользкие камни. Куртка его намокла, раздулась, распростерлась над водой огромной синей лягушкой.
— Крум, Крум! — кричала Здравка с берега. — Помоги ему!
Мальчики совсем растерялись.
Неужели Иванчо и в самом деле тонет? И тут маленький храбрый Паскал крикнул:
— Держись, Иванчо!
И пока другие лихорадочно соображали, что происходит и что нужно делать, Паскал с одного берега, а Яни с другого бросились в воду.
— По… По… — пыхтел Иванчо, повернув голову к Яни, который поднырнул под него и вытолкнул на поверхность.
В это же время Паскал запрыгал в воде.
— Эй! Эй! — в восторге кричал он, выпрыгивая из воды все выше. — Да тут и грудной ребенок не утонет!
Вода едва доходила ему до пояса.
Подняв на свои сильные плечи Иванчо, с которого стекали потоки воды, Яни растерянно оглянулся.
Ох уж этот Иванчо! Так перепугал всех, что они совсем забыли, какая мелкая летом река.
— По… Помоги, Яни! — продолжал пыхтеть и отплевываться Иванчо, а из рукавов и штанин струились настоящие водопады.
Иванчо чувствовал, что спасен, но никак не мог прийти в себя.
Только когда мальчики протянули Яни руки и помогли ему выбраться на берег, Иванчо успокоился. Вскочил, затряс головой. Провел рукой по волосам, и вокруг разлетелись брызги. Иванчо прижал локти к куртке — зажурчала вода, потопал ногами — кеды заквакали, как живые.
— Пропади они пропадом — и эта речка, и это перепрыгивание! — рассердился он.
А промокший до нитки Паскал скакал вокруг и кричал:
— Утоплен-ник! Утоплен-ник! Синяя лягушка!
Вдруг Паскал покачнулся на скользком дне, потерял равновесие и шлепнулся навзничь. Но тут же выплыл. Выдул воду из ноздрей. Откинул со лба мокрые волосы. Вместе с водой выплюнул жвачку. И только тогда повернулся к Здравке, с изумлением следившей за ним с берега.
— Вот и я, — виновато сказал он и вылез на берег, ухватившись за руку Крума.
Из-под него — просто трудно поверить — стекала вода, как из десяти кранов.
Так они и стояли у реки, одни сухие, другие мокрые до костей.
Иванчо все еще дулся, фыркал:
— Чтоб тебе пусто было! Выдумал! И река, и эти прыжки…
Вода стекала с него так же, как с Яни и Паскала, но те, по крайней мере, молчали, а Иванчо ни на минуту не затихал, все ворчал, и хлюпанье его кед сопровождало его ворчанье.
В этой общей суматохе первым расхохотался Андро — неудержимо, с закрытыми глазами. Он заливался смехом, просто весь трясся от хохота.
— Синяя лягушка! — едва выговаривал Андро. — Прилипнет теперь к Иванчо еще одно прозвище.
— Сам ты лягушка, — насупился Иванчо.
— Ладно уж, молчи лучше, — оборвал его Спас. — Толстяк! Прыгун!
— Ты из-за ребят переживаешь или из-за меня? — рассердился мокрый Иванчо.
— Из-за ребят.
— А если бы я утонул?
— Ну, хватит, — устало сказал Спас. — Вон Паскалу и то едва до пояса вода, а ты — «утонул»! Входи в воду, ложись и тони на здоровье! Может, найдется какой-нибудь сумасшедший тебя спасать!
Иванчо растерянно заморгал. Повернулся к Яни, к Паскалу — такие же мокрые, как он, с прилипшей к телу одеждой… И тут на его широком лице засияла добродушная улыбка.
— Синяя лягушка! — повторил Паскал. — В тазу когда-нибудь утонешь. Я из-за тебя жвачку выплюнул.
— Если я лягушка, тогда ты головастик, — засмеялся в ответ Иванчо. И повторил: — Головастик с галстуком. Слышите? — Просияв, он обернулся к мальчикам: — Головастик Буратино.
Хрупкий, худенький, с прилипшими ко лбу длинными волосами, обвисшими концами синего галстука, в мокрых джинсах и сандалиях, из которых при каждом шаге выливалась вода, Паскал и впрямь походил на головастика. И одновременно на маленького, смешного, выкупанного прямо в одежде Буратино. А Иванчо напоминал жизнерадостного притворщика, надевшего специально для этого случая новый спортивный костюм.
Только Яни был сдержан, не суетился, не разглагольствовал. Под ногами у него натекла целая лужа.
С каменного парапета моста свешивались любопытные прохожие.
Крум почувствовал, в какое дурацкое положение они попали, почувствовал смущение Дими, представил последствия этого дурацкого испытания сил и ловкости, которое Иванчо так глупо провалил, и, сдержанно сказав: «Побыстрее вытряхивайтесь отсюда!» — первым полез вверх по насыпи.
Он не оборачивался, нарочно не хотел оглядываться, огорченный и раздраженный, потому что боялся, как бы Иванчо снова не поскользнулся на каменных плитах.
Крума остановил голос Паскала:
— А мой портфель?
Крум обернулся. Портфель Паскала и в самом деле остался на противоположном берегу.
— Я сбегаю за ним. — Евлоги спустился по насыпи вниз, перепрыгнул речку, взял портфель Паскала и быстро вернулся назад. Все это он проделал так легко, будто разгуливал по тротуару, — просто сделал шаг пошире и перелетел через препятствие, поглотившее толстяка Иванчо; потом так же легко поднялся по крутому берегу и протянул портфель Паскалу.
— Не давай ему, — остановил его Яни. — Намокнет.
— Дай мне. — Крум взял портфель.
По мосту с того берега к мальчикам бежала Здравка.
Перешли шоссе, пробираясь между машинами, из портфеля Паскала торчала палка с нарисованным знаком «Стоп», но всем было не до того, друзья молча шагали по тротуару.
— Вот и я, — догнала их запыхавшаяся Здравка. Никто ей не ответил.
— Ай-ай-ай, какой ты мокрый! — заахала девочка, дотрагиваясь до одежды Паскала.
— Ну, хватит ныть, — оборвал сестру Крум. — Не один он мокрый.
Но Здравка на других и не взглянула.
— Подожди! — остановила она Паскала, пытаясь вытереть его волосы.
— Здрава! — Крум сердито поджал губы. — Нечего тут на улице цирк устраивать!
— Это вы цирк устраиваете, — рассердилась Здравка. — Точнее, ты! Твои небось выдумки.
Только теперь она посмотрела на Яни, который шагал как деревянный, расставив руки в стороны, на Иванчо — в хлюпающих кедах, в обвисшем тренировочном костюме — и прыснула, прикрыв рот ладонью:
— Ой, какие вы смешные! Если бы ты знал, Крум, братик, какие вы смешные!
Крум, может быть, этого и не знал, но чувствовал. По взглядам и улыбкам прохожих, по угрюмому молчанию товарищей он понимал, что они выглядят не лучшим образом, если даже Здравка смеется над ними. Крум просто сгорал от стыда.
Неподалеку от поворота на пустырь Дими остановился.
— Мне сюда, — кивком показал он на соседний широкий мост и проспект, по которому лежал маршрут троллейбуса, едущего прямо к спортивному комплексу.
— Иди, — коротко ответил Крум.
Дими шел с некоторой неуверенностью, прижимая локтем перекинутую через плечо спортивную сумку.
— Чемпион, — презрительно процедил сквозь зубы Спас. — Только тренировки на уме.
Крум чувствовал, что товарищи готовы сейчас разбрестись кто куда. Получается, что первая же неудача может испортить все задуманное.
— Идемте ко мне домой! — сказал он. — Там обсушимся.
Что ж, раз ему в голову пришла идея перепрыгивать через речку и мастерить всякие там маски-шлемы и бомбы, которые так здорово усовершенствовал Паскал, нужно найти в себе силы, чтобы достойно встретить первую неудачу.
Бабушка не станет их ругать, наоборот, выстирает и выгладит испачканную рубашку Паскала, Крум сам раздвинет ей гладильную доску, и все пройдет, все забудется. Вот если бы отец был дома, так легко не удалось бы отделаться от неприятностей, хотя и отец всегда его понимал.
— Бабушка вам все выгладит, — ободряюще сказал Крум, — будет как новое!
— Ха! — воскликнул Спас. — Паскал и Яни, может, и высохнут, а Иванчо… Знаю я эти костюмы! Впитывают воду, как губка, но три дня сохнут.
В подтверждение его слов Иванчо подпрыгнул, из хлюпающих кед и с брюк закапала вода.
— Вот видите, — пожал Спас плечами. — Один раз вошел в речку и чуть не осушил ее. Стоит ему шевельнуться, вода льет ручьями.
— Я, пожалуй, пойду, у меня дела, — сдержанно произнес Яни.
Сказал спокойно, но Крум знал: Яни не переменит своего намерения, не надо и пробовать его отговорить.
— И я ухожу, — торопливо проговорил Паскал.
— Ну уж нет! — воскликнула Здравка и схватила его за руку. — Пойдешь к нам, — продолжала она с такой уверенностью, что Крум удивленно посмотрел на сестренку. — Мы с бабушкой тебя подсушим, выгладим, станешь как новенький. Даже выстираем. В стиральной машине. Знаешь, как она работает!
— Надо сказать — высушим, — поправил ее Паскал. — Подсушить можно только грудного младенца. И все-таки я пойду домой.
Здравка, однако, не выпускала его руку из своей.
— Насильно тебя похитим! Правда, Крум?
— А как же, похитим, — повторил Крум, погруженный в свои мысли.
Паскал еще раз огляделся по сторонам, ища поддержки, но Яни, Иванчо, и впрямь похожий на синюю лягушку, а за ними Андро и Евлоги уже направлялись к пустырю. К тому же Крум нес портфель Паскала, так что куда уж тут бежать? Печально опустив голову, Паскал покорно зашагал рядом со Здравкой.
Выкупанный, голый, закутанный до подбородка в голубой махровый халат Крумова отца, такой широкий и длинный, что в него можно было бы завернуть пятерых таких, как Паскал, мальчик чинно сидел в кухне, пока Здравка сушила феном его мокрые волосы.
Что такое? Почему бабушка так сдержанна и молчалива? Она что, уже успела поговорить с Паскалом? Почему в доме чувствуется какая-то напряженность?
Бабушка выгладила рубашку, джинсы, майку, трусы, не позволила Круму вытащить гладильную доску, гладила так, как она любила — на краешке стола, расстелив старое одеяло, гладила молча, лишь время от времени пристально вглядываясь в Паскала.
И он точно язык проглотил…
Паскал вынул из портфеля нераспечатанные пакетики импортной жевательной резинки, протянул Круму и Здравке.
Крум взял.
Здравка, занятая тем, что сушила носки Паскала над плитой, отказалась:
— Ты же знаешь, я ее не люблю.
— Знаю, — уныло ответил Паскал и, вместо того чтобы, по обыкновению, засунуть резинку в рот, убрал пакетик в портфель.
— Тебе не холодно? — встревожился Крум. — Не простыл, когда промок?
В памяти Крума всплыла растерянная улыбка Паскала, когда его спросили, не боится ли он матери. Крум никогда не видел мать Паскала, а его собственные воспоминания о покойной маме — что-то весенне-белое, воздушное — трудно связывалось с матерями его друзей.
Повседневные будни наполнены обычными заботами матери о детях, ее тревогами, советами, порой невольным раздражением, и вдруг в глубокой ночной тишине сыну или дочери открывается: только материнское сердце способно до конца понять тебя, утешить и ободрить. Крум никому не рассказывал о своей затаенной тоске по покойной маме, но всегда с подчеркнутой предупредительностью относился к матерям своих друзей. Он все мог простить и Я ни, и Евлоги, и Андро, Спасу, Дими, Иванчо, одного не прощал никогда — грубости по отношению к матери. Друзья знали об этом и при нем держали себя особенно вежливо по отношению к маме.
Крум и представить себе не мог чью-либо мать в тюрьме, поэтому с таким глубоким сочувствием относился он к Паскалу, покровительствовал этому маленькому Буратино, радовался, что Паскал подружился со Здравкой и что ребята приняли его в свою компанию.
Вот только немного беспокоился, как отнесется бабушка к их новому товарищу.
Вряд ли бабушка не знает тайну Паскала, раз ее уже знал дядя Костакис.
Не потому ли она сегодня такая сдержанная?
И не зовет их перекусить, не приглашает к ужину, а уж время идет к вечеру… И про айвовое варенье даже не заикнулась.
— Бабушка! — позвал Крум. — Вскипятим чайку, а? И хорошо бы поджаренного хлеба с маслом и вареньем. А то Паскал совсем замерз.
— Мне тепло. Я даже вспотел! — зашевелился закутанный в купальный халат Паскал.
— Не капризничай, не капризничай! — прикрикнула Здравка. — Поешь! Вон ты какой худышка.
Только Крум вошел к Паскалу в ванную, чтобы дать ему купальный халат, Здравка тоже заглянула в дверь: велела Паскалу вымыть голову ее шампунем, чтобы голова не пахла речной тиной.
Видали, какая заботливость? Крум чуть не расхохотался.
А вот у бабушки по-прежнему суровое, задумчивое лицо.
Интересно, как выглядит мать Паскала? Как живут они с матерью, которая отбывала срок за злоупотребление деньгами и служебным положением?
А Чавдар?
Уж не на эти ли деньги они купили велосипед?
И «скейт-борд», о котором говорил Паскал и даже Здравка.
— Ты меня слышишь, бабушка?
Ради Яни бабушка достала из буфета хрустальные стаканы и розетки, не пожалела серебряные ложечки. Неужели ей так неприятен Паскал, что она делает вид, будто не слышит Крума? Может, ей жалко варенья?
— Я лучше пойду, — снова засуетился Паскал.
— Тебя дома ждут? — осторожно спросил Крум.,
— Ждут, — неопределенно ответил Паскал. — А худышкой называют только маленьких детей. Я не худышка и вообще не худой. Порода у нас такая. И у Чаво тонкая кость, и у мамы…
Крум почувствовал, как он напрягся весь, бабушка тоже вздрогнула, лицо ее посуровело.
В первый раз они слышали, как Паскал говорит «мама». Он тоже смутился и чуть ли не с головой спрятался в капюшон купального халата.
— Готово! — Здравка выключила фен и пригладила ладонью мягкие, блестящие волосы Паскала.
Бабушка Здравка выгладила одежду Паскала и увела его переодеваться.
— Бабушка, я приготовлю ужин и накрою на стол, — крикнула ей вслед Здравка.
Бабушка промолчала.
— Что это с ней? Уж не заболела ли? — встревожился Крум.
— Да нет, нет, ничего, — беззаботно ответила занятая своими мыслями Здравка.
Она ловко достала из холодильника противень с фаршированным зеленым перцем и поставила его в духовку разогревать, потом стала накрывать на стол, резать хлеб. Тут в дверях снова показались Паскал и бабушка Здравка.
На ногах у Паскала вместо промокших сандалий были коричневые ботинки Крума, про которые он давно забыл, а бабушка, оказывается, предусмотрительно их убрала. Когда-то ботинки очень нравились Круму, коричневые, на белом эластичном каучуке. Отец привез их из какой-то заграничной командировки, но Круму они очень скоро стали малы, поэтому он их почти не носил.
— Впору тебе? — обрадовался Крум.
— Как раз, — не сводил глаз с ботинок Паскал.
Они явно нравились Паскалу: еще бы! Почти новые! И как это бабушка вспомнила про них — просто удивительно!
Интересно, о чем говорила бабушка с Паскалом раньше, когда он приходил к ним? Крум был тогда в школе.
Паскал наконец поднял глаза и как-то виновато посмотрел на бабушку.
Здравка положила на стол вилки и ножи на белых салфетках, ложки для простокваши, которую она тоже достала из холодильника. Из нагретой духовки шел аппетитный запах, все было как обычно у них в доме, гостеприимном, приветливом, спокойном, и Крум вдруг упрекнул себя в том, что перекладывает на других собственную вину за случай на реке.
— У меня еще дыня есть! — вдруг вспомнила бабушка Здравка. — В подполе.
Никогда не скажет «в подвале»! Крум понял: это сказано для него, надо спуститься в подпол и принести дыню. Хорошие дыни у них в подполе, и сочные, и всегда удивительно сладкие. Бабушка умела выбрать хорошую дыню на базаре.
Уж виноград пошел, Здравка и Крум больше всего любили крупный желтоватый мускат, но бабушка, сколько они ее помнили, всегда предпочитала дыни.
— А эти ножи убери, — сказала она Здравке. — Достань другие, десертные, с маленькими вилочками. И брынзу.
Это самое любимое бабушкино кушанье, дыня с брынзой! Значит, если бабушка и была чем-то озабочена или даже рассержена, все уже прошло?
— Иду!
Крум весело сбежал по ступенькам в подвал. Зажег лампу. Сквозь щели двойных ставен пробивался свет. На полках и этажерке в глубине подвала пестрели их маски. Бомбы, похожие на брикеты, громоздились в темном углу. Он взял дыню с холодных каменных ступенек. Бабушка специально не клала дыни в холодильник, она считала, что в холодильнике дыня теряет свою сладость. Тяжелая, продолговатая, с глубокими продольными бороздками, дыня источала сладостный сочный аромат сквозь шероховатую желтовато-зеленую кожуру.
Войдя в кухню, Крум замер от удивления. Бабушка сидела сложа руки, а хозяйничала Здравка. Вот сестра поставила на стол разогретый противень с мясистыми перцами. Корочка сверху подрумянилась, видны кусочки помидоров внутри, и все это залито яйцами.
— Ой, горячо! — притворно жаловалась Здравка, ухватив противень двумя тряпочными зайцами, хотя руки ей вовсе не жгло.
Но она охала, стараясь привлечь внимание Паскала, который сидел как раз напротив бабушки, скрестив руки на груди.
— Эй, — весело поддразнил его Крум. — Шевелись! Что ты замер, как загипнотизированный?
Паскал осторожно развернул салфетку, положил ее на колени. Синий галстук был красиво завязан у расстегнутого ворота его рубашки.
— Ты не измажешься? — все так же озабоченно спросила Здравка. — Завяжи салфетку, если хочешь.
Паскал укоризненно взглянул на нее и сдержанно ответил:
— До сих пор такого не случалось.
— Хватит уж тебе, садись, — ласково упрекнула Здравку бабушка. — Что ты все болтаешь?
Здравка придвинула стул поближе к Паскалу. Крум сел на диван напротив и легонько подтолкнул его ногой:
— Ну как, порядок?
— Порядок.
— Бабушка, нам ведь эти ботинки не нужны? Бабушка кивнула.
— Подарим Паскалу?
— Ты спроси сначала, примет ли он наш подарок, — сказала бабушка.
— Раз они ему нравятся, почему же не взять! — воскликнул Крум.
— А что скажут дома?
«Знает! — мелькнуло в голове у Крума. — Бабушка знает! — повторил он убежденно. — Иначе не стала бы так говорить».
Бабушка молча протянула ложку к противню. Сначала взяла тарелку Паскала, положила ему два самых больших перца с желтой яичной подливкой. От теплых помидоров поднимался горячий пар.
Потом положила Круму, Здравке, а уж под конец, как всегда, себе — всего один перец.
— Ну, ешьте на здоровье!
Паскал растерянно взглянул на полную тарелку.
— Ешь, ешь, — подбодрила его бабушка Здравка. — Ты не худой, но надо есть побольше, вы же растете. И дома поешь! А про ботинки скажи матери, что от бабушки Здравки Бочевой. И от Крума. — Бабушка зорко взглянула своими блестящими глазами на Паскала: — Понял?
— Понял, — тихо ответил он.
— Вылитая мать, — вырвалось у бабушки. — Мать в твои годы точно такая была!
Крум даже рот раскрыл от удивления. Здравка тоже замерла.
— Мама его такая же красивая? — громко воскликнула девочка с непосредственностью, свойственной ее возрасту, потом, спохватившись, заахала, прикрыв рот ладонью. — Совсем забыла! С этой вашей дурацкой речкой забыла!
— Что забыла? — досадливо поморщился Крум, все еще находящийся под впечатлением бабушкиных слов и неожиданного открытия, что она, оказывается, давно знает мать Паскала. — Что ты забыла? И вообще, хватит ломаться!
— Ай, ай, как я могла? — продолжала сокрушаться Здравка.
— Она забыла предупредить вас про родительское собрание, — спокойно разъяснил Паскал. — Послезавтра, в шесть вечера. Должны присутствовать все родители. Обязательно. У нас и в тетради это написано. Родителям велели расписаться внизу.
Паскал снова стал самим собой, такой же словоохотливый, как всегда, но Крум не вслушивался ни в то, что он говорил, ни в причитания Здравки.
Окутанную туманом и низко нависшими облаками Витошу не видно. Моросит дождь, мелкий-мелкий, какие бывают после летних ливней. Мальчики стоят на горбатом мостике и смотрят на реку. Здесь, у высоких берегов, река вырвалась наконец из каменного русла и течет темная, грозная, вобравшая в себя воды горных потоков. Впрочем, они уже не на мостике, а на быстроходном корабле посреди разбушевавшейся стихии. Яни, Дими, Евлоги, Иванчо, Андро, Спас, Паскал, даже Здравка — все выполняют команды Крума. Друзья плывут в безбрежном океане, но вот виднеется каменный мол, а за ним светло-желтое здание пристани. Точь-в-точь как отремонтированный райсовет.
Там, в белом адмиральском кителе, с грозно торчащими белыми усами, расхаживает перед картой океанов и морей его дедушка.
У руля Яни. Крум, естественно, на капитанском мостике. А теперь, за волноломом, выход в открытое море. В мрачном, хмуром небе над их головами засвистели вдруг снаряды. Обрушились со всех сторон. А они плывут уже не по океану, даже не по морю, а по каналу. Корабль обстреливают с берегов, и напрасно Крум кричит изо всех сил, что тут какая-то ошибка и береговые батареи бьют по своим.
Крум уже не слышит ни собственного голоса, ни грохота взрывов, хотя видит, как разрываются снаряды и над кораблем стелется дым. Уже загорелся нос корабля, уже пылает корма, враг взял их в кольцо. Теперь ни вперед, ни назад; единственный выход — принять неравный бой! И сражаться достойно, до последнего вздоха!
И тут вдруг затрубили трубы. Это Андро взял свой тромбон. Спас подбросил ногой мяч с черными треугольниками. Небо вдруг продырявилось, и в неописуемо глубокой синеве появилось весеннее белое легкое облако, его облако. Тут они и перемахнули через реку, но не внизу, где русло совсем узкое, где прыгают малыши, а вверху; летят от берега к берегу, а за спиной словно выросли крылья.
Зовут и Иванчо. Он делает такой мощный разбег, что летит выше всех, чуть ли не у самого белого облака. Крум в испуге устремляется к нему. Иванчо смеется, спускается пониже.
А облако все выше и выше. Крум летит к нему, протянув вперед руки и едва переводя дыхание. Сердце готово разорваться, оно переполнено нежностью, ведь сверху на Крума смотрят светлые миндалевидные глаза Лины. Она взглянула на него и исчезла, а Крум утопает в мягких объятиях облака и вдруг слышит тихий голос. Это голос мамы…
С криком, рвущимся из самой глубины души, Крум просыпается:
— Мама!
Оглядывается по сторонам. Он редко видел сны, еще реже их помнил. Бывало, что-то снилось, а что — и не вспомнишь теперь. А сейчас, то ли от внезапного пробуждения, то ли от переполнявшего его чувства необычайной легкости, Крум долго еще находился во власти сновидения.
В комнате почти светло, на соседней кровати, мирно раскинув руки, спит Здравка. Деревянный Буратино на стене, как всегда, сторожит ее покой.
Здравка не любила засыпать в темноте. Ложась в кровать, она обычно отдергивала плотные шторы. Вот и сейчас осенняя луна заливает комнату бледным, призрачным светом.
Почему он проснулся?
И увидел во сне маму?
Никогда мама не снилась Круму, снился только ее портрет на стене, а сейчас он слышал мамин голос. Глубокий, нежный, ласковый, этот голос еще звучал в ушах и наполнял все существо Крума невыразимым счастьем. Он почувствовал себя взрослым, великодушным, ему стало вдруг легко на душе. Годы спустя, когда Крум размышлял, пытаясь понять окружающих людей, ему часто вспоминалась эта ночь и ясный мамин голос.
— Мама! — повторил он.
Здравка по-прежнему крепко спала.
Крум повернулся к стене, закрыл глаза, но сон о маме бежал от Крума. То виделось ему хмурое небо и полноводная река, то опять взрывались бесшумно снаряды, то плыло по-весеннему белое легкое облако. Крум устремлялся к нему навстречу, но оно ускользало…
На этажерке мерно тикал будильник. Стенные часы стали глухо бить, Крум так и не сосчитал их удары, сбился. Вдруг его внимание привлекла полоска света под дверью в бабушкину комнату. Наверное, на тумбочке у бабушкиной кровати горит лампа.
Крум встал. Дощатый пол приятно холодил босые ноги. Мальчик не стал обуваться, чтобы не поднимать шума.
Неужели он спал так мало? Или сейчас уже утро и бабушка встала?
Уж не заболела ли она?
Крум тихо пересек темный коридорчик и увидел, что лампа в комнате бабушки действительно горит. Распахнул дверь.
Бабушка услышала, как он вошел, но не повернулась к нему, а продолжала лежать неподвижно с широко раскрытыми глазами. Может, она слышала, как он шел по коридору, а может, слышала, как внук ворочался в постели, потому что нисколько не удивилась его появлению. Только теперь Крум посмотрел на стенные часы — было два часа ночи.
Бабушка не выглядела больной, взгляд ее был спокойный.
— Ты не спишь?
Бабушка покачала головой. На ночь она убирала волосы под платок, туго завязанный сзади, и от этого лицо ее становилось как будто меньше и удивительно молодело.
— Завтра доспишь, — пошутил Крум.
Когда они со Здравкой были еще маленькие и спали с бабушкой в одной комнате, они любили забираться к ней в кровать. Бывало, смотрят телевизор — он стоял в этой комнате, — она что-то тихо рассказывает детям, и дети незаметно засыпают, убаюканные синеватым мерцанием экрана. Реальность, сны, далекие края, ворвавшиеся к ним в дом, — все сливалось, приобретало знакомые очертания детских игр.
Крум уселся в ногах у бабушки. На тумбочке лежали ее очки и маленький альбом, на обложке которого рукой отца написано по диагонали его имя и фамилия. Буквы немного стерлись — видно, написано это давно, но Крум никогда прежде не видел альбома в доме. Вспомнил: как-то Здравка искала, куда наклеить цветные открытки с видами Ленинграда, на которых отец писал им письма, так она перерыла все альбомы в доме. И старые попадались, с твердыми переплетами, их сам дедушка переплетал. Но этого альбома они со Здравкой не видели.
Что в нем? Фотографии отца?
И почему это бабушке вздумалось рассматривать его среди ночи?
Или это как-то связано с его сном, с мамой и Паскалом, мать которого бабушка, оказывается, давно знает?
Крум знал: давно, еще до его рождения, дедушка передал все документы, связанные с подпольщиками-революционерами, музею революционного движения. Крум не раз собирался сходить в музей с бабушкой или с отцом. Там покажут, какие именно документы переданы музею дедушкой. Крум думал: стоит повнимательнее вглядеться в эти групповые фотографии, расспросить поподробнее, и удастся найти того, пока безымянного молодого человека с пистолетом в руке, в светлом, развевающемся, как крыло птицы, плаще, о котором рассказывала им бабушка. Он не сумел вырваться из стального кольца облавы и предпочел героически умереть. Стоит на земле устремленный ввысь гранитный обелиск, по которому Крум с друзьями, да и те ребята, что каждую осень приходят в первый класс, измеряют свой рост…
Крум протянул руку, хотел взять альбом. Почему не посмотреть снимки, раз альбом у них дома, а на обложке отец написал свое имя? Но бабушка прикрыла альбом рукой.
— Спать, — сказала она тихо. — Иди ложись. Пора спать.
Крум встал. В первый раз бабушка что-то скрывала от него, явно не захотела показать ему. Он не огорчился: значит, не все еще дано ему знать.
— Ложись и ты, бабушка.
Круму хотелось рассказать, что он в первый раз так ясно видел во сне маму, слышал ее голос, она вдруг ожила в его памяти, но молчание бабушки и ее рука, лежавшая на альбоме, не располагали к откровенности. Наверно, у каждого есть свои тайны? И у отца? И у бабушки? И у Паскала? У Яни? У него самого?
Нераскрытой тайной было и имя человека, погибшего у реки.
— Ложись, — повторила бабушка. — Я тоже сейчас засну, вот… — И она дотронулась до выключателя.
— Бабушка, а ты знаешь, что мать Паскала сидела в тюрьме? — вдруг спросил Крум. Он стоял в дверях и сам удивился, что заговорил об этом.
Бабушка кивнула.
— Это плохо и стыдно, да?
Крум ждал подтверждения своих слов и в то же время хотел, чтобы бабушка ему возразила.
— Когда как! — ответила она. — Смотря за что попадешь в тюрьму.
— Я говорю о матери Паскала. Когда человека судили за злоупотребление деньгами и служебным положением…
— Мал ты еще, — вздохнула бабушка. — Но хорошо, что спрашиваешь. Раз интересуешься, значит, поймешь, как оно в жизни бывает. Ваш Паскал, хоть и болтунишка, а толковый мальчик, голова у него хорошая. Присматривайте за ним, держите поближе к себе.
«Голова… Как его мать?» — вертелось у Крума на языке, но он сделал вид, что удивлен:
— Что он, маленький, что ли? Присматривайте за ним! И почему он должен всегда быть с нами?
— Думаешь, я знаю? — Бабушка испытующе посмотрела на Крума.
— Скажи, — нетерпеливо потребовал Крум.
— Ладно, скажу, — согласилась бабушка. — И не говори потом, что я начинаю и не договариваю.
— Все-то ты помнишь.
— Помню. А ты не забудь спросить Паскала, для чего он собирал деньги.
— Какие деньги? — удивился Крум.
Как странно они сегодня разговаривают… Ночью, шепотом, и бабушка, как всегда в такие минуты, становится совсем другой, разговаривает с Крумом, как со взрослым, а мысли ее уносятся далеко в прошлое, в те дни, когда отцу Крума было столько лет, сколько ему сейчас, или еще дальше, когда бабушка была молодой, и дедушка тоже.
— Деньги. Для членского взноса в организацию чавдарцев в вашей школе, — пояснила бабушка.
— Ничего себе, — остолбенел Крум, и в голове мелькнуло, как смешно раскрывает рот в такие моменты Иванчо. — Не может быть!
— Не может, но собирал. У старушек, стариков. Они ведь не очень-то разбираются в таких делах… Но членские взносы с готовностью платят.
— И к тебе Паскал приходил? — Крум вспыхнул от возмущения.
— Нет, — покачала головой бабушка Здравка. — По крайней мере, еще нет. Да и, насколько я знаю, в пионерских и чавдарских организациях членских взносов не платят.
Крум снова взглянул на продолговатый альбом на тумбочке, вспомнил про мать Паскала и подумал: «Да, слабовата разведка у Яни, где ей с бабушкой тягаться!» Только теперь он догадался, почему у их маленького Буратино был такой смущенный и виноватый вид.
Крум никак не мог уснуть. Он отсчитывал звонкие удары часов, удивлялся, как это не слышал их раньше, все смешалось в его уме, приобрело странные очертания, иную окраску.
Теперь он ясно отдавал себе отчет, что с каждым ушедшим годом и он, и его товарищи меняются, становятся другими, меняются и их интересы и стремления. Далеко, неизмеримо далеко теперь отодвинулись прошлая зима и лето с бесконечно длинными днями, какие бывают в каникулы, а время бежит — миг за мигом, минута за минутой, как песок сквозь пальцы. Вглядываешься в себя и понимаешь, что тебе предстоит что-то не терпящее отлагательства. Упущенное сегодня время улетает навсегда и безвозвратно, завтра будет поздно, завтрашний день принесет что-то другое,/и именно в этом, может быть, скрыт ответ на вопрос: что значит сейчас, сегодня? Каким ты должен быть сегодня?
Большой прямоугольник окна медленно бледнел, точно кто-то раздвинул темные ставни. Ночь отступала. Вместе с утренним холодком над землей повеяло глубоким покоем, словно гранит и бетон, асфальт, железо и кирпич стали теперь излучать скрытое в них тепло, чтобы люди наконец погрузились в глубокий предрассветный сон.
Здравка пробормотала что-то во сне. Повернулась лицом к деревянному Буратино на стене. Только теперь к Круму пришел душевный покой, он прикрыл глаза. Хорошо лежать, ни о чем не думая! И когда тишину прорезал пронзительный звон, он улыбнулся: опять что-то снится.
Но это был не сон. Звон продолжался. Сначала Крум слушал с радостным удивлением, потом с возрастающей тревогой, а когда наконец открыл глаза, то вскочил как ужаленный.
Звонил телефон.
Наступило утро, пробудившийся город шумел за окном, а черная коробка телефона в полутемной прихожей вздрагивала, как живая.
— Бабушка, слышишь? — крикнул Крум.
— Иду, иду, — быстро ответила она из своей комнаты, но Крум уже схватил трубку и вдруг услышал голос отца.
Голос звучал совсем рядом, казалось, отец в двух шагах отсюда.
— Доброе утро, дорогие мои! — пробасил по-русски отец.
— Доброе утро, папа! — радостно закричал Крум, и вся усталость бессонной ночи, все тревожные мысли мгновенно испарились.
Удивительно, что и бабушка, и дедушка были низкорослые, худенькие, а отец вырос крупным, высоким, от него так и веяло уверенностью и силой. Едва Крум услышал голос отца, ему передалась отцовская бодрость.
— Как вы там?
— Хорошо, — задыхаясь, ответил Крум. — Все чувствуем себя хорошо. Все в порядке. Здравка еще спит, бабушка тут, рядом со мной. А как ты? У вас уже рассвело?
— Рассвело! — засмеялся отец, и Крум опять подумал: повезло же им с таким отцом: почти не спал ночь, а услышал голос отца, и все тревоги показались ерундой, на душе стало ясно и легко.
— У Здравки завтра родительское собрание! — крикнул Крум. — И если бабушка не сможет, пойду я вместо тебя! Слышишь, отец?
— Конечно, иди! — ответил отец. — Скажи Здравке, я послал ей черный школьный передник.
— Хорошо.
— И блокноты вам посылаю, олимпийские. Мой товарищ по работе к вам заедет.
— Хорошо, — опять повторил Крум.
Он не слышал своего голоса, но чувствовал, что кричит. Было так весело, радостно, легко, хотелось, чтобы его слышали все люди на земле.
— Дай мне трубку, — протянула руку бабушка.
— До свидания, папа! — крикнул Крум.
— Доброе утро, сынок! — тихо, но отчетливо начала бабушка Здравка, обхватив обеими руками трубку, как лицо дорогого человека, с которым расстаешься или встречаешься после долгой разлуки.
В трубке звучал отцовский голос, бабушка что-то отвечала, но Крум уже ничего не слышал.
Побежал в комнату, разбудил Здравку. Встряхнул ее за плечи.
— Вставай, вставай! Отец тебе посылает черный школьный фартук, такой же, как белый, с широкими воланами.
Здравка заморгала. Вскочила как ошпаренная. Закричала не своим голосом:
— Папа! Папа, папочка!.. — Закружила бабушку. Выхватила трубку у бабушки из рук. И все кричала: — Папа! Папочка!
А в трубке гудел мощный бас отца.
Для полной ясности Крум составил программу действий. Первое. Самому покупать все необходимое в магазинах, чтобы бабушке не приходилось часто выходить из дому: вдруг позвонит сослуживец отца, а дома никого! Здравка совсем голову потеряла с этим передником! Теперь только у нее во всей школе такие фартуки — и белый, и черный.
Второе. Завтра надо пойти на родительское собрание.
У классного руководителя Геринской характер суровый, поэтому для храбрости надо взять с собой Яни.
Третье. Может быть, вместе с Яни… Или нет, лучше самому срочно выяснить историю с «членскими взносами» Паскала.
Четвертое. Четвертое связано с третьим и вытекает из выяснения вопроса о таинственных членских взносах. В первый раз случилось, чтобы кто-то додумался собирать членские взносы чавдарцев. Похоже на злоупотребление деньгами и служебным положением. Но какой суммой злоупотребил Паскал? И каким служебным положением? Выяснить это, и тогда можно назначить день и час бомбового удара. Хотя состояние боевой готовности, выражаясь военным языком, отнюдь не удовлетворительное.
Итак, вперед!
Сколько раз мать сердито выговаривала Чавдару за бритье в кухне, когда ванная свободна, но он делал по-своему. И сейчас, надувая то одну, то другую щеку, Чавдар легко водил бритвой по намыленному подбородку. Густая пышная пена стекала с лезвия, и под ней проступала гладкая, блестящая, с легким загаром кожа.
— Ну, как? — Чавдар сдул пену.
— Порядок, — ответил Паскал, сидя за кухонным столом, покрытым белой клеенкой.
Братья были одни в кухне, мать бесшумно двигалась в соседней комнате, и вся их квартира была какая-то тихая, с плотно закрытыми окнами, спущенными шторами. Везде было чисто прибрано, уже не пахло краской, скипидаром и олифой, и даже крошечная прихожая стала казаться просторнее.
— Значит, и ботинки?
— Ботинки.
— На каучуке?
— На каучуке!
— И ужин? Фаршированный перец, виноград и на десерт дыня с брынзой?
Паскал показал глазами на дверь и предостерегающе прошептал:
— Чаво!
Вчера вечером Паскал рассказал брату про случай с Иванчо на реке, про то, как они с Яни бросились его спасать, а потом он отмывался у Крума и бабушка Здравка выгладила его одежду, как они ужинали и как в награду за смелость Паскал получил ботинки.
Чавдар слушал рассеянно, чуть не засыпая, и Паскал подумал: «Надо бы рассказать брату и про деньги, Чавдар понял бы». Но оказывается, Чавдар помнил каждое слово братишки и сейчас как будто проверял: скажет то же самое или нет?
— И брынза, говоришь… — Чавдар продолжал тщательно бриться, замолкая время от времени, когда бритва была около рта. — Расскажи это всему нашему семейству, пусть порадуются. Вот и нас, значит, стали принимать в обществе. Ребенок вернулся домой опрятный и с галстуком…
— Чаво! — снова беспокойно заерзал Паскал.
Его всегда охватывала тревога, когда брат вдруг ожесточался и начинал говорить зло, раздраженно.
Он стал таким с тех пор, как пришел из армии…
Как мать отбыла срок…
После плотного ужина у Крума Паскал, хоть и не был голоден, поужинал дома еще раз, чтобы избежать лишних расспросов матери. Подаренные ботинки он тихонько спрятал, благо было темно. Но ночью Паскал разволновался: как бы не рассердить родителей и Чавдара!
По правде говоря, с некоторых пор отец не слишком интересуется сыновьями. Свалил все заботы на мать, а она после долгого отсутствия, когда Паскал даже забывал порой о ее существовании, вернулась какая-то другая: молчаливая, покорная и в то же время резкая, взвинченная, готовая взорваться по любому поводу. Как Чавдар. Мать нигде пока не работала. И не искала работу. Она предпочитала оставаться дома, выходила на улицу очень редко, только за покупками. Замкнутая. Настороженная. Подозрительная. Может быть, поэтому, а может, не только поэтому мать часто ссорилась с отцом — Паскал не раз это слышал. Ссорились они тихо, обменивались свистящими от гнева и ненависти словами, уж лучше бы кричали! Казалось, неугасимая и лютая ненависть эта тлела под вежливым обхождением.
Обычно они ссорились, когда Чавдара не было дома. Ссоры вспыхивали внезапно, отношения были так накалены, что перед Паскалом родители не давали себе труда сдерживаться: видно, считали его совсем ребенком. А он все понимал. Был наблюдателен, все схватывал на лету и не мог не чувствовать напряженной, тягостной атмосферы в доме.
Чавдар тоже понимал, что происходит в доме, но, вместо того чтобы разрядить накаленную обстановку, только подливал масла в огонь, держался вызывающе и дерзко. А если видел, что Паскал старается все сгладить, всех примирить, то и вовсе выходил из себя. В то же время Чавдар в душе упрекал родителей: «Вы хотите, чтобы и Паскал был такой, как вы? Вы хотите, чтобы я был учтивый? Любезный? Воспитанный? Любящий и бесконечно благодарный вам за заботы? Или униженный? Сломленный? Мне что же, притворяться, будто не вижу и не знаю, что творится дома? Нет уж, увольте!»
И Чавдар вел себя как вздумается, не вдаваясь в объяснения мотивов своего поведения.
Но именно Чавдар — Паскал это чувствовал — был ему в доме ближе всех, и только с ним мальчик оставался самим собой.
Паскал видел: мать живет в вечном страхе и впадает в панику и глубокое уныние при каждой встрече со знакомыми, которые прослышали о ее прошлом. Вот поэтому-то Паскал и боялся сказать маме про ботинки. Он не забыл: бабушка Здравка, оказывается, помнит его мать с давних пор. Конечно, мать выросла в этом квартале и даже в этом доме, где они сейчас поселились.
А как нравились Паскалу его новые ботинки! Ступаешь как на резиновую подушку, ботинки мягко пружинят при ходьбе, и каждый шаг кажется легким, быстрым…
Чавдар уже побрился. Впрочем, какое там бритье! Так, несколько волосков на щеках, подбородке и над верхней губой, но брат брился упорно, через день.
Вот и сейчас, смыв пену, похлопал ладонью, смоченной лавандовым спиртом, по загоревшему лицу. В кухне сразу запахло парикмахерской.
Наверно, поэтому мама и сердилась, что Чавдар бреется на кухне, а не в ванной, где и должен стоять запах одеколона, туалетного мыла и всякой там косметики.
— Значит, говоришь, я их тебе принес? Вместе с моими? — допытывался Чавдар, повторяя слова брата.
— Вместе с твоими! — осторожно подтвердил Паскал.
Несколько дней назад Чавдар пришел домой в джинсовых туфлях на белой каучуковой подошве. Не новые, немного поношенные. Чавдар сказал, что купил их в комиссионке. «Подходящие, да?» — «Классные», — не скрыл своего восхищения Паскал. Ну что особенного, если Чавдар скажет матери, что там же, в комиссионке, купил ботинки и для Паскала? Тем более Крум их почти не носил…
А ведь такие красивые!
— Договорились, да? — с затаенной надеждой спросил Паскал. — Скажешь так, и все! А я тебе тоже в чем-нибудь помогу! В долгу не останусь!
Чавдар взглянул на него через плечо.
— Выйдет из тебя человек! — засмеялся он. — Только болтаешь много и не всегда понимаешь, что говоришь!
— Понимаю, — оживился Паскал, ободренный улыбкой брата. — Все понимаю, хотя…
— Хотя что?
Паскал скосил глаза на кончик носа. Не знал, что ответить. Каждый раз, когда он поражал людей своими разглагольствованиями, он повторял слова и суждения, услышанные от взрослых. Редко случалось, чтобы он открыл свою душу и то, что его мучает. А он чувствовал, думал…
Сейчас он вдруг вспомнил, как пугается Здравка, когда он косит глазами.
— Чаво, ты просто потрясающий парень! — выговорил Паскал, будто впервые увидев брата со стороны.
— И как же ты мне отплатишь? — спросил Чавдар.
— Есть у меня кое-что! — таинственно прошептал Паскал.
— Ну, рассказывай. Целую коробку жвачки принесу.
Паскал уставился на открытую дверь. Чавдар понял и с треском захлопнул дверь ногой.
— Говори!
— Монеты, — едва слышно прошептал Паскал, похлопав по заднему карману джинсов.
Чавдар прищурил свои светлые, немного навыкате глаза. Паскал стоял поодаль, и подзатыльник, кажется, ему не угрожал, но все же…
— Деньги!
— Сколько?
— Восемь, — быстро ответил Паскал. — Точнее, восемь левов и сорок две стотинки.
Чавдар протянул руку.
Паскал заколебался. Потом медленно дернул молнию на кармане, сунул туда руку и высыпал на ладонь Чавдара целую кучу серебряных и медных стотинок. Были тут и по одной, и по две, по пять, по двадцать, по пятьдесят, одна монета — целый лев, а остальные — мелочь, собранная по стотинке.
Чавдар взял монеты в обе руки. Прикинул их тяжесть. Послышался тяжелый звенящий звук.
— Откуда? — поднял он брови.
— Есть один источник, — небрежно ответил Паскал. Просто не верилось, что наконец-то он отдал деньги Чавдару, избавился от них. И от гнетущего сознания вины, пока они оттягивают задний карман.
Паскал надеялся, что никто не догадается, откуда у него эти деньги. Хотя собрать их было так просто. Надо только соображать, знать, к кому можно подойти, а к кому не стоит, не то налетишь на какую-нибудь чересчур бережливую старушку или чересчур любознательного деда, из тех, что непременно желают установить, на какие нужды идет каждая стотинка.
Когда Паскал первый раз пришел в новый класс, учительница Геринская сказала, что следует всегда носить синий чавдарский галстук, а он, помнится, спросил:
«Так уж и обязательно?»
«Раз ты чавдарец, обязательно!» — объяснила она.
«Каждый день ходить в галстуке?» — не унимался Паскал, чувствуя, что сейчас оказывается в центре внимания всего класса.
«Я хочу, — так же сдержанно объяснила учительница, — чтобы у меня в классе все чавдарцы были в галстуках».
При этом она быстро взглянула на Досё.
Паскал еще не знал, что это ее сын, и спросил:
«Вот как он?»
«Как все!» — поправила Паскала учительница, уловившая насмешку в голосе своего нового ученика. Впрочем, она тут же засомневалась: откуда подобная язвительность у мальчика в таком возрасте?
«И членский взнос тоже надо платить?» — Паскал прикинулся совсем наивным, даже глуповатым. Тут-то его и осенило: вот как можно собрать деньги для брата!
Чаво так, помнится, и сказал: ему нужна настоящая работа, за которую платят честно заработанные деньги. Вот Паскал и открыл если не золотую жилу, то неплохой источник стотинок.
Но честно ли они были заработаны? Только карман оттягивали или совесть тоже отягощали?
— Ну? — ждал Чавдар.
— Тебе нужны деньги, — быстро заговорил Паскал, пытаясь уйти от упрека совести. — Пока не найдешь настоящую работу. Жвачку мне покупаешь, туда, сюда… — Паскал замолчал. — А не работаешь! Значит, тебе деньги нужны. Дело-то пустяковое! — снова оживился он. — Идешь в дом, где много бабушек, дедушек и — «Прошу вас, заплатите, пожалуйста, членский взнос за внука!» Некоторые, правда, начинают расспрашивать, что да как. Тут я объясняю: он же чавдарец! И записываю в тетрадку, будто теперь уплачено, и прошу расписаться. Все аккуратненько, как наша учительница любит. И вообще, все это — сущие пустяки, за целый год заплатить надо всего двадцать стотинок!
Светлые глаза Чавдара сузились, на виске забилась набухшая жилка.
— Вот так, — облегченно вздохнул Паскал.
— Компенсация, значит! За то, что совру насчет ботинок, — сквозь зубы процедил Чавдар.
— Услуга за услугу, — обиделся Паскал. — Тебе же это ничего не будет стоить!
— Может, хочешь, чтобы я тебе их потом вернул? — Чавдар положил тяжелые звенящие стотинки в карман.
— Ты что?!
На мгновение Паскал замялся. Подумал: «Я же просто так помогаю…»
— Безвозмездный заем, — выпалил он.
— Ага! — Чавдар сел рядом.
Паскал слегка отодвинулся — на всякий случай — к окну. Но расстояние было слишком мало, чтобы избежать опасности, а рука брата лежала близко, совсем близко.
— Ничего, Чаво, — великодушно добавил Паскал. — Если тебе нужно, я соберу еще один членский взнос.
— А про те-ве-ка ты слышал?
Паскал уставился на кончик своего носа.
— Те-ве-ка, — повторил брат. — Знаешь, что это такое? Трудовая воспитательная колония.
Паскал почувствовал: Чавдар коснулся запретной в их доме темы. Об этом все дружно молчали, но каждый таил в себе эту рану.
— Из-за восьми-то левов? — усомнился Паскал.
— Восемь левов и сорок две стотинки! — поправил Чавдар с неожиданным озлоблением. — Сумма не имеет значения! Важен принцип! Желаешь продолжить милую семейную традицию, да? — ожесточался он все больше и больше. — Чтобы мне помочь? А когда мне становится стыдно за тебя, обижаешься, оскорбляешься и…
Паскал замер, пораженный гневными словами брата, и вдруг Чавдар ударил его наотмашь.
— Жвачки у тебя во рту нет? «Нет», — хотел сказать Паскал.
— А если и есть, выплюнешь, — продолжал Чавдар каким-то свистящим шепотом. — У меня же теперь полно денег, могу купить тебе новую.
И, размахнувшись, ударил брата еще раз.
— Воспитываешь?
Бесшумно открыв дверь, мать с укором смотрела на сыновей. В узком, длинном, до пят, платье она казалась особенно стройной. Как всегда по утрам, мать зачесала волосы наверх, уложив их в тяжелый золотисто-каштановый узел, который стягивал кожу лица и будто высасывал румянец с ее щек.
— Своими делами занимайся! — резко крикнул Чавдар.
От крика брата, от страдальческой гримасы, исказившей губы матери, Паскал сжался, как от удара. Подзатыльник Чавдара показался ему теперь нежной и желанной лаской брата.
— Я-то своими делами занимаюсь, а ты вообще ничего не делаешь! О работе и не думаешь!
— Делаю, что хочу! И думаю, о чем хочу! — продолжал Чавдар так же зло.
— Не кричи! — отшатнулась мать. — Отца разбудишь.
— Пусть проснется! Хоть раз проснется, когда мы все дома. И послушает. И полюбуется, — ответил Чавдар.
— Чем полюбуется?
— Семейной идиллией.
— Не забывай, что ты живешь за его счет. На всем готовом, — выдохнула мать.
— И что ж теперь? Кланяться вам? — продолжал Чавдар. — Руки целовать?
Паскал переводил взгляд с брата на мать, в душе умоляя их прекратить перепалку. Но они уже не могли сдержаться.
— Выйди, Паскал! — резко сказала мать. — Не слушай! Нечего смотреть на эту семейную идиллию.
Паскал вскочил.
— Сиди, — Чавдар надавил рукой Паскалу на плечо. — Пусть все слышит.
Паскал снова опустился на стул.
— Сто раз тебе говорила! Как можно ударить человека по голове! — продолжала мать уже более мирно.
— Да не ударил я его, — смягчился Чавдар.
— Воспитываешь, значит.
— Кому-то надо его воспитывать, — добавил Чавдар еще тише. Вспышка ярости затухала.
Некоторое время мать устало молчала. Гневные огоньки в глазах потускнели, погасли, она вся вдруг обмякла, сжалась.
— А я вообразила, что вы говорите о родительском собрании! — вздохнула она.
— На которое должен идти я, — иронически усмехнулся Чавдар.
— Ты же знаешь, отец в это время занят.
— Занят, конечно, — все так же насмешливо продолжал Чавдар. — Остается и мне устроиться официантом, ты этого хочешь?! — Слово «официант» он произнес подчеркнуто иронически. — В какой-нибудь гранд-отель или, еще лучше, модерновый ресторан! Сам выбритый, костюмчик наглаженный… Загляденье! Опять же чаевые! А может, барменом? Каждый месяц пять сотенных.
Несколько раз Чавдар сделал такой жест, словно кладет деньги в левый кармашек рубашки.
— Насчет отца мог бы и воздержаться, — сказала мать. — Растил вас, поил и кормил…
— Меня армия растила, поила и кормила.
— О Паскале он заботился.
— Заботился, — опять озлобился Чавдар. — Что же ты не спросишь своего сына, откуда у него новые ботинки?
— Чаво! — сжался Паскал.
Брат выдает его? И это после того, как Паскал отдал ему все деньги?
— Какие ботинки? — удивилась мать.
Чавдар выскочил из кухни и через минуту вернулся с ботинками в руках.
— Эти, — швырнул Чавдар ботинки на чистый стол.
Мать взяла ботинки в руки, долго разглядывала.
— Откуда они? — спросила она ледяным голосом, который показался братьям гораздо страшнее всякого крика.
— Подарили. — Паскал по привычке скосил глаза.
— Не коси!
— Один товарищ подарил, я тебе про него говорил. С его сестрой Здравкой мы сидим за одной партой, — заморгал Паскал. — Их бабушка мне подарила, бабушка Здравка Бочева. «Так, — говорит, — и скажи матери: от бабушки Здравки Бочевой. И от Крума».
Паскал ждал, что мать не дослушает, потребует сейчас же вернуть ботинки, но она не сказала ни слова.
Спустя годы, стоило Паскалу вспомнить о семейных ссорах, ему виделось лицо матери, с которого в тот миг разом исчезли всякие следы недавнего гнева и настороженности. Бледность покрыла ее щеки. Нос заострился. Худенький подбородок дрожал. А в паутинке морщинок у глаз и в опущенных книзу уголках губ было разлито безысходное отчаяние.
— Мама, — испугался Паскал.
У Чавдара от волнения перехватило дыхание.
Мать долго молчала. Уставилась невидящими глазами на высившуюся рядом стену соседнего дома. Сухие глаза ее горели огнем невысказанной боли. И когда она наконец заговорила, голос ее прерывался.
— Не могу, — выдохнула она. — Так хотелось пойти на это родительское собрание… Не ходила с тех пор, как Паскал поступил в школу… Думала, тут я выросла, в этой школе училась… Думала, полегчает мне тут и я смогу… — А глаза матери горели все тем же сухим огнем.
В доме стояла тишина, мертвая тишина, но что-то, почувствовал Паскал, случилось, в них самих случилось, будто что-то растворяется и медленно уходит, как вина, которую долго носишь в себе и в которой наконец признаешься.
Паскал попробовал посмотреть на кончик носа обоими глазами. В глазах зарябило.
Чавдар стоял, опустив голову. Кивнул брату.
Они молча вышли из кухни.
— Возьми список, — попросил Чавдар, встретив недоумевающий взгляд братишки, — список сдавших «членские взносы».
Паскал бесшумно прошел в комнату и тут же выскочил с обыкновенной тетрадкой в десять листов, свернутой в трубочку.
Чавдар взял ее. Перелистал. Взглянул на брата исподлобья, но промолчал.
Только на улице Паскал понял, что даже не знает, куда они идут. Он спокойно следовал за своим сильным, чисто выбритым братом, но почему тот вдруг потребовал тетрадку с фамилиями чавдарцев, у чьих бабушек и дедушек Паскал собирал «членские взносы»? Вообще-то все это забавная история, надо как-нибудь рассказать ее Круму и ребятам, вот смеху-то будет! Не без риска, конечно! Какая-нибудь бабка могла и с лестницы спустить, но, с другой стороны, опасность обостряет сообразительность, распаляет воображение! И не прав Чаво со своими намеками насчет те-ве-ка: из-за восьми левов и сорока двух стотинок никого не отправляют в трудовую воспитательную колонию. Вот из-за принципа — это да, могут. Как осудили их мать… Не столько из-за растраченной суммы, сколько из принципа! Все-таки не совсем понятно с этим приговором, но когда-нибудь он спросит Чавдара…
— Чаво!
Брат обхватил худенькие плечи Паскала сильной рукой.
— Мы с тобой невезучие, Чаво.
Паскал попробовал снова посмотреть на кончик носа, и в глазах опять зарябило. Почувствовал: брат прижал его к себе.
— Начинай работать, Чаво, — проговорил Паскал. — Только чтоб это была настоящая работа.
Хотел сказать: «Не официантом, как отец, и не барменом».
Но понимал: не следует заводить разговор об этом сейчас, когда оба почувствовали, как обдало их из сухих глаз матери горячей волной стыда.
— Чтобы попотеть на работе как следует, — с воодушевлением добавил Паскал. — И денег много заработать, но честно.
Чавдар молчал.
Братья дошли до угла, за которым начинался пустырь, и впереди показалась узкая дорожка, бегущая по горбатому мостику.
Пустынно было в этот час и на пустыре, и на холмике, и на площадке.
На балконе Иванчо сушился синий костюм.
— Чаво! — вдруг вспомнил Паскал. — Что значит сознание? Бабушка Крума и Здравки часто говорит: «В народном сознании…» От знания происходит? Много знания — это одно сознание? Большое общее сознание всех?
— Сделаю из тебя человека, — похлопал его по плечу Чавдар.
— Ну, ты силен, — задумчиво произнес Паскал. — А оттуда, — он показал на мостик, — мы нападем на вас, когда будете возвращаться в один прекрасный вечер с Ангелиной! Специальными бомбами забросаем! И все! Ни вперед вам, ни назад!
— С какой Ангелиной? — остановился как вкопанный Чавдар, едва не выронив из-под мышки свернутую трубочкой тетрадку.
— С Линой, — пояснил Паскал. — Старшей сестрой Андро.
— Ну и что? — удивился Чавдар. — Кто на нас нападет? С какими бомбами?
— Мы! — выпятил грудь Паскал. — Крум. И другие…
— Это твоей Здравки брат?
— Она не моя. Мы только сидим за одной партой.
— А-а, та самая, для которой ты делал свой «Стоп».
Паскал искоса взглянул на брата: догадливый!
Они дошли до проспекта, впереди вихрем неслась, гудела, изрыгала запах бензина автомобильная лавина.
— Отправляйся домой, — сказал Чавдар.
— А ты? — испугался Паскал, решив, что брат собирается идти с тетрадкой в школу. — Не выкинешь опять какой-нибудь номер?
— Будь спокоен, — засмеялся Чавдар. — Возвращайся домой. И веди себя хорошо.
— Чаво! — крикнул Паскал, стараясь перекричать рев моторов. — А завтра, когда ты пойдешь на родительское собрание, я встречу Лину, не беспокойся! Я знаю, где ее школа.
— Зачем? — Брат посмотрел светлыми, подобревшими глазами. — Чтобы на нее никто не напал?
— Да нет. Так… — неопределенно ответил Паскал.
Он искал подходящее, точное слово. Компенсация? Услуга за услугу? Безвозмездно? Нет, все не то! Эти расхожие слова не могут выразить, чем переполнено его сердце.
— Потому что мы братья, — прошептал Паскал одними губами.
Но, похоже, Чавдар его понял. Потому что засмеялся, поднял на руках высоко над улицей, над машинами и звучно чмокнул в щеку.
— Домой марш! И не забудь: веди себя хорошо. Старайся быть добрее.
В первый раз Чавдар поцеловал братишку с тех пор, как пришел из армии.
И что тут говорить, к кому нужно быть добрым…
Паскал помчался. Никогда не бегал он так быстро, быстрее Евлоги. Не бежал, а летел! Воздух свистел ему в лицо, и улица принимала мальчика в свои ласковые каменные объятия.
Когда позднее Крум вспоминал события тех дней, все выстраивалось вполне логично: сначала встретить товарища отца из Ленинграда, потом — завтра в шесть часов — пойти на родительское собрание к Здравке, потом заняться «членскими взносами» и, наконец, определить точный день и час нападения на горбатом мостике.
Но точно так же, как недавняя новость Яни о матери Чавдара и Паскала Астарджиевых стряхнула сонное безразличие Крума и прогнала его ленивые, иронические мысли, — так и сейчас четко выстроенный план разваливался, трещал по швам.
Еще утром на пустыре Спас принялся подтрунивать над Иванчо:
— Ну что, толстяк? Прыгаем через речку?
Надо отдать Иванчо справедливость, он безропотно переносил поддразнивания, хотя ни на чью долю не выпадало столько насмешек, сколько на его.
Спас сегодня был явно не в духе: он цеплялся ко всем подряд.
— А вот и чемпион! — крикнул он, едва показался Дими.
Уравновешенный, сдержанный Дими не любил, когда его так называли или подшучивали над тренировками: втайне Дими мечтал и в самом деле стать победителем в республиканских соревнованиях на сто и четыреста метров вольным стилем в группе юниоров. Он сердито толкнул Спаса плечом:
— Подраться захотел?
— Ну давай, давай! — подзадоривал Спас. — За чем дело стало!
— Тебя что, — оборвал его Крум, — стукнули сегодня по голове?
— Да, мячом, — засопел Иванчо. — Спас у нас с мячом ложится, с мячом встает.
— А ты, толстяк, заткнись! — вскипел Спас.
Шли молча, настроение было испорчено. Время от времени Иванчо громко чихал, резко встряхивая стриженой головой.
— Так будешь чихать, голова отвалится, — поддел его Андро.
— Это от купания, — снова подковырнул Спас. — Расскажи, как раскричался вчера отец, когда тебя увидел. Явись ему сам Ихтиандр, и то меньше бы удивился.
— Покричал, — шмыгнул носом Иванчо, — не без этого. А вообще-то дело в привычке. Дими в какую воду ни купай, ему хоть бы что — закаленный! Каждый день по пять часов в бассейне мокнет.
— По два, — поправил Дими.
— По два так по два, — согласился Иванчо. — Никто не спорит.
Перешли оживленный проспект. Скоро и горбатый мостик. И тут вдруг Иванчо, прижав к себе портфель, прыгнул через бетонный столбик посередине дороги. Но опять не рассчитал свои силы: громкий рев и тонкий, пронзительный, почти поросячий визг огласил долину реки, заглушая все другие звуки.
— Ой, ой! Копчик! Копчик! Точно на кол сел!
Иванчо суетливо бегал по мосту и потирал ушибленное место. Он, видно, здорово ударился.
И годы спустя, стоило Иванчо пожаловаться на боль в пояснице, друзья, посмеиваясь, вспоминали этот злополучный прыжок.
— Не трогайте меня! Не трогайте! — ревел Иванчо. Он тянулся за друзьями, едва волоча ноги, переваливаясь, как утка.
— Приспусти брюки: а вдруг кровь? — испугался Спас.
Иванчо позеленел. Замер. Осторожно пощупал ушибленное место.
— Крови нет, — простонал он. — Но больно.
— Как не болеть! — снова вскипел Спас. — Ну и толстяк же ты! А заодно придурок и синяя лягушка! Знаешь, как тяжел, а туда же — прыгать! Вчера в реку, сегодня на кол, завтра — не знаю куда и откуда.
— С неба, — засмеялся Андро с облегчением. Испуг прошел.
Мальчикам не впервой было падать, они не раз обдирали колени, локти, бока, но интуитивно оберегали живот и ребра, позвоночник и голову.
— А почему бы и нет? — вступил в разговор Яни. — Станет парашютистом, будет прыгать с неба.
— Не изобрели еще такой парашют, чтобы выдержал нашего Иванчо, — поджал губы Спас. — Уж очень он должен быть большой и опускаться медленно-медленно.
— Много ты знаешь! — жалобно ответил Иванчо. — Разные парашюты есть. И если хочешь знать, ничего не стоит и мне стать парашютистом. Тут важны не килограммы, а смелость.
Крум задумчиво слушал товарищей. Да, у каждого из них своя дорога, свои интересы и мечты. Круму очень хотелось пойти с Дими в бассейн поплавать. Дядя Симчо, отец Дими, конечно, его пропустит. Собственно, Дими первым почти оторвался от ребячьей компании, устремившись к избранной цели. Следующим будет Андро, Крум это чувствовал. Он так упорно занимается музыкой, играет на тромбоне самые трудные пьесы. Там ноты выстроились в три этажа. А как все сложится у Евлоги, Иванчо, Спаса, Яни, у него самого? Не уходит ли с каждым оторвавшимся от компании приятелем частица нас самих? А спустя годы не принесет ли каждая встреча со старыми друзьями частицу незабываемого, невозвратимого детства?
Утро прошло как обычно — уроки, перемены. Крум договорился с Яни идти вместе к Здравке на родительское собрание. Завтра в половине шестого вечера. Обязательно быть в пионерском галстуке.
Это пункт второй плана Крума.
После домашних заданий Крум намеревался заняться историей с «членскими взносами», но события приняли неожиданный оборот.
Кончился пятый урок, все выбежали во двор и только собрались идти домой, как увидели Чавдара.
— Эй! — помахал он рукой. — Крум!
Мальчики остановились.
Чавдар был в своих обычных джинсах, в синей рубашке, на ногах — синие матерчатые туфли. Из заднего кармана у него торчала свернутая трубочкой тетрадь.
— Ты мне нужен, Крум, — позвал Чавдар. — И Яни.
Крум посмотрел на Яни, увидел в его глазах молчаливое согласие. Оба пересекли узкую улочку.
— Бочка! — нетерпеливо крикнул им вслед Иванчо. Ему было больно долго стоять на одном месте, на уроках и то сидел на самом краешке скамьи. — Мы пошли. Ждем вас на пустыре.
Чавдар подождал, пока мальчики уйдут, вытащил тетрадку, разгладил ее ладонью.
— Сядем где-нибудь, а? — предложил он.
Огляделись. Единственное место, где можно было посидеть, низкая бетонная стена школьного двора.
Пошли туда. Сели. Крум удивился, как безропотно подчиняется он воле Чавдара. Видно, чувствуется неотразимая власть сильного характера. Крум всегда восхищался целеустремленной личностью, да и сам мечтал быть таким.
В школьном дворе еще разгуливали ребята, в учительской на первом этаже тоже было оживленно.
— У нас в армии один ротный был, — негромко сказал Чавдар, — очень он любил повторять, что человек не знает, кто принесет ему беду, а кто радость. Только все равно, имей доверие к человеку. Конечно, всяко бывает, могут тебя и обмануть. Раз обманет, два обманет, вот и узнаешь, какая ему цена.
Крум и Яни молчали. Полуденное солнце приятно пригревало после утреннего холодка.
— Я еще тогда вас понял, когда дал вам «пежо», — продолжал Чавдар. — Вот так, Крум Страшный и Яни-грек.
— Просто Яни, — поправил его Крум.
— Хорошо, пусть Яни, — согласился рослый брат Паскала, по-свойски сидя между мальчиками. — И просто Крум. Не Страшный. А это, — он со вздохом протянул тетрадку Круму, — заварил Паскал. Читай, читай! — добавил Чавдар, заметив нерешительность Крума. — Увидишь, что он придумал.
Крум раскрыл тетрадку. Первый лист был чист, следующая страница аккуратно разграфлена: порядковый номер, имя, фамилия, имя отца, класс, адрес, сумма, подпись. Столбиком следовали имена, у каждого старательно написано: «0,20 лева» — и подписи: одни четкие, разборчивые, другие — совсем непонятные закорючки.
«Членские взносы!» — сразу догадался Крум.
Как это бабушке удалось узнать все раньше их самих? И откуда, интересно, она знает мать Паскала и Чавдара? И почему у Чавдара оказалась тетрадка, в которой Паскал так тщательно отмечал, у кого он собирал «членские взносы»? Почему он заговорил об этом с Крумом и Яни?
— Здесь фамилии чавдарцев, у бабушек и дедушек которых братишка собирал взносы, — неохотно объяснил Чавдар. — Сорок два человека, по двадцать стотинок с каждого. И две стотинки из его личного бюджета. Всего восемь левов и сорок две стотинки.
Чавдар сунул руку в карман, достал полиэтиленовый мешочек с горсткой монет и протянул Круму. А отдельно достал совсем новенькую блестящую монетку в две стотинки.
— Эту отдельно. Без возврата. Я верю вам, — продолжал Чавдар. — Сделайте это вы, пожалуйста. Если я, взрослый человек, пойду по домам возвращать деньги, будет нехорошо. Лучше и без Паскала здесь обойтись. Как-нибудь в другой раз я вам объясню почему. Будем друзьями!
Пригревшиеся на ласковом солнце Крум и Яни молчали.
Как это часто бывает, самое запутанное на первый взгляд дело оказалось совсем простым, а самое легкое — запутанным.
Крум и Яни распределили адреса, каждому досталось по двадцать адресов, и спустя некоторое время после обеда — старые люди ведь любят днем полежать — мальчики отправились по домам возвращать стотинки, собранные Паскалом. Просить деньги всегда труднее, чем возвращать, хотя и здесь в некоторых случаях не обошлось без приключений: несколько бабушек и дедушек никак не могли вспомнить, о каких двадцати стотинках идет речь, о каком таком членском взносе. Долго качали они головами вслед Круму и Яни: не иначе, к пенсии прибавка вышла.
Крум и Яни с честью выполнили свою задачу и, освободившись, встретились на пустыре. Поставили велосипеды. Уселись на бетонную стенку отдохнуть — немного усталые, но оживленные, довольные.
— Возвращать легко, — облегченно вздохнул Яни. — И как только Паскалу удалось вытянуть стотинки у этих дедов и бабок? Они и имени-то своего порой не помнят.
— Всё вернули, — облегченно вздохнул Крум, радуясь, что в кармане остались только две блестящие монетки — из личного бюджета Паскала.
Ни один из сорока двух адресов не принадлежал ученикам из Здравкиного класса. Значит, Паскал предусмотрительно собирал деньги у ребят из других классов. Из чего, естественно, вытекал вопрос: как он узнал эти адреса? И почему остановил на них свой выбор? Чтобы его не разоблачили? Значит, понимал, что поступает не лучшим образом, и принял меры предосторожности…
Вот так и бывает… Не возникают ли при всякой решенной задаче новые, еще более неожиданные и трудные для решения условия? Наверно, это и есть поиск истины.
Вот, например, целое утро ни бабушка, ни Здравка не выходили из дому, ожидая товарища отца. Что тут особенного? Но он так и не пришел. Уж, казалось бы, чего проще: передай Здравке подарок — и дело с концом. Не тут-то было. Дел, наверное, по горло. А Здравка от нетерпения не могла усидеть на месте. Даже не поела как следует.
— Как же так… Как же так… Только портят человеку праздник!
Какой праздник, кто его портит, какому человеку — во все это Крум и бабушка вникать не стали.
— Ну что ты, что ты, успокойся! — утешала бабушка Здравку.
Но Здравка ее и слушать не хотела.
Вот и выходит: первый и вроде самый легкий пункт плана Крума все еще не выполнен.
И стоит ли говорить с Паскалом о «членских взносах», тоже пока не решено. Чавдар свое мнение на этот счет не высказал.
— Смотри-ка! — Яни замедлил шаг и взглянул на часы.
Крум повернул голову в сторону горбатого мостика.
Здравка и Паскал шли из школы. Она в белом фартуке с белыми бантами в коротких косичках, Паскал в белой рубашке, под которую в прохладные дни надевал светлый джемпер. Что-то рано возвращаются они сегодня. Какого-нибудь урока не было?
Крум посмотрел на часы. Как раз одного урока!
Но почему тогда ни на улице, ни на дороге к мостику не видно других одноклассников Здравки и Паскала? И почему у Здравки так пылают щеки? Прямо огнем горят!
— Что случилось? — Крум поспешил навстречу сестре.
Здравка отвернулась, гордо вздернула подбородок, но Крум заметил: глаза ее гневно сверкнули.
— Что случилось? — встревоженно повторил Крум, обращаясь на этот раз к Паскалу.
Яни почувствовал тревогу в голосе друга и остановился.
Паскал уставился на кончик носа.
— Не коси! — рассердилась Здравка. — Сто раз тебе говорила… Боюсь, когда ты так косишь.
Поколебавшись, Паскал отвернулся. Выплюнул жвачку.
— Ну, ты силен, — воскликнул Яни.
— Я-то что, — покачал головой Паскал. — Вот она — это сила!
— Конечно, сила! — воскликнула Здравка. — Не позволю, чтобы надо мной смеялся этот задавака Досё. Воображает, что если он сын учительницы, то может позволить себе все что угодно.
Крум скорее почувствовал, чем осознал неясную тревогу. Завтрашнее родительское собрание, «членские взносы» Паскала, бомбовая атака, напрасное ожидание коллеги отца, из-за которого так разволновалась Здравка…
— Ты высказала Досё, кто он такой? — осторожно спросил Крум.
— Конечно, — ответила Здравка. — Он меня еще не знает!
— Теперь знает, — вставил Паскал.
— Как двинула ему два раза, потом еще два, он от страха сразу язык проглотил, — не унималась Здравка.
Глаза ее сердито сверкали, просто молнии метали, а Паскал стоял сжавшийся, притихший. Молча переглянувшись, Крум и Яни поняли: Здравка поколотила Досё, сына учительницы Геринской.
— Он меня еще не знает! — понемногу успокаивалась Здравка. — Даже заплакать не посмел.
— Влепила бы еще парочку пощечин, тогда и заплакал бы, — сказал Яни, увидевший в происшедшем смешную сторону.
Но Круму точно слышался густой голос отца по телефону: «Ты теперь единственный мужчина в доме и, следовательно, отвечаешь за сестру».
— Отлупила его, значит, — озабоченно сказал он.
— Ну, она и сильна! — От удивления глаза у Паскала стали совсем круглыми. — Когда стукнула его второй раз, он даже упал.
— А ваша классная? Она знает; об этом? — Крума вдруг обдало жаром.
Здравка опять отвернулась, гордо подняв подбородок.
— Знает, — сокрушенно пояснил Паскал. — Весь класс видел. Такая поднялась суматоха, беготня! Геринская выскочила из учительской разъяренная, как уссурийский тигр! Знаешь, как она неслась по коридору!
Крум ощутил, как ответственность все тяжелее давит ему на плечи. Да, завтра на родительском собрании ему достанется.
— И директор пришла, — неохотно добавил Паскал. — А учительница потребовала объяснения.
Крум выжидательно молчал.
— Но послушай, братик, — не вытерпела Здравка, произнеся искренне и непосредственно это свое «братик», перед которым Крум никогда не мог устоять, — я ей сказала, пусть спросит своего задаваку Досё, а не меня, в чем дело. Он ей скажет, можно ли купить целый завод.
— Можно, — убежденно сказал Яни. — Ведь ваш отец покупает.
— Конечно, можно, — ободренная его поддержкой, продолжала Здравка. — Я им так и сказала, а Досё стал подначивать других, и все скалятся, потому что завидуют, как тогда, когда Паскал сделал свой «СТОП».
Только теперь Крум понял: вспыльчивая, быстрая на расправу Здравка не стала притворяться, что ее не задевает этот смех и недоверие. «А как его перевезут?» — спрашивал Досё. «По частям, — пыталась объяснить Здравка, — сначала отдельные машины, их потом опять соберут, точненько подгонят деталь к детали, все будет честь честью». Ну а ребята знай себе смеются! Тут она — недаром ведь целыми днями играет с мальчишками! — и набросилась с кулаками на Досё: он больше всех дразнил ее. А учительница Геринская велела Здравке взять портфель и выйти из класса. А завтра прийти в школу с отцом. «Отец в отъезде!» — ответила ей Здравка. «Кто же за вами смотрит?» — «Сами за собой смотрим вместе с бабушкой!» — «Пусть придет бабушка». — «Бабушка в школу не пойдет!» — «В таком случае я не допущу тебя до занятий!»
Только Здравка взяла портфель, как следом за ней поднялся Паскал. «В чем дело?» — удивилась Геринская. «Из солидарности! — вежливо объяснил Паскал. — Права Здравка, а не ваш сын. Да, бывает, что закупают целые заводы. И завод, который покупает инженер Георги Крумов Бочев в Ленинграде, вовсе не первый, купленный Болгарией в Советском Союзе!»
Так сказал Паскал и вместе со Здравкой вышел из класса. Учительница растерялась, а директор улыбнулась.
Здравка ушла в комнату.
— Ничего не говори бабушке, — велел Крум. — И я ничего не скажу, — пообещал он, хотя никто его об этом не просил. — Скоро приду.
Солнце приятно пригревало, по проспекту к горбатому мостику текла светлая разноцветная автомобильная река, пустырь понемногу оживал: малыши играли в шарики, появился Спас с футбольным мячом под мышкой. Андро сейчас, конечно, уже занялся своим тромбоном, Евлоги гоняет по магазинам. Дими придет на пустырь попозже, усталый, с покрасневшими от хлорки глазами… А где Иванчо?
Но кто это зовет Крума? Кажется, это голос Иванчо?
— Бочка! Бочка!
Крум и Спас одновременно повернулись к домику за дощатым забором. Там на балконе второго этажа стоял Иванчо и махал приятелям рукой. Рядом сох на веревке светло-синий костюм Иванчо.
— Нас зовет, — сказал Спас, и мальчики повернули к забору.
— Нужна ваша помощь! — приглушенно крикнул им Иванчо.
Они с недоумением смотрели на товарища.
— Помогите! — Иванчо с опаской огляделся по сторонам. — Меня заперли!
— Как это заперли? — удивился Спас.
— На ключ, — махнул рукой Иванчо. — За вчерашнее. Точнее, за костюм. И в назидание, как сказал отец.
— А у тебя нет ключа? — не переставал удивляться Спас.
— Отняли, — жалобно вздохнул Иванчо. — У меня копчик разболелся, и ключ отняли.
— Что общего между копчиком и ключом! — не унимался Спас.
Иванчо пожал плечами. До чего же Иванчо похож на больного, неуклюжего и наивного ребенка!
— А соску тебе не оставили? — рассердился Спас. — Дурья башка! Синяя лягушка! — Спас ударил по мячу изо всех сил — неотразимый правый угловой Спаса угодил прямо в забор.
— Осторожнее! — заревел сверху Иванчо.
— Надносник! Сопельник! — продолжал бить мячом в забор Спас. Доски трещали и угрожающе прогибались.
Всякое, конечно, бывало… Мальчикам частенько попадало от взрослых, случались и оплеухи, детство — долгая пора… Но запереть на ключ — это уж пахнет рабством, крепостничеством, чуть ли не фашизмом, как высказался Яни позднее.
Запертый на ключ Иванчо понимал: сидеть безвыходно в квартире в сто раз тяжелее, чем околачиваться около отца и слушать, как тот ворчит, пока в очередной раз латает эту злополучную изгородь. Сегодня Спас, кажется, решил ее доконать.
— Помогите! — жалобно крикнул Иванчо с балкона. — Спасите!
— Ну и отец у тебя, просто фашист! — возмутился Яни.
— Консерватор он, а вовсе не фашист, — защищал отца Иванчо.
— Это почти одно и то же.
— Погодите! — Крум жестом остановил приятелей. Неприятно, конечно, что товарищ сидит запертый дома. Какая, в конце концов, разница, кто его запер и за что? «Всякому времени свойственны свои воспитательные меры! — мелькнуло у него в голове. — Но держать под замком в наше время… Это уж чистый пережиток прошлого!» — У вас веревка есть? — тихо спросил Крум.
— Какая веревка? — вытаращил глаза Иванчо.
— Бельевая. Толстая. Крепкая.
— Есть, наверно, — уклончиво ответил Иванчо. Потом опомнился и радостно закричал: — Есть!
Пока Иванчо искал веревку, прибежал Паскал. Он был в своих новеньких коричневых ботинках на каучуке и поэтому беспрестанно подпрыгивал. В сторону играющих на пустыре ребятишек Паскал даже не взглянул.
— Полный порядок! Завтра на родительское собрание идет Чаво, а уж он… — Паскал ударил кулаком в воздух. — Держись, учителя!
Но сейчас было не до Паскала, все задрали головы кверху. Паскал, конечно, тоже.
— Вот и я! — Иванчо появился на балконе с мотком толстой веревки.
— Привязывай! — крикнул Крум.
— К чему? — спросил Иванчо.
— К своей шее, дуралей! — рассердился Спас.
— К балкону. Морским узлом! — вмешался Паскал, мгновенно сообразив, в чем дело. — Вот так!
Он развел руки в сторону, будто держал концы веревки, и неторопливо объяснял, наблюдая, успевает ли Иванчо повторить каждое его движение и привязать веревку к перилам балкона.
— Теперь затягивай, — закончил он.
Иванчо даже уперся ногой в перила, чтобы затянуть потуже.
— Спускайся! — крикнул Крум.
— Кто? Я?
Иванчо посмотрел вниз со второго этажа родного дома, словно никогда раньше этого не делал.
— Перебрось веревку с внешней стороны балкона и спускайся! — повторил Крум.
— Я? Да ты что, Бочка!
Спас протянул мяч Яни. Перепрыгнул через забор. Подбежал к веревке, ухватился и, повиснув, натянул ее.
— Теперь спускайся!
— Как?
Спас полез вверх, перехватывая веревку то правой, то левой рукой. Ноги болтались в воздухе, как маятник, и расстояние от земли все увеличивалось.
Наконец его голова уперлась в балкон. Дальше Спас не полез — соскочил на землю.
Иванчо свесился через перила, постоял, глядя на натянутую веревку, потом присел на корточки, ухватился рукой за перила, перекинул ноги, нащупал ими веревку и обмотал ее вокруг икры.
— Не затягивай! — предупредил Спас.
Побледнев, с лоснящимся от пота лицом, Иванчо отпустил руку и быстро ухватился за веревку. Потом вцепился другой рукой.
Ребята с замиранием сердца следили за ним.
— Ну, давай потихоньку, — подбадривал Крум.
Иванчо застонал, заохал. Попробовал слезать так же, как Спас, перехватывая веревку то правой, то левой рукой, но держаться только одной рукой, видно, боялся. Потом вдруг решил подтянуться и снова влезть на балкон, да не смог: слишком он был тяжеловат.
Поэтому, вцепившись в веревку обеими руками, Иванчо опять стал медленно съезжать вниз. Ноги его уперлись в голову Спаса — свободен, спасен! Мальчики готовы были взреветь от восторга, но тут Иванчо жалобно пискнул и рухнул на мостовую, прижав крепко сжатые ладони к груди и скорчившись от боли.
Когда Иванчо встал и разжал кулаки, все увидели красные, ободранные до крови ладони.
— Сам виноват, — прошипел Спас.
— Все ты. Придумал! Веревка — спасение, — разбушевался Иванчо, наступая на Крума.
Мальчики, впрочем, понимали его состояние: утром ударился копчиком, теперь ободрал в кровь руки.
— Да не реви! — утешал приятеля Паскал. — В другой раз сноровистее будешь! А ладони надо сразу залить реванолом.
Пошли к Круму. Там и застал товарищей Евлоги — бабушка Здравка как раз перевязывала широкими белыми бинтами руки Иванчо.
— Уж не в боксеры ли ты собрался? — изумился Евлоги.
Ободранные ладони жгло еще сильнее. Иванчо стиснул зубы, мелкие капельки пота выступили на верхней губе.
— Терпи, сынок, терпи! — ласково говорила бабушка Здравка. — Так и становятся мужчинами, а до свадьбы заживет!
— У него не только руки болят! — вмешался Спас.
— Что еще? — спросила бабушка Здравка. Ребята переглянулись. Засмеялись.
— Что смеетесь? — рассердился Спас — Нечего смеяться! Он утром копчик ушиб, бабушка Здравка, — объяснил он.
— А вот это нехорошо, — покачала головой бабушка Здравка. — Компресс надо сделать вечером. И не только сегодня, а несколько дней подряд. Это вещь болезненная.
Иванчо приободрился, расправил плечи, почувствовал себя героем.
А веревку мальчики оставили висеть на балконе, так и не смогли отвязать ее. «Может, обрезать?» — предложил тогда Спас. «Оставьте как есть, — решил Иванчо. — Пусть отец полюбуется!» В его словах был и протест, и негодование, и сладкая жалость к себе.
Через некоторое время мальчики ушли, а Иванчо остался у Крума, такой смешной, с забинтованными руками, трогательно нескладный.
Здравка вроде успокоилась, только все поглядывала на входную дверь и телефон в темной прихожей, прислушивалась.
И когда услышала знакомый резкий звонок, схватила трубку.
— Алло! Алло! — крикнула она, потом прикрыла трубку рукой. — Твой отец!
Иванчо засуетился в растерянности.
Здравка сунула ему трубку.
На той стороне провода что-то говорили. Слышалось, как в трубке трещит, гудит, шипит. Стиснув зубы, расставив по-боксерски руки, Иванчо мрачно слушал отца. Много лет спустя, когда Крум будет наблюдать за боксерским поединком Иванчо на ринге, наслаждаясь его сокрушительным ударом, Круму вспомнится именно эта поза товарища, его сердитое лицо. Тогда-то Крум и понял: предел терпения существует и у самого большого добряка. И если уж он выйдет из себя, то держись: его не согнуть, особенно если у него такое мощное и сильное тело, как у Иванчо…
— Совсем не приду, — повысил голос Иванчо. — Не приду! — повторил он и с такой силой бросил трубку, что чуть не разбил телефонный аппарат.
Никто не сказал ему ни слова упрека — ни Крум, ни бабушка Здравка.
А Здравка даже повеселела и принялась кормить Иванчо обедом. Он тоже вроде забыл про ссору с отцом, только время от времени две сердитые морщинки появлялись у него на лбу.
Бабушка Здравка, конечно, ничего не знала о стычке Здравки с Досё, так что забота об этом целиком легла на Крума.
Когда в притихшем доме раздался короткий звонок у входной двери, все подумали, что это отец Иванчо.
На тротуаре в синеватом сумеречном свете стоял молодой светловолосый человек с энергичным, чисто выбритым лицом и мальчишеской улыбкой.
— Бочевы здесь живут? — спросил он.
В руках у него была светлая дорожная сумка с двумя большими медными застежками.
— Это я… мы… заходите! — закричал Крум.
И тут же почувствовал, как запрыгало от радости сердце, как нахлынула светлая волна, в которую он погружался каждый раз, когда соприкасался с большим миром отца. Большим не потому, что это мир взрослых, а потому, что большими были волновавшие их идеи. И цель, к которой они стремились.
— Бабушка! Бабушка! — обрадовался Крум.
Все поднялись поздороваться с гостем, а Иванчо, почти одного роста с молодым человеком, даже обнял его своими забинтованными медвежьими лапами.
Когда гость представился: «Самуилов! Бывший чемпион в легком весе, теперь инженер», глаза Иванчо радостно блеснули. Не в тот ли миг избрал он свою дорогу? С той только разницей, что Иванчо выйдет на ринг не в легком, а в среднем весе…
Гость стал извиняться, что пришел не сразу: много дел в министерстве, в других организациях. Но раз обещал, то как же не прийти! А в Ленинграде в белые ночи светло как днем. Можно даже читать. Вода в каналах блестит, как платина. Нева широко катит свои волны, «Аврора» стоит у причала, и какой это город, ребята, какой город!.. Белокаменная сказка под бледным северным небом… А вот тут, в сумке…
Здравка замерла от волнения.
— Ваш отец просил передать. — Гость подал девочке красиво упакованный сверток. — А это вам, — повернулся он к Круму. И тоже протянул ему пакет.
Крум пощупал сверток: не только блокноты, еще что-то мягкое.
— А эта шаль вам!
Молодой человек встал, за ним поднялись все остальные. Здравка даже перестала шуршать бумагой.
— От вашего сына, как говорят русские, низкий поклон!
Склонив голову, гость расправлял ярко-зеленую шаль с красивым восточным орнаментом и тяжелыми кистями.
— Ой, какая красивая! — прошептала Здравка.
— Ручная работа. Из Ферганы, долины хлопка и шелка, — сказал гость.
Бабушка Здравка подняла голову, а Крум вдруг обратил внимание на то, что сестренка, когда волнуется, точно так же держит голову — гордо, прямо. А он сам, говорят, унаследовал дедушкину походку, легкую, быструю.
Бабушка накинула шаль на плечи и сразу преобразилась: какая величавость в осанке!
А гость, растерявшись, что в сумке нет ничего для рослого нескладного парнишки с забинтованными руками, вытащил из кармана ручку и карандаш с рубиново-красными звездами и великодушно воткнул в нагрудный карман рубашки Иванчо.
— Но я… — пробормотал Иванчо. — Я не из этой семьи.
— Все равно ты наш, — вмешалась бабушка Здравка.
— Не берешь? — Гость вдруг сделал резкий боксерский выпад вперед: — Ринг свободен!
Сразу видно, стойка у него что надо, да и держался гость на равных с ребятами.
— Спасибо! — смутился Иванчо, в тот же миг забыв про больные руки. (Так будет и потом: в момент торжества победы на ринге забываются все удары боксерской перчатки противника.)
Бабушка между тем уже хлопотала на кухне, но гость отказался от ужина: он очень устал, целый день на ногах.
Круму не терпелось посмотреть, что же лежит в его пакете, и они с Иванчо ушли в другую комнату.
Здравка зажгла все светильники в доме и вертелась перед зеркалом в прихожей, примеряя новый школьный передник.
— Черная юла! — поддразнил ее Иванчо.
— Фурия! — многозначительно сказал Крум. — Не юла, а фурия!
— Идет мне, правда? И как раз? — не слыша брата, радостно щебетала Здравка. — Завтра все девчонки лопнут от зависти.
— Но тебя… — начал Крум.
Ведь учительница вызвала в школу бабушку, и, если бабушка не придет, Здравку не допустят до занятий.
— Что меня? — невинно посмотрела на него Здравка.
— Да так… — замялся Крум. — Завтра пойдешь в школу?
— Конечно, пойду! — повторила Здравка как ни в чем не бывало. — В новом фартуке. Ведь уже зимний сезон. Много о себе воображают, если думают, что я не пойду! Еще меня не знают!
Но Крум уже не слышал сестру.
Он развернул шуршащую бумагу, такую же, как у Здравки, и с удивлением увидел что-то синее, аккуратно сложенное. Внизу белела картонная папка, из которой выпали блокноты в целлофановых обложках, красный и синий, с пятью олимпийскими кольцами. А что еще в пакете?
Крум развернул синюю ткань.
Джинсы! И куртка! Такая же темно-синяя, с медными пуговицами, как у Чавдара.
— Ой! — закричала Здравка.
— Джинсы! — ахнул Иванчо. — И куртка! Целый костюм.
— Примерь, братик! — быстро проговорила Здравка.
Крум совсем растерялся от неожиданного подарка, натянул джинсы, провел рукой по талии, придирчиво огляделся.
— Какой ты красивый! И точно твой размер, — кружилась Здравка, оглядывая брата со всех сторон. — Завтра все просто ахнут!
Крум надел куртку. Рукава оказались чуть длинноваты, но Здравка тут же их подвернула.
— Теперь так носят!
Иванчо восторженно размахивал своими белыми лапами:
— Здорово! Высший класс! Куда Чавдару до тебя!
Крум робко посмотрелся в зеркало и не узнал себя.
Высокий светлоглазый парень удивленно смотрел на него из зеркала.
— Иди, иди сюда, покажем бабушке! — Здравка потащила брата на кухню.
Они остановились в дверях.
Специально столовой у них в квартире не было, дом старый, и гостей приглашали обычно в просторную, чисто убранную кухню. Здесь бабушка угощала соседок кофе и айвовым вареньем, ребятишек — вареньем и тыквой, которую она умела готовить, как никто другой. Любила она приглашать ребятню к обеду или к ужину, как сейчас, когда не отпустила домой Иванчо. И по тому, какие тарелки, ложки, вилки и стаканы доставала она из буфета, можно было судить, кто из гостей ей особенно дорог.
— Бабушка, посмотри… — Слова замерли у Здравки на губах. Она ожидала увидеть на столе фарфоровую и хрустальную посуду. А в кухне… '
Склонив седую и русую головы, сидели друг против друга бабушка Здравка в шали на плечах и молодой инженер.
— Бабушка! — Здравка удивилась, что бабушка ничем не угощает гостя.
Крум сделал сестре знак замолчать.
Он вдруг подумал, что есть нечто в сто раз более дорогое, чем айвовое варенье, кофе и вареная тыква, чем вкусные бабушкины кушанья, лучше, чем самый изысканный прием. Это радость от встречи с милым сердцу гостем.
— Молодцы! — с улыбкой посмотрел на Крума и Здравку гость. — Расскажу отцу, как у вас побывал. Вот уж обрадую его!
В эту минуту раздался звонок у входной двери. Бабушка Здравка встала, молодой человек тоже.
— Ты куда? — остановила его бабушка Здравка, положив ладонь на его руку. — Посиди. Расскажи еще. Пусть и дети порадуются.
Бабушка бесшумно проскользнула между Крумом и Здравкой, мимоходом погладила внучку по голове, а внуку сказала:
— Радость ты моя, — и широко распахнула дверь.
В желтоватом проеме двери показалась долговязая фигура отца Иванчо.
Никогда Круму и его товарищам не узнать, о чем бабушка Здравка говорила с отцом Иванчо. Потом она пригласила его на кухню и уговорила оставить Иванчо погостить у них несколько дней. Не узнать Круму, что за снимки хранились в маленьком отцовском школьном альбоме. Никому не ведомо было, и с кем встретилась бабушка Здравка на следующий день.
Она вырастила сына и внука и давно поняла: мальчиков надо оставлять наедине с их возмужанием, тогда им легче пройти через все сложности того долгого, мучительно-сладостного периода, когда они уже не дети, но еще и не взрослые.
Бабушка Здравка знала: каждому возрасту свойственны свои сложности и нужно время, чтобы их пройти.
Отцу Иванчо бабушка так сказала:
— Вы не правы, дорогой! Хорошо, что мы сейчас одни, я вам прямо скажу, вы не правы. Сына обидели. Принудили из дому бежать. И не отводите глаза и не возражайте, а вот познакомьтесь лучше с нашим дорогим гостем. Он приехал из Ленинграда, целый день по делам бегал, а сейчас к нам заглянул, детям в радость! Садитесь, побудьте с нами и признайтесь, что вы не правы! В какое время вы живете? Чтобы наказать вас — да, вас, а не Иванчо, — мальчик останется у меня по крайней мере дней на пять! И знайте: если вы не согласны, я в товарищеский суд обращусь!
А утром, переделав все свои дела и приготовив обед, бабушка достала со дна комода старый альбом, тот, что так и не позволила посмотреть Круму, открыла его, вгляделась в фотографии. Какие счастливые лица! Гошо-школьник, Гошо-бригадир, Гошо в Софии, Гошо в парке, на Витоше, в бригаде, и каждый раз рядом с Гошиным лицом — смеющееся лицо молоденькой, хорошенькой девушки.
Потом бабушка Здравка надела платье в мелкий синенький цветочек и мохнатую черную кофту. Причесалась, пригладила ладонью и без того гладко зачесанные волосы. Вышла из дому. Медленно прошла по улице мимо пустыря, где резвилась детвора. «Хорошо бы здесь разбить сад! — подумала бабушка. — А впрочем, где же тогда играть детям? Если тут сделать сад, на скамейках сразу же усядутся старики, и не будет конца их жалобам на детей. А ведь так над своей ребятней дрожат, полные авоськи продуктов для них таскают!»
У трехэтажного дома, где недавно поселилась семья Паскала, бабушка остановилась перевести дух. Потом, миновав узкий, выложенный камнем дворик, поднялась по белым ступенькам. На каждой площадке бабушка останавливалась передохнуть, а на третьем этаже, перед двустворчатой дверью с матовым стеклом, снова остановилась, вглядываясь в красиво выведенные рукой Паскала буквы: «Сем. Астарджиевых». Бабушка улыбнулась: «Толковый мальчик».
И нажала кнопку звонка.
Послышались легкие шаркающие шаги. Чей-то силуэт мелькнул за толстым стеклом, и створка двери распахнулась.
В длинном облегающем платье, худенькая, с увядшим лицом и паутинкой мелких морщинок вокруг светлых, красивых глаз, со скорбно опущенными вниз уголками губ, перед бабушкой стояла мать Чавдара и Паскала Астарджиевых и вопросительно вглядывалась в ее лицо.
В первое мгновение лицо женщины, так похожей на смеющуюся молоденькую, хорошенькую девушку с фотографий в школьном альбоме Гошо, просияло, потом страдальчески исказилось.
В растерянности женщина чуть было не захлопнула дверь, но бабушка Здравка ее остановила:
— Дай же мне войти!
Женщина выпрямилась, застыв на пороге как вкопанная, потом приветливо кивнула и, пропустив бабушку Здравку вперед, бесшумно проследовала за ней своей легкой, скользящей походкой.
— Дома никого, — произнесла она, — посидим в холле.
Женщина распахнула дверь в комнату: в темноту холла хлынула золотистая синева осеннего дня.
Мать Паскала и бабушка Здравка стояли друг против друга по обе стороны тяжелого дубового стола.
— Ты знала, что я приду, да? — заговорила бабушка Здравка.
Женщина молчала. Светлые глаза ее сухо блестели.
— Садись, пожалуйста.
Женщины сели.
— Ты всегда была гордая, прямая… Сколько воды утекло с тех пор, — вздохнула бабушка Здравка. — И дети растут, твои мальчишки и мои внуки. Старшего твоего я еще не видела, но говорят, красивый парень, а Паскал…
Женщина закусила губу. Худенькое лицо сморщилось, глухие беззвучные рыдания сотрясали плечи, но глаза оставались сухими.
— Поплачь! Поплачь! — горестно молвила бабушка Здравка. — Легче станет. И не говори мне ничего. Все знаю.
И вдруг слезы хлынули из глаз женщины, будто поток прорвался.
— Плачь! — подставила свой стул поближе к ней бабушка Здравка. — Плачь!
Женщина плакала так горестно, так отчаянно, точно надеялась утопить в слезах пережитое, но голову не опускала, держала все так же гордо и прямо. А бабушка Здравка всей душой жалела ее, сердцем чувствовала ее боль, ее горе.
— Дети у тебя, — кротко сказала она, как привыкла говорить с Крумом и Здравкой, как говорила, наверно, со своим сыном. — Для детей надо жить. Для них. В жизни твоей они самое главное.
А слезы женщины обжигали морщинистые бабушкины руки…
Но вот светлые глаза, еще недавно горевшие сухим огнем, омылись вдоволь слезами и стали ясными. Рыдания постепенно стихали.
Бабушке Здравке снова виделся Гошо и с ним веселая, улыбающаяся девушка. Как они были неразлучны! Пока девушка не полюбила другого. Из их квартала была девчонка, росла на тех же улицах, что ее сын, но полюбила юношу из когда-то богатой семьи, да и теперь весьма обеспеченной. Вскоре вышла замуж. Забыла школьную любовь и светлую радость, с которой ее встречали в уютном домике Крума Бочева.
Гошо не находил себе места. Дни, недели, месяцы, даже годы ходил как потерянный. Не мог забыть свою любовь. Пока не встретил ту, которая потом родила ему Крума и Здравку.
А семейная жизнь улыбчивой девушки, искренне полюбившей другого, не удалась. Богатой, но холодной была просторная квартира ее мужа, и чем больше укреплялась народная власть, тем хуже шли дела у богатой некогда семьи. Привыкнув к легкой, беззаботной жизни, муж чувствовал себя обиженным, ущемленным, идти работать никак не хотел. Жена его на службе была материально ответственной, через ее руки проходили документы и деньги, вот она и совершила подлог, присвоила деньги — не бог весть сколько, но разве в этом дело?
Только тогда ее муж опомнился. Пошел работать официантом. Некоторое время был даже директором ресторана в новом большом отеле. Но там заработок был меньше, и вскоре он вернулся на старое место. И опять чувствовал себя обиженным да обойденным, держался надменно, смотрел на всех свысока.
Позже продали большую квартиру около парка близ Народной библиотеки. Родители улыбчивой девушки умерли, и семья перебралась в их квартиру, что стало для мужа источником новых огорчений и обид.
— А теперь наши дети, твои сыновья и мои внуки, растут вместе, — тихо говорила бабушка Здравка, глядя в прояснившиеся глаза этой рано постаревшей женщины. — Жизнь — дело непростое.
Ни Крум, ни кто другой никогда не узнает бабушкину тайну: в этот день навсегда исчез маленький альбом с фотографиями, запечатлевшими мгновения светлой и одновременно горестной любви, несбывшегося счастья.
Не только в детстве, всегда в жизни самое прекрасное — это несбывшиеся мечты. Не осуществленное рождает новые, еще более возвышенные и благородные чувства в сердце человека. Но важно, чтобы человек сам открыл для себя вечные истины, поверил в них.
Подарки были получены, «членские взносы» Паскала розданы. Оставалось самое легкое — родительское собрание. Ну и еще надо определить наконец день и час нападения на горбатом мостике, но с этим придется повременить, пока не заживут руки Иванчо. И вообще надо разобраться, кто такой этот Чавдар — друг или враг?
Крум, конечно, не стал надевать новый костюм в школу, но синий блокнот захватил и, протянув его Яни, шепнул:
— Это тебе от моего отца.
Темные глаза друга радостно блеснули.
Скоро должен был начаться первый урок, и вокруг шумели одноклассники. Ветка и Венета принялись отодвигать назад стол, чтобы учитель химии Маролев мог свободно пройти к окну. Иванчо со своими забинтованными руками и вправду стал похож на боксера. Все было как всегда в первую учебную четверть, только Крум вдруг понял, почему Яни дороже для него всех других приятелей.
С верностью и преданностью другу Яни, наверно, родился. Одно его молчаливое присутствие делало Крума счастливым.
Здравка сразу же надела в школу новый фартук.
Крум опасался, как бы ее не отправили домой, но прошел первый урок, начался второй, Здравка не появлялась, и он вздохнул с облегчением.
Иванчо принес к Круму из дому все свои учебники и тетрадки. Спас и Андро помогли ему дотащить целый ворох одежды, точно он навеки переселялся к Круму. На родительское собрание к Здравке решили пойти втроем: Крум, Яни и Иванчо. Только мальчики собрались в школу, появились Здравка и Паскал.
— Вот и я! — Здравка порозовела от пережитого в классе волнения. — Все просто рты раскрыли от зависти.
— Вот и мы! — вторил Здравке Паскал.
От туфелек до ленточек в каштановых косичках Здравка вся была в черном, только воротничок белел у шеи.
— Положим, не все рты раскрыли! — поправил ее Паскал.
— А учительница? — спросил Крум. — Не отправила вас домой?
— Нет, — поджала губы Здравка. — Только взглянула на меня — и молчок. Отправить меня домой! Она меня еще не знает!
— Узнает! — подзадоривал ее Иванчо.
Ровно в половине шестого, аккуратно одетые, с красными пионерскими галстуками на шее, Крум, Иванчо и Яни направились в школу.
В их воспоминаниях детства не было ни лугов, ни гор, ни лесов. Городские дети, они привыкли собираться на мощенных булыжником или асфальтированных улицах, они росли, не зная ночного, усеянного звездами неба, покоя плодородных полей, красоты ранних рассветов, не радуясь естественной привязанности к животным. Но зато эти юные городские жители знали все марки машин, множество всяких механизмов, они свыклись со стальным гулом миллионного города. Их понятия о пространстве определялись проспектами и площадями. Под люминесцентным освещением, среди многоэтажных зданий, оживленных улиц, магазинов, звона трамваев, сигналов автомобилей, под небом, перекрещенным антеннами, они чувствовали себя легко и привычно.
Мальчики знали, что сейчас в школе ни души, поэтому спокойно прошли по безлюдным коридорам к Здравкиному классу. И уселись за партой Здравки и Паскала, третьей с конца в первом ряду.
Уселись все втроем, только Иванчо примостился с самого краешка: у него все еще болел копчик.
Понемногу класс заполнялся родителями. Некоторые тихо разговаривали друг с другом, а большинство молча сидели за партами, слишком низкими для них.
Пришел и Чавдар Астарджиев. Увидев Крума с друзьями, улыбнулся.
Мальчики подвинулись, освобождая ему место на скамье. Чавдар опустился рядом, поздоровался за руку с Крумом и Яни и совсем по-боксерски коснулся обеими руками забинтованных кистей Иванчо.
С его приходом Крум почувствовал себя спокойнее и в то же время немножко заволновался, вспомнив, как Яни рассказывал ему про мать Паскала и Чавдара. Крум тогда почувствовал какое-то превосходство над ними, а сейчас понимал: нечего радоваться чужому несчастью, нехорошо это. Наоборот, доброму человеку и от чужого горя бывает больно.
«Почему люди такие разные? И живут каждый по-своему?» — думал он.
Чувствовал: что-то властное, до сих пор не испытанное поднимается в его душе, десятки вопросов проносятся Б уме. Так хочется поговорить с кем-нибудь об этом… Только ведь самому надо искать ответы на эти вопросы. Это и есть возмужание, взросление…
Ровно в шесть в дверях появилась классный руководитель Геринская, она плотно прикрыла за собой дверь, уверенная, что вошла в класс последней.
Учительница подошла к кафедре, обвела взглядом родителей. Некоторые из них поздоровались с учительницей кивком головы, кое-кто встал, с трудом поднявшись из-за парты и с еще большим трудом опустившись на место.
— А вы как тут оказались? — посмотрела учительница на Крума, Яни и Иванчо. — Вы же школьники.
Мальчики встали.
— Что вы тут делаете?
— Моя сестра, Здравка Георгиева Бочева, учится в вашем классе, — ответил Крум.
— Но собрание-то сегодня родительское! — удивилась Геринская.
— Наш отец в отъезде…
— Знаю.
— А бабушка старенькая, она в школу не ходит, — спокойно ответил Крум.
— А надо бы прийти, — строго произнесла учительница.
Второй год она была классным руководителем в Здравкином классе, и родители уже привыкли к суровому нраву Геринской, поэтому молчали. Только Чавдар с любопытством переводил взгляд с Крума на учительницу.
— А эти двое? — спросила она. — Уж не опекуны ли?
— Нет, — с некоторым колебанием ответил Крум. — Это мои друзья.
— Твой товарищ боксер?
— Пока нет, — дерзко ответил Крум, — но будет!
— Пожалуйста, выйдите из класса! — сдержанно сказала учительница. — Все трое!
— Я пришел вместо отца и бабушки на родительское собрание, чтобы поговорить о своей сестре, — снова заговорил Крум глухим от волнения голосом.
— Выйдите из класса, я вам сказала! — повторила Геринская. — На собрание приглашаются родители, а не братья, да еще с красными пионерскими галстуками на шее.
— Но я расписался за бабушку на повестке, — оправдывался Крум.
— Я жду!
Крум почувствовал, как горят у него щеки, даже глаза словно пламенем обожгло. И годы спустя, стоило ему вспомнить школу и школьные годы, перед глазами вставал Здравкин класс, угловая комната на втором этаже.
В ушах застучало.
«От страха можно убежать, от стыда — нет», — слышался Круму голос бабушки.
Но страх ведь и есть самый сильный стыд?
«Нет!» — воспротивилось что-то в душе у Крума, и это был уже другой Крум, твердый, уверенный в себе, мгновенно повзрослевший.
— Минуточку! — поднялся из-за парты Чавдар. — Я тоже брат. Брат Паскала Астарджиева, и тоже пришел на собрание. Правда, я без красного галстука… Мне тоже выйти?
— Брат Паскала? — удивилась учительница.
— Да, — кивнул Чавдар. — А что касается галстука, — он коснулся рукой открытого ворота рубашки, — мне ничего не стоит его повязать! Я сейчас смотрю на этих ребят и жалею, что уже вышел из пионерского возраста. Что поделаешь, проходит это славное время. А вас должно радовать, — он кивнул в сторону Крума, Яни и Иванчо, — что у вас в классе такие ребята!
— Да уж, один ваш брат стоит пятерых! — иронично улыбнулась Геринская.
— Нас больше! — неожиданно выкрикнул Иванчо.
Чавдар засмеялся и подмигнул мальчикам. Лица у многих родителей смягчились, но учительница была неумолима.
— И все-таки выйдите!
— Пошли, ребята! — поднялся с места Чавдар. — Раз нас не принимают, мы проведем свое собрание.
К двери все четверо мальчиков подошли одновременно. Выходя из класса, Яни обернулся, глаза его потемнели от гнева.
«Яни, Яни, верный ты мой друг, и в радости и в беде чувствую рядом твое плечо! Ты всегда на высоте… Не потому ли, что слушаешь только голос своего сердца? И в дерзости, и во внимании к людям…»
Мальчики вышли на улицу. Против обыкновения, Крум шагал, почти не размахивая руками, походка его еще больше стала походить на дедушкину. Шагали как обычно: Крум в середине — не впереди, а именно в середине, — слева Яни, справа вместо Евлоги — Чавдар, рядом с ним Иванчо. Остальные приятели ждали их на пустыре.
А что же стало с так четко сформулированной однажды программой Крума? С «бомбами» и масками в подвале? С двумя блестящими новенькими стотинками?
Крум бережно сохранит две эти монетки и через пятнадцать лет подарит их Паскалу. Случится это в торжественном зале бракосочетания, где бесконечно счастливый Паскал будет стоять рука об руку со Здравкой. На Здравке будет надето белое свадебное платье, и Чавдар, приглашенный на свадьбу вместе с Линой и детьми, дружески подмигнет братишке, увидев эти две стотинки…
Мальчики шли вместе. По горбатому мостику. Над рекой, где не раз испытывали свою силу и ловкость. Мимо гранитного обелиска, поднявшегося над крутым обрывом.
Пройдут годы, и выросшие мальчики поймут, как это важно, что они обрели в детстве настоящих друзей, которые ждали их на пустыре, и они вместе шагали к своему перекрестку с электрическим фонарем на углу, где на синей напластовавшейся за многие годы краске и сейчас можно прочитать их имена, нацарапанные в дни далекого детства. Пока они шагают все вместе, у Крума на душе легко и радостно и не жжет пережитая обида. И радует сознание, что все еще впереди. Будущее тесно связано с прошлым, и с сегодняшним тоже, а человеческие поколения — как волны, которые бегут одна за другой, и самый высокий гребень этих волн — они, мальчики с красными пионерскими галстуками на шее.