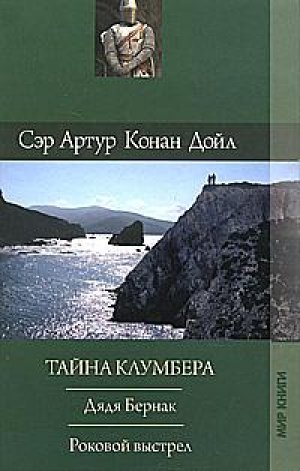
Глава I
Обратите внимание!
Это объявление имеет целью предостеречь публику от субъекта, называющего себя Октавием Гастером.
Его приметы — высокий рост, блондин, глубокий шрам на левой щеке, идущий от глаза до угла рта.
Нелишне будет упомянуть его пристрастие к ярким цветам — зеленые манишки и прочее.
В его речи слышен легкий иностранный акцент.
Хотя этот человек и неуязвим на почве закона, он опаснее бешеной собаки. Да избегает его каждый, и да сторонится от него, как сторонятся от прокаженного.
Всякое сообщение, касающееся этой личности, будет принято с живейшей благодарностью г. А К. У. Линкольнс-Хилл, Лондон".
Это объявление было наверное отмечено многими читателями утренних газет в начале текущего года.
В известных кругах оно возбудило сильнейшее любопытство, благодаря чему относительно личности Октавия Гастера и его преступлений в обществе сложились целые легенды.
Если я объясню вам, что это объявление было составлено и опубликовано по моей личной просьбе, моим старшим братом адвокатом Артуром Купером Ундервудом, вы легко поймете, что я более, чем кто-либо другой, имею право дать тайне авторитетное разъяснение.
Глава II
Осаждавшие меня вплоть до сегодняшнего дня страшные, хотя и смутные подозрения, осложненные горем от потери моего возлюбленного, происшедшей накануне самой свадьбы, помешали мне открыть происшествия августа месяца кому бы то ни было, кроме моего старшего брата.
Но теперь, окидывая взором прошедшее, мне кажется, что я имею возможность объяснить и связать единой общей идеей массу мелочей, раньше мною не замеченных.
Эти мелочи дают ряд улик, которые, будучи недостаточными в глазах суда, могут тем не менее произвести известное впечатление на публику.
Итак, я попытаюсь изложить точно и беспристрастно все, что произошло со дня вступления этого человека, Октавия Гастера, в Тойнби-Холл, вплоть до дня большого состязания в стрельбе из карабина.
Я хорошо знаю, что на свете есть масса людей, всегда готовых посмеяться над сверхъестественным или над тем, что наш слабый ум считает таковым. Я знаю также, что моя принадлежность к женскому полу сильно ослабит значительность моих показаний.
Мне остается только одно оправдание: человек я не слабоумный и далеко не впечатлительный; оценку же, произведенную мною Октавию Гастеру, разделяют многие и многие женщины.
Приступаю к изложению фактов.
Это было у полковника Пилляра в Роборо, в очаровательном графстве Девон; мы проводили там лето.
Я уже несколько месяцев была невестой его старшего сына Чарли. Свадьбу собирались сыграть в конце вакаций.
Надеялись, что Чарли успешно выдержит экзамены; впрочем, будущность его была во всяком случае обеспечена.
Я со своей стороны тоже не была нищей.
Старик-полковник был в восторге от этого союза. Моя мать — тоже.
С какой стороны ни взглянуть, на нашем горизонте нельзя было заметить ни единого облачка.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что август месяц показался нам периодом ничем не возмутимого благополучия.
В веселом Тойнби-Холле можно было забыть про самые жестокие страдания и печали, от которых стонет мир.
Там гостил во-первых, лейтенант Дэзби, — Джек, как называли его запросто; он только что прибыл из Японии на борту судна Королевского флота «Акула».
Он был в таких же отношениях, как и мы с Чарли, с сестрой последнего, Фанни; благодаря этому мы всегда готовы были оказать друг другу моральную поддержку.
Далее шли младший брат Чарли, Гарри, и его закадычный друг по Кембриджу, Тревор.
Наконец, — моя мать, милейшая пожилая дама, вся сияя, любовавшаяся нами из-за своих золотых очков и изо всех сил старавшаяся устранить малейшие затруднения, которые могли бы появиться на пути двух молодых парочек.
Она неустанно повторяла им рассказ о своих сомнениях, страхах и опасениях, которые испытала в то время, когда молодой горячий вертопрах Николай Ундервуд отправился искать себе невесту в провинцию и отрекся от Крокфорда и Таттерсолля ради любви дочери деревенского старосты.
Я, однако, забыла упомянуть про нашего любезного хозяина — бравого старого полковника, с его вечным подшучиванием, пристрастием к рюмке и напускной суровостью.
— Ей-ей, не понимаю, что такое стряслось эти дни со старичиной, — часто говаривал Чарли. — Со дня вашего пребывания, Лотти, он ни разу не посылал к черту либеральное министерство; я уверен, что если он не даст себе воли по части ирландского вопроса, его как-нибудь хватит кондрашка.
Весьма возможно, что старик вознаграждал себя за дневное воздержание, когда оставался наедине с собой в своей половине.
Но он действительно питал ко мне теплое чувство, которое высказывал целым рядом проявлений мелочного внимания и предупредительности.
— Вы славная девочка, — сказал он как-то вечером голосом, сильно отдававшим портвейном. — Честное слово, Чарли — ловкий малый; я не ожидал увидать в нем столько вкуса. Но заметьте мои слова, мисс Ундервуд: вы скоро сами убедитесь в том, что этот ветрогон далеко не так глуп, как это кажется на первый взгляд.
Сделав этот косвенный комплимент, полковник торжественно накрыл лицо платком и заснул сном невинного младенца.
Глава III
О, как мне памятен тот день, когда начались все наши несчастья!
Обед кончился, и мы сидели в салоне; в широко открытые окна лился поток освеженного южным ветерком воздуха.
Моя мать сидела в углу за вышивкой, роняя по временам какое-нибудь простейшее нравоучение, которое добрая старуха тем не менее считала личным своим открытием.
Фанни возилась с лейтенантом на софе, а Чарли взволнованно прохаживался взад и вперед по комнате.
Я сидела у окна, задумчиво созерцая огромную равнину Дартмура.
Она сливалась с горизонтом, освещенным заходящим солнцем; на багряном фоне его там и сям рисовались резкие очертания скал.
— Да, повторяю вам еще раз, — сказал Чарли, подходя к окну, — прямо позорно терять такой вечер.
— К черту его! — сказал Джек Дэзби. — Что за подчинение погоде? Мы с Фан остаемся на софе — правда, Фан?
Молодая девушка подтвердила свое намерение не покидать устроенного ею из подушек софы гнездышка, сопровождая свои слова задорным взглядом по адресу брата.
— Ваши поцелуи — чистая распущенность, правда, Лотти? — смеясь, обратился ко мне Чарли.
— О, да, — и скверная распущенность, — согласилась я.
— А между тем я отлично помню время, когда Дэзби был первым ветрогоном во всем Девоне. А посмотрите-ка на него теперь, Фанни, Фанни! Вот оно женское-то влияние!
— О, не огорчайтесь на его слова, моя дорогая, — заговорила из своего угла моя мать. — Я знаю по опыту, что для молодых людей очень полезна умеренность. Мой бедный Николай всегда держался этого мнения. Он каждый вечер перед тем как лечь в постель, делал на коврике несколько больших прыжков. Я не раз указывала ему на опасность подобных упражнений, но он упрямо держался их, покуда однажды вечером не упал на каминную решетку, причем порвал себе мускул на ноге, что сделало его навеки хромым, так как доктор Пирсон принял это за перелом кости и наложил на ногу гипсовую повязку, от которой пациенту свело ногу в колене. Ошибку докторского диагноза приписывали тому, что он был в то время очень нервен; его младшая дочь чуть ли не в самый день несчастья проглотила медный пятак.
— У моей матери была странная привычка уклоняться во время рассказа в сторону, так что по временам нелегко было вспомнить предмет, вызвавший ее речь.
Но на этот раз Чарли постарался запомнить его, надеясь извлечь пользу из слов старушки.
— Ваши слова — святая истина, миссис Ундервуд, — заметил он, — мы весь день не выходили из дому. Послушайте, Лотти, в нашем распоряжении еще целый час до сумерек. Я уверен, что ваша мать не найдет возразить мне ни слова, если я предложу пройтись половить форелей.
— Только закутай себе чем-нибудь шею, дитя мое, — сказала мама.
— Хорошо, дорогая. Я сбегаю наверх и возьму шляпку.
— А на обратном пути мы сделаем чудесную прогулку на заходе солнца, продолжал Чарли, покуда я направлялась к дверям.
Когда я вернулась, то увидала, что мой жених с нетерпением ждет меня с удочкой в руках.
Мы прошли через лужайку мимо окна, в котором были видны три ехидно улыбающиеся лица.
— Поцелуи — это чистый разврат, — сказал Джек, с задумчивым видом разглядывая облака.
— О, да, и скверный разврат, — подхватила Фанни.
И все трое расхохотались, да так, что разбудили мирно дремавшего полковника.
Мы слышали, как они наперерыв старались объяснить свою шутку полковнику, который никак не мог сообразить, в чем дело, именно благодаря их усердию.
Мы пробежали по тропинке до калитки, выходившей на дорогу к Тэвистоку.
Чарли на минуту остановился соображая куда идти.
О, если бы мы знали тогда, что от этого направления зависит вся наша судьба!
— Что ж, пойдем на реку, дорогая, — сказал он, — или предпочтем ей какой-нибудь ручеек?
— Как хотите — мне все равно.
— Отлично. Я подаю голос за ручейки. Кстати, удлинится и наш обратный путь, — прибавил он, окидывая любовным взором небольшую, закутанную в белую шаль фигурку, что шла рядом с ним по дороге.
Ручей, который мы выбрали, орошает наиболее безлюдную часть местности.
При выходе с дороги на тропинку мы находились в нескольких милях от Тойнби-Холла; но мы были молодые и сильные люди и потому тронулись в путь, не обращая внимания на попадавшиеся нам камни и кустарники.
Во время пути мы не встретили ни души, если не считать девонширских овец, которые с любопытством глядели на нас и долго провожали нас глазами, точно стараясь угадать, чего ради мы попали в их царство.
Когда мы добрались до ручейка, с шумом вытекающего из ущелья с отвесными боками, устремляясь зигзагами к Плимуту, было уже совсем темно.
Перед нами высились два огромных массива скал, между которыми капля за каплей сочилась струйка воды, образовавшая у подножия их глубокий тихий пруд.
Это место было всегда любимым уголком Чарли. Днем оно, действительно, должно было быть очаровательно, но теперь, когда в кристальной воде отражались серебристые облики восходящей луны, перемежающиеся с черными пятнами теней от скал, — теперь это место совсем не годилось для пикника.
— Дорогая моя, я лучше откажусь на этот раз от ловли, — заявил Чарли, когда мы уселись рядом.
— О, да, — вздрогнув, согласилась я.
— Итак, мы передохнем здесь, а потом пустимся в обратный путь. Но вы вся дрожите, вам холодно?
— Нет, — ответила я, стараясь овладеть собой, — мне не холодно, но… но мне немножко страшно. Конечно, это очень глупо с моей стороны.
— Черт возьми! — сказал мой жених. — Я не нахожу в этом ничего удивительного, так как и сам чувствую что-то неладное. Журчанье этой воды напоминает мне хрип умирающего.
— О, не говорите таких вещей, Чарли! Вы пугаете меня.
— Ну, ну, моя дорогая, нечего предаваться черным мыслям, — со смехом сказал он, видимо, желая вернуть мне бодрость. — Пойдемте прочь из этого места, где пахнет кровью, и… Смотрите, смотрите! Боже мой! Это что такое?
Чарли покачнулся, и глаза его направились на другой берег ручья, который был выше того, на котором сидели мы.
Лицо Чарли было смертельно бледно.
Я уже говорила, что ручей, у которого мы сидели, находился у подножия скалистого массива.
На самой верхушке последнего рисовалась высокая черная фигура мужчины, смотревшего вниз, в отвесный обрыв, на дне которого мы сидели.
Луна как раз осветила гребень скалы, и на его посеребренном фоне резкими угловатыми очертаниями выделялся силуэт неизвестного.
В этом внезапном молчаливом появлении одинокого путника было что-то таинственное, волшебное, и фантастичность его еще более увеличилась ввиду мрачности обстановки.
Меня охватил немой ужас. Я прильнула к моему возлюбленному, со страхом смотря на высившийся над нами силуэт.
— Эй, мистер, вы, там, наверху! — крикнул Чарли, переходя от тревоги к гневу. — Кто вы такой и за каким чертом забрались туда?
— О! Я так и думал, так и думал, — проговорил человек, смотря на нас сверху вниз.
Затем он исчез с гребня.
Мы слышали его шага по скале.
Минуту спустя он появился на берегу ручья и остановился, повернувшись к нам лицом.
Как ни фантастичен был его вид при первом его появлении, вблизи эта фантастичность скорее усилилась, чем ослабла.
При свете полной луны ясно было видно его длинное тощее лицо мертвенной белизны, составлявшее резкий контраст с манишкой ярко-зеленого кричащего цвета.
На щеке у него шел от глаза до угла рта глубокий шрам, придававший и без того неправильному и некрасивому лицу его ехидное; фальшивое выражение, особенно заметное в те моменты, когда рот его улыбался.
Ранец и палка указывали на принадлежность его к числу туристов. В то же время непринужденность и изящество, с каким он снял шляпу, увидев даму, свидетельствовали о том, что он принадлежит к обществу.
В его угловатой бескровной фигуре было что-то неуловимое, что в связи с болтающимся на плечах черным пледом напоминало мне редкую летучую мышь, питающуюся высасыванием крови, которую Джек Дэзби привез из Японии и которая стала кошмаром для всей прислуги дома.
— Прошу извинения, если помешаю вам, — заговорил он с легким иностранным сюсюканьем, придававшим его речи какое-то особое изящество. — Если бы мне не посчастливилось встретиться с вами, мне пришлось бы чего доброго заночевать под открытым небом.
— Черт вас побери, друг мой — вскричал Чарли. — Неужели вы не могли позвать нас, крикнуть нам что-нибудь? Вы страшно испугали мисс Ундервуд, когда точно из-под земли выросли перед нами.
Незнакомец снова поднял шляпу и рассыпался передо мной в извинениях за свою невольную провинность.
— Я — шведский дворянин, — продолжал он, — и в данное время путешествую ради удовольствия по вашей прекрасной стране. Позвольте представиться — доктор Октавий Гастер. Быть может, вы будете добры указать мне местечко, где я мог бы переночевать, и сообщить маршрут, чтобы выбраться из этой огромной пустыни.
— Вам в самом деле повезло, что вы повстречались с нами, — сказал Чарли. Тут очень легко заблудиться.
— Охотно верю, — заметил наш новый знакомый.
— Тут нередко находят трупы неизвестных людей, — продолжал Чарли. Заблудившись, они бродят, отыскивая жилье, пока, наконец, не падают на землю от истощения.
— Ха, ха! — смеясь, произнес швед — Ну, мне-то не придется умереть с голоду на английской почве. Меня недаром дрейфовало на одном корабле от мыса Бланки до Канарских островов. Но где тут можно найти харчевню?
— Постойте-ка, — сказал Чарли, в котором пробудился интерес к чужестранцу и который, кроме того, всегда отличался гостеприимством. — Тут на несколько миль кругом нет ни одной харчевни, а мне сдается, вы обломали только что здоровый переход. Пойдемте-ка с нами; мой отец, полковник, будет в восторге познакомиться с вами и предложить постель.
— Как мне благодарить вас! — воскликнул путник. — Когда я вернусь в Швецию, мне много придется рассказывать про английского гостеприимство.
— Идемте, идемте, — приговаривал Чарли. — Мы тронемся немедленно, так как мисс Ундервуд холодно. Закутайтесь хорошенько шалью, Лотти; через несколько минут мы будем дома.
Мы молча тронулись в путь, на каждом шагу спотыкаясь и теряя из виду тропинку в те моменты, когда луна закрывалась облачками.
Незнакомец был, видимо, погружен в собственные мысли, но раз или два мне показалось, будто он присматривается ко мне в темноте.
— Итак, — прервал молчание Чарли, — вы говорили, что совершили однажды путешествие в лодке без палубы?
— А! Да, мне довелось пережить много странных вещей и видеть немало опасностей, но я отнюдь не вижу в этом никакого вреда для себя. Но эта тема слишком печальна для молодых женщин. Ей и так уже пришлось перепугаться сегодня.
— О! Теперь вам нечего бояться снова испугать меня, — сказала я, опираясь на руку Чарли.
— Правду говоря, у меня немного есть что рассказать, но это немногое достаточно печально… Мы с моим другом, Карлом Осгудом из Упсалы задумали одно коммерческое предприятие. Страна мавританских кочевников мыса Бланки мало посещается белыми. Но мы все-таки отправились туда; несколько месяцев там можно пожить очень приятно, продавая разного рода товар и выменивая его на золото и слоновую кость.
Это очень любопытная страна. В ней не имеется ни дерева, ни камня, так что жилища тамошних обитателей строятся из морских растений.
К самому концу нашего пребывания, когда мы считали себя уже достаточно разбогатевшими, мавры составили заговор и решили убить нас ночью.
Времени было мало, и мы едва успели добраться до берега, спустить лодку и сесть в нее, бросив все наше имущество.
Мавры гнались за нами, но потеряли из виду благодаря темноте; на рассвете же кругом нас было видно одно безграничное море.
Ближайшей к нам сушей были Канарские острова; к ним мы и направились.
Я добрался до них живым, но сильно ослабевшим и душой и телом. Что же касается бедняги Карла, он умер в тот самый день, когда на горизонте показалась земля.
Я предупреждал его, и мне не в чем упрекать себя теперь.
— Карл, — говорил я ему, — сила, которую вы приобретете, съев их, будет с избытком покрыта потерей сил от кровотечения.
Мои слова заставили его только рассмеяться. Он взял нож, висевший у меня за поясом, отрезал их и съел.
— Съел? Что съел?
— Свои уши, — сказал незнакомец.
Мы оба сделали движение ужаса.
На его бледном лице не было ничего похожего на улыбку, вообще ни намека на то что могло бы заставить нас принять его слова за шутку.
— Этот Карл был упрямая башка, по английскому выражению — продолжал швед, — но все-таки у него должно было хватить рассудка, чтобы воздержаться. Ему стоило только призвать на помощь волю, — и он выжил бы подобно мне.
— По-вашему, с помощью воли человек может побороть голодную смерть? спросил Чарли.
— С ней всего можно добиться, — был ответ Октавия Гастера.
Далее мы не нарушали молчания вплоть до самого Тойнби-Холла.
Наша затянувшаяся прогулка произвела в доме большую тревогу, и Джек Дэзби уже был готов пуститься на поиски вместе с Тревером, другом Чарли.
Наше прибытие произвело поэтому настоящий фурор, сменившийся скоро смешливым настроением при виде физиономии нашего спутника.
— Где, к черту, вы подобрали это мертвое тело? — спросил Чарли Джек, отводя его в курительную.
— Ш-ш, друже! — проворчал Чарли. — Он, чего доброго, может услыхать. Это некий швед, доктор, турист, очень милый парень. Он совершил какое-то путешествие по морю в простой лодке из одного места в другое; названия их я позабыл. Я предложил ему на эту ночь постель.
— Н-ну! — сказал Джек, — одно могу сказать: с такой физиономией он никогда не сделает себе карьеры.
— Ха! Ха! Превосходно, превосходно сказано! — разражаясь смехом, проговорил объект этого замечания, входя в комнату — обстоятельство, до последней степени переконфузившее бравого, но неосторожного лейтенанта. — Само собой, я никогда не сделаю карьеры в этой стране.
И он сделал такую гримасу, что шрам, нарушавший ему симметрию рта, придал его лицу такой вид, точно оно выглянуло вдруг из вогнутого зеркала.
— Пойдемте наверх, вы там умоетесь. Я одолжу вам пару туфель, — говорил Чарли, уводя гостя из комнаты, чтобы покончить с неловким положением.
Полковник Пилляр был самим олицетворением гостеприимства. Он принял доктора Гастера, точно старого друга дома.
— Честное слово, сэр, вы у себя дома, и будете у нас желанным гостем столько времени, сколько вам заблагорассудится. Мы живем тут почти что отшельниками. Гость для нас — настоящая радость.
Моя мать выказала больше сдержанности.
— Это очень благовоспитанный человек, Лотти, — заметила она мне, — но я предпочла бы, чтобы он чаще мигал глазами. Я не люблю людей с неподвижными, точно застывшими, веками. Да, дорогая моя, мой жизненный опыт дал мне одно великое правило: наружность человека — ничто в сравнении с его поступками.
Сообщив это оригинальное наблюдение, мама обняла меня и предоставила меня моим собственным размышлениям.
Несмотря на свою наружность, доктор Октавий Гастер имел в нашем обществе огромный успех.
На следующий день он вошел в такие интимные отношения со всем домом, что полковник и слышать не хотел об его отъезде.
Он изумлял решительно всех обширностью и разнообразием своих познаний.
Нашему ветерану Крымской кампании он рассказал о Крыме много такого, о чем тот и не слыхивал.
Моряку он сообщил целую кучу сведений о Японии. Он принялся даже и за моего жениха, большого любителя спорта, и читал ему целые лекции по поводу путешествий в лодке, рассуждая о рычагах, точках приложения сил, центрах сопротивления, пока, наконец, моему бедняге Чарли не пришлось уклониться от продолжения беседы.
Тем не менее он делал это с такой скромностью и осторожностью, что никто из собеседников не находил повода быть на него в претензии за поражение, понесенное к тому же в области своей специальности.
Во всех его словах и поступках замечалась какая-то спокойная сила, которая производила большое впечатление.
Я припоминаю один случай, очень поразивший всю нашу компанию.
У Тревора был огромный бульдог; он очень любил своего господина, но к фамильярностям прочих из нас относился очень нелюбезно.
Все домашние, как и следовало ожидать, очень косились на этого зверя, но так как студент был очень привязан к нему, то и решили не удалять его от дома и запереть в конюшню, где ему была устроена огромная конура. За такое пренебрежение к собственной особе животное сильно невзлюбило нашего хозяина и рычало, скаля все свои огромные зубы каждый раз, как замечало его фигуру.
На следующий день после прибытия Октавия Гастера мы проходили мимо конюшни. Внимание гостя было привлечено рычанием пса.
— А! А! — заметил он. — Это ваша собака, мистер Тревор?
— Да, это Тоуцер.
— Бульдог, должно быть, из тех, что на континенте зовут национальным животным Англии.
— Да, чистокровный бульдог, — с гордостью подтвердил студент.
— Безобразные животные, очень безобразные. А не войдете ли вы в конюшню, чтобы снять с него цепь? Мне хотелось бы взглянуть на него на вольной воле. Просто жалко держать на привязи такое могучее, полное жизни животное.
— Но он любит кусаться, — с лукавой искоркой в глазах сказал Тревор. Впрочем, вы, конечно, не струсите собаки.
— Струшу? О, нисколько; зачем же я струшу ее?
Когда Тревор открыл дверь конюшни, на лице его окончательно утвердилось ехидное выражение.
Чарли пробормотал что-то насчет того, что шутка переходит границы, но его слова были заглушены громовым рычанием, раздавшимся изнутри конюшни.
Все отошли на приличное расстояние, кроме Октавия Гастера, который остался стоять на пороге дверей с выражением скучающего любопытства на бледном лице.
— А эти красные точки в темноте, должно быть, его глаза? — спросил он.
— Да, — сказал студент, нагибаясь, чтобы развязать ремень.
— Иси! — сказал Октавий Гастер.
Ворчанье собаки вдруг превратилось в протяжный жалобный визг; вместо ожидаемого нами яростного прыжка она с шумом зарылась в солому, точно желая спрятаться в ней.
— Что за черт такой стряслось с нею? — воскликнул в смущении ее владелец.
— Иси! — сухим металлическим, неописуемо повелительным тоном повторил Гастер. — Иси!
К великому нашему удивлению собака рысью выбежала из конюшни и улеглась у его ног; но это был совсем не тот воинственный Тоуцер, которого мы привыкли видеть.
Вялые опущенные уши, повисший хвост, унылое выражение некогда яростной морды — он стал живым олицетворением собачьего унижения.
— Очень хорошая собака, но на редкость мягкая, — произнес швед, гладя бульдога по спине.
— А теперь пошел-ка на свое место, сударь.
Пес сделал полуоборот и послушно отправился в свой угол.
Мы услышали звон цепи: это Тревор снова привязал собаку.
Минуту спустя он вышел из конюшни. Из пальца у него текла кровь.
— Черт побери эту скотину! — выругался он. — Прямо-таки не понимаю, что с ним такое стряслось. Он у меня уж три года и еще ни разу не укусил меня.
Мне показалось, — ручаться, правда, не могу, — но мне показалось, что шрам на лице нашего гостя судорожно дрогнул, как бы от сдержанной улыбки.
Когда возвращаюсь к этим воспоминаниям, мне думается, что именно с этого момента я и начала испытывать страх и странное безграничное отвращение к этому человеку.
Глава IV
Недели шли одна за другой; приближался день нашей свадьбы.
Октавий Гастер все еще гостил в Тойнби-Холле.
Он так сумел понравиться хозяину дома, что бравый солдат отвечал только смехом на малейшее напоминание об отъезде.
— Коли приехали сюда, так и не выберетесь; это решено, — с улыбкой говорил полковник.
Октавий Гастер улыбался, пожимал плечами, бормотал фразу-другую о красотах Девоншира и ими обеспечивал полковнику на весь день хорошее настроение духа.
Мы с моим возлюбленным были слишком заняты друг другом, чтобы обращать внимание на гостя.
По временам мы встречались с ним во время прогулок по лесу, причем обыкновенно находили его в самых пустынных частях его, занятого чтением.
Каждый раз, завидев нас, он неизменно прятал книгу в карман.
Я припоминаю только один случай, когда мы наткнулись на него так внезапно, что он не успел закрыть книги.
— А-о, Гастер! — вскричал Чарли. — Вечно за чтением! Да вы совсем ученый муж станете! Что это за книга? А-ха! Иностранный язык! Шведский, должно быть?
— Нет, — сказал Гастер, — не шведский, а арабский.
— Вы, значит, знаете по-арабски?
— О, да, и даже недурно.
— А о чем тут идет речь? — спросила я, переворачивая страницы старинной, покрывшейся плесенью книги.
— Ни о чем таком, что может интересовать такую молодую и прелестную особу, как вы, мисс Ундервуд, — сказал он, смотря на меня странным взором, каким всегда смотрел на меня последнее время. — Тут идет речь об эпохе, когда дух был сильнее материи, когда были могучие души, которые могли обходиться без помощи грубого тела и умели придавать всем вещам ту форму, какая им больше понравится.
— А, понимаю! Нечто вроде истории о привидениях, — определил Чарли. Итак, до свиданья! Не хотим долее мешать вашим занятиям.
Мы оставили его под деревом, всецело погруженным в свой мистический трактат.
Само собой это был только плод моего воображения, но полчаса спустя мне показалось, будто за деревьями мелькнул его хорошо мне знакомый силуэт.
Я немедленно сообщила об этом Чарли, который не замедлил рассеять мои сомнения взрывом смеха.
Глава V
Теперь я хотела бы описать манеру, с какой смотрел на меня этот Гастер.
Его глаза теряли в эти моменты свой обычный стальной оттенок и принимали выражение, которое я назвала бы ласкающим.
Эти глаза странным образом беспокоили меня: я всегда чувствовала их, когда они устремлялись на меня.
Иногда я думала, что это ощущение происходит просто от нервов, но моя мать рассеяла все мои иллюзии на этот счет.
— Знаешь что, моя дорогая, — сказала она однажды вечером, войдя в мою спальню и бережно заперев за собой дверь, — не будь эта идея так невозможна, я подумала бы, что этот доктор безумно влюблен в тебя.
— Какие глупости, мама, — возразила я, так перепугавшись ее слов, что чуть не уронила свечку.
— Я положительно уверена в этом, Лотти, — продолжала мама. — Он смотрит на тебя так, что становится совсем похож на твоего отца. Вот в таком роде видишь?
И моя старушка уставилась самым скорбным, молящим взором на одну из ножек кровати.
— Ложитесь лучше спать, — сказала я, — да постарайтесь забыть эти глупые мысли. В самом деле! Этот доктор не хуже вас знает, что я невеста!
— Поживем — увидим, — выходя, сказала старушка.
Эти слова еще звучали у меня в ушах, когда я легла в постель.
Странная вещь, но в эту самую ночь меня разбудила дрожь, которая хорошо знакома мне с тех пор.
Я бесшумно подошла к окну и стала смотреть в него между поперечин жалюзи.
На усыпанной песком дорожке высился худощавый фантастический силуэт нашего гостя.
Он как будто пристально смотрел на мое окно.
Должно быть он что-то заметил на жалюзи, так как закурил папиросу и зашагал по аллее.
Я отметила в памяти, что на следующее утро за завтраком он пояснил, что ночью почувствовал нервное волнение и что совершил небольшую прогулку для восстановления равновесия.
Обсудив дело хладнокровно, я пришла к заключению, что отвращение к этому человеку и внушаемое им недоверие основываются на очень шатких мотивах.
Можно иметь странное лицо, интересоваться литературным шарлатанством и даже смотреть с удовольствием на привлекательное личико, вовсе не будучи в то же время опасным обществу человеком.
Я говорю это, чтобы доказать, что даже и в тот момент я была совершенно беспристрастна и не руководствовалась в характеристике Октавия Гастера никаким предвзятым мнением.
Глава VI
— А что, — спросил однажды утром лейтенант Дэзби, — а что если мы устроим сегодня пикник?
— О, это будет восхитительно! — хором ответили мы.
— Вы, конечно, знаете, что люди поговаривают, будто старику Шарку скоро дадут место, так что Тревору придется заменить его на мельнице. Поэтому нам надо постараться, чтобы он получил максимум удовольствия за остающееся короткое время.
— А что вы называете пикником? — спросил доктор Гастер.
— Это одно из наших английских увеселений, с которым вам придется познакомиться, — ответил Чарли. — Пикником мы называем небольшое путешествие на лоно природы.
— А, я понимаю, — сказал швед. — Это будет очень весело.
— Есть добрых полдесятка мест, куда можно отправиться, — продолжал лейтенант. — Неподалеку отсюда очень много живописных уголков: — "Прыжок Влюбленного", "Черная Гора", "Аббатство Бир-Феррис".
— Последнее местечко не из дурных, — прервал Чарли. — Руины для пикника самое лучшее место.
— Ладно, идет. Много ли до него пути?
— Шесть миль, — сказал Тревор.
— По дороге семь, — с солдатской точностью поправил полковник. — Мы с миссис Ундервуд останемся дома. Вы все свободно уместитесь в коляску, за кучера можете быть сами поочередно.
Мне нет надобности упоминать, что это предложение было встречено всеобщими аплодисментами.
— Ладно, — сказал Чарли. — Через полчаса экипаж будет готов. Поэтому не будем терять времени. Нам нужно лососины, салату, крупных яиц, кипяченой воды — целая куча вещей. Я возьму на себя напитки. А вы, Лотти?
— Я займусь посудой.
— Я — рыбой, — сказал лейтенант.
— А я — овощами, — прибавила Фан.
— Ну, а вы, Гастер, какое амплуа себе изберете? — спросил Чарли.
— По правде сказать, — ответил своим певучим голосом швед, — выбор у меня невелик. Но я могу помочь дамам, а потом сумею оказаться полезным вам в приготовлении того, что вы называете салатом.
— В последнем амплуа вы будете иметь больше успеха, чем в первом.
— А? Что вы сказали? — спросил он, вдруг оборачиваясь ко мне и краснея до корней волос — Да! Ха, ха! Хорошо сказано!
И он с фальшивым смехом крупными шагами вышел из комнаты.
— Послушайте, Лотти, — тоном упрека начал мой жених, — вы обидели этого человека.
— Я, право, не нарочно, — оправдывалась я. — Если хотите, я пойду и скажу ему это.
— О! Не стоит того, — вмешался Дэзби. — С такой рожей как у него, человек не вправе быть таким обидчивым. Он живо успокоится.
Я право, не имела ни малейшего намерения оскорбить Октавия Гастера, но тем не менее была очень зла на себя за то, что причинила ему неприятность.
Уложив в корзину ножи и тарелки, я увидела, что другие еще не справились со своей работой.
Момент показался мне как раз подходящим для того, чтобы извиниться за мою необдуманную фразу.
И вот, никому не сказав ни слова, я быстро пробежала по коридору к дверям комнаты нашего гостя.
Легкость ли походки была тому причиной или пышность ковров Тойнби-Холла, только мистер Гастер не заметил моего присутствия в коридоре.
Дверь его комнаты была открыта.
Я подошла ближе и заглянула в дверь.
В позе доктора было что-то такое странное, что я буквально окаменела на месте от удивления.
Он читал, держа в руке газетную вырезку, содержание которой, видимо, очень забавляло его.
Но в его веселости было что-то страшное: все тело его содрогалось, но губы не издавали ни звука.
На лице, которое я видела в профиль, было выражение, какого я еще не видала в жизни. Я могу сравнить его только с восторгом дикаря.
В тот самый момент, как я собиралась сделать шаг вперед и постучать в дверь, он снова содрогнулся всем телом и бросил бумажку на стол, а затем поспешно вышел из комнаты в другую дверь, ведшую через прихожую в биллиардную.
Шаги его затихли вдали, и я снова оглядела комнату.
Что именно, какая смешная вещь могла вызвать такую веселость в таком серьезном человеке? Это, очевидно, должен был быть какой-нибудь юмористический шедевр.
На свете есть мало женщин, обладающих принципами, которые могли бы оказаться сильнее любопытства.
Внимательно оглядевшись и убедившись, что в коридоре никого нет, я скользнула в комнату и взяла со стола вырезку.
Это был кусок страницы английской газеты; его, видимо, долго хранили и не раз перечитывали: некоторые строчки можно было прочитать только с большим трудом.
Текст этой вырезки, по-моему, был далеко не смехотворного характера.
Если мне не изменяет память, вот ее содержание:
"ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ В ДОКАХ
Во вторник утром найден мертвым в своей каюте владелец паровой барки «Ольга».
По имеющимся сведениям, покойный обладал очень вспыльчивым характером и имел частые стычки со своим судовым хирургом.
В день своей смерти он вел себя особенно буйно, обзывая хирурга некроманом и поклонником дьявола.
Последнему, чтобы не подвергнуться насилию, пришлось убежать на мостик.
Как вскоре после этого бегства слуга вошел в его каюту, то нашел капитана мертвым.
Его смерть объясняется болезнью сердца, роковой исход которой был ускорен припадком гнева.
Сегодня будет произведено детальное следствие".
Таково было содержание вырезки, которую этот человек считал шедевром юмористики.
Я поспешила спуститься вниз.
Я была поражена удивлением, смешанным с отвращением.
Тем не менее у меня хватило справедливости не сделать на этот раз того мрачного предположения, которое впоследствии не раз приходило мне на ум.
Я посмотрела на этого человека как на живую загадку, в одно и то же время и любопытную, и отталкивающую.
Во время пикника мне казалось, что у него исчезло всякое воспоминание о моей неудачной фразе.
Он был по обыкновению мило любезен; его салат был единогласно провозглашен шедевром кулинарного искусства. Он очень развлекал нас красивыми шведскими мотивами, сказками и песнями разных стран и народов.
После закуски беседа перешла на предмет, к которому он, видимо, питал особенный интерес.
Не помню, кто именно из нас заговорил о сверхъестественном.
Как будто это был Тревор, рассказавший какое-то комичное приключение, случившееся в Кембридже.
Его рассказ произвел странное впечатление на Октавия Гастера, который с порывистой жестикуляцией своих длинных рук произнес горячую тираду против лиц, сомневающихся в существовании сверхчувственного мира.
— Скажите, — взволнованно восклицал он, — был кто-нибудь из вас свидетелем ошибки того, что вы называете инстинктом? Дикая птица обладает инстинктом, который безошибочно указывает ей, на какой именно из бесчисленных одиноких рифов открытого моря ей следует класть яйца. При приближении зимы ласточка летит к югу; что ж — известны вам случаи, чтобы ласточки ошибались? Нет, нет; я смело утверждаю, что инстинкт, который присущ каждому ребенку, говорит нам, что кругом нас существуют неизвестные духи. И я верю его свидетельству.
— Продолжайте, Гастер, — сказал Чарли.
— А лучше поверните на другой галс, — предложил моряк.
— Никогда, — возразил швед, не обращая внимания на иронию. — Мы видим, что материя существует независимо от духа. Почему же не предположить существования духа вне материи?
— Предположим, — вставил лейтенант.
— У нас есть и доказательство этому, — продолжал Гастер с горящими одушевлением глазами. — В этом невозможно сомневаться, прочтя книгу Штейнберга о духах, или труд великой американки мадам Крау. А Густав фон-Шпее, который встретил своего брата на улицах Страсбурга, между тем как этот брат утонул три месяца назад в Тихом Океане? А спирит Юм, который парил средь бела дня над крышами парижских домов? Кто не слыхал никогда голосов умерших близких? Я сам…
— Ну, ну? Что же вы сами? — заговорили мы наперебой.
— Нет, это так только… не в счет, — произнес Гастер, проводя рукой по лбу и делая видимое усилие взять себя в руки. — Правду говоря, теперешний наш разговор слишком грустен для такой чудесной обстановки, и нам бы лучше избрать другой предмет.
И нам, несмотря на все старания, так и не удалось вытянуть из Гастера ни слова насчет его собственной причастности к сверхъестественному.
Пикник наш удался блестяще.
Близкая разлука как будто подстрекала каждого из нас лезть из кожи, чтобы поддержать общее веселье.
После состязания в стрельбе Джек должен возвратиться на свое судно, а Тревор в университет.
Нам же с Чарли приходилось становиться к венцу и жить вместе — солидной, всеми уважаемой супружеской четой.
Это состязание в стрельбе вызывало среди нас массу разговоров.
Стрельба была всегдашним «дада» Чарли.
Он был капитаном команды девонских стрелков-волонтеров, сформированной в Роборо, которая хвасталась тем, что имеет в своих рядах большинство лучших стрелков графства.
Соперником этой команды на состязании должна была выступить группа избранных стрелков Плимутского гарнизона; такими противниками нельзя было пренебрегать, и потому исход соревнования представлялся знатокам сомнительным.
— Тир находится не дальше, чем в миле расстояния от Тойнби-Холла, говорил мне Чарли. — Мы поедем туда в экипаже, и вы увидите, как мы их отделаем. Вы принесете мне счастье, Лотти, — вполголоса прибавлял он. — Я вполне уверен в этом.
О! Мой бедный дорогой возлюбленный! Ну и счастье же я вам принесла…
Этот прекрасный летний день был омрачен для меня одним темным облачком.
Я уже не могла долее сомневаться в справедливости подозрений моей мамы и в любви ко мне Октавия Гастера.
По пути с пикника он не спускал с меня глаз.
Кроме того, во всех его речах ко мне слышался оттенок, говоривший больше и ярче слов.
Я чувствовала себя точно на иголках, я боялась, как бы Чарли не заметил чего-нибудь, так как знала его вспыльчивый характер. Но ему даже в голову не приходила мысль о таком вероломстве.
Только раз он с добродушным удивлением поднял глаза на Гастера, когда тот настоял на том, чтобы освободить меня от букета, который я держала в руках; но это удивление скоро сменилось улыбкой: он отнес эту внимательность к обычной услужливости Гастера.
Мне в ту минуту стало только жаль чужестранца и неловко за то, что я служу косвенной причиной его несчастья.
Я думала о том, какая это мука для такого сурового, серьезного человека быть жертвой жгучей страсти, о которой ему запрещают заикнуться хоть словом честь и самолюбие.
Увы! Я не принимала в расчет бесстыдство и беспринципность этого человека, в которых мне скоро пришлось убедиться на опыте.
В конце нашего сада была беседка, которая долго служила для нас с Чарли нашим любимым местом свиданий.
Она была вдвойне дороже, благодаря тому, что именно в ней мы впервые обменялись словами любви.
Я рассчитывала обождать там Чарли, который должен был прийти в беседку, когда выкурит сигару в обществе прочих гостей Тойнби-Холла.
В этот вечер он задержался, как мне показалось дольше обыкновенного.
Я ждала его с нетерпением. Каждую минуту я подходила к порогу беседки, ожидая, не услышу ли его походку.
Вернувшись от порога, я только что собиралась сесть на скамейку, как услыхала шаги на дорожке и увидала чью-то тень.
Я с радостной улыбкой устремилась к дверям; но улыбка моментально сменилась выражением удивления и даже страха, когда я увидела перед собой худую бледную физиономию Октавия Гастера.
В его манере и в самом деле было нечто, способное внушить недоверие любой женщине на моем месте.
Вместо того, чтобы сразу же раскланяться, он обвел глазами сад как бы для того, чтобы удостовериться, что мы совершенно одни.
Потом он крадущейся быстрой походкой вошел в беседку и уселся на стул, находившийся между мной и дверью.
— Не бойтесь, — сказал он, заметив тревогу на моем лице; вам нечего бояться. Я пришел сюда только для того, чтобы иметь возможность поговорить с вами.
— Вы не видали мистера Пилляра? — спросила я, делая страшное усилие, чтобы принять самоуверенный вид.
— А-ха! Не видал ли я вашего Чарли? — едким тоном повторил он. — Вы, значит, ждали его? Что ж, разве с тобой, моя птичка, имеет право беседовать только Чарли?
— Мистер Гастер, вы забываетесь!
— Чарли и Чарли, и вечно Чарли, — продолжал, не обращая внимания на мою фразу, Гастер. — Да я видел его, этого Чарли. Я сказал ему, что вы дожидаетесь его на реке, и он моментально помчался туда на крыльях любви.
— К чему была эта ложь? — спросила я, делая новое усилие, чтобы не потерять хладнокровие.
— Чтобы иметь возможность видеться и говорить с вами. Неужели вы любите его так сильно? Неужели слава, богатство, могущество, размеры которого невозможно себе представить, неспособны побороть этот первый любовный девичий каприз? Бегите со мной, Шарлотта, и вы будете иметь все — и славу, и богатство, и могущество.
И он умоляющим движением протянул ко мне свои длинные руки.
Даже и в этом момент мне бросилось в глаза их сходство со щупальцами гигантского паука.
— Вы меня оскорбляете, сэр! — вставая, вскрикнула я. — Вы жестоко поплатитесь за такое поведение пред беззащитной девушкой.
— Ах! Вы только говорите это, но не думаете. В вашем нежном сердце наверное найдется хоть капля жалости к несчастнейшему из смертных. Нет, вы не уйдете отсюда, не выслушав меня.
— Пропустите меня, сэр.
— Нет, вы не выйдете, покуда не скажете, могу ли я надеяться завоевать вашу любовь.
— Как вы смеете говорить мне подобные вещи? — во весь голос крикнула я, чувствуя, что негодование во мне начинает сменяться страхом. — Вы, гость моего будущего мужа! Скажу вам раз навсегда — я чувствую к вам лишь отвращение и презрение; вы рискуете превратить их в открытую ненависть.
— А! Вот как, — задыхающимся голом прохрипел он, неверной походкой приближаясь ко мне и поднося руку к горлу, точно чувствуя затрудненность речи. — Значит, моя любовь вызывает у вас ненависть. А! — продолжал он, приближая свое лицо вплотную к моему лицу, так что мне пришлось отвести глаза в сторону, чтобы не видеть его вдруг остекленевших глаз. — А! Теперь я понимаю! Вот причина этому.
И он ударил кулаком по своему ужасному шраму.
— Молодые девушки недолюбливают таких штучек. Да, у меня нет прилизанной, загорелой, чисто выбритой мордочки, как у этого Чарли — этого зубрилы-школьника, этого здорового животного, не желающего ничего знать, кроме спорта и…
— Пропустите меня! — крикнула я, бросаясь к двери.
— Нет, вы не уйдете, — прошипел он, отталкивая меня назад.
Я яростно отбивалась от его объятий.
Его длинные руки охватили меня, словно стальной лентой.
Я чувствовала уже, что меня покидают последние силы, и только что хотела сделать последнее отчаянное усилие освободиться, как вдруг какая-то неодолимая сила оторвала от меня нападающего и швырнула его далеко на песок аллеи.
Я подняла глаза.
Я увидела в дверях высокую фигуру и широкие плечи Чарли.
— Бедняжка моя, — проговорил он, сжимая меня в объятиях, — сядьте сюда… вот в этот угол. Опасность миновала. Еще одну минуту и я вернусь к вам.
— О, не покидайте, не покидайте меня, Чарли, — прошептала я, когда он повернулся уходить.
Но он не стал слушать мои мольбы и большими шагами вышел из беседки.
Мне из моего угла не было видно ни того, ни другого, но я ясно слышала их разговор.
— Животное, — говорил голос, который я едва могла признать за голос моего жениха, — так вот зачем вы отправили меня по ложному пути?
— Да, именно затем, — небрежным тоном сказал иностранец.
— И вот как вы платите нам за гостеприимство, негодяй.
— Да мы немножко… позабавились в вашей восхитительной беседке.
— Мы!.. Вы еще находитесь на моей земле, и мне не хотелось бы подымать на вас руку, но, клянусь небом…
Чарли говорил теперь тихим прерывающимся голосом.
— Зачем вы клянетесь? В чем, собственно, дело? — медленно произнес Октавий Гастер.
— Если вы осмелитесь примешивать к этой истории имя мисс Ундервуд и инсинуировать…
— Инсинуировать? Я ничего не инсинуирую. Я говорю прямо и открыто, во всеуслышание, что эта барышня, кажущаяся такой невинной, сама попросила…
Я услыхала глухой удар и шорох гравия аллеи.
Я была слишком слаба, чтобы тронуться с места. Я только всплеснула руками и издала легкий крик.
— Собака, — сказал голос Чарли, — повторите это еще раз, и я заткну вашу пасть навеки.
После короткого молчания послышался странный, хриплый голос Гастера.
— Вы ударили меня, — пробормотал он. — Вы пролили мою кровь!
— Да, и я снова ударю вас, как только вы снова покажете свой клюв в наши места, да не смотрите на меня так. Вы думаете, я испугаюсь ваших гримас?
При последних словах Чарли мною овладело какое-то неописуемое ощущение, заставившее меня встать с места и взглянуть на них, прислонившись к косяку двери.
Чарли стоял в оборонительной позе, откинув назад свою юную голову, с видом человека, гордящегося причиной боя.
Против него стоял Октавий Гастер; он смотрел ему прямо в лицо, кусая себе губы со странным выражением в жестоких глазах.
Из его губы сильно текла кровь, пачкавшая его зеленую манишку и белый жилет.
Он сразу заметил меня, лишь только я показалась в дверях беседки.
— А! А! Вот и она сама, — вскричал он, разражаясь демоническим смехом. Вот и ваша невеста. Честь и место невесте! Да здравствует счастливая парочка! Честь и место счастливой парочке!
Снова расхохотавшись, он повернулся и прежде чем мы успели догадаться, что он намерен делать, он в один момент перескочил через забор, окружавший сад.
— О, Чарли, — сказала я, когда мой жених подошел ко мне, — вы сделали ему больно.
— Больно! Надеюсь, что да. Идемте. Дорогая моя, вы сильно испугались и выглядите совсем разбитой. Он не ранил вас?
— Нет, но я вот-вот упаду в обморок.
— Пойдемте потихоньку домой. Экий негодяй! План у него был недурен. Он сказал мне, что видел вас на берегу реки; на пути туда я встретил молодого Стокса, сына сторожа, возвращавшегося домой с рыбной ловли. Он сказал мне, что там нет ни души. Я моментально вспомнил тысячу мелочей, убедился во лжи Гастера и во всю мочь полетел в беседку.
— Чарли, — сказала я, прильнув к жениху, — я боюсь его — боюсь, как бы он тем или иным способом не отомстил нам. Помните выражение его глаз, когда он перескочил через забор?
— Фью! — присвистнул Чарли, — эти иностранцы всегда принимают грозный вид, когда злятся, но обыкновенно им только и ограничиваются.
— Я все-таки боюсь его, — с болью в голосе произнесла я, подымаясь по ступенькам лестницы, — и дорого дала бы за то, чтобы вы не ударили его.
— Я и сам охотно взял бы назад удар, так как он был, несмотря на все свое нахальство, нашим гостем. Но дело сделано, а кроме того, такую дерзость трудно перенести человеку, у которого в жилах течет кровь, а не водица.
Мне приходится упомянуть лишь вскользь про события нескольких последующих дней.
Для меня лично эти дни были периодом ничем не возмутимого счастья.
С отъездом Гастера у меня точно сняли тяжесть с сердца; то же чувство испытывали и прочие обитатели Тойнби-Холла.
Я снова стала легкомысленной девушкой, какой была до приезда иностранца.
Сам полковник и тот перестал горевать об его отъезде, благодаря тому интересу, который возбуждало во всех нас грядущее состязание, одним из участников которого должен был быть его сын.
Это состязание было главенствующей темой всех наших разговоров.
За успех команды из Роборо составлялась масса пари.
Джек Дэзби съездил в Плимут и собрал там среди моряков несколько сторонников моему брату.
Он устроил это таким своеобразным манером, что в случае победы Роборо он проигрывал семнадцать шиллингов, в противном же случае… Но тут он не давал никаких объяснений.
Мы с Чарли согласились никогда не вспоминать имени Гастера и хранить в тайне все происшедшее.
На следующий день после сцены в саду Чарли послал в комнату Гастера слугу с приказом забрать и доставить в ближайшую харчевню все ее содержимое.
Но вещи шведа оказались уже исчезнувшими, хотя никто из прислуги не мог сказать, когда или как это произошло.
Глава VII
Мне мало известно таких очаровательных мест, каким является стрелковое поле в Роборо.
Длина его достигает полумили.
На нем произведена весьма тщательная нивелировка, так что мишени можно ставить на дистанцию от 200 до 700 ярдов; самые отдаленные из них кажутся небольшими белыми квадратиками, ярко рисующимися на зелени лесистых холмов.
Само поле составляет часть обширной равнины; его края, помаленьку подымаясь, переходят в небольшую возвышенность. Благодаря этой симметричности очертаний эта равнина может представиться человеку с воображением в виде результатов работы какого-то гиганта, вогнавшего в землю свою огромную лопату, но по первой же порции земли угадавшего, что почва тут никуда не годится.
Он мог пойти дальше и предположить, что гигант оставил тут же вынутую кучу земли, так как на одной из окраин поля имелось довольно значительное возвышение, с которого видно было все поле по длинной его оси.
Именно на этом возвышении и помещалась площадка, с которой должна была производиться стрельба. Сюда-то мы и направились в роковой полдень.
Наши конкуренты прибыли раньше нас в сопровождении целой кучи морских и пехотных офицеров.
Длинный ряд всякого рода экипажей доказывал, что добрые горожане Плимута воспользовались роскошным случаем повеселить своих жен и детей прогулкой в деревню.
На вершине упомянутого холма была устроена трибуна для дам и для почетных гостей, которая сильно оживляла сцену наравне с палатками участников и открытым буфетом.
На состязание явилась масса крестьян, с азартом ставивших свои полукроны на местных чемпионов, на что наши воины отвечали с не меньшей горячностью.
Чарли, Тревор и Джек счастливо провели нас сквозь это живое месиво орущих, разгоряченных людей и поместили нас в трибуну, откуда мы могли отлично видеть все, что происходит кругом. Но мы скоро так увлеклись открывшимся перед нашими глазами великолепным видом, что совсем перестали обращать внимание на пари, давку, толкотню и остроты волновавшейся внизу толпы.
Далеко-далеко на юге виднелись синие дымки Плимута, спирально подымавшиеся кверху в спокойном, прозрачном летнем воздухе.
Далее расстилалось бесконечное, огромное, мрачное море, местами испещренное полосами пены от случайной волны, как бы протестующей против глубокого покоя природы.
Перед нами, точно на гигантской карте, расстилался весь Девонширский берег Англии от Эддистона до Старта.
Я все не могла оторваться от чудного зрелища, как вдруг меня привел в себя голос Чарли, в котором слышалась еле уловимая нотка упрека.
— Э, Лотти! Вас как будто вовсе не интересует то, что происходит здесь.
— О, нет, очень интересует, друг мой, — поспешила сказать я, — только пейзаж так очарователен, а море всегда было моей слабостью. Давайте сядемте, и вы расскажете мне про состязание. Объясните мне, как нам узнать, победили ли вы или потерпели поражение.
— Я уже начал объяснять, но могу повторить.
— Пожалуйста.
И я уселась внимательно слушать.
— Итак, — начал Чарли, — с каждой стороны выступает по десяти стрелков. Стреляют по очереди: сначала один из нас, потом один из них и так далее… понимаете?
— Да, это я понимаю.
— Стрельба начинается с дистанции в двести ярдов. Это — самая близкая из всех мишеней. По этой мишени мы даем пять выстрелов, потом — пять по следующей, более удаленной, и снова пять — по мишени в семистах ярдах расстояния. Вон она там, довольно высоко на откосе холма. Победителями считаются те, у кого больше очков. Поняли, в чем дело?
— О да, это очень просто.
— А знаете вы, что такое бычачий глаз? — спросил Чарли.
— Какое-нибудь пирожное? — наудачу сказала я.
Чарли был поражен глубиной моего невежества.
— Бычачий глаз — это черная точка в центре мишени. Если вы попадете в него, вам засчитывают пять очков. Вокруг этой точки начерчен кружок, которого вы не разглядите отсюда; он называется центром мишени; попадание в центр дает четыре очка. Остальная поверхность мишени называется «площадью» и дает попавшему три очка. Место попадания вы узнаете по цветному диску, который выкидывается маркером. Он же заделывает дыру в мишени от попавших в нее пуль.
— О, теперь я отлично все понимаю! — в восторге воскликнула я; — и знаете, что я думаю сделать, Чарли? Я буду записывать результаты каждого выстрела на бумажке и таким образом буду знать судьбу Роборо.
— Это будет великолепно, — смеясь, одобрил он мою идею, и большими шагами поспешил присоединиться к группе своих стрелков, потому что раздался звонок, возвещавший начало состязания.
Я заметила в траве кучку лежащих на ней людей в красных куртках.
Слева от этой группы лежала другая, в серых куртках.
— Бум!
Раздался выстрел, и из травы поднялось облачко синеватого дыму.
Фанни вскрикнула, и я радостно подхватила ее крик, потому что увидела белый диск, означавший попадание в бычачий глаз.
Этот выстрел принадлежал одному из стрелков из Роборо.
Мой восторг был, впрочем, скоро охлажден следующей пулей, принесшей пять очков армейцам.
Следующий выстрел снова попал в «быка», но был моментально отквитан противной партией.
К концу отдела стрельбы на короткую дистанцию обе группы стрелков имели по сорок девять очков из максимума в пятьдесят, то есть игра вышла вничью.
— Это становится интересно, — сказал Чарли, подходя к трибуне. — Через несколько минут мы приступим к дистанция в пятьсот ярдов.
— О, Чарли, — вне себя от волнения вскричала Фанни, — ради Бога не осрамитесь!
— Я сделаю все, что могу, — весело уверил ее Чарли.
— Пока что вы все время попадали в глаз, — вмешалась я.
— Да, но это не так легко, когда приходится подымать мушку. Но мы сделаем все, что в наших силах. Они набрали себе отличных стрелков на большие дистанции. Подите сюда на минуту, Лотти.
— В чем дело, Чарли? — спросила я, когда он отвел меня в сторону.
Я видела у него на лице выражение тревоги.
— Опять этот субъект, — недовольно проворчал он. — И кой черт принес его сюда? А я уж думал, что мы никогда не встретимся с ним.
— Какой субъект? — заикаясь, спросила я, чувствуя, как сердце у меня сжимается каким-то смутным предчувствием.
— Да эта шельма-швед, как его… Октавий Гастер.
Я проследила глазами за взором Чарли и убедилась, что он прав.
На бугорке, совсем близко от того места, где лежали стрелки, чернел высокий угловатый силуэт иностранца.
Он как будто не обращал никакого внимания на сенсацию, производимую его странной фигурой среди окружавшей его толпы плотных, грубо сколоченных крестьян.
Он вытягивал то в одну, то в другую сторону свою длинную худую шею, как бы отыскивая кого-то.
Его взор упал на нас с Чарли в тот самый момент, когда мы внимательно смотрели на него; несмотря на отделявшее нас расстояние, мне почудилось, что глаза его сверкнули лучом ненависти и торжества.
Мной овладело странное предчувствие, я обеими руками уцепилась за руку любимого человека.
— О! Чарли, — вскричала я, — не покидайте меня, откажитесь от участия в состязании — придумайте какой-нибудь предлог и поедемте домой!..
— Какие глупости, малютка моя, — весело смеясь, перебил он. — Чего вы так вдруг испугались?
— Это он, все он!
— Не будьте же такой глупенькой, дорогая. Судя по вашим отзывам о нем, это выходит не человек, а какой-то полубог. Но вот и звонок. Нам надо расстаться.
— Хорошо, — вскричала я, идя вслед за Чарли, — тогда обещайте мне не приближаться к нему!
— Хорошо, хорошо.
Мне пришлось удовольствоваться этой уступкой.
Глава VIII
Стрельба на дистанцию в пятьсот ярдов тоже вышла очень горячей и интересной.
Вначале Роборо опередило противников на два очка, но потом ряд попаданий в бычачий глаз одного из лучших стрелков последних склонило победу на их сторону.
Этот отдел состязаний кончился поражением нашей группы, уступившей армейцам три очка — результат, встреченный громом аплодисментов плимутцев и вытянутыми лицами крестьян.
Все время стрельбы Октавий Гастер оставался неподвижен и бесстрастен на бугорке, на котором поместился с самого начала.
Мне казалось, что он мало обращает внимания на зрелище: он стоял, повернувшись вполоборота к маркерам у мишеней и бесцельно устремив глаза вдаль.
Один момент он обернулся ко мне профилем.
Мне почудилось, будто его губы быстро двигаются, точно шепча молитву. Возможно, впрочем, что это был лишь обман зрения, вызванный вибрацией горячего летнего воздуха.
Как бы там ни было, но я ясно помню, что видела движение этих губ.
Скоро было приступлено к стрельбе на наибольшую дистанцию, результат которой должен был решить исход всего состязания.
Стрелки из Роборо приступили к делу с мрачной решимостью наверстать упущенные три очка; с другой стороны, и пехотинцы давали себе слово не уступать.
Послышались выстрелы.
Волнение зрителей возросло до такой степени, что они сгрудились кругом стрелков и разражались взрывом аплодисментов при каждом попадании в бычачий глаз.
Мы, со своей стороны, тоже поддались общему увлечению, сошли с трибуны и смешались с толпой, решаясь терпеливо вынести толкотню и давку, лишь бы не упустить ничего из работы наших чемпионов.
Солдаты набили себе семнадцать очков, наши — шестнадцать.
Местные жители были сильно разочарованы. Тем не менее положение улучшилось, когда обе стороны сравнялись на двадцати четырех, и прояснилось окончательно, когда наши считали за собой тридцать два против тридцати их противников.
Но теперь надо было еще отвоевать три очка, потерянных на средней дистанции.
Мало-помалу число очков возрастало, и обе команды делали отчаянные усилия обеспечить за собой победу.
Но вот по толпе пронеслась волна дрожи: последний из красных курток сделал выстрел; у наших был еще выстрел, у солдат было лишку на четыре очка.
Мы, женщины, вообще говоря, очень равнодушны ко всякого рода спорту, дошли до такой степени увлечения, что были совершенно поглощены состязанием, которое должно сейчас решиться в пользу той или другой партии.
Если последний из наших чемпионов выбьет бычачий глаз, игра была за нами.
От этого последнего выстрела зависела судьба серебряного кубка, славы лучших стрелков и закладов, державших нашу сторону.
Читатель легко поймет, что мой интерес к зрелищу мог только возрасти, когда я, вытянув шею и поднявшись на цыпочки, увидала, что Чарли с величайшим хладнокровием вкладывает в свое ружье свежий патрон.
Итак — честь Роборо всецело зависела от его талантов. Именно это обстоятельство, должно быть, и дало мне силы протолкаться через толпу и занять место в первом ряду зрителей, откуда можно было видеть решительно все.
По обе стороны от меня стояли два гигантского роста фермера; дожидаясь желанного выстрела, я не могла не прислушаться к их разговору, шедшему поверх моей головы, на грубом девонском наречии.
— Ну и портрет у этой длинноногой цапли, — сказал один.
— А, да, — добродушно согласился другой.
— Да ты посмотри на него. Ты никогда не видал его раньше?
— Ей-ей, Джек, я и так поверю тебе. Но смотри-ка — он пузыри начинает пускать, точь-в-точь как та собака фермера Ватсона — помнишь, та маленькая, что подохла от бешенства.
Я оглянулась, чтобы поглядеть на предмет их наблюдений и сразу же увидала доктора Октавия Гастера, о котором я успела совсем забыть в увлечении состязанием.
Лицом он стоял ко мне, но мне было ясно, что он не видит меня.
Его взгляд был неподвижно устремлен на половину пути между мишенью и им самим.
До этого момента я не видела ничего, что было бы достойно сравнения с напряженностью его взгляда, от которой белки его глаз налились кровью и выпучились, между тем как зрачки сузились до последней степени возможности.
По его достойному трупа лицу текли струйки пота, а на углах рта, как совершенно верно подметил один из фермеров, выступили пузырьки сероватой пены.
Челюсти были сжаты отчаянным усилием воли, потребовавшим напряжения всех сил души.
Это отвратительное лицо никогда не изгладится из моей памяти и до дня моей смерти будет мерещиться мне во время сна.
Я дрожала всем телом. Я отвернула голову прочь, питая напрасную надежду, что фермер окажется прав, и что все экстравагантности этой личности объяснятся сумасшествием.
Когда Чарли, зарядив карабин и с довольным видом стукнув ладонью по прикладу, начал укладываться на указанное ему место, кругом воцарилась торжественная тишина.
— Превосходно, мистер Чарльз, превосходно, — сказал старик-сержант Мак-Интош, старшина нашей команды. — Расчет и твердость руки — и ваше дело в шляпе.
Мой Чарли, уже лежа на траве, ответил старшему солдату улыбкой и начал прицеливаться среди мертвой тишины, позволявшей расслышать шелест травы, колыхаемой легким бризом.
Он целился около минуты времени.
Он уже как будто готовился нажать собачку карабина; глаза всех были обращены на далекую мишень, как вдруг стрелок вместо того, чтобы выстрелить, покачнулся, стоя на коленях, и выпустил из рук карабин.
Все были страшно удивлены смертельной бледностью его лица, по которому ручьями струился пот.
— Мак-Интош, — странным задыхающимся голосом заговорил он, — между мной и мишенью стоит кто-то.
— Что — между вами?.. Да нет, там никого нет, сэр, — сказал видимо пораженный сержант.
— Сюда, друг мой, сюда! — кричал Чарли, хватая его за руку и поворачивая лицом к мишени. — Неужели вы не видите его прямо на линии выстрела?
— Там нет ни души, — закричало с полдюжины голосов сразу.
— Как так ни души? Ах, и в самом деле, это мне показалось, должно быть, сказал Чарли, проводя рукой по лбу. — А все-таки я могу поклясться… Ладно, давайте сюда карабин.
Он снова лег на землю, и медленно поднял оружие к плечу.
Но едва он приложился, как издал громкий крик и поднялся на ноги.
— Ну, сказал он, — повторяю вам, я ясно вижу его. Это человек в серой куртке вашей команды, и страшно похож на меня. Да — это мой двойник. Вы что ж это — сговорились дурачить меня? — злобно заговорил он, обращаясь к толпе. Ну-с, неужели найдется кто-нибудь из вас, кто скажет, что не видит человека, как две капли воды похожего на меня, который удаляется от мишени и находится теперь не далее, чем в двухстах ярдах от меня?
Я в один момент очутилась бы рядом с Чарли, если бы не знала, как ему ненавистно всякое женское вмешательство — вообще все, что имеет хоть намек на сцену.
Мне оставалось молча прислушиваться.
— Я протестую, — подвигаясь вперед, сказал какой-то офицер. — Этот господин должен стрелять. В противном случае мы уйдем и провозгласим себя победителями.
— Но я убью его! — вскричал бедный Чарли.
— Что за комедия! Стреляйте в него, черт возьми! — крикнуло полдюжины мужских голосов.
— Дело в том, — сказал один из солдат соседу, — что у этого молодого человека расходились нервы. Он заметил это и старается увильнуть.
Этот осел никогда, конечно, не узнает, как близок он был к тому, чтобы получить звонкую пощечину от женской руки.
— Это все штуки "Мартеля — три звездочки", — вполголоса произнес другой. С ним всегда дело доходит до чертовщины. Я сам испытал это и потому сразу вижу его действие на ближнем.
Смысл этого замечания был не понят мною; не будь этого — его автору пришлось бы подвергнуться той же опасности, что и его товарищу.
— Что ж, будете вы стрелять или не будете? — крикнуло несколько голосов сразу.
— Да, да, буду, — простонал Чарли. — Я выстрелю ему прямо в грудь. Это кончится убийством — ей-Богу так!
Я никогда не забуду безумного взгляда, которым он обвел толпу.
— Я целю насквозь него, Мак-Интош, — прошептал он, ложась на траву и в третий раз поднося к плечу ружье.
Момент напряженного ожидания — и сверкнуло пламя выстрела. Кругом загремели аплодисменты.
— Отлично, юноша! Превосходно! — раздался рев сотни девонширцев, когда над мишенью взвился белый диск, остановившийся перед бычачьим глазом, возвещая таким образом нашу победу.
— Славный выстрел, парень! Это молодой Пилляр из Тойнби-Холла! Качать его, ребята! Снесем его домой на руках! Да здравствует Роборо! Вот и он сам на траве. Легче, сержант Мак-Интош! Что такое? В чем дело?
В толпе воцарилось страшное молчание, сменившееся затем перешептываниями и вздохами сожаления.
— Оставьте ее! Оставьте! Пусть бедная девочка поплачет на свободе.
Над полем снова царила тишина, нарушаемая лишь жалобными женскими стонами и плачем.
Мой Чарли, мой красавец Чарли лежал мертвым, все еще сжимая ложе карабина.
Я точно во сне слышала кругом слова участия и сожаления.
Я слышала дрожащий от боли голос лейтенанта Дэзби, умолявшего меня совладать с горем.
Я чувствовала, как его рука осторожно отвела меня от трупа моего возлюбленного.
Вот и все, что я помню; а потом — мрак неизвестности вплоть до того дня, когда я очнулась в комнате для больных в Тойнби-Холле. Тут я узнала, что провела три недели в жесточайшей горячке, сопровождаемой страшным бредом.
Но неужели больше я ничего не помню?
По временам мне кажется — нет и нет.
Мне как будто припоминается момент сознания среди ночей сплошного бреда.
Мне чудится фигура сиделки… она выходит из комнаты… В окне появляется длинная, тощая бескровная фигура, и я слышу голос.
Голос этот говорит:
— Я посчитался с твоим возлюбленным. Теперь мне остается посчитаться с тобой.
Голос кажется мне знакомым. Я как будто уже слышала его где-то. Быть может, во сне?..
— И это все? — скажет читатель. — И на таких-то основаниях истеричная женщина позорит в газетах имя безобидного ученого? И на основании таких слабых улик строит против него обвинения в самых чудовищных преступлениях?
Да, да. Я понимаю, что на вас, читатель, описанные мной события не могут произвести такого впечатления, как на меня.
Я знаю одно.
Я знаю, что если бы я очутилась на середке моста, один край которого сторожил бы Октавий Гастер, а другой — страшнейший из тигров индийских джунглей, я моментально, не колеблясь ни секунды, бросилась бы к тигру просить его защиты.
Моя жизнь разбита навеки.
Как бы она ни кончилась, мне все равно.
Желаний нет у меня больше.
Я желаю одного — чтобы мое писанье послужило помехой этому чудовищу в его дальнейший замыслах на жизнь честных людей.
Глава IX
Менее чем через пятнадцать дней после окончания приведенного выше правдивого рассказа моя дочь исчезла.
Поиски ее не кончились ничем.
Один из служащих ближайшей железнодорожной линии показал, что видел молодую даму, похожую по описанию на мою дочь, севшую в вагон 1 класса в сопровождении высокого тощего джентльмена.
Несмотря на это показание, трудно допустить, чтобы она позволила себя увезти в таком скором времени после жестокой потери и не сказав притом ни слова мне.
Мы все-таки направили сыщиков по этому следу.
Эмми Ундервуд.