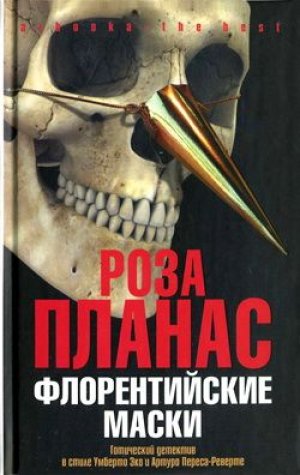
Глава первая
Порт-о-Пренс – город дикий, краски в нем – буйные, климат – животворящий, а эмоции и ощущения пронизывают окружающий воздух, как пена морского прибоя под порывами ветра. Всеобщая нищета, таинственная, непостижимая и по-своему прекрасная, придает жизни в этом городе какой-то особый беспорядок, который можно сравнить, пожалуй, лишь с непрерывным мельканием пестрых крыльев порхающей в воздухе, никогда не отдыхающей бабочки.
В этом древнем прибежище пиратов, так и не вступившем в эпоху цивилизации, сам воздух насыщен ощущением беспокойства и непредсказуемости, – пожалуй, именно этой возможности вздохнуть одновременно тревожно и свободно нам так не хватает сегодня в нашем усталом, погрузневшем мире. Люди, живущие в этом городе, как и во всей стране Гаити, почти поголовно безграмотны. О личной безопасности здесь не приходится даже мечтать. И, несмотря на все это, именно здесь можно познать редчайшее единение двух противоположных друг другу чувств: уверенности, какую дарует только бессмертие, и беспокойства, предчувствия чего-то нового и неизведанного, которое свойственно лишь преходящей мимолетной юности. Этот фейерверк эмоций пробуждает и заставляет бить фонтаном воображение любого, даже не самого сентиментального человека. В извилистых запутанных переулках этого города чужеземец в первую очередь обращает внимание на древних старух, чей род напрямую восходит к рабам, которых везли в Америку через Гаити. Наверное, нигде в мире нет на улицах такого количества даже не пожилых, а именно древних и дряхлых старух. Лишь привыкнув к этому зрелищу, иностранец начинает обращать внимание на остальных местных жителей, которые на вид словно находятся в каком-то полусонном состоянии, что, однако, не мешает этим людям множить население страны буквально день ото дня. Возникает ощущение, что жители Гаити принадлежат не к нашему поколению, а целиком вышли из какого-то другого времени – из той древней эпохи, когда люди не боялись ни смерти, ни будущего. Той эпохи, когда восприятие реальности заключалось в умении забыть о своем собственном существовании, равно как и о существовании окружающего мира. Ни о каком взаимодействии с другими народами, ни о каком межкультурном взаимодействии в ту давнюю – и сегодняшнюю для Гаити – эпоху не могло быть и речи. Именно здесь, и только здесь, в этом замкнутом, без единой отдушины мире выносится окончательный приговор всей философии, ввергнувшей наш мир в упадок и хаос.
В общем, нет ничего удивительного в том, что именно здесь, в окрестностях этого перенаселенного города, совершенно случайно был найден человеческий череп, выпадающий из любой существующей научной классификации и коренным образом отличающийся от тех археологических находок, которые шаг за шагом восстанавливают звенья цепи эволюции человека как биологического вида. Ученых отличает известная склонность давать найденным вещам названия, навешивать на них бирки и привязывать их к тому или иному моменту прошлого с поистине вульгарным детерминизмом; таким образом они пытаются навести порядок на свалке исторических событий, превратив ее в подобие хорошо организованного склада. Если у какой-то вещи нет ярлыка, того самого удостоверения личности, которое требуется людям, то ее как бы и не существует. Но этот странный череп, найденный под стенами полуразвалившегося старинного форта, одним своим появлением взорвал всю имеющуюся на сегодняшний день генеалогию человека и человекоподобных существ, явив собой занятную и, пожалуй, едва ли разрешимую загадку, которая не может оставить равнодушным любой пытливый ум, не растерявший способности удивляться.
Дело было тихим летним вечером. Несколько ребятишек точь-в-точь того же возраста, что и пастушки из Фатимы, которым явилась Дева Мария, играли на пляже. Изумрудное, с тонкими, ослепительно сверкающими золотистыми прожилками море было тихим и ласковым. Много часов кряду оно служило колыбелью для невинных игр этих беззаботных созданий, которые, не зная, чем еще заняться, проводят на берегу моря день-деньской, перемещаясь с прибрежного песка в воду и обратно, – с самого утра до позднего вечера, до того часа, когда гаснущие золотые прожилки рассекают волны и со стороны моря на берег выплескиваются густые вязкие чернила ночной мглы. Двое мальчишек и девочка принялись за привычное, но оттого не менее захватывающее дело: они рылись в песке на пляже, пытаясь найти перламутровые раковины, красивые камешки и другие сокровища – уже не морского происхождения. Никакой шторм не мог оставить на пляже столько полезных и ценных вещей, сколько теряли здесь богатые туристы. Хорошенько покопавшись в песке, при определенном везении можно было найти темные очки, пачку хороших американских сигарет, браслеты, часы, а то и бумажник с чистенькими и сухими долларами, которых, вполне возможно, хватило бы если уж и не на то, чтобы раз и навсегда разбогатеть, но по крайней мере чтобы облегчить бремя тягот и лишений – неотъемлемых спутников жизни большей части населения на этом острове. Сам пляж представлял собой участок спорной территории, за которую вели беспрестанную борьбу две могучие державы – суша и море. Сложившаяся де-факто граница владений двух враждебных стихий была отмечена нестройной шеренгой высоких, качающихся на ветру пальм. Между этим строем и линией прибоя как раз и находилась полоса прибрежного песка, постоянно подвергавшаяся набегам штормовых волн. Лишь за передовым частоколом пальм жадно ловили солнечные лучи омытые тропическими ливнями травы, кусты и деревья самых разных видов.
Устав от поисковых работ, дети время от времени прекращали их и валялись на песке, отдыхая и набираясь сил. Время очередного перерыва подошло как раз в тот час, когда солнце, на глазах наливающееся красным, все стремительнее скатывалось к линии горизонта. Подавленные мрачным величием заходящего светила, дети, лежавшие до этого неподвижно, вдруг стали елозить по песку, словно пытаясь закопаться в него, скрыться от неведомой опасности, слиться с золотистой, залитой багровыми лучами поверхностью пляжа. В эту игру они часто играли на закате. Вот только на этот раз Амитье, самая младшая девочка из компании, наткнулась в песке на что-то гладкое и твердое и непроизвольно отдернула руку. Выждав секунду-другую, она, влекомая любопытством, стала раскапывать песок вокруг этой непонятной штуки, которая так бесцеремонно нарушила мягкую сыпучую гармонию вечернего пляжа. Чтобы ускорить процесс, Амитье встала на колени и начала энергично, горсть за горстью, отбрасывать песок в разные стороны. Несколько минут работы – и неизвестный предмет предстал перед нею во всей своей красе. Не на шутку перепугавшаяся при виде этакой диковины, Амитье во весь голос закричала, подзывая к себе друзей-приятелей, возившихся в песке неподалеку:
– Allons! Allons! Vite…[2]
Услышав испуганный крик девочки, мальчишки со всех ног бросились к ней. Их взорам предстал извлеченный из песка странный предмет, подсвеченный кроваво-красными лучами раненого солнца. На некоторое время вся компания лишилась дара речи. Все молчали, каждый словно выжидал, уступая другим возможность первыми высказаться по поводу столь неожиданной находки. По форме извлеченный из песка предмет больше всего напоминал человеческую голову или, если сказать точнее, костяную основу того, что прежде было головой. Да, это было не что иное, как гладкий, округлый, правильной формы человеческий череп – с глазницами, из которых когда-то смотрели на мир чьи-то глаза, с теменем и затылком, с височными костями и ушными отверстиями, со скулами и даже с несколькими сохранившимися пожелтевшими зубами, которые некогда, несомненно, были прикрыты привычными к широкой улыбке губами. Bee перечисленное выглядело вполне нормально и вызывало вполне естественное душевное смятение и некоторый страх, которые возникают при созерцании человеческих останков, лишенных покрова из мягкой плоти. Впрочем, куда большее впечатление произвел на компанию ребятишек тот странный, показавшийся им необъяснимым и, более того, попросту абсурдным факт, что вместо носа, то есть на том самом месте, где у черепа должна находиться дыра, в которую смерть со временем превращает наш орган обоняния, у этой штуковины торчала длинная и гладкая кость, придававшая этому костяному контуру ироничное и даже дерзкое выражение. Рассмотрев неожиданную находку со всех сторон и во всех мыслимых ракурсах, дети приняли единогласное решение отнести череп на привокзальный рынок, где обычно собирались колдуны, целители, простые крестьяне и мелкие воришки, чтобы попытаться продать то, что было собрано, найдено или украдено. Отличительной чертой этого рынка был ассортимент предлагаемых товаров: пожалуй, нигде в окрестностях не выставлялось на всеобщее обозрение такого количества странных и абсолютно непригодных к практическому использованию вещей. Сюда же приезжали и местные художники, сдававшие оптом свои картины торговцам-перекупщикам. Полотна, исполненные в яркой, кричащей, даже, пожалуй, безвкусной гамме, с некоторых пор стали пользоваться успехом у любителей и коллекционеров примитивистского искусства, что позволило этой далекой от академизма живописи завоевать себе кое-какое место под солнцем, а главное – на рынке. Свойственная этим полотнам простота, и даже наивность, пожалуй, и являлась той самой отличительной чертой, «фишкой», которая, по мнению искусствоведов и просто заезжих покупателей, отличала их от претенциозной мазни, намалеванной в любом другом уголке мира. У Амитье была тетя, которой принадлежала небольшая лавочка на этой ярмарке чудес и безделиц. Без лишних сомнений и споров дети запихнули носатый череп в подвернувшийся полиэтиленовый мешок и, добежав до рынка, вручили свою находку старухе Лурдель.
Тетка Амитье была далеко еще не старой женщиной, несмотря на привязавшееся к ней прозвище Старуха. Негритянка лет пятидесяти, она обладала на редкость пышными формами и до невозможности ослепительной улыбкой. Одевалась оригинально и вызывающе ярко даже по местным меркам. Сочетание цветов в одежде она подбирала не то под настроение, не то просто как бог на душу положит. Ей ничего не стоило надеть оранжевое с желтым, скомбинировать кадмиевую синеву с зеленью пера попугая, соединить в одном наряде фиолетовый и ярко-красный цвета. Эта колористическая асимметрия выделяла Лурдель из толпы и делала ее заметной даже на значительном расстоянии. Взгляд любого человека, хотя бы и не имевшего к ней никакого отношения, неизбежно цеплялся, а затем и останавливался на этой кричащей радуге, которая переливалась и двигалась в такт плавным движениям столь внушительного вместилища беспокойной человеческой плоти.
В качестве вознаграждения за принесенную ей диковину Лурдель выдала ребятишкам горсть мелочи и с дюжину карамельных конфет. Довольные столь выгодным обменом, те через несколько минут уже и забыли о дерзко глядящем на мир черепе с длинным носом, похожим на клюв какой-нибудь водоплавающей птицы.
Лурдель сразу же поняла, что к ней в руки попала весьма любопытная вещица. Ей и в голову не пришло выставлять такую редкость на прилавок в лавке – бок о бок со всяким барахлом, которое она пыталась сбыть случайным покупателям под видом антиквариата или произведений самых талантливых мастеров местных художественных промыслов. Лурдель не умела ни читать, ни писать, что, впрочем, не помешало ей выработать настоящее чутье на действительно интересные и редкие вещи. Кроме того, за долгие годы одинокой, полной лишений и невзгод жизни она опытным путем научилась практически безошибочно определять максимальную продажную цену любой попавшей к ней в руки вещи. Не хуже любого специалиста по экзотическому искусству не хуже самого заслуженного искусствоведа-антиквара она могла отличить фальшивую вещь от подлинной, а истинное произведение искусства от заурядной поделки. В конце концов у столь просвещенной продавщицы даже сформировалась своя клиентура – заезжие европейцы, которых приводили в дом к Лурдель крутившиеся около иностранцев жуликоватые посредники.
Главным и, пожалуй, самым ценным поставщиком клиентов был для Лурдель китаец Андре – сын эмигрантов, живших, так же как и она, мелкой торговлей. Как и большинство неглупых молодых людей, Андре категорически отверг перспективу посвятить свою жизнь рабскому труду на бескрайних плантациях сахарного тростника, располагавшихся в глубине острова. Больше всего на свете он ненавидел белых, и в особенности – землевладельцев. Его родители бежали на Гаити, спасаясь от коммунизма, но так получилось, что сам Андре, прожив большую часть жизни в Порт-о-Пренсе, стал убежденным сторонником антикапитализма и последовательно, впрочем без особого успеха, пропагандировал среди окружающих идеи классовой борьбы. В тот вечер Андре заглянул в маленький домик Лурдель, спрятавшийся в лабиринте припортовых переулков.
– Bonsoir, madame, cette nuit je vous porterais trois touristes, très riches, trois européens…[3]
Андре сообщил Лурдель, что сам лично приведет к ней этих туристов. Все они были белыми. Один, по информации Андре, являлся сыном знаменитого мексиканского киноактера. Двое других, беспородных, были, без сомнения, типичными простодушными интеллектуалами. Андре быстро вычислял этих людей в толпе туристов, определяя их по какой-то особенной наивности и неистребимой склонности доверять первому встречному. Получив от Андре предварительную информацию, Лурдель прибрала в своей лачуге и даже постелила на импровизированный стол, сделанный из двух подпорок и куска широченной корабельной доски, старую, расползающуюся по ниткам скатерть с остатками набивного рисунка в виде огромных цветов.
На скатерть были выставлены в строгом, но ведомом одной лишь старухе Лурдель порядке ее сокровища. По большей части это были вещи, так или иначе связанные с морем: выброшенные на берег после кораблекрушений куски палубы и бортовой обшивки, навигационный инструмент, карты, перья, кинжалы, куски старой полуистлевшей ткани, которые, по словам почтенной торговки, когда-то покрывали окровавленную голову того или иного пиратского капитана… Переставив некоторые вещи, Лурдель удовлетворилась полученным результатом и несколько недоверчиво взялась за полиэтиленовый мешок, в котором по-прежнему покоился тот самый череп, что чуть раньше, еще до вечерних сумерек, принесла ей племянница с двумя приятелями. Лурдель попыталась было поставить череп рядом с другими жемчужинами своей коллекции, но почему-то так и не смогла найти ему подходящее место на столе. Это дерзкое выражение, этот торчащий, словно обвиняющий перст, нос мгновенно умаляли достоинства всех остальных сокровищ. Череп притягивал к себе все внимание. Лурдель даже рассердилась и через некоторое время приняла решение снова убрать эту диковину в мешок – с глаз долой. «Дурацкая игрушка, – раздраженно подумала она, – не место ей среди настоящих ценностей. Rien, pas de tout! [4] У меня ведь не просто лавка сувениров, а коллекция самого настоящего антиквариата».
Около девяти часов вечера китаец Андре вел по мрачным переулкам Порт-о-Пренса трех молодых людей, каждому из которых было лет по тридцать. Компания направлялась в сторону порта, и трое туристов, выполняя рекомендации Андре, старались не привлекать к себе лишнего внимания, в особенности когда им приходилось проходить мимо агрессивно настроенных пьяных, бродяг и каких-то подозрительных субъектов явно жуликоватого вида, которые ошивались у дверей таверн и домов с сомнительной репутацией. Проходя мимо кафе «Кюль-де-Сак», названном так в честь самой богатой провинции Гаити, они стали свидетелями драки между мулатом и каким-то рыжеволосым немцем. Поединок на кулаках продолжался недолго. Все закончилось буквально через несколько секунд одним стремительным как молния ударом ножа. Тяжелораненый европеец стал оседать на землю, а его противник скрылся в темноте, задержавшись лишь на мгновение, чтобы излить на поверженного оппонента еще пару-тройку ругательств: «Cochon, merdeuse,[5] fallaka». Что означало последнее слово, принадлежавшее явно к местному пиджину, не мог сказать никто из трех присутствовавших при этой сцене иностранцев, и это несмотря на то, что один из них – итальянец – преподавал в университете не что иное, как лингвистику.
Наконец, изрядно напуганные и уставшие от полной острых впечатлений прогулки, они оказались в одном из насквозь проржавевших от соленой морской влаги портовых переулков. Вскоре Андре подвел гостей к маленькому желтому домику с зелеными ставнями на окнах – резиденции почтенной мадам Лурдель.
– C'est ici [6], – сказал Андре и для большей верности указал в сторону дома пальцем.
Тем временем уважаемая сеньора с неожиданной легкостью и проворством сама распахнула дверь дома, чем привела гостей в некоторое смущение.
– Entrez, entrez, s'il vous plaît [7].
Трое молодых людей, для которых неожиданные, нестандартные ситуации, возникающие в ходе путешествий в стороне от традиционных туристских маршрутов, не были в диковинку, не заставили себя долго упрашивать. Едва они переступили порог хижины старухи Лурдель, как хозяйка преподнесла им по рюмке бодрящего напитка собственного изготовления. Живительная жидкость представляла собой смесь тростникового сиропа и водки. Ни один из гостей не стал отказываться от этой убойной смеси. Более того, к их удивлению, напиток оказался не омерзительным, как можно было бы предположить, а вполне приятным на вкус. Тесное помещение было битком забито какими-то странными, будоражащими воображение предметами. Все стены увешаны исполненными в пестрой гамме картинами, изображавшими отправление обрядов некоего не поддающегося классификации религиозного культа. Дальний угол комнаты под окном был выделен под кухню. Очаг как таковой представлял собой газовый баллон и ржавую плитку с одной-единственной конфоркой. В стену над кухонным столом были вбиты гвозди, на которых висели прокопченные и помятые сковородки. Под ними в маленьком, изъеденном древоточцами, покосившемся серванте выстроились в ряд щербатые тарелки и несколько латунных стаканов. Было похоже, что это «богатство» представляло собой всю посуду, имевшуюся в распоряжении хозяйки дома. Гости не успели толком оглядеться, а мадам Лурдель, как всегда широко улыбаясь, уже пригласила их пройти в соседнюю комнату, где она выложила те вещи, которые, по ее мнению, могли заинтересовать столь образованных и безусловно состоятельных молодых людей европейского вида.
– C'est très amusant [8], – произнес итальянец, стараясь продемонстрировать любезность.
На самом деле, окинув взглядом выложенные на столе вещи, он не нашел среди них ничего интересного. Для него все эти предметы были просто старьем, не вызывавшим в его памяти никаких ассоциаций. Мадам Лурдель тотчас же уловила ход мысли посетителей и, не собираясь терять времени даром, равно как и не желая упускать I потенциальных покупателей, поспешила налить им еще по рюмке своего чудодейственного снадобья. При этом она как бы невзначай стала рассказывать гостям о том, что собой представляют некоторые из ее сокровищ и как они появились у нее в доме.
Свой рассказ мадам Лурдель начала с одного из тех предметов, который, по ее словам, был, пожалуй, самым старым и ценным экспонатом ее коллекции. Речь шла о позолоченном бинокле, который ей явно не без труда удалось отчистить до блеска. У оптического прибора была разбита линза. Кроме того, отсутствовали шестеренки механизмов, которые служат для изменения фокусного расстояния.
– Этот прибор попал ко мне в руки со дна моря, – торжественно, чуть нараспев, словно собираясь рассказать гостям сказку, произнесла Лурдель. – Так иногда случается. Много лет спустя после кораблекрушения море возвращает людям вещи, утраченные, казалось бы, навсегда. Вот, если вы обратите внимание, – с этими словами Лурдель взяла бинокль в руки и подняла его над столом, – здесь на ободке выгравированы какие-то буквы. Вы люди образованные и, наверное, смогли бы их прочитать.
Лурдель почти насильно заставила молодых людей внимательно рассмотреть тщательно вычищенную лично ею поверхность бинокля. Действительно, на сверкающем боку окуляра можно было разглядеть несколько выгравированных букв. Гости-покупатели без труда прочли краткую надпись: «Lone».
– Готов поспорить, – сказал друзьям Марк Харпер, – что этот бинокль принадлежал моряку с какого-нибудь английского корабля. Британские пираты хорошо поработали в этих краях. В чем, в чем, а в жажде наживы этим ребятам не откажешь.
Лурдель улыбнулась: все шло по плану. Она привычно обрабатывала покупателей, подводя их как бы невзначай к той теме, которая служила безошибочно действующей наживкой для всех европейцев, бывавших в ее доме. Этой темой была морская романтика, и в особенности – пиратство.
– Monsieurs [9], – продолжала она декламировать, – море – это огромный котел, и на дне его покоятся бесчисленные тайны, ключ к которым могут нам дать только те предметы, что волей волн и случая вновь оказываются на берегу.
Не переставая говорить, негритянка взяла со стола шкатулку и открыла ее. На оборотной стороне крышки оказался портрет неизвестной дамы с печальным, меланхоличным взглядом. Итальянец с восхищением разглядывал лицо незнакомки.
– Это же просто мадонна, – заявил он наконец. – Что ж, я, пожалуй, куплю эту вещицу.
Довольная Лурдель поспешила поинтересоваться, какую сумму готов заплатить уважаемый господин за шкатулку с портретом. Федерико, а именно так звали преподавателя лингвистики, вопросительно посмотрел на своих спутников. Те, разумеется, тоже понятия не имели даже о приблизительной стоимости подобной реликвии.
– Даю вам двадцать долларов. Вещь старинная, хорошей работы, и принадлежала она, судя по всему, человеку знатному и благородному.
– Monsieur, я согласна. Торговаться не будем. Шкатулка ваша.
Чтобы скрепить договор, Лурдель налила гостям еще по рюмке сладкой водки. Те не без удовольствия приняли угощение. Для Лурдель вырученная за шкатулку сумма была весьма значительной, можно сказать, целым небольшим состоянием. Кроме того, негритянка печенкой чувствовала, что под списком проданных в этот вечер вещей черта еще не подведена. Мексиканец, сын кинозвезды, почему-то нервничал и явно чувствовал себя неуютно. Ни одна из предложенных Лурдель вещиц его не заинтересовала. Было похоже, что именно отсутствие чего-то особенного и беспокоило мексиканца.
– Неужели море выбрасывает на берег только всякую ерунду? Chère amie, je ne le crois pasl [10]
В глазах Антонио, маслянисто-оливковых и черных одновременно, Лурдель увидела скрытую жажду чуда и ощутила метафизическую пустоту, наполнявшую его душу. Негритянка вдруг поняла, что именно сегодня у нее есть отличная возможность выгодно сбыть тот самый череп, что принесла на закате племянница.
– Attendez! – воскликнула она. – Je possède une chose très curieuse. Entrez.[11]
С этими словами хозяйка проводила гостей в крохотную пристройку, стены которой были выкрашены в густой кобальтово-синий цвет. Здесь под полуразвалившимся не то комодом, не то сервантом – свидетелем колониальной эпохи – как раз и лежал пакет со странной находкой. Лурдель не без изящества наклонилась и эффектным церемонно-театральным жестом выложила перед покупателями диковинную карикатуру на человеческий череп. Тоскующий взгляд Антонио тотчас же обрел осмысленность и живость. Казалось, он только что, совершенно неожиданно для себя, встретил старого, уже подзабытого знакомого. Двое его друзей ошарашенно рассматривали череп, не зная, что и сказать по поводу такой диковинки. Лурдель загадочно и в то же время с чувством внутреннего удовлетворения поглядывала на молодого латиноамериканца.
– C'est merveilleux! [12] – заметила негритянка, довольная атмосферой, которую ей удалось создать.
– Это, madama, вы верно подметили, – внезапно ослабевшим голосом ответил мексиканец.
Он взял череп обеими руками, осторожно, словно опасаясь случайно сломать хрупкую вещь, поднял его перед собой и посмотрел в пустые глазницы. Затем он повернул череп в профиль, оценивая длину носового костного отростка, и вдруг – ни дать ни взять новый Гамлет, – не то всерьез, не то иронизируя, стал импровизировать на тему известного монолога:
– Он – это я или я – это он? Вот в чем вопрос. Единственный вопрос, до которого нам с ним сейчас есть дело.
Харпер с истинно британской вежливостью, впитанной с молоком матери, посмотрел куда-то в сторону и даже изобразил на лице бледное подобие улыбки. Итальянца же вдруг словно осенило: не отрывая взгляда от повернутого к нему в профиль черепа, он ткнул в него пальцем и, убежденный в истинности открывшего ему знания, громогласно заявил:
– Это же Пиноккио! Мы обрели доказательство того, что деревянная кукла действительно стала человеком и более того – прожила в человеческом обличье еще какое-то время! Нет, сегодня поистине великий день!
– Ну уж нет, друзья мои, – перебил восторженного приятеля Марк. – Все это розыгрыш, чья-то шутка, в серьезность которой этот кто-то очень хочет заставить нас поверить.
Повернувшись к старухе Лурдель, Марк обратился к ней, явно вознамерившись провести допрос по всей строгости:
– Сеньора, давайте начистоту. Выкладывайте все как есть: откуда у вас эта штуковина? Только не говорите, что нашли ее на берегу или выловили в море. Я не дурак и прекрасно вижу, что на черепе нет никаких следов пребывания в морской воде.
У Лурдель был богатый опыт общения с самыми недоверчивыми и подозрительными людьми. Ничуть не испугавшись обвиняющего тона, которым задавал свои вопросы гость, она сделала добрый глоток огненной воды собственного изготовления, выдержала паузу и предельно вежливо ответила:
' – Monsieurs, je ne sais pas! [13] Я понятия не имею, откуда взялась эта вещь, но нашли ее действительно на берегу моря. Она покоилась в песке – совсем неглубоко, и можно предположить, что забросило ее туда последним штормом. Впрочем, если вы полагаете, что это подделка, то и разговор окончен. Неужели вы думаете, что я стала бы пытаться всучить столь образованным господам какую-либо вещь, подлинность которой подвергается сомнению! Я достала ее лишь для того, чтобы уточнить у вас, заслуживает ли она внимания почтенных гостей, и услышать ваше мнение о ее ценности.
Выслушав эти слова, Антонио, все так же не сводивший восхищенного взгляда с черепа, подошел к хозяйке и с мольбой в голосе обратился к ней:
– Прошу вас, не обижайтесь на моего друга. Этому неотесанному англичанину все едино – что Хулио Иглесиас, что Юлий Цезарь. Умоляю вас, назовите цену за это сокровище. Уверяю, сколь бы высокой она ни оказалась, я готов заплатить эту сумму.
Харперу не по душе пришелся мелодраматизм, в который впал его друг. Он сделал шаг в сторону Федерико и сказал ему на ухо:
– Не нравится мне все это. Сам понимаешь – на Антонио нашла очередная блажь. Дело-то, конечно, не в деньгах. В конце концов, отдавать собирается он свои деньги. Мне куда больше не по душе вся эта ерунда с обретением мощей Пиноккио. Странно все это.
Федерико внешне казался спокойным и невозмутимым. Однако его обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, он был готов согласиться с тем, что его друг попался на удочку ушлой торговки и «повелся» на подделку, приняв ее за настоящую редкую вещь. С другой – в глубине души он склонялся к тому, что было бы неплохо все же приобрести эту диковину.
– Не знаю, что и сказать, – ответил он Марку. – Пусть, в конце концов, Антонио купит череп, если ему так хочется. А там видно будет. Не думаю я, что эта женщина сама изготовила такую штуку – череп творения Коллоди. Да что там, она и придумать такое не смогла бы. Готов поспорить, эта неграмотная гаитянка понятия не имеет ни о том, где находится Италия, ни о том, кто такой Пиноккио.
Не успели двое друзей обменяться этими соображениями, как Антонио уже достал бумажник и вручил Лурдель просто фантастические по местным меркам деньги. Однако было похоже, что негритянка всерьез сомневается, стоит ли продавать носатый череп даже за такую баснословную сумму.
– А я вам, сеньор, говорю, что не собираюсь эту вещь продавать, по крайней мере сегодня. Если вы готовы заплатить за нее такие деньги, то не сомневаюсь – найдутся другие люди, не меньше вас заинтересованные, чтобы приобрести столь ценную вещь.
Услышав такие неразумные речи, китаец Андре, хранивший вплоть до этого момента гордое молчание, вмешался в беседу, явно желая высказать свое мнение по поводу происходящего:
– Лурдель, дорогая моя подруга, не подумай, что меня обуревает жадность, но все же где ты еще найдешь столь образованных господ, понимающих толк в старинных вещах, и в то же время столь достойных и щедрых, которые заплатят тебе за эту штуковину еще больше? Бери, что дают! А вдруг выяснится, что это всего лишь чья-то дурацкая шутка? А что, если этот череп – не что иное, как фетиш, используемый в каком-нибудь ритуале вуду? Еще не хватало хранить его у себя дома. Пусть эти почтенные господа забирают его себе, если он им так нравится. А что касается денег, то соглашайся на предложенную сумму, даже если тебе вдруг показалось, что твое сокровище недооценили.
Хозяйка не спешила с ответом, хотя подлинный смысл вежливых слов Андре был ей предельно ясен: в речах китайца – поставщика клиентов были скрыты и окрик, и даже угроза. Его вежливо высказанное пожелание проявить больше сговорчивости в продаже черепа свидетельствовало о крайней степени раздражения китайца. «Давай, старая идиотка, – поняла Лурдель, – не валяй дурака. Отдавай череп и забирай свои деньги – и мои, кстати, тоже. Не зарывайся, еще не хватало из-за твоих игр и жадности упустить этих придурков, готовых заплатить такие деньги за вещь, которая нам вообще досталась даром».
Уловив скрытый смысл слов китайца, Лурдель мысленно согласилась с Андре и соизволила принять от Антонио доллары, которыми тот уже несколько минут тряс у нее перед глазами. Мексиканец даже не пытался торговаться или хотя бы сделать вид, что покупка не слишком его интересует. Марк Харпер и Федерико Канали не вмешивались в ход сделки, предоставив Антонио самостоятельно потратить его деньги. Впрочем, они также были в немалой степени взволнованы и заворожены происходящим, и каждый из них в глубине души чувствовал, что эта покупка окажет серьезнейшее влияние на всю их последующую жизнь.
Ночь шла своим чередом. Вот уже несколько часов, как друзья вернулись в гостиницу, расположенную в одном из наиболее приличных кварталов столицы Гаити, а Антонио все не расставался с купленным черепом – то рассматривал его со всех сторон, то осторожно прикасался к нему.
– Федерико, не томи, скажи наконец: это ведь действительно доказывает факт существования Пиноккио, причем не только в виде деревянной марионетки, но и в облике настоящего живого человека?
Прежде чем Федерико нашелся с ответом, в разговор вступил Марк, сидевший в кресле-качалке и вплоть до этого момента молча созерцавший огни ночного города, отражавшиеся в прибрежных водах:
– Может быть, он и стал наконец человеком, но врать-то, по всей видимости, не перестал. Об этом факте нам красноречиво свидетельствует донельзя удлиненный костяной отросток, на редкость искусно вбитый в то место черепа, где должно находиться носовое отверстие. Похоже, наш приятель лгал до самой смерти, невзирая на некоторые неудобства, связанные с удлинением органа обоняния.
Федерико провел пальцами по черепу и тщательно ощупал то место, где носовой отросток соединялся с основной массой кости. Он не то искал, не то опасался найти какой-нибудь шов, стык или иное свидетельство того, что костяной нос мог быть цинично приделан к самому обыкновенному, банальному человеческому черепу. Закончив предварительное обследование, итальянец обратился к друзьям с весьма уверенным, даже категоричным заявлением:
– На подделку ну никак не похоже. Я не вижу никаких следов искусственного соединения носового отростка с остальной костной тканью. По мне, так этот череп столь же аутентичен, как останки какого-нибудь австралопитека.
Антонио и Марк снова подошли к черепу, который, несмотря на зияющую пустоту глазниц, выглядел весьма надменно и, казалось, даже посмеивался над жалкими смертными людьми, осмелившимися подвергнуть сомнению его подлинность.
Марк, не желая оставлять столь милую ему позицию скептически и критически настроенного наблюдателя, вновь сел в кресло-качалку и, покусав ногти, сказал, обращаясь к Антонио:
– Как бы то ни было, покупку ты в любом случае сделал удачную. Но оставлять дело просто так, не выяснив истины, было бы неразумно. Предлагаю посвятить часть наших интеллектуальных сил и времени раскрытию тайны происхождения этих костных останков. Вернувшись по домам, мы займемся исследованиями. Ты, Федерико, раз уж тебе пришлась по вкусу теория о принадлежности носатого черепа ожившему и упокоившемуся Пиноккио, попробуешь найти необходимые подтверждения справедливости этого постулата. Ты, Антонио… подожди-ка, ты ведь так до сих пор ничего нам не сказал – ни о том, что собираешься делать с этой штукой, ни о том, что думаешь по поводу ее происхождения.
Мексиканец прекрасно понимал, что Марку интересно его мнение, но не удержался от того, чтобы немного потянуть время.
– Неужели ты тоже поддался очарованию этой безделушки и решил всерьез заняться исследованием ее прошлого? – шутливо сказал он, а затем уже серьезным тоном добавил: – Ладно, дружище, не переживай. Я тоже покопаюсь в архивах, а главное – в собрании старых немых фильмов из коллекции отца. Он начал собирать ее еще в юности, задолго до того, как стал знаменитым. К счастью, тогда их не ценили так, как сегодня, и продавали по дешевке. Отцу удалось собрать самую ценную часть коллекции на те гроши, что он мог выделять на свое увлечение в те годы. В общем, ребята, мне тоже не терпится узнать, что же стало с Пиноккио и нет ли каких-нибудь свидетельств о его жизни и смерти в человеческом облике.
Федерико слушал друзей, не перебивая. Лишь когда они замолчали, он позволил себе вступить в разговор. Голос его звучал неожиданно уверенно и даже торжественно – без той привычной робости, свойственной речи итальянца и так хорошо знакомой обоим его друзьям.
– Ребята, даже не сомневайтесь: эти немые, бессловесные кости – не что иное, как бренные останки великого Пиноккио, сына Джеппетто-плотника, мастерившего кукол-марионеток. Это, можно сказать, мы знаем наверняка. А вот чего мы не знаем, так это того, как сложилась судьба Пиноккио после того, как он превратился в человека. Обещаю вам, друзья мои, что я поеду во Флоренцию, буду рыться в библиотеках, в музеях, а если понадобится – то и в карманах туристов, и на дне реки, на которой стоит этот прекрасный город. Я не сомкну глаз и не дам себе ни дня отдыха, пока не выясню, откуда взял Коллоди сюжет для своей сказки. Сил у меня много, а если и их окажется недостаточно, то, я уверен, мне придет на помощь эта очаровательная мадонна. – С этими словами он извлек из жилетного кармана приобретенную у старухи Лурдель мраморную шкатулку. – Ничего, с ее помощью мы наверняка найдем ответы на все наши вопросы.
Было похоже, что друзья не то в шутку, не то всерьез дали друг другу клятву приложить все усилия для раскрытия тайны необычной находки. Этим настроением, этим стремлением превратить жизнь в игру, а игру – в жизнь, скорее свойственным латинскому мироощущению, проникся даже исполненный англосаксонской невозмутимости Марк Харпер. Он в свою очередь пообещал друзьям перерыть все стеллажи библиотеки Британского музея в поисках материалов, имеющих хоть какое-то отношение к предмету их исследования.
– И притом учтите, – напомнил друзьям Марк, – что у меня и без того забот хватает.
Прошло несколько дней. За это время об Андре и старухе Лурдель не было ни слуху ни духу. Настала пора покидать Порт-о-Пренс. Друзья занялись упаковкой чемоданов, и вдруг Антонио озадачил всех очередным вопросом:
– Слушайте, а ведь мы упустили из виду одну важную деталь всей этой истории. Вот скажите на милость, почему наш череп был найден именно здесь, в этом забытом богом месте? Как могла оказаться здесь сделанная в Европе кукла-марионетка, вся жизнь которой прошла в попытках убежать от лисы-мошенницы и кота-афериста? Что, может быть, нашего носатого человечка снова проглотил кит?
Марк и Федерико поспешили заверить приятеля, что они прекрасно понимают всю значимость этой загадки и предпримут все усилия для ее разрешения, но в то же время постарались убедить его в том, что это не та тайна, разгадка которой стоила бы опоздания на самолет. А кроме того, прежде чем решать вопрос о правдоподобии эпизода со вторичным проглатыванием Пиноккио китом и исторжением из его чрева, следовало разобраться в том, как вообще жил деревянный человечек, принявший человеческий облик: что определяло его поступки, насколько его существование соответствовало принятым в то время нормам общественной морали, женился ли он, в конце концов… В общем, троим приятелям предстояли долгие и кропотливые поиски.
В какой-то момент друзья так увлеклись обсуждением столь взволновавшей их всех проблемы, что чуть было не опоздали на самолеты, которым предстояло разнести их на своих крыльях каждого в свою страну. Прощаясь, молодые люди договорились постоянно информировать друг друга о ходе поисков и расследований и поддерживать постоянный контакт посредством писем, электронной почты и телефона. Они были уверены, что, объединив усилия, рано или поздно найдут ключ к решению той загадки, которую так неожиданно подкинул им таинственный остров Гаити.
«Кусок дерева. Кусок дерева, который обрел способность смеяться и плакать. Нищий одинокий старик, маленький городок в тосканском захолустье. Времена вроде бы и не столь давние, но уже такие далекие от нас… Холодно и промозгло под дырявыми крышами домов, где живут свободной жизнью неграмотные, необразованные люди. Трепещет плакучая ива, да и самое суровое, каменное сердце вздрагивает и сжимается: это рассказывает свою сказку отставной офицер. Его чадо – Пиноккио. Он не умеет врать, вот почему у него вытягивается нос, стоит ему сказать неправду. Карло Лоренцини не хватало в жизни главного – родины, вот он и представляет небо родной страны в виде чрева кита. Он тоскует по женщине с голубыми волосами, по той фее-матери и фее-сестре, которая излечила смертельно больную куклу-мальчишку, сделанную из самого обыкновенного полена. Дерево более человечно, чем сама плоть. Оно способно гореть и давать тепло и свет. Дерево жертвенно по природе своей. В огне погибает оно, чтобы воскреснуть вновь, выйдя на свет из порождающей его земли. Кукольный мальчишка жаждал огня. Он скорее бы сгорел, чем позволил себе превратиться в объект человеческих желаний…»
Эти слова, записанные Марком в дневнике, как нельзя лучше выражали его неуверенность, те смешанные чувства, которые он испытывал, приступая к расследованию. Сам он сидел у окна, выходившего в сад, в своем доме в графстве Девон, и без особого энтузиазма созерцал две вставшие в небе друг над другом радуги. Шел мелкий дождик, в разрывах облаков то и дело проглядывало солнце, под лучами которого плясали причудливые тени, отбрасываемые плетями плюща, карабкавшегося по стенам и кромкам оконных проемов. Вдали виднелись холмы, устланные ровной и гладкой, словно подстриженной, травой. Тут и там на склонах холмов росли высокие деревья. Глядя на них, трудно было поверить, что из могучей плоти этих гигантов можно вырвать ту кость, из которой какой-то творец – персонаж неведомого сочинения – создал человека.
Время пить чай – это миг принятия нелегкого, ответственного решения. Слишком уж много опасностей таит в себе этот сладостный процесс насыщения души изначальной, какой-то метафизической влагой печали. В памяти всплывают все когда-либо опробованные заклинания, изгоняющие тоску, но как же трудно порой избавиться от меланхолии и уныния, особенно когда ты один, а земля вокруг такая сырая.
Марк не хотел ни быть, ни казаться сентиментальным. Вот почему он с каждым днем все глубже погружался в собственные рассуждения, вместо того чтобы посвятить свободное время активным поискам. Нет, он, конечно, не забыл обещания, данного друзьям. Именно чувство ответственности и не давало ему покоя: с одной стороны, Марк был твердо уверен, что рано или поздно ему придется предпринять какие-то усилия и поучаствовать в попытках открыть тайну черепа; с другой – Кантова «Антропология», одна из его любимых книг, заставляла его испытывать глубочайшие сомнения в успехе подобных поисков. Пытаться выследить человека, узнать его судьбу как при жизни, так и после смерти, имея в качестве ориентира и отправной точки лишь его кости, столь же самонадеянно, как рассчитывать завладеть чашей Грааля, не пролив при этом ни единой капли ее содержимого.
Вернувшись в родной дом на берегу реки Маус, Марк словно очнулся и расценил последнее путешествие как очередной этап в цепи холостяцких приключений, на поиски которых его друзья отправлялись каждый год с заслуживающей лучшего применения регулярностью. Самому Марку эти эскапады нравились все меньше и меньше: он начинал уставать от путешествий, на первый взгляд ярких и увлекательных, но тем не менее неспособных развеять тоску и скуку, давно обосновавшиеся в его жизни и пустившие в ней крепкие корни. Марку начинало казаться, что он попусту теряет время в этих путешествиях. По возвращении у него порой бывало чувство, что большую часть отпуска он провел в неудобных креслах залов ожидания аэропортов, в плотном окружении представителей человекообразной фауны, которые вели себя так, словно главной целью их существования было хаотическое и бесцельное перемещение в пространстве. Когда тебе уже за тридцать, глупо и смешно верить в дурацкие басни, наскоро сочиненные какой-то неграмотной гаитянской старухой, которая для большей убедительности еще и снабжала свои примитивные сказочки занудной моралью, выглядящей в наши дни полным анахронизмом. Марк втянул носом воздух – над столом все еще витал приятный аромат остывающих на блюде тостов с маслом. Дядина библиотека была самым теплым, хорошо протапливаемым помещением семейного особняка. Гамма звуков, складывавшаяся из легкого потрескивания огня в камине и стука дождя в окна, как нельзя лучше выражала настроение Марка. Когда раздался телефонный звонок, он не глядя снял трубку. На другом конце провода раздался голос Федерико, звонившего из Болоньи. Итальянец сердечно приветствовал друга и, конечно, сразу же поинтересовался успехами в решении их общей загадки.
– Нет, я пока еще ничего не выяснил. Подумываю о нашем деле и кое-что прикидываю – когда не работаю и когда мне никто не мешает, как, например, сейчас.
Федерико поспешил похвастаться весьма полезным, с его точки зрения, знакомством: на следующий день у него была назначена встреча с заведующим университетской библиотекой, человеком пожилым и немногословным, которого, как выяснилось, Федерико смог заинтересовать своей гипотезой о возможном реальном существовании Пиноккио.
– Но какой тебе прок от беседы с этим почтенным мудрецом? – спросил Марк, рассчитывая, что ирония в голосе поможет замаскировать недостаток искреннего интереса к словам друга. Для большей убедительности он даже откусил кусок тоста и громко захрустел им у самой трубки.
По мере объяснения Федерико угасший было в душе Марка интерес к этому делу пробуждался с новой силой. Оказывается, библиотекарь давно и всерьез увлекается народными сказками и его всегда интересовала загадка появления этой вроде бы простецкой истории, которая, однако, смогла очаровать бесчисленное количество детей во всем мире. Кроме того, Федерико в своей чуть сбивчивой манере поведал другу, что Коллоди – это псевдоним, а настоящее имя автора «Пиноккио» – Карло Лоренцини. Он был отставным офицером и верным последователем республиканского движения, которое возглавлял известный в те годы политик Джузеппе Мадзини.
– Представляешь себе, Джузеппе Мадзини, – настойчиво повторил это имя Федерико. – Обрати внимание, что Джеппетто – это один из вариантов уменьшительного от Джузеппе.
– Да, да, насчет этого я в курсе, рассказывай дальше. – перебил Марк, желавший как можно скорее выяснить, насколько далеко продвинулся Федерико в постижении их общей тайны.
– Идеалы республиканской Италии были Лоренцини по душе, – продолжал Федерико посвящать друга в череду своих аналогий. – Между прочим, фамилию Лоренцини носил один офицер-ловелас, которого убил на дуэли не кто иной, как старина Джакомо Казанова. Это описано в романе Артура Шницлера.
– Интеллектуальная мешанина, которой набита твоя голова, меня всегда потрясала. Но давай ближе к делу: что там насчет Коллоди?
Федерико не стал придерживать козыри и поспешил рассказать Марку о демократических и педагогических идеалах Мадзини, которые в огромной степени повлияли на формирование личности молодого Коллоди. Уволившись с военной службы, он в 1860 году занял пост в префектуре Флоренции – своего родного города. Доверили ему ни много ни мало как цензуру всех театральных постановок, осуществлявшихся в городе. Дальнейший рассказ Федерико был прерван приступом кашля. Марк воспользовался паузой в разговоре:
– Все это замечательно, но пока ничего нового ты мне не сказал. Поезжай-ка лучше во Флоренцию, поговори там с людьми, постарайся познакомиться с местными интеллигентами, эрудитами, с любителями театра. Не знаю почему, но что-то мне подсказывает: нечего и пытаться открыть тайну нашего черепа без такой поездки.
Кашель наконец отпустил Федерико, и тот поспешил сообщить Марку, что и без его советов собирался съездить во Флоренцию при первой же возможности. Впрочем, на данный момент ему приходилось довольствоваться аудиенцией у заведующего университетской библиотекой, что, с его точки зрения, было немалой победой. Федерико попросил Марка также связаться с Антонио и рассказать тому о достигнутых успехах, потому что ему самому некогда снова повторять свой рассказ. Марк заверил приятеля, что выполнит его просьбу, и вдруг почувствовал некоторую неловкость: он осознал, что добавить к рассказу Федерико ему самому совершенно нечего. Он пока вообще ничего не предпринял, чтобы помочь в столь сложных поисках. Несколькими туманными фразами он намекнул, что как раз проводит кое-какую работу, в результате которой, возможно, сможет получить ценную информацию.
В это самое время на другом конце света Антонио, отложив на неопределенное время поиски разгадки таинственного черепа, преспокойно пил пиво. На этикетке стоявшей перед ним бутылки было изображено яркое солнце, пронзающее пространство горячими вибрирующими лучами, – точь-в-точь такое, к какому привыкли и сам Антонио, и все жители огромного города Мехико. Носатый череп Антонио положил в сейф в доме отца и на некоторое время забыл о странной находке. Пока ему даже не подвернулся подходящий случай, чтобы кому-нибудь рассказать о ней. Все его мысли сейчас были заняты другим: в жизни Антонио появилась женщина. Для полноты картины следует отметить, что женщина эта была – а как же иначе? – решительно недоступна: замужняя, значительно старше его по возрасту, занимавшая ответственный пост в каком-то финансовом учреждении и, соответственно, имевшая высокое положение в обществе. Типичная начальница, окруженная плотным кольцом услужливых, но втайне ненавидящих ее подчиненных. Женщина, судя по всему, не склонная, да и вряд ли способная испытывать сложные, противоречивые чувства, а уж тем более мучиться от них. Антонио обратил на нее внимание лишь потому, что чувствовал себя одиноким: ему не к чему было стремиться и не с кем было поделиться тем, чем он, по его мнению, владел в избытке, а именно самыми невероятными знаниями о реальности, о жизни и всех ее капризах. Вспоминая красивые темные глаза женщины, Антонио ловил себя на том, что непроизвольно ему приходят на ум и черные глазницы черепа, лежавшего в отцовском сейфе. В своих фантазиях он помещал эти красивые глаза в зияющие орбиты черепа Пиноккио.
Сама она и не догадывалась, сколько времени в своих мыслях уделяет ей Антонио. Столкнулись они в пол-пень – естественно, жаркий – на выходе из лифта в здании банка, расположенном на проспекте Либертад. Антонио успел заметить морщинки на ее лице, оценить усталость измученного долгими годами супружеской жизни тела, поймать неуловимую грацию и гармонию движений, которые хранили память о гибкой, привлекательной, судя по всему, некогда безупречной фигуре. Антонио захотелось догнать ее, поделиться своим секретом, заставить ее понять то, что ему уже было известно, но, увы: пороху ему хватило лишь на то, чтобы сказать: «Добрый день, и пусть каждый день будет добрым, пусть все ваши дни будут добрыми…» Больше он не смог выдавить из себя ни единого слова. Женщина даже не удивилась, услышав столь странное приветствие, и, как показалось Антонио, почувствовала в его словах что-то большее, чем то немногое, что было произнесено вслух. С того мгновения их встречи окрасила некая особая, заговорщическая атмосфера, и влечение Антонио, вместо того чтобы ослабеть, лишь крепло день ото дня. Впрочем, накануне вечером он получил по электронной почте большое письмо от Марка. Расследование, проведенное Федерико, подталкивало и остальных друзей к тому, чтобы показать наконец свою удаль в нелегком ремесле охотников за тайным знанием, затерянным в дебрях библиотек и в самых немыслимых уголках города. К сожалению, эти поиски могли обернуться не чем иным, как бесцельной прогулкой дилетантов, предпринятой для того, чтобы развеять скуку и игрой воображения немного приподнять пелену обыденности. Однако Антонио не хотел быть первым отказавшимся от поисков – возможно, бесплодных. Так уж получилось, что именно он втянул друзей в это приключение, заставил обоих, пусть и в шутку, дать мушкетерскую клятву помогать друг другу в раскрытии тайны – может быть, несуществующей, – и теперь он выглядел бы просто глупо, спрятав череп в сейф и сделав вид, будто ничего не произошло и никакой клятвы не было. Для начала нужно было покопаться в отцовской фильмотеке – в старых пленках, которые тот коллекционировал с молодости. Антонио просто не мог позволить себе отложить столь необыкновенное предприятие под воздействием присущей ему вялости и апатии, а также своего извращенного вкуса, благодаря которому он всегда выбирал женщин, о коих можно было только мечтать. Привычка отказываться от того, что нравится, была одной из ярких отличительных черт его мазохистской натуры.
Федерико приехал во Флоренцию на своем маленьком черном «фиате». Он припарковался на набережной, довольно далеко от исторического центра города, над которым возвышался знаменитый, веками приковывающий восхищенные взгляды эстетов купол Дуомо. Попасть во Флоренцию, не совершив паломничества по улицам, застроенным старинными дворцами аристократических семейств, было невозможно. Эта показная пышность не просто давила на Федерико, а, как ему казалось, обрушивалась на него, чтобы уничтожить пораженную декадентской роскошью Медичи душу. В тот день ему не было никакого дела ни до величественных фасадов, ни до знаменитых гробниц торговцев и чиновников, которые местная знать и служители церкви украсили с великолепием, противоречащим скорби. Архитектурная мода, игра стилей, истории из жизни клана герцогов, покровителей искусств, – все это не шло ни в какое сравнение с мятежом деревянной куклы Коллоди, марионетки, осознавшей себя самым настоящим ребенком из плоти и крови, несмотря на то что дерево, из которого она была сделана, по своей природе отрицало ее бренность и смертность.
Избавившись наконец от машины, Федерико прогулялся пешком до Бигалло – особняка на углу улицы Кальцаюоли. Именно здесь, в том месте, где обычно оставляли нежеланных младенцев, родившихся в этом древнем тосканском городе, он договорился встретиться с неким Винченцо, связаться с которым посоветовал ему университетский библиотекарь. Во время короткой встречи с самим ученым мужем Федерико едва не проникся лишь одним чувством – холодным и даже слегка ироничным скептицизмом, склонным отстраненно отвергать любые предположения, мысли или явления, существование которых не находило подтверждения в классифицированных и каталогизированных письменных документах. Выслушав краткое сообщение Федерико, в котором тот изложил свои теории по поводу предполагаемого черепа Пиноккио, старый библиотекарь даже не улыбнулся: свойственное его лицу выражение сердечной заботы и отеческого расположения истинного благодетеля культуры к юному чаду сменилось вдруг плохо скрываемой гримасой оскорбленного достоинства. Поначалу профессор Маурицио слушал сбивчивый и даже гротескный рассказ о неожиданной находке совершенно бесстрастно. До поры до времени он ни разу не перебил Федерико и не позволил себе ни единого замечания – критического или ободряющего толка. Впрочем, Федерико хватило одного выразительного взгляда заведующего на большие настенные часы, чтобы сделать паузу в своем повествовании; профессор немедленно воспользовался этой возможностью и, не утруждаясь поисками особо тактичных формулировок, сообщил молодому преподавателю, что вынужден значительно сократить время, выделенное на эту встречу, так как его внимания требовали куда более важные и неотложные дела. Федерико, несколько сбитый с толку, поспешил перейти от описания проблемы к перечислению того, что ему требовалось для поисков ее решения. С этой целью он хотел получить всю возможную информацию об авторе всемирно известной сказки. Кроме того, Федерико хотел докопаться до источника вдохновения Коллоди – человека, явно не слишком хорошо знакомого с народной литературой, зато прекрасно разбиравшегося в хитросплетениях политики в период, предшествующий объединению Италии. Эти слова доктор Маурицио выслушал терпеливо, но абсолютно безразлично: его явно мало интересовала жизнь человека, произведение которого он не мог позволить себе причислить к вершинам тосканской литературы. Ну почему все кругом так мелко? – читалось на его лице. Почему никто не приходит ко мне, чтобы попросить помощи в поисках потерянной рукописи Данте или хотя бы обсудить богоборческие рассуждения Иеронима Савонаролы, записанные накануне его сожжения на площади Синьории? А это все… ну не могла его заинтересовать история о черепе Пиноккио – куклы, существовавшей лишь в одной ипостаси: в виде плода воображения провинциального и довольно посредственного педагога Лоренцини. Профессору было больно осознавать, что пусть и молодой, но вполне уважаемый преподаватель филологического факультета обратился к нему со столь несерьезной просьбой, не заслуживающей внимания главы университетской библиотеки.
Доктор Маурицио был вынужден признать свою ошибку: увидев входящего в его кабинет Федерико, он подумал, что этот молодой преподаватель собирается обратиться к нему с просьбой, так или иначе связанной с поисками древних книг и рукописей, утраченных в результате страшного наводнения, нанесшего огромный урон фондам Национальной библиотеки. Тогда, в 1966 году, доктору Маурицио поручили провести инвентаризацию – составить перечень библиографических редкостей, превращенных по прихоти погоды в мутную жижу из раскисшей бумаги. У молодого исследователя сложилось впечатление, что в ту ночь на Флоренцию обрушилась кара небесная: за какие-то грехи город должен был остаться без значительной части своего бесценного культурного наследия. Впрочем, в некотором роде эта трагедия стала звездным часом молодого аспиранта, которому все не удавалось заставить себя выбрать подходящую тему для диссертации. На основании имевшихся в его распоряжении данных он написал работу, которая навсегда связала его с университетской библиотекой и в итоге сделала ее директором. Профессор на всю жизнь запомнил те страшные и в то же время прекрасные дни, посвященные попыткам спасения пострадавших фолиантов и составлению скорбных списков навеки утраченных изданий. Закрыв глаза, он как наяву видел растерянных, плачущих сотрудников зала Маннелли, затопленные подвалы и каких-то безликих, неопределенного возраста людей, вновь и вновь проходящих по галерее Вазари с полиэтиленовыми мешками, набитыми промокшими насквозь томами и свитками. Так – к сожалению, слишком поздно – совершалась эвакуация ценных книг из подвалов на верхние этажи и в башни библиотеки.
– Доктор Маурицио, я прошу прощения, не могли бы вы дать мне адрес синьора Винченцо?
Старый библиотекарь мгновенно поймал утраченную было нить разговора и после секундного размышления ответил:
– Да, конечно. Простите, я задумался. Но для этого мне понадобится залезть в компьютер, который сейчас, к сожалению, выключен. Загружать его в настоящий момент у меня нет времени. Зайдите ко мне чуть попозже. Сейчас у меня должна состояться встреча с другими исследователями: я имею в виду ваших молодых коллег, занимающихся историей живописи. Я должен предоставить им кое-какие материалы по творчеству Боттичелли. Вот скажите, молодой человек, не кажется ли вам несправедливым тот факт, что величайшие шедевры этого гениального художника хранятся не у нас, а в Испании?
– Не могу с вами не согласиться. А кто бы мог подумать что череп нашего Пиноккио в конце концов окажется похоронен вообще на другом конце света – на гаитянском пляже?
Старый профессор воздержался от комментариев по поводу столь дерзкого сравнения Федерико. Молодому и, как ему показалось, бестактному исследователю он назначил новую встречу на восемь часов вечера. К тому времени он обещал разыскать адрес синьора Винченцо – единственного известного ему эрудита, готового тратить время на столь бесперспективные, чтобы не сказать, бессмысленные поиски.
Федерико постигло разочарование, заставившее его отказаться от излишних иллюзий по поводу предстоящих поисков. И все же он никак не мог смириться с тем, что случилось: не один человек говорил ему, что старый библиотекарь – большой поклонник Коллоди и в свое время с немалым интересом относился к изучению народных сказок разных провинций Италии, в первую очередь, естественно, Тосканы. Более того, поговаривали, будто в свое время профессор Маурицио написал на эту тему несколько серьезных и достаточно объемных работ, которые не были изданы лишь по причине отсутствия бюджетных средств на публикацию. Федерико никак не мог понять, почему пожилой профессор с такой репутацией столь холодно выслушал рассказ о странном черепе и вообще отнесся к истории этой находки с нескрываемым скептицизмом. Во время разговора заведующий библиотекой не поведал ему ничего нового о Карло Лоренцини. Он не только не предоставил списка редких письменных источников, посвященных этому автору (чего сам Федерико, по правде сказать, ожидал от специалиста по итальянским сказкам), но даже не облагодетельствовал его ни единой историей из жизни писателя, ни какими бы то ни было малоизвестными подробностями его биографии. Пока что заведующий библиотекой ничем не помог Федерико в начатых им поисках. Пытаться разговорить библиотекаря, не желающего продолжать беседу, – дело столь же неблагодарное и бесполезное, как, например, попытка взять интервью у могильной плиты. Не стоит с наскока и пытаться понять причины внезапно наступившего у собеседника приступа склонности к отшельничеству и желания дать обет молчания. Эти прописные истины Федерико познал достаточно давно, когда только начинал заниматься сравнительным языкознанием. Как-то раз ему пришло в голову попытаться разговорить одного сотрудника библиотеки Дженералле о том почему, с его точки зрения, в исследованиях санскрита наступил определенный застой, причем в то самое время, когда ученые, казалось, были готовы одарить мир подробным и более чем правдоподобным описанием древнего, общего для многих народов языка. Упорное нежелание собеседника отвечать на вопросы Федерико сначала приписал характерной для многих образованных людей склонности скрывать под маской гордого молчания элементарное незнание ответа. Лишь некоторое время спустя он осознал, насколько сильно заблуждался. В один прекрасный день, когда он уже и сам забыл о том разговоре, библиотекарь из Дженералле поведал ему о существовании некоторых древних текстов и документов, которые, будучи обнародованы и включены в каталоги, как минимум поставили бы под сомнение стройные теории, созданные индоевропеистами всего мира. Вот почему и на этот раз Федерико мысленно решил не осуждать профессора Маурицио и не пытаться понять причины, по которым тот не желал продолжать разговор. Вместо этого он предпочел поступить наиболее простым и очевидным образом: выполнить немногие полученные от заведующего библиотекой указания, то есть съездить во Флоренцию и побеседовать с синьором Винченцо.
Спустя полчаса ожидания под арками галереи Бигалло Федерико заметил, что небо над Флоренцией потемнело и даже начал накрапывать дождь. Он отметил про себя, что в сумерках, предшествующих грозе, а уж тем более под проливным дождем ориентироваться в чужом городе ему будет еще сложнее. Впрочем, окутавший город полумрак не облегчал и основную задачу Федерико. Он ведь понятия не имел, как выглядит синьор Винченцо, и вынужден был довольствоваться весьма скудным устным описанием, полученным от пожилого профессора. Вглядываясь в лица проходивших мимо людей, Федерико мысленно повторял те немногие данные, которые могли помочь опознать в толпе нужного человека: возраст – лет шестьдесят, высокий рост, худощавая фигура. Кроме того, доктор Маурицио рассказал, что раньше синьор Винченцо служил в республиканской армии и, выйдя в отставку, жил на весьма скромную пенсию, причем вдвоем – вместе с единственной дочерью. Своей начитанностью и эрудицией этот отставной офицер был обязан не академическому образованию и не связям с университетом; его культурный багаж сложился под влиянием природной любознательности и, конечно, в силу яркой, полной приключений жизни. В молодости синьор Винченцо выступал в одной полусамодеятельной театральной труппе и даже получил некоторую известность, добившись высокого мастерства в исполнении роли влюбленного Арлекина. Доктор Маурицио не без иронии отметил, что, по имеющимся у него сведениям, старый актер по-прежнему бережно хранит черную маску и деревянную шпагу – давние свидетельства признания, завоеванного им в театральном мире. Всей этой информации было явно недостаточно, чтобы с уверенностью вычислить синьора Винченцо в потоке пешеходов, сворачивавших с площади Сан-Джованни в направлении Бигалло. Вскоре раздался гром и по отделанным мрамором фасадам забарабанил частый дождь, который быстро перешел в ливень. Федерико вдруг показалось, что он, судя по всему, зря теряет время. Мысленно он уже стал прикидывать, сколько еще можно позволить себе попусту ждать человека, который явно не придет на назначенную встречу. Вплоть до этого момента он действовал, движимый энтузиазмом первопроходца, но мало-помалу энтузиазм начинал уступать место здравому и вполне обоснованному скепсису. В общем, решил Федерико, если синьор Винченцо не появится через четверть часа…
– Прошу прощения, вы, случайно, не Федерико Канали?
Женский голос прервал его разочарованные мысли.
– Да, это я. А вы, извините, кто?
– Я Андреа де Лукка, дочь синьора Винченцо.
Глава вторая
Федерико вошел в погруженную в полумрак комнату и прежде чем его глаза успели привыкнуть к сумраку, услышал голос, по-театральному четко произносивший обращенные к нему слова:
– Пьеро делла Франческа не писал картины ради прибыли. Великий Джотто тоже не работал ради наживы. Ни один художник, прославивший этот великий город, не творил ради богатства. Вот почему, синьор преподаватель, спешу предупредить вас: если вы пришли сюда ради наживы, можете тотчас же покинуть стены моего дома. Почувствовав вашу алчность, я немедленно прекращу всякое общение с вами.
Федерико прошел вслед за дочерью синьора Винченцо едва ли не через весь город. Сначала Андреа провела его по виа Туорнабони, затем по лабиринту переулков возле реки и, наконец, вывела своего спутника к мосту Тринидад. Федерико едва успевал за девушкой, а когда терял ее из виду в грозовом полумраке, полагался не столько на зрение, сколько на другое чувство – нечто вроде внутреннего обоняния. От дочери Винченцо исходил почти физически ощутимый аромат беспокойной обольстительности. Ее появление никоим образом не было предусмотрено планами Федерико. Тем приятнее для него оказался этот сюрприз. Сколько времени они шли по поливаемому дождем городу, он не знал. Впрочем, по всей видимости, прогулка продолжалась достаточно долго, чтобы насытить воображение Федерико новыми, неясными и беспокойными образами. Наконец девушка остановилась. На какой-то миг у него возникло чувство, что она сама заблудилась и не знает, куда идти. Обернувшись, она улыбнулась, да так, что повергла Федерико в смущение.
– Нет, правда, вы действительно дочь синьора Винченцо? Я просто не ожидал, что у человека его возраста окажется такая молодая дочь.
Она не ответила и даже не посмотрела на него. Вместо этого слегка отогнула манжету блузки и взглянула на часы. Прогулка по узким старинным улочкам продолжилась. Федерико стало стыдно за свои не слишком деликатные слова, и он пообещал себе больше ни о чем не спрашивать свою провожатую без крайней необходимости. Поездка из Болоньи сама по себе была нетрудной, но пребывание за рулем, долгое ожидание и казавшаяся бесконечной и беспорядочной прогулка по Флоренции – все это вместе начало уже утомлять его. Дождь не унимался, и Федерико промок до нитки. Мокрая одежда плотно прилегала к телу. На плечи девушки был наброшен плащ, но и ее волосы давно промокли, а из-под каблуков при каждом шаге брызгали маленькие фонтанчики – как будто она всякий раз, точно угадывая место, нажимала на невидимую кнопку в мостовой или тротуаре. Наконец они оказались у узкого, вытянутого вверх фасада дома, пристроенного одной стороной к древней крепостной стене. Андреа вынула ключ и открыла запертый на один оборот замок. По лестнице с непривычно широкими ступенями они поднялись на второй этаж. Здесь она открыла еще одну дверь и на некоторое время оставила гостя в прихожей. Когда она вернулась, Федерико смиренно попросил полотенце, тряпку – в общем, что угодно, чем можно было бы хотя бы немного обсушиться. В первый раз за все время, прошедшее с момента встречи на галерее, Андреа де Лукка, дочь синьора Винченцо, дружелюбно улыбнулась. У Федерико возникло ощущение, что она только в эту секунду осознала, насколько они оба промокли. Она знаком предложила ему следовать за ней и проводила по узкому коридору в ванную. Здесь он обнаружил целую стопку полотенец с причудливо вышитыми инициалами, разбирать и расшифровывать которые у него не было ни малейшего желания. Он как мог привел себя в порядок и вновь прошел вслед за девушкой по коридору, насчитав по пути восемь дверей. Наконец они вошли в какой-то просторный зал, вдоль стен которого были расставлены изящные стулья. у камина, облицованного розовым мрамором, спиной к входной двери сидел человек. Слова, которые произнес синьор Винченцо, были знакомы Федерико. Он давно уже прочел знаменитую 23-ю песнь Эзры Паунда: «Жажда наживы убивает искусство, убивает еще не родившееся дитя во чреве матери». Да, стремление к богатству и алчность отравляют все, к чему прикасаются. Федерико полностью разделял эту точку зрения, но ему было непонятно, с какой стати старый актер решил встретить его именно такой тирадой.
– Синьор, не знаю, почему вы так сказали, но я могу дать вам слово: в том, ради чего я к вам пришел и что собираюсь рассказать, нет и намека на стремление к обогащению. Я пришел просто поговорить о Пиноккио.
Эти искренние и простые слова заставили Винченцо де Лукку встать с кресла и обернуться к гостю. Федерико впервые увидел этого высокого и подтянутого человека, в облике которого, несмотря на возраст, сохранилась привлекательность его лихой и полной неожиданных поворотов судьбы. Светлое лицо. Глаза цвета синевы в витраже готического собора. Эти синие глаза смотрели с ничуть не скрываемым недоверием. Всклокоченные, более длинные, чем можно было ожидать, волосы пожилого человека были не просто светлыми, а совершенно белыми, и при этом в них не было ни намека на старческую седину. Винченцо де Лукка церемонно протянул гостю руку. В этом жесте безошибочно угадывалось твердое желание сохранить некоторую дистанцию, отделявшую его от незнакомца.
– Садитесь, прошу вас. Значит, говорите, Пиноккио. – повторил он, словно убеждая самого себя в том, что все правильно расслышал.
– Да, синьор, именно Пиноккио, – настойчиво повторил Федерико, преодолевая шевельнувшееся в душе стеснение и ожившие угрызения совести.
– Ну что ж, давайте поговорим. Что вы хотите узнать? Или, если поставить вопрос иначе, чем могу помочь вам я, человек без образования? – Тон, которым были произнесены эти слова, с одной стороны, представлял старика более живым, доступным и человечным, а с другой – выдавал нарочитую ложную скромность, которую с сожалением отметил Федерико.
Настало время спрашивать, ничего не объясняя, получать, ничего не давая взамен, но первое предупреждение со стороны синьора Винченцо серьезно настораживало. Молодой преподаватель прекрасно понимал, что слова о наживе были произнесены не зря, и если старику вдруг покажется, будто он учуял в вопросах Федерико намерение чем-то поживиться, то гостя выставят за порог без всякого стеснения. В этом случае не только поездка пойдет насмарку, но и все поиски придется начинать практически сначала. Старый актер тем временем внимательно наблюдал за Федерико, которому казалось, что тот читает его мысли. Старик оценивал силу воли и настойчивость собеседника, вычислял, насколько тот умеет врать и притворяться. Федерико понимал, что все приемы ведения беседы, которыми он, как университетский интеллектуал, владел, как ему казалось, почти в совершенстве, здесь ничем не помогут. Человек, с которым он познакомился, сразу же включил его в игру по своим правилам, не дав ни отсрочки, ни форы.
– Насколько мне известно, вы играли Труффальдино в «Комедии». Я вижу, вы и по сей день актер.
Винченцо де Лукка тотчас почувствовал желание собеседника польстить и в качестве ответного хода стремительно прошел к стоявшему в углу зала письменному столу, чем вызвал немалый интерес Федерико, а заодно и несколько сбил его с толку.
– Вы абсолютно правы. Я актер, и, если не возражаете, давайте говорить друг с другом, как актер с актером. Чтобы облегчить на первых порах эту задачу, прошу – примерьте-ка эту маску, а я позволю себе надеть вон ту, другую.
Винченцо протянул ему черную полумаску Арлекина, которую растерянный Федерико стал вертеть в руках. Маска была сделана из какой-то мягкой бархатистой ткани. Примерившись, Федерико немного неловко водрузил ее себе на лицо, так чтобы миндалевидные отверстия оказались прямо перед глазами. Тем временем Пожилой актер с понятной, но от этого не менее неожиданной ловкостью надел золотую маску, закрывшую ему верхнюю половину лица. Федерико немало удивился, не узнав сверкнувших из-под золотой полумаски глаз: небесная синева уступила место цвету речной воды на рассвете.
– Мой юный друг, не будем терять времени, ибо оно – то немногое из святого, что у нас еще осталось. Говорите мне честно и открыто: что вам известно о Пиноккио?
Федерико еще не забыл, что приехал сюда спрашивать, а не отвечать на вопросы. Но при всем том он не мог не признаться себе, что ситуация взяла над ним верх. Надетая на лицо маска ничуть не помогала ему притворяться. Наоборот, она с головой выдавала его истинную сущность – человека слабого и к тому же усталого.
– Синьор Винченцо, мы с друзьями нашли его череп. У меня есть все основания полагать, что Пиноккио существовал на самом деле, а вовсе не был просто выдумкой Карло Лоренцини. Мне кажется, – в этот момент Федерико глубоко вздохнул, – что за этой простой сказкой скрывается куда как более долгая и запутанная история. Я приехал к вам, полагая, что вы, быть может, Расскажете мне что-то, чего я не знаю.
Несмотря на чувство смущения, испытываемое при этом странном признании, Федерико все же заметил, что его слова произвели на актера несколько неожиданное впечатление. Нет, конечно, самообладание он сохранил, но это ему далось с трудом. Ощущение было такое, что услышанное вогнало его в дрожь. Федерико несколько секунд ждал ответной реакции – взрыва смеха, презрительного смешка или хотя бы ироничной усмешки либо замечания. Но время шло, а в комнате по-прежнему висела гнетущая тишина. Золоченая полумаска словно могильной плитой накрыла слова, смех и улыбки. У неунывающего Труффальдино не нашлось ответа.
В зал вошла Андреа, неся поднос с двумя чашками кофе. Одну она подала отцу, а вторую оставила на небольшом столике, стоявшем чуть в стороне от камина. Это заставило Федерико встать со стула и сделать несколько шагов. Такое почти чудесное явление несколько разрядило напряженность, возникшую между собеседниками. Сделав глоток, Винченцо обратился к гостю уже не с театральными, а с нормальными разговорными интонациями:
– Я полагаю, что вы имеете в виду одного пирата, некоего морского скитальца, чья жизнь закончилась в далекой чужой стране, причем закончилась не самым приятным образом – самоубийством. Попросту говоря, он повесился.
Эти слова, произнесенные человеком, понятия не имевшим, когда, где и при каких обстоятельствах был найден странный череп, не могли не изумить Федерико. Старательно пытаясь скрыть охватившее его любопытство, он как можно более будничным тоном ответил:
– Да, речь идет о пирате с Карибского моря. Вне всяких сомнений, такому человеку вряд ли свойственны глубокие чувства по отношению к своей родине. По крайней мере такова моя точка зрения. И все же – самоубийство? Тем более – повеситься… Это как-то странно, даже почти смешно. Прошу прощения, но разве мы собирались говорить не о Пиноккио?
В этот момент в зал снова вошла Андреа – на этот раз в костюме Коломбины: балетной пачке и блузке в черно-белую полоску. Она убрала волосы и прикрыла лицо маской неживого, глинистого цвета, что придавало ей несколько страшноватый, даже монструозный облик. Девушка нажала какую-то кнопку на полке книжного шкафа, и в зале зазвучала музыка – кажется, из фильма Феллини. Федерико непроизвольно встал со стула и почувствовал, что краснеет. У него мелькнула вполне естественная в такой ситуации мысль выбежать из зала, промчаться по коридору и поскорее покинуть этот странный дом с его более чем странными обитателями. И все же любопытство, более сильное, чем доводы разума и сила воли, а также еще не осознанная им самим привлекательность девушки удержали молодого преподавателя на месте. Андреа начала кружиться в такт музыке. Ее ноги в балетных туфельках казались гибкими и даже не стройными, а просто чересчур тонкими, словно принадлежали не ей, а какой-то другой женщине. Винченцо молча взирал на собственную дочь. Его манера держаться холодно и ничем не выдавать своих эмоций все больше сбивала Федерико с толку и даже начинала раздражать. В инфантильном, далеко не мастерском танце девушки было что-то гротескное и даже оскорбительное. В конце концов, подумал Федерико, я приехал сюда, чтобы узнать что-то новое о Пиноккио, а вовсе не дать посмеяться над собой двум страдающим от безделья самодеятельным актерам.
Импровизированное подобие Коломбины дважды кивнуло головой в разные стороны, и танец на этом завершился. Отец девушки, судя по всему, был впечатлен увиденным и разразился аплодисментами. Андреа церемонно поклонилась в знак благодарности. Федерико не знал, что делать, но твердо решил про себя так легко не сдаваться. Чтобы выиграть время, он поднял руки и тоже стал аплодировать – как в настоящем театре.
– Molto bene, mia сага figlia! [14] – продекламировал отец, явно цитируя реплику из какой-то неизвестной Федерико пьесы. – Что скажете? Уверен, вы не можете не согласиться, что она станцевала замечательно.
– Без сомнения. Танец – просто ее стихия, – поспешил согласиться Федерико.
Коломбина, легкая на подъем, как и подобает этому персонажу, изящно покинула сцену, не забыв при этом выключить музыку. Федерико подошел к Винченцо и, сняв маску, которая уже начала мешать ему, сказал:
– Я проехал много километров и очень устал. Не хотелось бы показаться неблагодарным, но, если вам нечего больше сказать мне, я, пожалуй, пойду.
Винченцо подошел к Федерико и каким-то особым доверительным тоном произнес:
– Друг мой, не воспринимайте все происходящее слишком всерьез. Кроме того, будьте снисходительны к нам, актерам: мы всегда любили добрую шутку; особенно она нам помогает в эти печальные дни, когда искусство написания сценариев для театра пантомимы утрачено, похоже, навеки. Моя дочь исполняет роль Коломбины с колыбели, и было бы странно предположить, что она не попытается заинтересовать вас, а может быть, и пробудить более глубокие чувства при помощи своего любимого танца.
Федерико оценил искренность синьора де Лукки, но все же продолжал настаивать, что ему пора уходить. Более того, внутренне он уже согласился с доводами разума относительно бессмысленности и даже комичности этой дурацкой встречи со старым актером. Поиски поисками, но общаться с синьором Винченцо, который сам походил на потрепанную марионетку, было попросту бессмысленно. В Федерико взыграло до сих пор всячески сдерживаемое и старательно попираемое чувство собственного достоинства.
– Приношу свои извинения. Все это, без сомнения, было ошибкой. Мне действительно не стоило сюда приезжать.
Винченцо положил руку на плечо Федерико и почти заставил его сесть обратно на стул. В ту же секунду, не дав гостю возможности хоть что-либо сказать, он снял с одного из стеллажей какой-то толстый том и открыл его, как показалось Федерико, наугад.
– Да успокойтесь же вы, молодой человек! Вы не уйдете отсюда, прежде чем я не расскажу вам все, что мне известно о Пиноккио. Уверяю вас, время, которое вы потратили на то, чтобы приехать в этот дом, не окажется для вас потерянным.
Глаза Федерико вновь загорелись, бесстрастие строгого преподавателя уступило место восторгу мальчишки, которому показалось, что он стоит на пороге великого открытия.
Выдержав небольшую паузу, Винченцо снова заговорил. При этом менторские нотки в его голосе сменились куда как более душевными интонациями.
– Друг мой, чтобы говорить о Пиноккио, мы должны для начала вернуться к тому, из чего он был сделан, к исходной материи – я имею в виду дерево. Когда этой страны еще не существовало, наш народ назывался buenos primos – «добрые братья». Мы действительно жили в настоящем братстве, одной из целей которого было истребление волков в наших лесах. Наши общие собрания проходили под знаком топора, мы встречались для того, чтобы говорить о деревьях и о свободе.
Услышанное вызвало в душе Федерико некоторые сомнения. Опасаясь опростоволоситься и проявить свое невежество, он все же рискнул перебить собеседника и спросил:
– Простите, вы имеете в виду древних карбонариев?
– Да, синьор, именно так. И все же, судя по вашему вопросу, я могу предположить, что по этой теме вам известно лишь то, что было опубликовано. Истинное же положение вещей скрыто от вас пеленой тайны. Мы, братья, хранили истинный дух народа, революция давала нам силы оставаться едиными. Мы встречались по ночам, и эти встречи, эти долгие разговоры о будущем освещало пламя горящего дерева. Наши женщины, наши прекрасные садовницы, приходили к нам, чтобы помочь восстановить силы наших тел своими ласками. Мы любили друг друга, мы жили, но эта жизнь была возможна лишь ночью, когда Панталеон и его приспешники пересчитывали деньги, отобранные у нас. Как же горька она и в то же время сладка – наша несравненная потерянная свобода!
Винченцо, разволновавшийся не на шутку, сорвал с себя маску и достал с полки какую-то бутылку, скрытую за фарфоровой статуэткой балерины. Он наполнил рюмку и осушил ее одним глотком, не удосужившись предложить Федерико отведать напитка.
– Карло, сын повара Лоренцини, был одним из наших. Он взял себе в качестве псевдонима фамилию матери – Коллоди. Она была самой красивой сестрой в наших садах. Ребенком он ходил в церковную школу, где его все время наказывали за непоседливый нрав, за острый язык и за неумение говорить неправду, когда это было нужно. Потерпев неудачу в получении образования по общим правилам, Карло устроился на работу в книжный магазин. Там он встретился со своими братьями по духу, своей родней по дереву, и там же он начал писать, охваченный юношеским порывом к полной и всеобщей независимости. Но слов ему было мало, и он отправился в Ломбардию воевать с австрийцами. Позднее именно он зажег «Иль Лампионе» – тот самый светоч, луч которого прорезал наконец мрачный сумрак, окутавший Флоренцию. Когда же его волшебный фонарь погас, сердце Карло было отдано старинному народному театру. Именно в театре он познакомился с моим дедом. Вместе они сумели оживить наших братьев – героев старой «Комедии»: Арлекин, Бригелла, Пьеро, Полишинель, Скапен, Скарамуш и Санторелло заговорили обвиняющими голосами и взбунтовались против нечестивой власти… Сейчас мне нужно уйти. Подождите меня здесь. Мы вместе поужинаем, и я расскажу вам до конца эту историю.
Винченцо стремительно покинул зал, оставив Федерико в весьма неловком положении. Оказавшись один, тот сначала хотел было возмутиться, но здраво рассудил, что признания старого актера вполне могли открыть новые горизонты в его поисках. Федерико заставил себя забыть на время о привычных для него строгих правилах поведения и в подтверждение выбранной линии даже позволил себе расстегнуть пару верхних пуговиц на рубашке. Это дало ему возможность вздохнуть свободнее как в прямом, так и в переносном смысле. За окнами по-прежнему шел дождь, и сквозь стекла с улицы практически не проникал свет. Федерико прикрыл глаза, чтобы попытаться привести в порядок свои мысли.
Андреа, сменившая наряд Коломбины на более привычные одежды, вновь неожиданно вошла в зал, в очередной раз застав Федерико врасплох.
– Послушай, что я тебе сейчас прочитаю, и скажи, о чем тебе напоминают эти отрывки.
Девушка открыла книгу, которую принесла с собой. Федерико не удалось разглядеть обложку и прочитать название. Андреа тем временем начала читать дрожащим от волнения голосом:
– «Боже всемогущий! Я сплю или все это происходит наяву? Кто это там? Неужели Пиноккио… – Конечно, кто же еще! – воскликнул в ответ Полишинель. – Да, это он! – повторила вслед за ним Розаура, появляясь на миг из-за кулис. – Пиноккио! Пиноккио! – воскликнули хором все куклы. – Пиноккио, наш брат! Да здравствует Пиноккио!»
Федерико, севший поближе к Андреа, чуть неуверенно улыбнулся, но ответил четко и без запинки:
– Вы читаете мне десятую главу произведения Коллоди, вот только мне почему-то показалось, что в вашем исполнении я воспринимаю этот текст несколько иначе, чем раньше. Похоже, у вас еще есть немало секретов, которыми вам предстоит со мной поделиться.
Последние слова он произнес не слишком уверенно, прекрасно отдавая себе отчет, что полностью доверяется этой женщине, о которой ему было известно лишь то, что она явно взбалмошная и, по всей видимости, невероятно капризная. Андреа тем временем взяла его ладонь в свою руку и, поднеся ее к губам, поцеловала. Федерико вздрогнул и даже слегка отпрянул, напуганный столь неожиданным поступком. Тем не менее он не мог оставаться безучастным, глядя в эти большие печальные глаза, которые смотрели на него не мигая.
– Не знаю, в какую игру ты играешь со мной, Коломбина, но мне хотелось бы иметь тебя в качестве садовницы в тайных садах угольщиков…
Не договорив фразу, Федерико подался вперед и прижался к Андреа, уже распахнувшей ему свои объятия. Он закрыл глаза, чтобы не видеть в ее глазах отражения собственного недоверия. Он никогда не был большим специалистом по части импровизаций на любовные темы. Неожиданных, бурно развивающихся романов в его жизни почти не случалось. Эта встреча, которой он не искал, в одно мгновение увлекла его, подавив всю способность к сопротивлению. Все оборонительные редуты сдавались один за другим, все резервы просто сгорали в бесплодных попытках держаться подальше от обрушившегося на него удовольствия. Коломбина была невероятно изящна, ее тело несло в себе все те крохотные недостатки, которые стройность предлагает миру наряду с щедрым набором роскошных достоинств. Федерико поймал себя на том, что думает о творческой мощи Верди, создавшего средствами музыки образ «Bella figlia dell'amore…».[15] Дождь разбивал отражение на мелкие осколки. Федерико понял, что его почему-то покинул вечный спутник – чувство бренности всего происходящего с ним. Он никогда не был особенно обходителен с окружавшими его женщинами, никогда не умел ухаживать за теми, к которым его тянуло. Работа в университете предлагала ему шикарный выбор кандидаток самого разного возраста, но он всегда бежал от возможной близости с кем-либо из студенток, старался избегать признаний со стороны коллег и как огня боялся интриг женщин, готовых лечь в любую постель, лишь бы подняться на очередную ступеньку лестницы, по которой им порой удавалось взойти на очень высокие, кажущиеся недоступными вершины. Федерико всегда дистанцировался от всякого рода служебных романов и даже не откликался на призывы коллег поучаствовать в абсолютно невинном флирте. В результате он заработал себе славу убежденного холостяка, и более того, на кафедре, а порой и на всем факультете время от времени возникали слухи о его тщательно скрываемой склонности к гомосексуализму. Коломбине же удалось за несколько минут открыть в его жизни новую, до той поры скрытую от посторонних глаз страницу – Федерико почувствовал себя актером, вышедшим на сцену после долгих лет творческого простоя.
Даже потом, спустя много времени, Федерико не смог восстановить в памяти, как долго продолжался этот сон. Наконец он понял, что остался в зале один и не то сидит, не то полулежит на ковре, глядя в огонь камина. Его ботинки лежали где-то в стороне, а белоснежная рубашка, казалось, выдержала неравный бой с целой стаей разгневанных фурий. Он вспомнил, что должен поужинать со старым Винченцо, но тот, к счастью, еще не успел вернуться. Федерико вдруг осознал, что внезапное исчезновение пожилого актера было срежиссировано заранее. Таким образом тот приносил своего гостя в жертву очередному капризу обожаемой дочери. Прикидываться и изображать что-либо перед кем-либо не было никакой необходимости. Это избавило Федерико от столь знакомого ему чувства неловкости из-за случившегося. Более того, он поймал себя на том, что непроизвольно приглаживает волосы, пытаясь привести себя в порядок, и одергивает изрядно помятую рубашку. После недолгих поисков ему удалось отыскать ботинки, оказавшиеся неподалеку от батареи. Федерико вполне хватило нескольких минут, чтобы хотя бы в какой-то степени вернуться в привычный образ – несколько занудного преподавателя. Как раз в это время распахнулась дверь и в зал даже не вошел, а влетел Винченцо де Лукка, двигавшийся и говоривший с несвойственной его возрасту прытью и энергией:
– По-моему, давно пора ужинать. Что скажете? Лично я считаю вино необычайно полезным, и особенно в дождливую погоду: промокшее горло обязательно нужно согреть. Предлагаю открыть кьянти и еще немного поговорить о вашем деревянном друге.
Федерико улыбнулся, почувствовав себя гораздо более уверенно, чем раньше. Между ним и старым Винченцо возникло что-то вроде заговорщического взаимопонимания. Он прошел вслед за бывшим актером по коридору с восьмью дверями и вскоре оказался в столовой, окна которой выходили в небольшой дворик. Стол уже был накрыт, а кьянти вакхического цвета просто просилось в бокал.
Застолье затянулось несколько дольше, чем предполагал Федерико; вино – с тонким и в то же время насыщенным вкусом, с пронзительной горьковатой ноткой, требовавшей вновь и вновь припасть к бокалу, – освободило Федерико от условностей, призывавших его к осторожности и благоразумию.
– Винченцо, мой друг, я никогда не был карбонарием, но уверяю вас, что теперь мы с вами как братья. Никогда и ни с кем мне не удавалось подружиться так быстро, как с вами. Ни в одном доме я не чувствовал себя так хорошо в качестве гостя.
Пожилой актер рассмеялся, выслушав эти искренние слова молодого преподавателя, и, перехватив инициативу в разговоре, привлек внимание Федерико неожиданным заявлением:
– Интуиция мне подсказывает, друг мой, что вы хотите стать посвященным. Но не торопитесь, всему свое время. Пиноккио забыл об осторожности и попал в ловушку из-за собственного любопытства. Прежде чем кандидата примут в члены братства, ему предстоит пройти множество испытаний. Дочь подтвердила мои предположения о том, что вы смогли бы стать настоящим добрым братом, но нам следует дождаться решения, которое примет наш общий главный судья – время.
Федерико не понимал, о чем ему толкуют, но предпочел промолчать и не расспрашивать собеседника. Андреа – Коломбина куда-то исчезла и за все время ужина даже не появилась в столовой. Ее отсутствие было не по душе Федерико. Ему очень не хотелось уходить из дома амеров, не попрощавшись с девушкой. Винченцо еще целый час вел разговор на какие-то банальные темы, до которых Федерико не было никакого дела. Впрочем, в сбивчивых речах старого актера время от времени слышались намеки на некие признания, которые в очередной раз разжигали в душе его собеседника надежду узнать наконец хотя бы часть таинственной истории, которую скрывал загадочный череп, по всей видимости в самом деле принадлежавший Пиноккио.
Антонио лежал на шикарном диване в стиле «баухаус», стоявшем в гостиной роскошной виллы, принадлежавшей его отцу. Особняк находился в небольшом поселке под названием Сересас, неподалеку от Мехико. Антонио специально попросил у отца разрешения съездить на виллу, чтобы покопаться в редких и порой весьма странных старинных лентах, составлявших гордость собранной здесь фильмотеки. Гостиная – просторное помещение со множеством стеллажей, полки которых были закрыты стеклами, – располагалась в лучшем крыле виллы, построенной в колониальном стиле. Антонио не часто бывал здесь: в основном вилла находилась в единоличном распоряжении его отца, который покидал ее, лишь отправляясь путешествовать. На этот раз Антонио сообщил отцу, что ему нужно просмотреть кое-какие старые документальные и, вполне возможно, художественные фильмы, разыскать которые можно было лишь в столь полной, тщательно подобранной коллекции. Отец, которому интерес сына к главной его страсти пришелся по душе, не заподозрил ничего неладного и предоставил ему полную свободу действий. Актер уже давно смирился с демонстративным безразличием Антонио как к его творческой судьбе, так и к его увлечениям. Нет-нет, он никогда не старался активно влиять на вкусы и убеждения сына, но это безразличие к его артистической карьере порой заставляло отца жалеть, что других детей у него нет и уже не предвидится. Для того чтобы обратиться к отцу с необычной просьбой, Антонио явился к нему в кабинет и, задав разговору непривычно доверительную интонацию, пожаловался, что скучает по матери. Бывшая супруга отца Антонио была англичанкой, родом из Бирмингема. В свое время у нее хватило душевной черствости раз и навсегда уехать из Мексики обратно на родину, оставив сына на попечение отца. Антонио было тогда шесть лет. Он прекрасно знал, что отец чувствует себя виноватым и признает свой брак непростительной ошибкой. Такие эмоции не могли не подействовать на отца: он ясно видел в характере сына черты, унаследованные от матери, – безразличие к окружающим, постоянную неудовлетворенность во всем, что касалось материального достатка, свойственную людям, не заработавшим богатство самостоятельно, а дорвавшимся до того, что было создано чужими руками. И мать Антонио, и его самого отличала некоторая глухота и слепота их собственных чувств. Впрочем, то, что прорывалось из их душ наружу, неизменно вызывало недоумение и даже отторжение у окружающих. Отец Антонио был человеком успешным, а его сын пока что не создал ничего самостоятельного, да и, похоже, не слишком к этому стремился. Отец был одним из немногих актеров – уроженцев Центральной Америки, сумевших покорить не только аудиторию своего родного континента, но и всю Европу. Тем не менее Антонио прекрасно знал ахиллесову пяту этого человека, вызывавшего восхищение миллионов зрителей и сотен, даже тысяч людей, знавших его лично. Этой ахиллесовой пятой был не кто иной, как он, его сын, Антоньито, как называл его отец, пытаясь выразить болезненную нежность, которую испытывал к собственному отпрыску. Постарев, знаменитый актер остался в одиночестве. Его слава не померкла, но удалилась на покой, под своды уединенной виллы в поселке Сересас. Человек, чья улыбка и чувство юмора когда-то приводили в восторг полмира, коротал вечер за вечером в тишине и гордом одиночестве.
Антонио не особенно часто навещал отца, когда тот уединялся на своей вилле. Большую часть времени старый актер посвящал приведению в порядок огромной фильмотеки, некогда собиравшейся в спешке и теперь нуждавшейся в классификации и составлении каталога. В коллекции были собраны лучшие ленты всех времен и народов, включая, разумеется, и те, в которых сам актер исполнял главные роли, и поставленные им как режиссером. Ближе к концу своей творческой карьеры он, уже располагавший немалыми финансовыми средствами и связями, позволил себе роскошь выступать в качестве продюсера фильмов с собственным участием. Антонио никогда не интересовался картинами, в которых снимался отец. В открытую он об этом не говорил, но сумел дать старому актеру понять, что лучше его об этих фильмах не спрашивать. Вот почему, когда Антонио попросил разрешения съездить на несколько дней на виллу, отец не мог сдержать удивления и поинтересовался:
– Ты все-таки скажи, зачем ты туда собрался? Надеюсь, не для того, чтобы устроить очередную многодневную оргию с алкоголем и наркотиками!
– Видишь ли, – ответил Антонио, демонстрируя умение держаться в роли, достойное профессионального драматического актера, – мне не нужно ехать на твою виллу, чтобы заняться тем, что ты описал так емко и образно. Я хотел бы покопаться в твоей коллекции фильмов и посмотреть кое-какие картины с твоим участием.
Старому актеру пришлось применить все свои навыки и опыт работы на съемочной площадке, чтобы не показать Антонио своего удивления. Больше всего на свете ему не хотелось, чтобы сын понял, что он ему не поверил. Зачем, спрашивается, ему понадобилось врать, чтобы поехать в загородный дом, который принадлежит ему в той же мере, как и отцу, и откуда его никогда в жизни не прогоняли? Зачем придумывать для этого какой-то благовидный предлог? Относительно найденного черепа, хранившегося теперь в семейном сейфе, отец Антонио, кстати, был не в курсе. Сам Антонио не без основания полагал, что не стоит беспокоить отца рассказами о столь мрачной и странной находке, тем более что Пиноккио был в какой-то мере литературным соперником того персонажа, которого его отец всю жизнь играл на экране. Знаменитый комик создавал перед камерой образ ожившей куклы, марионетки, не желавшей двигаться в ту сторону, куда тянули ее привязанные к рукам и ногам нитки. Кроме того, этот персонаж также не гнушался пофантазировать, а то и откровенно наврать, чтобы выкрутиться из очередной переделки, в которую угодил, затеяв рискованную игру с судьбой. Отличало этих двух персонажей немногое: во-первых, нос и, во-вторых, материал, из которого они были сделаны. Отец Антонио не был вырезан из полена, а его носовой отросток не превышал среднестатистических размеров. Более того, даже по форме нос актера – небольшой и чуть вздернутый – являлся полной противоположностью того выдающегося экспоната, что украшал физиономию деревянного мальчишки. Впрочем, скромные размеры и ничем не примечательная форма носа не мешали актеру тонко чувствовать изменчивые запахи жизни – как ее тончайшие ароматы, так и зловоние эпохи, требовавшей от него не столько ума, сколько хитрости и изворотливости. Характерными чертами персонажа, созданного отцом Антонио, были упитанный животик, помятый пиджачок с вечно коротковатыми рукавами и не менее мятые брюки, с которыми ему из фильма в фильм не удавалось справиться и примириться: в самый ответственный момент они так и норовили соскользнуть с его «талии», словно подчеркивая контраст между внешней упитанностью и внутренней истощенностью и вечно испытываемым этим героем душевным голодом. В общем, этому самому смуглому комику за всю историю мирового кино удалось создать образ, с одной стороны, достаточно простой и насквозь читаемый, а с другой – в немалой степени сентиментальный. В свое время по такому рецепту создавались самые яркие мифы кинематографа. По сравнению с этим образом Пиноккио был в значительно большей степени бунтовщиком, этаким piccolo signorino [16], которому до смерти надоели и культура, и искусство. Схожесть между ними была скорее внутренней, чем физически осязаемой: и тот и другой были прирожденными шутами, оба вступали в конфликт с одними и теми же персонажами, олицетворявшими обывательский конформизм, оба восставали против общепринятого порядка вещей и кажущегося незыблемым мироустройства. Задумываясь об отце с этой точки зрения, Антонио не мог не признать, что старый актер был человеком интересным и оригинальным. Единственный упрек, который можно было ему предъявить теперь, спустя много лет, состоял в том, что он не нашел в себе сил умереть вместе со своим персонажем, переставшим появляться на экранах.
Антонио приехал в Сересас тихим теплым вечером. Воздух здесь был напоен ароматами фруктового сада, окружавшего виллу. Тишина и звездное небо просто не могли не подействовать на молодого человека, приехавшего из душного и пыльного города. Антонио не смог сдержать улыбки, когда поймал себя на том, что несколько по-детски сравнивает высыпавшие на небе звезды с тысячами глядящих на него глаз. Что ж, таким он был на самом деле – романтичным и не растерявшим способности воспринимать мир, как его воспринимают дети. Только здесь и только наедине с самим собой Антонио мог позволить себе такую вольность. В остальное время он тщательно скрывал свои слабости от окружающих и всегда внимательно следил за тем, какое впечатление на них производит. В тот вечер было ни жарко ни холодно: если в райских кущах существуют погода и климат, то скорее всего они должны быть именно такими, какие окутали Антонио комфортом и свежестью. Мажордом, состоявший на службе при вилле, подал Антонио ужин и проводил его в гостевую комнату. Сын хозяина так редко появлялся в отцовском поместье, что никому и в голову не приходило выделить для него постоянное, предназначенное лишь ему одному помещение. Антонио отдал должное мастерству нанятого отцом повара и, встав из-за стола, подумал было позвонить Федерико. Впрочем, от этой затеи он отказался достаточно быстро, поняв, что ему попросту нечего сказать другу: он до сих пор не удосужился даже хорошенько подумать над стоявшей перед ним задачей, а о реальных поисках и говорить не приходилось. Он прекрасно знал итальянца и был уверен, что тот, как человек деятельный, уже наверняка вовсю ведет работу в избранном направлении. Можно было предположить, что Федерико уже превратил «дело Пиноккио» в мероприятие государственного масштаба и в ближайшее время от него следует ждать самых сногсшибательных открытий, а быть может, и полной разгадки тайны носатого черепа. И все же этот череп был личной добычей Антонио, и он вовсе не горел желанием отдавать лавры триумфатора даже самому близкому другу.
На столе в кабинете отца стоял компьютер. Антонио включил его и первым делом порылся в музыкальном архиве. Под звуки марша Мендельсона из музыки к «Сну в летнюю ночь» он не торопясь набрал адрес электронной почты Марка Харпера, прекрасно понимая, что немедленного ответа скорее всего не получит. Собравшись с мыслями, он быстро набросал несколько фраз:
Марк, дружище.
Я сейчас в Сересас, на отцовской вилле. По нашему делу у меня пока никаких новостей. Сегодня вечером займусь им вплотную, благо погода располагает – у нас тут нежарко, но, думаю, все же значительно теплее, чем и тебя. Если серьезно, то я собираюсь покопаться в отцовской фильмотеке. Ты ведь знаешь, что он собрал целую коллекцию старых фильмов, по которым можно изучать не только историю, но и мифологию мирового кино. Так, не уезжая из Мексики, я смогу оказаться, например, в Италии. Посмотрю фильмы по произведениям Габриэле д'Аннунцио и других известных людей театра. Как знать, может быть, именно они приведут меня в ту гавань, где высадился на берег наш деревянный человечек. Да, кстати, у меня до сих пор нет никаких известий от Федерико. Будешь созваниваться с ним – передавай привет. Надеюсь, скоро смогу поделиться с вами чем-нибудь интересным.
Антонио выключил компьютер и, не вставая с вращающегося кресла, повернулся лицом к боковой стене кабинета. Теперь перед ним была большая и очень хорошая фотография отца, сделанная еще в годы его молодости. Фотограф запечатлел актера именно в образе того самого персонажа, который и принес ему славу. Черные глаза с длинными ресницами смотрели на сына с такой живостью, что тому даже стало не по себе. Волосы были подкрашены желтоватой сепией вместе с общим фоном фотографии. Пышные усы нависали над крупными, но не вялыми, а энергичными губами, готовыми в любую секунду разразиться длинной тирадой, состоящей из наугад состыкованных между собой философских и естественно-научных терминов, – одним из коньков персонажа, прославившего отца Антонио, было пародирование так называемого высокого стиля и того языка, которым ученые мужи порой склонны маскировать отсутствие смысла в своих исследованиях и высказываниях. Не то маленький бродяга, не то испанский аристократ, обедневший и даже обнищавший, но сумевший вновь обрести былое богатство, – Антонио так и не мог сформулировать для себя, какой из образов отца ему более близок и понятен. В любом случае старый актер почему-то до конца своей кинематографической карьеры так и не расстался с рудиментами образа нищего и вечно голодного клоуна. При этом многомиллионные гонорары сделали отца Антонио действительно весьма состоятельным человеком, навсегда лишив единственного наследника права быть богачом, пришедшим к благосостоянию благодаря собственным талантам и усилиям.
Кинематограф появился в Мексике 6 августа 1896 года, когда президенту Порфирио Диасу и нескольким членам его кабинета было представлено это новейшее достижение цивилизации. Первый сеанс в стране организовали представители братьев Люмьер в Зеркальном зале дворца Чапультепек. Президент был известен своей галломанией и преклонением перед достижениями научно-технического прогресса. Таким образом, у новинки заведомо были неплохие шансы быть принятой благосклонно. Кроме того, агенты братьев Люмьер оказались людьми неглупыми и смогли представить президенту свою диковину как изобретение революционное – и в прямом, и в переносном смысле. Революционные настроения, царившие в мексиканском обществе в то время, отразились и в названии первого общедоступного кинозала. В те воинственные годы он был назван по цвету, присущему богу войны Марсу: «Красный Салон». Первые движущиеся фотографии ожили в подвале одной аптеки на улице Платерос. Заинтересованная публика заходила в зал и оказывалась на территории неизвестного. Короткий киносеанс был для первых зрителей чем-то вроде волшебного путешествия во времени и пространстве. Посланники Люмьеров действовали в Мексике, исходя из той же стратегии, которую они применяли во многих других странах: они находили подходы к высоким правительственным чиновникам, пользуясь при этом каналами французского посольства. Затем для высокопоставленных гостей организовывался частный сеанс, а потом в неформальном общении им подбрасывалась мысль, что столь необычное и на первый взгляд забавное изобретение может быть использовано как мощный пропагандистский и просветительский инструмент, незаменимый в воспитании будущих поколений.
Впрочем, мексиканская кинохроника (если таковая вообще существовала) не слишком интересовала Антонио в тот вечер. Какие бы то ни было известия о Пиноккио могли попасть в отцовскую фильмотеку только из Европы. Лишь там, в Старом Свете, кто-то мог заинтересоваться историей превращения бессмертной куклы в человека из плоти и крови. Знать бы, подумал Антонио, почему Коллоди никогда ни с кем не говорил о том, что стало с деревянной марионеткой, когда она превратилась в человека? Куда этот человек подевался, где он жил, чем занимался, женился ли, в конце концов… Эти и множество других вопросов кружились в голове Антонио. Он справедливо полагал, что если все это стало интересно ему, то почему кто-нибудь еще, пусть и на другом конце света, не мог задаться теми же вопросами? Если дело обстояло действительно так, то скорее всего этот любознательный и нестандартно мыслящий человек должен был принадлежать к миру театра, а быть может, и кино. Именно такой человек в первую очередь мог озаботиться судьбой вырезанного из полена актера и его внутренним драматическим конфликтом, основанным на сомнительной принадлежности к человеческому роду.
Антонио встал с отцовского кресла, в котором с комфортом просидел некоторое время, проглядывая мексиканскую фильмографию, и решил наугад проверить, насколько расположение фильмов в коллекции соответствует составленному списку. Для начала он направился к ближайшему стеллажу и вскоре убедился, что на полках царит полный порядок. Центральное место в этой части коллекции как раз и занимал раздел, посвященный отечественному кинематографу, и в первую очередь – фильмам с участием владельца коллекции. Антонио пробежал взглядом по списку названий этого раздела. В глубине души он не был уверен, что его отец – великий актер, но отрицать его целеустремленность и невероятную работоспособность было бы просто глупо. За сорок лет творческой деятельности он успел сняться в неимоверном количестве самых разных фильмов. Уважительно присвистнув, Антонио сделал несколько шагов и распахнул дверцы второго стеллажа. Фильмы, находившиеся в этой части коллекции, даже уложены были не так аккуратно, как те, что стояли ближе к письменному столу. Судя по всему, здесь, в дальнем углу кабинета, отец бывал реже и у него все еще не дошли руки окончательно привести в порядок менее важную, с его точки зрения, часть коллекции. Впрочем, нельзя было исключать и того, что эти фильмы как раз недавно перебирали, что-то просматривали и просто не удосужились расставить кассеты аккуратно – в том же идеальном порядке, как на полках соседнего стеллажа.
Среди кассет, даже не лежавших одна на другой, а просто наваленных друг на друга, Антонио увидел несколько итальянских фильмов на историческую тематику: среди них были «Последние дни Помпеи», снятые в 1908 году режиссером Маджи, и «Кво вадис?» Гуадзони, производства 1913 года, и, наконец, мифическая «Кабирия» Пастроне. Эти названия и даты воодушевили Антонио: похоже, он не зря приехал сюда, в отцовское поместье. Он включил видеомагнитофон, и на экране появились чуть неестественно двигающиеся и преувеличенно бурно жестикулирующие персонажи. Через некоторое время Антонио почувствовал разочарование: все эти огромные по меркам немого кино массовые сцены, вся эта стилизация под древнее имперское величие не могли помочь ему в поисках информации, так или иначе связанной с куклой, придуманной Коллоди. Антонио никак не удавалось представить Пиноккио в римской тоге, поднимающимся на трибуну сената с очередной обличительной речью против Каталины. Не увязывался образ деревянного человечка и с обликом римского легионера, закованного в доспехи и продирающегося через бесконечные непроходимые леса дикой Галлии. Нет, не здесь, не в этих фильмах следовало искать нить, которая могла привести его к знаменитому шуту родом из Тосканы.
На одной из полок во втором ряду Антонио обнаружил отдельную коробку с аккуратно уложенными фильмами, снятыми во Франции. Он не мог не обратить внимания на то, что немалая часть кассет была помечена скромной этикеткой с инициалами «Ж. М.».
Досчитав до сорока, Антонио сбился: фильмов с загадочными инициалами на обложке было явно больше четырех десятков. Сначала он без особого энтузиазма просмотрел старые аннотации, но обнаружил в них лишь краткий пересказ сюжета и имена снимавшихся актеров. О режиссере, скрывавшемся за двумя загадочными буквами, в них не было ни слова. Тогда Антонио вернулся к отцовскому столу и положил перед собой толстый том изданного в 1940 году в Мехико большого кинословаря. Его авторы вознамерились собрать под одной обложкой всех тех людей, которые так или иначе оставили след в становлении кинематографа. Антонио открыл том на букве «М» и стал листать страницу за страницей, выискивая имена, подходящие к загадочным инициалам, значившимся на кассетах. Его поразило количество людей, связавших свою судьбу с кино и посвятивших этому искусству всю жизнь. Наконец, когда ему уже начало казаться, что он читает телефонный справочник, его взгляд задержался на статье, посвященной человеку с подходящим именем: Жорж Мельес.
Биография этого сына сапожника просто поразила Антонио. Жорж с детства отлично рисовал, но жизнь повернулась так, что ему пришлось не учиться, а помогать отцу в семейной мастерской. К сапожному ремеслу он отнесся серьезно и с подобающим терпением. Именно эта профессия приучила его к тщательному, методичному выполнению любой работы и закалила силу воли. В словарной статье перипетии судьбы молодого Мельеса описывались не слишком подробно. Каким образом из сапожника он переквалифицировался в циркового фокусника, там не сообщалось. В книге был отмечен лишь факт перемены Мельесом профессии и сообщалось, что на этом поприще он даже добился некоторой известности. Первой настоящей страстью в его жизни стал знаменитый театр «Уден» – совершенно особый мир, где Мельес начал творить свои чудеса при помощи примитивных киноаппаратов, купленных у изобретателя Уильяма Пола. Братья Люмьер, не принявшие всерьез не то фокусника, не то колдуна-эзотерика, отказались сдать ему в аренду свою аппаратуру, не поверив в успех его проектов. В общей сложности Мельес снял огромное количество коротких, но насыщенных, говоря современным языком, спецэффектами фильмов, один лишь список которых следовало бы тщательно проанализировать. Антонио впервые почувствовал, что не на шутку увлекся этими старыми немыми фильмами, которые погрузили его в совершенно особый мир. При этом Мельес продолжал ставить и театральные спектакли, наполняя пространство сцены проецировавшимися с разных сторон кинодекорациями. В 1897 году он построил под Парижем студию со стеклянными стенами. В этой зеркальной комнате образы, порожденные его не слишком здоровым воображением, многократно отражаясь от стен и потолка, погружали зрителя в совершенно особую реальность.
Заинтересованный и, более того, заинтригованный прочитанным, Антонио отложил словарь и взял наугад одну из кассет с этикеткой «Ж. М.» Не читая аннотации, он вставил кассету в магнитофон, а затем завершил приготовления к просмотру фильма, налив себе внушительную порцию виски из персонального отцовского бара. Кассета не была перемотана на начало, и в первую же минуту просмотра Антонио стал свидетелем потрясающе эффектного и превосходно выполненного с чисто технической точки зрения превращения тыквы в роскошную карету. Изящество и мастерство, с которым был поставлен и снят этот трюковой кадр, навели Антонио на мысль, что, пожалуй, он находится на верном пути и что именно здесь нужно искать следы того особого воображаемого мира, той бесплотной материи, из которой была соткана история о Пиноккио. Антонио просто физически ощутил магическое воздействие совершенно земных и материальных визуальных средств; в результате он в своем воображении перенесся в какой-то необычный для него мир.
Антонио снял с полки футляр со всеми кассетами, помеченными инициалами Мельеса, и выложил нужные ему фильмы внушительной пирамидой в углу отцовского кабинета. Перебирая кассеты одну за другой, он с наслаждением вчитывался в знакомые названия: «Le petit chaperon rouge», «L'homme a la tкte en Caotchouc», «Barbé Bleu», «Le trésor de Satan»…[17] Антонио рылся в груде кассет с энтузиазмом неофита, полагаясь в выборе тех, что следовало смотреть в первую очередь, лишь на собственную интуицию. «Le tripot clandestin», «Le réve d'un rumeur d'opium», «Le locataire diabolique», «Les aventures de baron de Munchhausen»…[18] Совершенно неожиданно Антонио осенило: героями всех этих фильмов были персонажи, мягко говоря, весьма далекие от реальности, в основном – попросту придуманные. Все это походило на какой-то апокрифический завет некоего колдуна, сторонящегося посторонних глаз, решившего оставить миру после себя зашифрованное, полное намеков и недоговоренностей послание. В словаре, в статье, посвященной Мельесу, говорилось, что для всех своих фильмов он специально придумывал какие-то фокусы и целые трюковые программы, то есть фактически эти ленты представляли собой документальную съемку сеанса магии. При всем том столь выдающийся человек, сделавший кинематограф чем-то большим, чем он был в первые десятилетия, окончил свои дни в нищете, продавая всякие безделушки и сладости у входа в кинотеатры, которые к тому времени уже стали такими, какими мы знаем их сегодня, – жалкими приложениями к огромной индустрии развлечений, потакающей самым низменным вкусам. Что ж, подобный финал можно было считать трагическим апофеозом невероятной биографии художника-кинематографиста-колдуна. Впрочем, человечество все же вспомнило о своем выдающемся представителе, и в 1931 году Мельес был удостоен ордена Почетного легиона, а французское правительство назначило ему пожизненную пенсию, с тем чтобы он мог написать мемуары. Творческое наследие Мельеса составило более пятисот фильмов, и, как утверждал мексиканский кинословарь, большая часть из них считалась утраченной безвозвратно.
Созерцая возвышавшуюся перед ним груду кассет, походившую на остров, выплывающий из тумана, Антонио представил себя новым королем Артуром, высадившимся на Авалоне в надежде избавиться от всех напастей и неприятностей, отравлявших ему жизнь. Даже не пересчитывая кассеты, Антонио понял, что общее количество записанных на них фильмов значительно превышает официально известное число сохранившихся картин плодовитого и трудолюбивого Мельеса. Антонио потерял счет времени и решил, что будет смотреть кино, сколько сможет, пока сон окончательно не сразит его. «Le cofre enchanté», «Le palais des mille et une nuits»[19] – можно было даже не читать аннотации. По одним названиям было понятно, что эти фильмы полностью вписывались в любимую тематику режиссера-фокусника. Вставив в магнитофон очередную кассету, Антонио прочитал название записанного на ней фильма: «Путешествие через невозможное». Интуиция подсказала ему, что именно эту ленту следует смотреть внимательнее, чем другие. И действительно, именно здесь, в этом фильме, он впервые увидел то, что совершенно четко напомнило ему о Пиноккио, а именно – лицо огромной, снятой во весь экран куклы-марионетки. В том кадре на переднем плане виднелись какие-то острые скалы, за ними – плоская, как стол, песчаная пустыня, посреди которой, уже на заднем плане, разлилось огромное озеро. Вот из этого озера, из его неподвижной глади, и поднималась – медленно, но неуклонно, как восходящее солнце, – голова огромной куклы. По гигантскому лицу, словно слезы, стекали водоросли и ил, что придавало кукольному лицу свирепый, наводящий ужас вид. Смешная детская шапочка, надетая на голову куклы, несколько нарушала общую мрачную картину кадра и впечатление от этого странного персонажа, а затем и сама кукла, словно осознав двойственность производимого ею впечатления, начала хохотать, да так, что весь кадр, все декорации заходили ходуном. Антонио и сам не знал, что именно в этом порождении ночного кошмара напомнило ему о творении Коллоди. Он попытался рассмотреть нос куклы, но это ему не удалось: на лицо марионетки падала какая-то тень – словно от набежавшей на солнце тучи. Эта тень не позволяла внимательно разглядеть черты лица. «И все равно я на верном пути, – подумал Антонио. – Нужно посмотреть побольше этих фильмов, и рано или поздно я что-нибудь найду. Не может быть, чтобы такого человека не привлекла история ожившей деревянной куклы».
Это была последняя мысль, которая пришла в голову Антонио в ту ночь. В следующую секунду он глубоко заснул прямо в отцовском кабинете рядом с пирамидой кассет с фильмами Жоржа Мельеса.
Проснулся он уже почти на рассвете; некоторое время он глядел в белый экран так и не выключенного телевизора и никак не мог понять, снится ему все это или же происходит на самом деле. Почти машинально он протянул руку к стакану с виски и сделал хороший глоток. По всему телу мгновенно разлилось тепло. Почему-то на этот раз оно в наибольшей степени сконцентрировалось в ушах Антонио, отчего те зарделись и по Цвету стали напоминать два красных фонарика. Антонио протер глаза и наугад вставил в магнитофон очередную кассету: «Les cartes vivants»[20] – значилось на ее футляре. Антонио даже не удивился, когда в первом же кадре Червонный Король обернулся и подмигнул ему. Но в следующую секунду Антонио испуганно подался назад. Ему вдруг показалось, что оживший карточный персонаж, почесывая черную бороду, шагнул в его сторону, явно собираясь сойти с экрана. Почуяв неладное, Антонио вскочил и бегом отправился в ванную, где попытался привести себя в порядок, сунув голову под кран. Прохладная вода вернула ему не только способность рассуждать логически, но и присутствие духа. Однако в первый раз за все время просмотра фильмов он осознал, что, продолжая свои поиски, переступает границу запретного.
Он смотрел в зеркало и мысленно спрашивал себя, действительно ли он не возвращается в отцовский кабинет, потому что боится. Странное, не то потешное, не то вызывающее поведение Червонного Короля вывело его из душевного равновесия и заставило покинуть уютный уголок, который он облюбовал себе на полу рядом с грудой кассет. Антонио не знал, что его ждет там, куда ему следовало вернуться, и страх перед неведомым и иррациональным удерживал его на месте, заставляя глядеть в глаза своему отражению в зеркале. Он чувствовал, что его охватывает паника, но ничего не мог с собой поделать. Его ноги словно налились свинцом и отказывались отрываться от пола. Наконец он взял себя в руки и, в очередной раз сунув голову под холодную струю, заставил себя вернуться обратно в кабинет. Двигаясь с огромным трудом, он все же смог дойти до своего места и посмотреть на экран телевизора. К счастью, ни Червонного Короля, ни каких бы то ни было карточных персонажей на экране уже не было. Всю его поверхность затянула серая пелена, словно между зрителем и сценой опустился плотный занавес.
В порыве безотчетного страха Антонио изо всех сил ударил кулаком по груде кассет – они, словно карты из колоды, разлетелись по всему кабинету. Затем он включил все лампы и светильники, до которых смог дотянуться, убеждая себя в том, что делает это, чтобы проснуться, а не из-за того, что чего-то боится. Придя в себя, он увидел, какой беспорядок успел устроить в помещении буквально за несколько секунд: пол кабинета был просто усеян маленькими черными коробочками, в которых хранилась бесценная часть коллекции его отца – самое полное в мире собрание фильмов Жоржа Мельеса.
В этот момент в кабинет вошел мажордом. Увидев непорядок, царящий в святая святых особняка, он позволил себе упрекнуть Антонио в непочтительном отношении к собственному отцу:
– Отец не одобрил бы твое поведение, если б увидел, как ты обходишься с его любимой коллекцией.
– Не лезь не в свое дело. Откуда ты знаешь, что отец одобрил бы, а что нет? – раздраженно ответил Антонио.
– Постарайся не устраивать беспорядок и не разбрасывай кассеты по полу. Сеньор особенно любит именно этот, французский раздел своей коллекции. Если ты не расставишь все фильмы по местам, можешь быть уверен – ноги твоей больше не будет в Сересас.
– Пошел вон отсюда! – грозно прикрикнул Антонио. – Ты кто такой? Нашел кому советовать. Я сам разберусь, что и куда поставить. Можешь не беспокоиться: все будет в полном порядке. А если ты хоть слово скажешь отцу, то я лично сделаю все от меня зависящее, чтобы именно твоей ноги больше не было у нас на вилле.
Мажордом вышел из кабинета, не забыв напоследок одарить хозяйского сына не слишком дружелюбной улыбкой. Сам Антонио почувствовал себя неловко. Глупо было кричать на человека, которому отец доверял много лет, как на провинившуюся прислугу. Он винил себя, что совершенно не знает вкусов и предпочтений собственного отца и является в его доме практически посторонним человеком, гостем, в отличие от того же мажордома. «Похоже, – подумал он, – мне в мои годы еще предстоит многому научиться, вот только знать бы, хватит ли оставшихся дней на то, чтобы выучить самое необходимое». Несмотря на все грозные заявления, прозвучавшие в адрес мажордома, сам Антонио опасался реакции отца, доведись тому узнать, как варварски он обошелся с его любимыми кассетами. Самое глупое заключалось в том, что кассеты он разбросал в приступе страха, причина которого сейчас, при свете дня, выглядела как нельзя более глупой.
Позавтракав, Антонио ушел в свою комнату и крепко заснул. Никто его не тревожил, и он проспал без всяких кошмаров и сновидений до восьми вечера. К этому времени дневной свет стал меркнуть, и роща, окружавшая виллу со всех сторон, подернулась легкой дымкой сумерек. Антонио принял душ в ванной комнате, отделанной зеленым мрамором. Всю эту роскошь отец специально заказал, чтобы порадовать свою жену – мать Антонио. Но та даже не поблагодарила его за все заботы. Так уж получилось, что ни жена, ни сын никогда не спешили выразить актеру свою признательность за что бы то ни было. Мать Антонио стала вести себя так с тех пор, когда в ее отношениях с мужем начали появляться первые сложности. Впрочем, следовало признать, что и актер пытался укрепить брак весьма своеобразным способом: он то и дело завязывал легкомысленные романы на стороне, рассчитывая, что это заставит супругу ревновать и пробудит в ней угасающие чувства с новой силой. Может быть, другая женщина и клюнула бы на эту удочку, но в данном случае такая стратегия оказалась безрезультатной.
Мать Антонио принадлежала к тому типу холодных красавиц, которых часто снимали в период немого кино. Эти женщины с вечно влажными глазами с легкостью разбивали сердца мужчин, жадно взиравших на них из другого угла экрана. На самом же деле Антонио видел маму плачущей лишь один раз в жизни: в тот день, когда умер один из ее ручных попугайчиков. Эти птички следовали за ней повсюду, и она относилась к ним с такой нежностью, которую была способна проявлять лишь к домашним животным. Насекомые, в отличие от зверюшек и птичек, приводили ее в бешенство. Особенно она не терпела мух. Всем служанкам было строго-настрого приказано под страхом увольнения не допускать появления в доме ничего летающего и жужжащего. Если же по чьему-либо недосмотру одинокая зеленоватая муха, отливающая металлическим блеском, залетала с ближайшего поля в тщательно охраняемый особняк, в доме поднималась буря негодования, и после короткого расследования виновница появления нежелательного гостя немедленно получала расчет – даже раньше, чем уничтожался или изгонялся жужжащий интервент. Мать Антонио была настолько холодным и необщительным человеком, что и теперь, когда они с сыном созванивались, она лишь повторяла какие-то дежурные фразы, позволявшие сделать вывод, что о существовании сына она еще не забыла. Кроме того, она неизменно напоминала Антонио, что он должен заботиться об отце и ни в коем случае не огорчать его. Таков, по ее мнению, был его сыновний долг. «Да ладно, мама, – обычно перебивал ее Антонио на этом месте, – уж кто бы говорил о заботе. Сама бросила отца без всякого повода и уехала от нас, ничего не объяснив». При этих словах мать обычно меняла тему разговора и переходила с назидательной лекции на светскую беседу о погоде. Всякий раз она не забывала с содроганием вспомнить жаркий мексиканский климат и помянуть отдельным недобрым словом духоту в столице, из-за которой, по ее глубокому убеждению, у нее в те годы, которые она провела с отцом Антонио, все ноги были в язвах. «В Сересас воздух хотя бы чуть свежее. Старайся бывать на вилле почаще и, кстати, не забывай поливать те две белые бугенвиллии, которые посадили по моему распоряжению у входа на террасу». На этом обычно и заканчивался разговор. Антонио, в силу присущей ему беспечности, да и из чувства протеста, вел себя совершенно не так, как советовала ему мать. Те же бугенвиллии давно бы засохли на корню, если бы о них не заботился вежливый и исполнительный мажордом, с которым Антонио только что обошелся так по-хамски.
Прохладный душ помог Антонио окончательно проснуться и прийти в себя. Вернувшись в гостиную и заглянув в отцовский кабинет, он даже вздрогнул: ощущение было такое, будто кто-то здесь проводил обыск. Кассеты были разбросаны по всему полу. Некоторые залетели в самый дальний угол, под стол, а одна даже почему-то повисла на стене, зацепившись за крючок, на котором висела одна из отцовских фотографий. Поразившись собственной глупости, Антонио начал собирать кассеты. Он складывал их более или менее аккуратными пачками, откладывая отдельно в сторону те, что были помечены инициалами «Ж. М.». В какой-то момент ему стало казаться, что валяющиеся по всей комнате коробочки никогда не кончатся, что, пока он относит очередную пачку на письменный стол, оставшиеся успевают размножиться не то делением, не то почкованием – в общем, как-то очень продуктивно. Собрав и аккуратно разложив около четырехсот фильмов, он вдруг наткнулся на пустую коробку, на которой значилось: «La véritable histoire…»[21] Эта незавершенная фраза не могла не привлечь его внимания, и ему тотчас же захотелось посмотреть столь загадочно названный фильм. Вот только кассеты в коробке почему-то не было.
Он не стал упорствовать в попытках немедленно найти запропастившуюся куда-то ленту и, вполне справедливо полагая, что рано или поздно она сама найдется, продолжил приводить в порядок разбросанный по комнате французский раздел отцовской коллекции. На это у него ушел весь вечер. По правде говоря, Антонио очень не хотелось, чтобы отец догадался, что он провел чуть ли не сутки, просматривая один за другим французские фильмы, не уделив ни минуты внимания тем картинам, которые принесли его отцу славу и богатство.
Сложив в конце концов все кассеты по порядку и расставив их на полке стеллажа так, словно никакого стихийного бедствия в кабинете не было, Антонио почувствовал себя значительно лучше. Впрочем, эту тяжелую работу он закончил уже за полночь. Усталость давала о себе знать. Он с удовольствием пошел бы к себе в комнату и лег спать, но его продолжало беспокоить отсутствие одного-единственного фильма из всего французского раздела. Повертев в руках пустой футляр с загадочным, словно недописанным названием, Антонио вздохнул и стал методично, буквально сантиметр за сантиметром, осматривать кабинет и гостиную, куда прошлой ночью отлетела часть разбросанных им кассет. При этом Антонио не поленился отодвинуть все диваны и кресла и заглянуть под все шкафы и стеллажи, которые не мог сдвинуть без посторонней помощи. Он рискнул даже на время переставить в другое место две золотые статуэтки – призы, которые отец ценил больше всех среди полученных им за долгую карьеру. Для этих статуэток он в свое время заказал что-то вроде хрустальных постаментов, благодаря чему сверкающие трофеи возвышались над креслами, журнальными столиками и прочей мебелью «сидячего» уровня. Все было безрезультатно: короткий шестиминутный фильм с незаконченным названием как сквозь землю провалился. Антонио отказывался в это верить. В какой-то момент он поймал себя на том, что желание посмотреть исчезнувшую картину становится у него просто навязчивой идеей. Интуиция все более настойчиво подсказывала ему, что эта лента просто должна была оказаться так или иначе связана с его последним путешествием на Гаити. Его отец – ни дать ни взять старый Джеппетто – собрал целую коллекцию оживших киномарионеток. Нет, актеров, конечно, никто не дергал за ниточки, но и назвать их персонажей живыми людьми у Антонио язык не поворачивался. Они шевелили губами, произнося заученные диалоги, и жестикулировали так, как от них требовали законы жанра. При этом Антонио не покидало ощущение, будто время от времени на заднем плане, где-нибудь в уголке кадра, мелькали пальцы того человека, который управляет действиями мельтешащих на переднем плане персонажей. Порой это присутствие ощущалось как порыв ветра, который нельзя увидеть, но можно почувствовать по движению взметнувшихся с земли к небу облаков пыли.
Обыскав кабинет и зал буквально миллиметр за миллиметром и не обнаружив пропавшей кассеты, Антонио впал в отчаяние. Его несколько утешал тот факт, что отец, скорее всего, не хватится пропажи, потому что футляр от кассеты был на месте и внешне весь французский раздел выглядел так, словно все фильмы стояли нетронутыми. И все же издевательская глупость сложившейся ситуации не давала Антонио покоя. В его распоряжении находилось около сорока тысяч фильмов, а тот единственный, который был ему нужен, куда-то подевался. Антонио вылил в стакан оставшийся в бутылке виски и буквально одним глотком выпил его. Он был растерян и понятия не имел, что делать дальше. Темная тропическая ночь, окутавшая Сересас, навалилась на молодого человека, как проклятие.
Он вышел из гостиной на террасу и подошел к бассейну, который благодаря удачно расставленным среди окружающих его растений прожекторам был похож на таинственное лесное озеро, в неподвижной воде которого отражалась вся чернота нависшей над миром ночи. Антонио с разбегу нырнул в бассейн, не желая думать ни о том, сколько сейчас времени, ни о том, сколько спиртного он успел выпить за прошедший вечер. В момент падения в воду его сознание затуманилось. Он почувствовал себя метеором, падающим с неба в океан: он так же раскалился от стремительного полета сквозь плотные слои атмосферы и так же под действием силы тяжести и инерции вспарывал толщу закипающей воды, оставляя за собой след из огня и пара, какой остается за металлической заготовкой, которую кузнец опускает в воду, чтобы закалить металл. Огненный шар, в который превратился Антонио, не мог ни изменить траекторию движения, ни остановиться, ни тем более повернуть вспять. Еще через несколько секунд Антонио потерял сознание.
Открыв глаза, он не без труда понял, что лежит на кровати в комнате для гостей. Кто-то снял с него одежду, и теперь он был прикрыт лишь белой шелковой простыней. Антонио била лихорадка, и ему не удавалось избавиться от навалившегося чувства безграничной пустоты. В комнате он был один, а сил, чтобы крикнуть и дать о себе знать, ему не хватало. Через несколько минут он вновь погрузился в сон, так и не поняв, каким образом попал из бассейна в кровать. При этом где-то в закоулках еще не вполне вернувшегося к нему сознания блуждала неясная мысль о пропавшем фильме, посмотреть который ему так и не удалось.
Проснувшись, он первым делом увидел мажордома, который молча, мрачно и внимательно разглядывал его.
– Хоакин, сколько я уже сплю? – спросил он, скорее лишь для того, чтобы завязать разговор. На самом деле он вовсе не горел желанием узнать правдивый ответ на этот вопрос.
– Достаточно долго, чтобы напомнить тебе, что ты собирался уехать отсюда еще три дня назад.
– Ну ладно тебе, хватит обижаться. Признаюсь: я неблагодарная скотина. В конце концов, я всего лишь сын своего отца.
Принеся эти сбивчивые и не слишком хорошо сформулированные извинения, Антонио настоял на том, чтобы откровенно поговорить с мажордомом. Он прекрасно понимал, что Хоакин спас ему жизнь, а также что он никогда не расскажет отцу, что здесь произошло. И все же Антонио отдавал себе отчет, что Хоакин отнюдь не высокого о нем мнения, а добрым отношением к себе он обязан лишь благоговейному почтению, которое мажордом испытывал к старому актеру. То, что Хоакин терпел и даже прикрывал все его выходки, было всего лишь следствием его отношения к отцу Антонио.
Время, отведенное Антонио для пребывания на вилле Сересас, заканчивалось. Несколько дней, проведенных в беспамятстве, а потом в горячке после столь необдуманного ночного купания, чуть не стоившего ему жизни, были потрачены впустую – по крайней мере с точки зрения поисков так нужной ему информации. Признав свое поражение, он тем самым словно дал себе индульгенцию на то, чтобы продолжать валяться в постели. Чувство стыда за свое безрассудное поведение отнимало у него последние силы, которые он с удовольствием потратил бы на то, чтобы еще раз хорошенько поругаться с Хоакином. О друзьях думать ему не хотелось. Почему-то Антонио был уверен, что Марк, например, к этому времени уже разработал некую теорию, согласно которой Пиноккио тем или иным образом был связан с каким-нибудь невероятным событием в полной противоречий истории Великобритании. «Марк наверняка получил мое письмо, – думал Антонио, – и они с Федерико знают, что я в Сересас. Как теперь оправдаться перед ребятами, что после стольких дней, проведенных якобы в активных поисках, я предстану перед ними с пустыми руками?»
Воспоминания о Федерико повергли расстроенного Антонио в еще большее уныние. Он прекрасно знал характер итальянца и мог поспорить с кем угодно, что именно Федерико уже продвинулся дальше всех на пути к подлинно научной, снабженной неопровержимыми доказательствами атрибуции черепа. Федерико был романтиком по натуре, но в то же время человеком цельным и собранным: если ему предлагали тем или иным образом оценить какую-нибудь гипотезу, он не успокаивался, пока не находил ее четких и надежных подтверждений или опровержений. Кроме того, как человек науки, он владел методикой исследования, был привычен к долгой рутинной работе, к изучению множества дополнительных документов, а его пустой кошелек в подобных ситуациях являлся не препятствием, а, напротив, гарантией успеха. «Конечно, – думал Антонио в горячечном бреду, – Федерико легко: его никто не упрекнет, что он занялся этими поисками от нечего делать или оттого, что с жиру бесится». За время вынужденного пребывания в постели комплексы Антонио, как выяснилось, только обострились. Чем больше он думал о своих старых друзьях, тем хуже себя чувствовал. В конце концов он додумался до того, что они якобы общаются с ним лишь потому, что он сын знаменитого человека и к тому же представляет собой занятный экземпляр продукта образования, далекого от академических стандартов. Единственное, что его успокаивало, – это твердая уверенность, что никто, включая друзей, не догадывается, насколько на самом деле он не уверен в себе и насколько занижена его самооценка.
Доведенный своими невеселыми мыслями почти до личиночного состояния, он даже не заметил, как в его комнату вошел Хоакин. Когда сознание вернулось к реальности, он увидел мажордома, стоявшего возле кровати и державшего в руках поднос с чашкой горячего бульона.
– Вот, выпей бульон, а вечером шофер отвезет тебя обратно в город.
– Все понятно, Хоакин. Ты не переживай: уеду, когда скажешь.
С кротостью Франциска Ассизского Антонио приподнялся на подушках и взял с тумбочки чашку с бульоном, которую мажордом поставил поближе к кровати. Сам Хоакин не вышел из комнаты, а присел на стул и стал наблюдать, как хозяйский сын поглощает навязанную ему не то еду, не то лекарство. Антонио молча выпил весь бульон до капли.
– Нам с тобой нужно поговорить, – сказал Хоакин сурово и в то же время бесстрастно. – Я хочу, чтобы ты больше не появлялся здесь, на вилле.
Антонио смотрел на него печальными, погасшими глазами. Было похоже, что прозвучавшее требование лишь подтвердило его догадки о собственной ничтожности. У него не было ни сил, ни желания противостоять натиску воли человека, выгонявшего его из собственного Дома.
– Если поклянешься больше здесь не показываться, я лам тебе то, за чем ты сюда явился.
Эти слова Хоакина возымели мгновенное исцеляющее действие на Антонио. От неожиданности он будто забыл о болезни и слабости и вскочил с кровати. Впрочем, взбодрившемуся сознанию не удалось обмануть еще слабое тело. Ноги Антонио подогнулись, и он, не успев сделать и шага, присел на край кровати. Он был совершенно голый, и Хоакин внимательно рассматривал его, отчего Антонио стало не по себе. Он набросил на себя одеяло и уставился на мажордома. Не дождавшись разъяснений, решил сам задать мучивший его вопрос:
– И что же ты собираешься мне дать? Мы говорим об одном и том же?
Хоакин, проявляя упорство и твердость характера, которые раньше за ним не замечались, спокойно повторил:
– Сначала поклянись.
Внутренне Антонио никак не мог взять в толк, почему от него требуется какая-то торжественная клятва, если ему всего лишь нужно получить некую вещь от человека, который фактически является его слугой. И все же он вспомнил о пропавшем фильме, о той навязчивой идее, которая привела его в Сересас, и решил, что имеет полное право продать душу дьяволу, который так настойчиво предлагает ему эту сделку. «Ничего, он еще об этом пожалеет», – подумал Антонио, сам толком не зная, кого подразумевает под местоимением «он» – дьявола или Хоакина, но мысленно убеждая себя, что устное обещание не стоит и ломаного гроша.
– Ладно, я клянусь, что больше не появлюсь в поместье Сересас. Доволен?
– Ты за кого меня держишь, за идиота? Неужели ты возомнил, что твое слово хоть что-нибудь значит?
– Я тебя не понимаю. – Антонио был искренне удивлен и сбит с толку. – А чего же ты от меня хочешь-то?
– Сейчас объясню. Оденься и приведи себя в порядок. Увидимся через час в саду у террасы.
Пока Антонио переваривал услышанное, Хоакин спокойно встал со стула и вышел. Антонио оставалось лишь признаться самому себе, что он клюнул на ловко заброшенную мажордомом удочку и теперь готов играть по навязанным ему правилам – лишь бы получить загадочный выкуп, обещанный ему.
Время шло, и Антонио все чаще поглядывал на часы. С одной стороны, ему не терпелось узнать, что именно задумал Хоакин, но с другой – он твердо решил несколько задержаться в комнате, чтобы своим опозданием в какой-то мере поставить на место зарвавшегося мажордома, возомнившего о себе невесть что. Стараясь дотянуть время, он медленно, нога за ногу, прогулялся по закоулкам садового лабиринта, который, в отличие от своего европейского прообраза, был создан не из густых, аккуратно подстриженных кустов, а из колючих кактусов: европейская садовая забава приобрела на мексиканской почве несколько иной смысл. Если в европейском лабиринте густая листва полностью перекрывала обзор, но сами кусты не были непреодолимым препятствием для заблудившегося посетителя, то человек, находящийся в мексиканском лабиринте, мог видеть практически из любого уголка и вход, и выход, но пройти к ним напрямую, сквозь изгородь, ощетинившуюся колючками, в том числе и ядовитыми, было невозможно. Мать Антонио не то что не любила, а просто ненавидела этот уголок сада у стен виллы, а отец, со свойственным ему несколько странным чувством юмора, не уставал повторять ей: этот очаровательный садик является точным отражением ее характера – всегда внешне корректная в отношениях с людьми, она при более близком знакомстве оказывалась человеком холодным и жестким.
Побродив по лабиринту с четверть часа и в очередной раз подивившись тому, какие причудливые формы принимают порой кактусы, Антонио спокойно вернулся ко входу и направился к террасе. Здесь, сидя на скамеечке под самой высокой юккой в саду, его уже ждал Хоакин и держал в руках какой-то пакет.
– Ты должен поклясться, что больше никогда сюда не приедешь. Этот дом не твой, а твоего отца.
Антонио, уже пришедший в себя и гораздо более уверенный, возмущенно ответил:
– А ты кто такой, чтобы выгонять меня из отцовского дома? С чего ты взял, что можешь ставить мне условия?
– Я знаю, зачем ты приехал и что искал, – сказал Хоакин, показывая на пакет. – Предупреждаю, не вздумай вести со мной нечестную игру.
Антонио попытался презрительно улыбнуться, но и сам понял, что улыбка получилась скорее истеричной, чем естественной. Его собеседник явно взял на себя гораздо больше полномочий, чем возложил на него отец Антонио.
– Два дня назад твой отец открыл сейф и обнаружил там останки человека, которого, как принято считать, никогда не существовало. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?
Антонио и представить себе не мог, что у его отца сложились настолько доверительные отношения с человеком из обслуги и что неожиданную находку в собственном сейфе он станет обсуждать с дворецким. Но слова Хоакина не оставляли сомнений, что дело обстояло именно так.
– А почему он мне ничего не сказал? Он ведь знал, что я здесь, и я мог бы ему все объяснить.
– Позволю себе напомнить, что в тот вечер тебе было не до разговоров, – ты ведь едва не утонул и лежал без сознания.
С этим доводом Хоакина нечего было и спорить. Видно, отец звонил, когда Антонио уже лежал в отключке, после того как перебрал спиртного и чуть не захлебнулся, нырнув в бассейн. Взявший трубку мажордом наверняка придумал какой-нибудь благовидный предлог, чтобы не звать Антонио к телефону, а заодно и сумел разговорить старого актера и выяснить, чего ради ему вздумалось звонить на ночь глядя. Этот мажордом из Сересас сам был отличным актером: отец и нанял его, познакомившись на съемках фильма по какому-то роману Жюля Верна, где играл главную роль. И сейчас Хоакин, важно сидящий под юккой в левантийском саду, выглядел прямо как персонаж из фильма.
– Ну хорошо, убедил. Клянусь, что больше сюда не приеду. Теперь твоя очередь. Выкладывай, что ты принес.
– А ты не торопись, – ответил Хоакин. – Сначала распишись кровью вот на этом платке.
Испуганный Антонио взглянул на руки мажордома. В правой тот держал белый платок, а в левой – нож, который моряки используют и как оружие, и как инструмент для резьбы и для починки разных вещей.
Храбрость никогда не была самой яркой чертой Антонио; кроме того, он вполне обоснованно стал опасаться за свою жизнь, оказавшись один на один с явно свихнувшимся дворецким.
– Надо сделать маленький надрез на левой ладони. Потом промокнешь ранку платком, и эта кровь засвидетельствует твою клятву.
Антонио попятился и испуганно покачал головой. Мысль о вынужденном членовредительстве не слишком вдохновляла его. Впрочем, отступать было некуда.
– Это просто какая-то пародия на фильм про пиратов. На, вот тебе моя кровь… – С этими словами он проткнул кожу на левой руке.
Он протянул Хоакину платок с красным пятном, а тот в ответ подал бинт и даже помог перевязать рану. Потом отдал Антонио сверток, который на время разговора убрал в карман:
– Вот, держи «La véritable histoire…» Она тебе понравится, а насчет отца не беспокойся – кассета все равно была моя. Французскую коллекцию он не сам собирал: я подарил ее.
В назначенный Хоакином час появился шофер, чтобы отвезти в столицу Антонио, у которого болела рука и кружилась голова. Он недовольно морщился на каждом повороте, на каждой кочке или ямке, в которую попадала машина. Но у него было ощущение, что все эти страдания не напрасны. Его беспокоили странные доверительные отношения между отцом и мажордомом; загадочной оставалась и коллекция французских фильмов, включавшая несравненную подборку картин Жоржа Мельеса. Кроме того, Антонио не мог не признаться себе, что сам Хоакин стал для него новой загадкой, ключ к которой подобрать будет непросто. По крайней мере было ясно, что тот неожиданно много знает не только о жизни самого Антонио, но и о таинственной жизни того человека, чей череп Антонио угораздило купить у неграмотной гаитянской старухи.
Глава третья
Его комната была выстлана мягким толстым ковролином, глушившим шаги, которыми Марк Харпер нервно мерил семьдесят квадратных метров своего пространства. Он волновался, потому что не знал, как сообщить друзьям о решении, принятом им накануне в Лондоне. Он прекрасно понимал, что такие изменения в его жизни будут восприняты ими в штыки. Ничто, с точки зрения друзей, не могло оправдать тот шаг, который он был готов сделать; ничто не могло вызвать к нему хоть каплю сочувствия с их стороны. События самого ближайшего будущего смешивались в его беспокойном сознании с теми, которые при нормальном течении времени должны были произойти гораздо позднее.
В Лондон он поехал впервые после долгого перерыва, когда осознал, что ждать больше просто нельзя. Затаившись, он дождался лишь того, что понял: и Федерико, и Антонио достигли некоторого успеха в начатых расследованиях. Этот вывод неопровержимо следовал из посланий, которые Марк регулярно получал от друзей по электронной почте. Федерико даже удалось встревожить и в некоторой степени напугать его своими странными рассказами о новом понимании дерева как одушевленного строительного материала и едва ли не первоэлемента в мировой космогонии. Кроме того, Федерико настойчиво упоминал в своих рассуждениях о какой-то таинственной организации, которую все остальное человечество, видите ли, ошибочно считало давно сгинувшей в бездонном океане истории. Итальянец, и сам явно напуганный, рассказал Марку о некоем братстве, к которому собирался присоединиться, чтобы получить столь нужную ему информацию. Прием в члены этого неизвестно откуда взявшегося братства должен был состояться непременно ночью, а дата назначалась исходя из какого-то особого положения звезд на небе. Это братство, по словам Федерико, владело искусством предсказания будущего и, не имея сколько-нибудь значительных письменных архивов, тем не менее хранило некое утраченное человечеством древнее знание. Марк ничего не понял из сбивчивых писем Федерико. Судя по осторожности, с которой тот подбирал слова, и по тому, как он лишь намеками касался многих тем, становилось понятно, что Федерико и самому не по себе от того, во что он ввязался. Например, он поведал Марку, что в назначенный ему полуночный час должен будет встретиться с какими-то «добрыми братьями», причем все они будут присутствовать на посвящении новичка в масках, не позволяющих видеть их лица. Где будет происходить церемония, Федерико пока не знал. Составной частью ритуала должно было стать возжигание большого костра из хвороста, собранного братьями в лесу. Федерико заверили, что, присоединившись к братству, он сможет познакомиться с пребывающими в добром здравии родственниками Пиноккио. Антонио в свою очередь сообщил Марку, что в ходе поисков чуть не погиб. Поначалу Марк не принял это заявление близко к сердцу, посчитав его некоторым преувеличением, свойственным эксцентричному мексиканцу. Тем не менее по мере того, как ему стали открываться все новые подробности случившегося, дело предстало в другом свете. Ссылка на некий считавшийся утраченным и чудом обретенный фильм Жоржа Мельеса окончательно склонила Марка к тому, чтобы поверить в правдивость рассказа. Он и раньше знал, что поместье Сересас было для Антонио чем-то вроде проклятого места, где тот без крайней необходимости старался не появляться. Сам факт того, что Антонио не просто приехал в отцовское поместье, а остался там специально на несколько дней, говорил о том, что его догадки и предположения имели под собой вполне реальное основание.
Подробно ознакомившись с посланиями товарищей по так странно закончившемуся путешествию на Гаити, Марк понял, что лишь он один остался в стороне от поисков. Ему нечем было поделиться с друзьями, и он ничем не мог помочь им в их попытках восстановить утраченный скелет куклы, созданной Коллоди, по одному-единственному сохранившемуся фрагменту, пусть и весьма эффектному. Нежелание Марка предпринимать какие-то активные действия было основано на его скептическом отношении ко всей этой затее: с его точки зрения, история Пиноккио не могла быть реальной просто потому… что не могла быть таковой. Если же вдруг исследования, проведенные его друзьями, дадут неопровержимые доказательства подлинности носатого черепа, то и в этом случае в жизни Марка не произошло бы никаких перемен. Какое, спрашивается, отношение к нему могла иметь вся эта история, являющаяся частью столь не любимого Марком мира массовых зрелищ и увеселений? Его не прельщала и возможная перспектива произвести сенсацию и в итоге занять место на страницах какой-нибудь ученой книги, которую, быть может, даже будут из поколения в поколение брать с полки и перечитывать его собратья по священному братству библиофилов. Нет, все это не могло заставить Марка изменить свое безразличное отношение к истории, в которую втянули его друзья. Марк не выбирал ни эпоху, ни общество, в которых он жил. Но ему хотелось сохранить в своей жизни то, что казалось ему самым хрупким и уязвимым, а именно свое серое и унылое, пасторально-умиротворенное существование на условиях практически полной анонимности. На данный момент во всем этом его не устраивало лишь одно: он не мог смириться с тем, что его друзья отважно ввязались в дело, от которого им при любом раскладе не будет никакой реальной пользы, и, невзирая на все опасности, продолжают свои поиски, в то время как он не помог им ни единым словом или делом. В его глазах все обстояло именно так: двое друзей продемонстрировали способность к целеустремленным действиям и преодолению недоверия к своему делу, а кроме того, проявили даже способность к самопожертвованию. Марка продолжали терзать сомнения: несмотря на активные действия двоих его друзей, несмотря на их отважные экспедиции в неведомое, они так ничего и не добились – ни подтвердить, ни опровергнуть внекнижное существование ожившей куклы по результатам проведенных исследований было невозможно. Вполне вероятно, что оба они ошиблись курсом и теперь героически преодолевают трудности на пути, ведущем в никуда. Марк же хотел действовать наверняка – не вступая в какие-то подозрительные братства и не поддаваясь галлюциногенному воздействию загадочных, неизвестно откуда взявшихся фильмов.
Вот с таким настроением Марк Харпер и стал посещать библиотеку Британского музея. Ему всегда нравилось копаться в этих бездонных архивах, где даже самое мумифицированное безразличие может неожиданно предстать в образе цветущей юности. В столице у него были хорошие знакомые, которые облегчили ему путь к редким рукописям, документам и просто старинным изданиям. В распоряжение Марка были предоставлены тексты на любом письменном языке, от которого сохранились хоть какие-то свидетельства. Сотрудники этого огромного учреждения скоро привыкли к нему и стали воспринимать как одного из библиофилов среднего калибра, которые, словно стая голодных чаек, пирующих на городской свалке, набрасывались на это бездонное месторождение знаний, образов и просто изящной словесности.
Марк проводил в главном читальном зале под знаменитым стальным куполом долгие часы. Порой он чувствовал себя евклидовым муравьем, тщетно пытающимся постичь великие категории мирового разума. Действовал он тихо и осторожно: прикрываясь, как щитом, принадлежностью к старинному и благородному семейству, образованием, полученным в одном из лучших университетов, и свойственным ему от рождения чувством стиля Марк посвятил окружающих его в библиотеке людей в свои намерения пополнить познания в области итальянской истории XIX века и проявлял готовность перелопатить для этого один за другим десятки томов. Уже больше месяца он по крайней мере раз в неделю приезжал в этот храм науки, где и проводил свои свободные часы.
Поначалу он чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Вход в библиотеку музея был открыт для Марка благодаря поручительству двух друзей его дяди Пола, признанного авторитета в области энтомологии, обязанного своей известностью бескомпромиссной войне, которую он вел против напасти, обрушившейся на картофельные поля, – нашествию каких-то жуков. Получив столь серьезные рекомендации, Марк вошел в библиотеку с парадного входа, причем никому и в голову не пришло стать у него на пути и хотя бы поинтересоваться, кто он такой, кто его сюда пустил и что он вообще делает в этом святилище. Более того, он был удостоен аудиенции у самого директора отдела истории, который принял его в своем кабинете, не без иронии обставленном в подчеркнуто современном стиле. Направление, обозначенное в библиотечной десятичной классификации как раздел 9.0, открылось для него бескрайним океаном. А Марк Харпер, словно случайно уцелевший после кораблекрушения пассажир судна, забрался в подвернувшуюся шлюпку и неумело греб, сам не зная куда, испытывая, с одной стороны, страх перед будущим, а с другой – величайшее счастье оттого, что еще жив и может сам искать путь к спасению. Вскоре биографии Мадзини, Гарибальди, Гольдони и даже самого Верди стали ему так же знакомы, как, например, легенда о короле Артуре и его отважных рыцарях. На его столе одна книга сменяла другую, но судьба деревянной куклы Пиноккио оставалась для охотника за исчезнувшим в глубине веков знанием столь же загадочной, как и в самом начале поисков.
Марк понимал, что время уходит. Друзья даже перестали беспокоить его своими новостями, и он чувствовал, что должен порадовать их хоть чем-то. С каждым днем он все глубже вгрызался в историю Италии. Он быстро познал неписаные законы жизни главного читального зала, освоился с невероятно сложным центральным каталогом, а через некоторое время даже был удостоен особой привилегии: ему неофициально выделили собственное рабочее место – письменный стол, стоящий в стороне от основных путей внутрибиблиотечной миграции читателей и сотрудников. Здесь, в укромном уголке, он мог спокойно сосредоточиться на предмете своих исследований.
Несмотря на строго научный метод поисков, Марку удалось выудить из прочитанных книг лишь отдельные разрозненные факты, так или иначе связанные с волновавшей его темой: например, он узнал, какого цвета были волосы у Карло Лоренцини, ознакомился с зажигательными речами Гарибальди, а также получил кое-какую информацию, косвенно свидетельствовавшую, что карбонарии и по сей день играют довольно активную роль в политической жизни Италии. Судя по всему, речь шла именно о том братстве дровосеков и угольщиков, в которое собирался вступить Федерико, действуя в соответствии со своим устаревшим эмпирическим методом познания реальности. Доведись великому скептику Джорджу Бернарду Шоу увидеть, как Марк прилежно делает заметки и выписки из книг, в которых вскользь, намеками говорится о каком-то никому не известном тайном ордене, от его презрительного саркастического смеха содрогнулись бы литые чугунные конструкции этого пантеона Викторианской эпохи.
Мертвецы, величайшие из величайших и достойнейшие из достойнейших, помогали Марку заново учиться читать. В потоке знакомых и незнакомых лиц в один прекрасный день ему явился Дизраэли в облике странствующего еврея в черном сюртуке и с рыжей бородой. Безмолвно, одним лишь жестом он приказал Марку обратить внимание на книгу Рафаэля Мирами, еврея из Феррары, жившего в XVI веке. Трактат этого малоизвестного мыслителя был посвящен зеркалам. Читая этот текст, Марк видел искаженные лица, колеблющиеся и расплывающиеся в каких-то невероятных вспышках и бликах. Оптические чудеса могли превратить человеческий нос в бесконечную асимметричную лестницу, по которой можно забраться в самые таинственные и неисследованные уголки сознания. Благодаря совету бывшего премьер-министра Марк смог научиться читать географическую карту человеческого лица и осмысленно рассуждать об аномальных возвратных изображениях, порожденных особым миром плоских зеркальных отражений. «La Scienza degli specchi»[22] Мирами увела его в сторону от раздела 9.0, от истории, описанной в книгах и рукописях, от опубликованных документов и тайных протоколов. Мир и история предстали перед Марком в совершенно ином виде. Впервые в жизни он сумел отойти от привычных, навязанных с детства и юности стереотипов. Ему уже не казалось странным, что Пиноккио вполне мог быть не куклой, вырезанной из полена, а образом, отраженным в реальности благодаря самому совершенному и чистому из всех зеркал.
Дизраэли был не единственным покойным посетителем библиотеки, помогавшим Марку в его поисках. Как-то раз Марк пришел в музей ближе к вечеру, когда на улице шел проливной дождь. Он настолько промок, что ему пришлось некоторое время постоять около батареи, чтобы дождаться, когда из его ботинок наконец перестанет течь вода. Потеряв чуть ли не целый час, он все-таки смог пройти на свое почетное рабочее место. Через некоторое время к нему неожиданно подошел молодой человек с голубыми полуугасшими глазами, в пиджаке в полоску и с белой веревкой на шее. Естественно, молодой человек был мертвецом: это оказался не кто иной, как Чарльз Диккенс, которого трудно было не узнать хотя бы по характерно всклокоченным кудрявым волосам. Бледной рукой, пальцы которой были цвета ирисов, Диккенс взял ручку Марка и написал на странице его тетради два слова: «Сатис-хаус».
В первый момент Марк не понял смысла этого послания. Ему даже показалось, что автор «Дэвида Копперфильда» намеревается сбить его с толку, направить его энергию на исследование своего самого загадочного произведения, как будто ему было мало груды критических статей, книг и исследований, написанных о его прозе. Харпер решил и сам прикинуться безответным мертвецом, которому простительно не обратить внимания на предложение столь уважаемого покойника, как Диккенс. В тот день у него по плану было намечено штудирование объемистого труда, посвященного костюмам тосканских крестьянок, которые они надевали на праздник Весны. Он представил себе родной поселок Джеппетто, окруженный пшеничными полями, и вспомнил, что жители деревни прозвали старого плотника «Полентиной» за ярко-желтый цвет его парика. Согласно сказке Коллоди, одного этого слова было достаточно, чтобы привести Джеппетто в ярость: оно означало большую миску, до краев наполненную полентой – ярко-желтой кашей из кукурузной муки. Марк пытался найти в этом слове ключ, которым можно было бы заново открыть для себя книгу или же мысленно построить целый дом – наподобие того, что выстроил для себя Диккенс под названием «Сатис-хаус».
В ту ночь Марк долго не мог заснуть. Воспоминания об унылом доме из романа «Большие надежды» оживали в его памяти с постоянством и методичностью ночного кошмара. Самому Марку в детстве тоже пришлось пролить немало слез в доме, не знавшем ни нежности, ни ласки и оставившем в его душе самые мрачные впечатления. Час шел за часом, и память Марка отбрасывала лишние, ненужные в ту ночь воспоминания, выстраивая в его сознании совершенное, как в зеркалах Мирами, отражение событий, некогда действительно имевших место в его жизни.
Тот дом казался пустым и давно заброшенным; в то же время внутри его все было приведено в какой-то неестественный и неживой порядок. Бабушка Марка, овдовевшая за много лет до рождения внука, всегда приветствовала мальчика улыбкой – тем самым движением губ, которое никогда не выходило за рамки элементарной вежливости. Еще подходя к дому, Марк видел в окне силуэт бабушки, которая неспешно поднимала руку в знак приветствия и столь же неторопливо опускала ее. Перед тем как подойти к крыльцу бабушкиного дома, Марк всегда должен был привести себя в порядок и почему-то обязательно высморкаться. Прямо с порога ему бил в нос резкий запах одеколона. В доме бабушки всегда царил полумрак, но Марку казалось, что он вполне мог бы ориентироваться и в полной темноте, двигаясь просто по запаху. Едва служанка открывала дверь в гостиную, как Марк физически ощущал на себе холодный стальной взгляд, подходивший скорее не пожилой женщине, а офицеру, участвовавшему во многих войнах. Естественно, в этом доме не позволялось ни бегать, ни громко говорить, ни прикасаться к каким-либо вещам, облагодетельствовавшим мир самим фактом своего существования. Никто и никогда вслух не говорил ему об этом, никто не зачитывал правил поведения, но Марк почему-то всегда знал, что от него здесь ждут именно этого. Мать вводила его в гостиную, сажала за стол и прощалась, предварительно одарив сухим, как дамасский ковер, поцелуем: «Завтра я за тобой зайду. Веди себя хорошо и слушайся бабушку. Не забывай, что у нее больное сердце». Марк оставался сидеть в гостиной, тщетно лелея надежду, что на этот раз время пролетит быстрее, чем показывают стрелки часов. А еще он всегда мечтал, чтобы бюст дедушки, которого он при жизни никогда не видел, одним своим присутствием не требовал от него еще более вышколенного поведения, чем можно ожидать от нормального, хорошо воспитанного ребенка.
Бабушка появлялась в гостиной лишь после того, как за матерью закрывалась дверь. Слушать разговоры между ними ему было категорически запрещено. Марк даже и представить себе не мог, о чем таком важном могли говорить две женщины и какие тайны требовалось так тщательно скрывать от детских ушей. При этом уши росли у Марка, как нос у Пиноккио, стоило ему хотя бы случайно услышать обрывки фраз, которыми обменивались мама и бабушка. Слух у него обострялся, и чем более тихим шепотом переговаривались женщины, тем отчетливее он слышал их речь и тем более образно интерпретировал для себя их разговор, порой казавшийся ему просто набором мудреных и ничего не значащих слов. Отношения между мамой и бабушкой нельзя было назвать сердечными. Женщины были настолько разными, что сам факт их спокойного и вежливого общения являлся торжеством терпимости и смирения со стороны каждой. Несмотря на недостаток взаимопонимания, мать Марка навещала старую женщину с завидной регулярностью – не каждая родная дочь ведет себя так учтиво по отношению к матери. Эти визиты обычно продолжались не дольше часа, но повторялись раз, а то и два в неделю. Марк часто умолял маму забрать его с собой и не оставлять у бабушки ночевать, но мать была непреклонна: внук должен радовать бабушку своим присутствием, послушанием и хорошим поведением. Кроме того, оставаясь у бабушки, он должен чувствовать, как сильно она его любит.
Особенно тоскливыми и унылыми были ночи, проведенные в этом доме. Бессонница, заработанная еще тогда, в детстве, сопровождала Марка всю жизнь как амулет. Спал он даже не в самом доме, а в небольшой каморке, оборудованной в полуподвальной пристройке под примыкавшей к дому террасой. Попасть туда можно было, спустившись по лесенке в конце коридора. Эта лесенка была своего рода границей между внутренней, жилой частью дома и внешним миром. По вечерам, несмотря на то что в каморке уже было очень холодно, Марк умолял бабушку не закрывать ставни. Звезды, которые можно было видеть сквозь стекла, пусть даже подернутые инеем, были его товарищами, не дававшими совсем впасть в уныние от ощущения полного одиночества. Бабушка обычно уступала этому капризу плохо воспитанного ребенка, и Марк, лежа в кровати, ловил глазами чуть заметный свет, проникавший сквозь окна. Ему нравилось разглядывать едва проступавшую на белых простынях тень от поднятых на фоне окна рук. Он прекрасно знал, что плакать и просить бабушку остаться с ним хотя бы ненадолго бесполезно. Погасив свет во всем доме, она ложилась спать и никогда не вставала с постели до самого утра. Эти кошмарные ночи изуродовали воображение Марка, создавшего для себя целый мир, населенный какими-то чудовищами. Он выковывал этих монстров из темноты – одного за другим, ночь за ночью. Даже теперь, став взрослым, он по-прежнему боялся просыпаться в темноте и, чтобы избежать очередного приступа безотчетной паники, крепко зажмуривал глаза.
«Сатис-хаус» вымарал практически все воспоминания о его детстве. Но образ бабушкиного дома, столь похожего на описанный Диккенсом в романе о Пипе, оставался живым и ярким, как тогда, в далекие детские годы. Он по-прежнему был населен мрачными привидениями, упорно не желавшими покидать насиженные места. В нем по-прежнему были комнаты, где дыхание давно умерших людей, похожее на холодный сквозняк, от которого вздрагивает и гаснет пламя свечи, ощущается сильнее, чем присутствие живых.
Бабушкин дом был продан уже больше пятнадцати лет назад. После ее смерти дом сначала надолго заперли и лишь спустя какое-то время поделили мебель между наследниками, превратив опустевшее пространство в подобие могильной ямы. Это ощущение пустой гробницы, явно приготовленной не для одной бабушки, также осталось с Марком на всю жизнь. Время от времени, прогуливаясь по окрестностям, Марк подсознательно сворачивал на улицу, ведущую к бабушкиному дому, и останавливался, разглядывая перекрашенные новым владельцем фасад, двери и окна. В такие минуты уныние и печаль, приводившие его к ненавистному дому, становились особенно сладостными. В знакомых мутных стеклах проступали седые прожилки прошлого, а на прощание Марк видел взмах безмолвной и бесплотной, как крыло голубки, руки. Точно так же – беззвучно и бесстрастно – махала ему вслед бабушка.
Два слова, записанные в его дневник призраком Диккенса, произвели на Марка неприятное впечатление. Нет, он не перестал ходить в читальный зал и даже не изменил уже ставшего привычным расписания, но с тех пор чувствовал себя в стенах музея не так уютно, как раньше. Несмотря на изменившуюся для него атмосферу, Марк все же сумел преодолеть свое внутреннее беспокойство и упорно продолжал начатые поиски, пытаясь выбрать из казавшегося бесконечным каталога именно те книги, которые могли бы помочь ему найти ключ к мучившей его загадке. Очень быстро он осознал, что расхожая формула «кто ищет, тот найдет» есть не что иное, как пустая фраза, лишенная какого-либо реального содержания. Чем больше книг он прочитывал, тем больше склонялся к мысли, что пытается найти иголку в стоге сена. Его энтузиазм постепенно шел на убыль, но в тот день, когда он, казалось, уже готов был прекратить бесплодные поиски, судьба свела его с человеком, в корне изменившим взгляды Марка не только на предпринятую им экспедицию в прошлое, но и на его собственную жизнь. Звали этого человека Ада Маргарет Слиммернау. В жизни Марка она появилась словно ниоткуда – в один мартовский вторник, в тот момент, когда он закрыл большой том народных сказок, которые Итало Кальвино собрал в разных провинциях Италии. Марк даже не видел ни лица, ни силуэта женщины, а лишь неожиданно услышал произнесенные где-то неподалеку тихим, едва слышным шепотом слова:
– Мне очень нравится Караваджо, а вам?
Марк поднял голову и увидел рыжеволосую женщину. Непокорные, пышные, словно специально взбитые, кудри создавали вокруг головы незнакомки что-то вроде огненного нимба. Ее глаза цвета зеленого бутылочного стекла смотрели на мир дерзко и в то же время печально-задумчиво. На лице сохранились едва заметные коричневые точки, которые часто бывают видны на детской коже. Принято считать, что эти темные веснушки свидетельствуют о шаловливом характере ребенка, а сохранившись на лице взрослого, намекают на то, что человек так и не смог или не захотел до конца расстаться с детством. Прежде чем ответить на заданный вопрос, Марк на пару секунд отвел взгляд, а затем снова посмотрел на неизвестно откуда взявшуюся женщину.
– Я живописью не интересуюсь, да и вообще, если хотите поговорить об искусстве, то это не ко мне.
Он выпалил сию беспардонную ложь, как мальчишка, который безотчетно поднимает с земли камень и швыряет его в незнакомое окно просто так – чтобы посмотреть, что после этого будет. Сделал он это неспроста: слишком уж надоели ему нежданные гости из загробного мира. Марк и сейчас не мог с уверенностью сказать, кто стоит перед ним: женщина из плоти и крови или же какая-то просвещенная покойница, чей не успокоившийся дух нашел себе временное пристанище в стенах библиотеки, где эта рыжая, скорее всего, провела большую часть жизни.
Как выяснилось, одной нелюбезной фразы было недостаточно, чтобы сбить Аду с толку. Не обращая внимания на ответ Марка, она настойчиво продолжила начатый разговор:
– По-моему, вы сами не знаете, что ищете. Мне кажется, я могла бы вам помочь, если, конечно, вы позволите.
Марк почувствовал себя неуютно; он никак не мог взять в толк, почему незнакомка ведет себя так настойчиво и бесцеремонно. Решив прервать занятия раньше времени, он встал из-за стола и уже раскрыл было рот, чтобы попросить незваную собеседницу оставить его в покое. Предугадав намерение Марка, женщина сумела опередить его, пояснив причину своего появления:
– Прошу прощения, что не представилась сразу. Меня зовут Ада, и меня к вам направил Пол Харпер, ваш дядя. Я специалист – извините за столь самонадеянную характеристику – по итальянской народной культуре.
Услышав эти слова, Марк покраснел до корней волос. Несмотря на полумрак, царивший в дальнем углу читального зала, Ада заметила это и улыбнулась. После первого знакомства Ада встречалась с Марком в библиотеке еще несколько раз. Поначалу он не горел желанием посвящать ее в суть своих ученых штудий, потому что не без оснований опасался непонимания и иронических комментариев в свой адрес. В то же время с каждой встречей он все отчетливее понимал, что этой женщине можно доверить очень многое, если не все, и она готова понять любую его безумную затею и отнестись к ней совершенно серьезно. Двадцать шестого мая Ада Маргарет Слиммернау позволила себе назначить Марку свидание у нее дома – в особняке, находящемся прямо за Ковент-Гарденом. Добираться туда Марку нужно было на метро. Проезжая станцию за станцией, он все больше склонялся к мысли, что настало время открыться и рассказать Аде о том, с какой целью он регулярно и, увы, пока безрезультатно посещает читальный зал. Он не был на сто процентов уверен, что она не рассмеется и не прокомментирует его признание каким-нибудь убийственно ироничным замечанием. Тем не менее он готов был рискнуть. Ему даже не столько было важно, сможет ли Ада помочь ему в попытке разгадать тайну Пиноккио, сколько хотелось узнать, какова будет реакция на столь неожиданное его заявление. Выйдя из метро, Марк еще с четверть часа шел пешком по району, который за последние десятилетия превратился в настоящий туристский муравейник. Первые этажи зданий были сплошь заняты сувенирными лавочками, в которых продавались безделушки на любой вкус и кошелек. Некий налет изящества придавали этому району слонявшиеся по тротуарам актеры, декламировавшие, бубнившие себе под нос и почти выкрикивавшие самые разные шекспировские монологи. Многие из них вносили в тексты классика весьма значительные изменения. Кто-то делал это по причине плохой памяти, а кто-то просто читал себя вправе беспардонно осовременивать великого драматурга, подгоняя его произведения под реалии сегодняшнего дня.
Марк подал пару пенсов белому ангелу на ходулях, который без устали читал стихи и махал крыльями, пытаясь тронуть сердца публики – холодной, по-викториански безучастной к порывам творческой натуры. Миновав старинный рынок, Марк свернул на Элис-роуд и стал спускаться к Темзе. Было пять часов вечера, и яркое, но дипломатично скромное солнце пыталось не слишком привлекать к себе внимание и в то же время получить общественное признание. Ориентируясь по набросанному Адой плану, Марк прошел несколько кварталов и свернул в парк, вход в который украшали два огромных вековых дуба. С правой стороны от центральной дорожки, чуть в глубине, виднелась решетка, отделявшая общедоступную часть парка от частной территории, примыкавшей к вполне типичному лондонскому особняку – зданию неопределенного возраста, но вместе с тем легкоузнаваемого английского стиля. Две каменные колонны и маленькая лестница, выкрашенная белой краской, отделяли сад от входной двери. Чтобы попасть внутрь, Марку пришлось открыть калитку в решетке, окружавшей дом.
Естественное и уже привычное Марку обаяние Ады в тот момент, когда она открыла дверь, приобрело несколько более церемонный оттенок. Сам Марк замер на пороге в нерешительности, но затем все же смело шагнул вперед, повторяя про себя, что будет, как и намеревался, вести себя естественно, не разыгрывая никакой Роли. Ада проводила его в гостиную, оформленную в Одержанной цветовой гамме. Единственной вещью, которая выпадала из общего стиля, была большая репродукция «Вакха» Караваджо. Больше ни один предмет в комнате не привлекал к себе внимания. Ничто не вносило диссонанса в полную гармонию зеленого и розового – цветов, выбранных для обоев и обивки мебели.
– Хороший у вас район. Здесь так тихо. Да и дом замечательный.
– Спасибо, – ответила Ада. – Я считаю, что мне крупно повезло. Так здорово жить в центре города и в то же время в стороне от городского шума.
Несмотря на то что они были знакомы уже несколько месяцев, Марк так и не знал, живет ли девушка одна или с родителями. Торопиться с расспросами ему не хотелось, и он решил, что будет действовать по обстановке. Тем временем Ада предложила ему чай.
– В тот день, когда мы познакомились, я тебе соврал. На самом деле мне нравится и Караваджо, и искусство вообще.
– Это я уже поняла, – ответила она с несколько осуждающей интонацией, но вместе с тем с улыбкой. – И ты хочешь сказать, что это была единственная ложь за все время нашего знакомства?
– Честное слово. Не помню, чтобы говорил тебе какую-нибудь неправду. Впрочем… наверное, я все-таки позволил себе кое о чем умолчать… в общем, о том, с чем мне и самому трудно примириться.
Ада пригубила чаю и поставила чашку на стол. Марк следил за ее движениями как зачарованный. Сейчас, когда вела себя так, словно не замечала его робких намеков и признаний, она особенно нравилась ему.
– Я тебя прекрасно понимаю. У каждого есть какие-то секреты, которыми мы не спешим делиться с другими, даже с достаточно близкими людьми. Но наши тайны не должны становиться могилами, обрекающими нас на вечное молчание. Ты согласен?
– О, конечно, ты права! – поспешил ответить Марк, благодарный за доверительный тон разговора. – Я, например, не знаю, сколько тебе лет, как ты познакомилась с моим дядей. Я даже не спрашивал, почему он тебя ко мне направил. Мне это не так уж и интересно. Мне очень хорошо с тобой, нравится с тобой общаться и просто находиться рядом. Если честно, то я не понимаю, как раньше вообще жил без тебя.
Губы Ады очаровательно изогнулись в каллиграфически правильной улыбке. Марк почувствовал невыразимое удовольствие от того, какой эффект произвели его слова – совершенно искренние.
– Твой дядя мне много рассказывал о тебе, в первую очередь о твоем увлечении итальянской литературой, а также и о твоих путешествиях, и о твоих друзьях. Ты уж меня извини, но я тоже буду с тобой откровенна: судя по всему, я знаю о тебе больше, чем ты предполагаешь.
Эти слова ни в коем случае не стали неприятным сюрпризом для Марка. Наоборот, он почувствовал внутренний подъем, осознав, что его скромная персона, оказывается, может вызвать гораздо больший интерес со стороны девушки, чем он отваживался предполагать.
– Ада, как я уже сказал, я не все о себе рассказывал. Кое о чем я умолчал. Но сегодня я готов признаться: мне нужна твоя помощь. Передо мной оказалась головоломка, которую я никак не могу решить, несмотря на все усилия. Мои друзья отправились в поход в неведомое и продвигаются по намеченному пути все дальше и дальше. А я, как мне кажется, топчусь на месте. Боюсь, когда они пришлют мне новые отчеты о своих исследованиях, будет уже поздно. Антонио нашел загадочный фильм, считавшийся утраченным, Федерико стоит на пороге вступления в какую-то секту, а я сижу в библиотеке и делю свое время между чтением старинных книг и общением с призраками, которые мне являются. Чем больше я читаю, тем больше ухожу в сторону от предмета поисков. Если бы не ты, я бы за эти месяцы уже сошел с ума.
Ада встала с кресла и подошла к Марку, сидевшему обхватив голову руками и продолжавшему что-то сбивчиво рассказывать. С чисто женской верой в свои силы она провела ладонью по его волосам и негромко прошептала:
– Я тебе помогу. Я тебе буду всегда во всем помогать. – Эти слова она монотонно повторяла вновь и вновь нежным голосом.
Марк, словно по мановению волшебной палочки, успокоился, взбодрился и решительно сорвал крышку со своего ящика с химерами. Ада одним своим присутствием подтверждала важность и осмысленность взятой им на себя задачи. Через несколько секунд ему и самому уже казалось, что в жизни нет ничего более закономерного и естественного, чем попытка вырвать из мертвой хватки челюстей Пиноккио ответ на загадку его жизни и смерти.
Вспоминая и пересказывая события, предшествовавшие их знакомству, Марк одновременно приводил в порядок свои мысли, касающиеся их отношений на сегодняшний день, и даже заглядывал в ближайшее будущее. Принятое им решение, несомненно, должно было оказать влияние на грядущие события, равно как и на его отношения с друзьями. «Что ж, – думал он, – мне, наверное, все-таки удастся их немало удивить. Пусть они пока что вырвались вперед в гонке за разгадкой тайны носатого черепа, зато задуманный мною шаг неминуемо собьет их с толку и даст мне столь необходимую фору, чтобы наверстать упущенное время. И все же…» При этой мысли Марк испуганно вздрогнул; прежде чем говорить о чем-либо друзьям, нужно было заручиться согласием Ады на столь серьезный шаг. Со стороны Марка решение было принято, оставалось лишь воплотить его в словах. Он собирался сделать Аде предложение и, естественно, очень нервничал, потому что вовсе не был уверен даже не в ее согласии, а в том, что она даст ответ немедленно, сразу же, как только он произнесет столь важные слова. Хотя он не мог не понимать, что буквально с первых же встреч она вела себя так, как может вести только влюбленная девушка. При этом он никак не мог пожаловаться на недостаток деликатности с ее стороны. Свои нежные чувства она выражала предельно тактично, не вводя довольно робкого молодого человека в смущение. В общем, как-то так получилось, что в последнее время его больше всего волновали не столько перспективы развития их отношений с Адой, сколько собственные неудачи в исследованиях, которыми он занимался в библиотеке Британского музея. Марк устал носить в себе эту тайну и в порыве полного доверия выложил Аде начистоту все, что касалось злосчастной находки. Он рассказал, как вместе с друзьями наткнулся на странный череп, как Антонио, не скупясь, выложил за него немалую сумму. Череп так и остался в распоряжении Антонио, против чего Марк ничуть не возражал. Дело было даже не в том, кто из друзей отдал деньги за эту необычную вещь, а в том, что сам Марк поначалу не считал ее заслуживающей внимания. Рассказал он и о путешествии на Гаити, о походе через весь город к старухе Лурдель и о ее странном ремесле – подпольной торговле вещами, выброшенными морскими волнами на побережье. Ада, казалось, прониклась энтузиазмом незнакомых ей друзей Марка и слушала его рассказ с горящими глазами. Ее взгляд, весь облик выдавали в ней натуру авантюрную, не склонную строить жизнь по общепринятым правилам.
Одной встречей все не ограничилось. Марк приходил к Аде вновь и вновь и шаг за шагом посвящал ее в свои поиски, начатые много месяцев назад. Она неизменно внимательно выслушивала его, проявляя живейший интерес ко всем деталям. Лишь время от времени, когда Марк в очередной раз падал духом и, казалось, был готов бросить начатое дело, она позволяла себе произнести те же слова, которые слетели с ее губ во время первой их близкой встречи: «Я тебе помогу, я всегда буду тебе помогать». Она никогда не говорила, каким образом собирается ему помогать, но ее уверенность в своих силах была настолько обезоруживающей, что у Марка отпадала всякая охота просить каких-либо объяснений на этот счет. Постепенно чувство к Аде связало его по рукам и ногам. Первое открытое проявление его влечения к ней как к женщине не было случайным: наоборот, он Давно, еще с первых встреч в библиотеке, чувствовал, что их влечение взаимно. Однако всякий раз, когда они оказывались рядом, когда Марку приходилось подавать ей пальто или доводилось брать ее за руку, его охватывала внутренняя дрожь, парализующая тело. Первый открытый шаг навстречу сделала сама Ада: когда они впервые пили чай в ее гостиной под бледнотелым молодым Вакхом, она села рядом с Марком и без лишних предисловий и объяснений поцеловала его влажными от чая губами. Этот поцелуй зажег в Марке все то желание, что он копил в себе с упорством муравья. Страсть вспыхнула в нем как пламя и на миг высветила мир совершенно не таким, каким он привык его видеть. Ощущение было, будто ночную мглу прорезала яркая вспышка молнии. Сама рыжеволосая Ада, казалось, была соткана из огня – огня факелов и костров, освещающих долгие ночи индейских вождей и контрабандистов. Оба – и Марк, и Ада – ощущали себя заговорщиками, встречающимися украдкой под покровом ночи. Их тела слились в каком-то братском единстве, которого они так долго опасались, которое так долго скрывали и о котором так долго молчали.
Ада никогда не рассказывала о своей семье. Марку было лишь известно, что дом, в котором она жила, принадлежал не ей, а одному из ее многочисленных неженатых дядюшек. Время от времени Марк задавал ей вопросы о родственниках, и Ада вроде бы даже отвечала, но в результате всех этих разговоров он так и не получил никаких конкретных сведений, которые позволили бы ему хоть немного сориентироваться в хитросплетениях отношений семьи Слиммернау – судя по всему, весьма многочисленной. По-видимому, Ада принадлежала не к среднему классу. По манере одеваться, говорить было понятно, что если ее предки когда-то и жили не в Лондоне, а в провинции, то это было очень давно, много поколений назад. Сама Ада стала для Марка такой же неотъемлемой частью Лондона, как тауэрские вороны или набережная Темзы, неспешно несущей свои воды через город в предрассветный час.
Марк не настаивал на подробных расспросах и с уважением относился к той дистанции, которую Ада установила между ними с самого начала. Лишь однажды, в ноябре, накануне праздника, которым отмечается раскрытие «порохового заговора» Гая Фокса, Ада сделала признание, которое не могло оставить Марка равнодушным:
– Один из моих предков был знаком с Гаем Фоксом и настоятельно советовал ему не пытаться осуществить свой безумный план. К сожалению, тот его не послушал и вскоре был повешен – ни дать ни взять Пиноккио, которому как-то раз пришлось целую ночь провисеть в петле, балансируя между жизнью и смертью.
Марк хотел было продолжить разговор на эту тему, но попытки оказались напрасными. Ада убежала в темноту и занялась разжиганием огромного костра, сложенного в виде старинного замка. При этом она то смеялась, то хмурилась, отчего ее лицо, обрамленное огненно-рыжими волосами, само становилось похожим на сполохи пламени, которые то затихают, то вновь разрывают в клочья тьму и тишину.
После знакомства с Винченцо де Луккой и его дочерью воодушевленный Федерико продолжил поиски с новыми силами. Он был уверен, что идет по верному пути и вот-вот сумеет раскрыть столь взволновавшую его загадку. Он продолжал вести положенные занятия в университете, но в его отношениях со студентами и коллегами появилась некоторая отстраненность, которую окружающие вскоре стали воспринимать как внешнее проявление глубоко скрываемой молодым преподавателем депрессии. Общавшиеся с Федерико люди замечали, что время от времени он словно выпадал из разговора, и по его отсутствующему виду было понятно, что мысленно он находится где-то далеко, за много километров или же веков от собеседника. В каком-то смысле дело обстояло именно так – Федерико хоть и не страдал депрессией в общепринятом смысле этого слова, но вполне отдавал себе отчет, что действительно стремится внутренне отдалиться от окружающей его реальной жизни. Порой отсутствующим взглядом дело не ограничивалось, и он в разговоре с кем-нибудь из знакомых мог просто замолчать, не ответив на очередной вопрос. Опять же первое время коллеги списывали это на усталость и природную рассеянность, свойственную некоторым ученым вне зависимости от их возраста. Но такие минуты отсутствующего молчания стали повторяться все чаще и чаще. В итоге Федерико своим поведением сумел убедить друзей и коллег, что его мучают какие-то серьезные внутренние переживания, не позволяющие ему целиком и полностью посвятить себя работе и просто нормальной жизни. Его будто похищала некая колдовская сила, вырывая молодого преподавателя из привычного пространства и того времени, в котором ему выпало жить. До поры до времени университетские знакомые Федерико деликатно старались не замечать странностей в его поведении, но один случай заставил всех всерьез озаботиться его психическим состоянием.
После занятий Федерико вместе с друзьями по факультету частенько заходил в одно кафе на Корсо Тин-тори. Здесь образовался своего рода кружок по интересам. Собравшиеся после работы ученые и преподаватели говорили о политике, о текущих делах и при случае не упускали возможности обсудить какие-то слухи, касавшиеся ситуации в университете или за его стенами. Федерико не входил в число блестящих ораторов, но его выступления в ходе этих дискуссий всегда выслушивались коллегами с нескрываемым уважением и интересом. Говорил он немного, но всегда взвешенно и к тому же обладал отличным чувством юмора. Его ироничные замечания не оставляли равнодушными ни его сторонников, ни оппонентов. Федерико был известен как человек верующий, истинный католик, разделяющий убеждения левого крыла христианских демократов. Однако это не мешало ему, прикрываясь артистично закамуфлированным цинизмом, разглагольствовать о романтических химерах, предлагающихся обществу в качестве разгадки некоторых тайн новейшей итальянской истории. Пожалуй, любимой темой подобного рода выступлений Федерико было убийство Альдо Моро. Он рассматривал это трагическое событие с совершенно неожиданной точки зрения, переворачивавшей с ног на голову все известные толкования и гипотезы. По мнению Федерико, план этого громкого убийства не был порождением ни мафии, ни каморры, ни даже привычно обвиняемого во всех грехах Ватикана. Этот заговор был организован той мощной и древней силой, которая в современной Италии предпочитает держаться в тени, не демонстрируя своего могущества. Преподаватель античной истории и латыни Лоренцо Бьяджини поднял на смех теорию Федерико, как и все публикации, так или иначе рассматривавшие возможность воздействия на современную итальянскую политику каких-то тайных организаций, чья история уходит корнями в далекое прошлое:
– Чем-то ты мне напоминаешь профессора Эко. Это он представляет мир как своего рода параболическую антенну, которую настраивают некие тайные силы капитализма, рядящиеся в тоги древних тайных обществ.
– Смейся, смейся! Тайные ордена и заговоры – это по твоей части. Лучшими специалистами в этом деле были древние римляне. Уж кому, как не тебе, знать о том, что за прошедшие века у человечества была возможность отточить и довести до совершенства искусство создания тайных обществ и достижения при их помощи политических целей.
Это заявление Федерико сделал гордо и по-детски трогательно. Для него сказанные им слова будто стали открытием, как для ребенка, который вдруг осознает, что люди, оказывается, занимаются сексом с древних времен, прямо-таки с каменного века. Во время подобных встреч Друзья по университету обычно заказывали кофе и минеральную воду. В тот день, когда компания обратила внимание на странности в поведении Федерико, Дино, преподаватель экономического факультета, заказал себе зеленый чай. Пока официант подавал остальным кофе, с Федерико произошла какая-то странная перемена. Он неожиданно побледнел, а его глаза замерли, впившись взглядом в воображаемую точку в пространстве. Тем временем официант стал эффектно наливать кипяток в чайничек для заварки. На несколько секунд он отвлекся и не заметил, как его рука чуть сдвинулась в сторону, и кипяток пролился даже не на стол, а на колени Федерико, который при этом не только не пошевелился, но даже не вздрогнул и не обратил внимания официанта на то, что тот творит. Федерико попросту не заметил, что его ошпарили кипятком. Друзьям пришлось несколько раз окликнуть его и даже тряхнуть за плечо. Только тогда он очнулся и, несколько виновато оглядевшись, осторожно поинтересовался:
– Я отвлекся. Что случилось? Я что-то натворил?
Друзья не нашлись что ответить и лишь молча показали на мокрое пятно на его брючине, от которого все еще шел пар. Лишь в этот момент Федерико понял, что произошло, и почувствовал боль. С того дня он под различными благовидными предлогами стал избегать традиционных посиделок в кафе, жалуясь то на головную боль, то на большой объем работы, которую ему предстояло сдать к следующей неделе, то на простуду или аллергию. Перебрав все эти предлоги, он наконец воспользовался более серьезным аргументом в качестве «тяжелой артиллерии»: заявил друзьям, что пишет книгу и эта творческая работа отнимает у него много времени и требует предельной сосредоточенности. Никто из знакомых не поверил ни единой из его отговорок, и вскоре по университету прошел слух о тяжелой депрессии, которой в скрытой форме страдает преподаватель кафедры общего языкознания Федерико Канали.
На самом же деле причина, по которой Федерико время от времени отключался от реальности и уходил в мир внутренних переживаний, не имела с депрессией ничего общего. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что с ним происходит, чувствовал, как из реального мира его уводит навязчивая идея и жажда деятельности, спровоцированная последними изменениями в его жизни. В основном эти перемены были связаны с отношениями, которые у него сложились с Винченцо и его дочерью. Он стал регулярно ездить во Флоренцию и вскоре понял, что не может обойтись без этих поездок, ощущая дни, проведенные на работе, не как нормальную жизнь, а как тюремное заключение. Свиданиями же с подлинной свободой стали для него встречи с семьей де Лукка. Кроме того, немалое место в его жизни занимала теперь любовная связь с Андреа. Когда они не были вместе, мир Федерико терял прочность и устойчивость и, казалось, был готов рассыпаться как карточный домик. Это сочетание душевного, эмоционального и физического подъема не было знакомо Федерико даже в юности, и теперь он едва успевал уследить за круговертью новых мыслей, метавшихся в его голове. Он вспоминал то, что, казалось, давно было забыто, строил невероятные планы, которые собирался реализовать в ближайшем будущем. Если же он отметал какую-либо из вертевшихся у него в голове идей, то делал это с такой же решимостью и даже яростью, с какой Пиноккио швырял об стену говорящего сверчка.
В последнем письме Марку Федерико не стал подробно описывать сложившуюся в его жизни новую ситуацию и даже позволил себе ввести друга в заблуждение, клятвенно заверив его, что находится на грани раскрытия загадки черепа. Впрочем, в одном он был абсолютно честен и правдив: в письме он рассказал, что собирается вступить в братство карбонариев. Лишь дав необходимые клятвы и обеты, он мог получить доступ к той информации, которая открыла бы ему тайную историю жизни и смерти деревянного мальчика.
Андреа чаще всего принимала его в гостиной с камином, одетая в костюм Коломбины – в розовых чулках и с волосами, убранными под шляпку в виде большого цветка, она вновь и вновь исполняла уже столь знакомый ему танец. Иногда в ответ на его стук в дверь выходила не девушка, которую он так хотел увидеть, а ее отец; бывший актер обычно держал перед лицом золотистую полумаску. Федерико, несмотря на отсутствие опыта в прочтении тайных символов, все же научился атрибутировать эту маску как знак радости от встречи. Своим величайшим достижением в жизни Федерико считал то доверие, которое он заслужил у старого актера и его дочери. Эти эксцентричные и артистичные натуры были страшно горды своей принадлежностью к одной из самых древних и хорошо законспирированных организаций в Италии. Опасения, которые поначалу испытывал Федерико, постепенно сменились оптимизмом и интересом. В общем, когда старый Винченцо как бы невзначай поинтересовался, не хочет ли господин профессор дать обет вечной верности ордену карбонариев, тот, ни секунды не задумываясь, ответил, что считает такую возможность огромной для себя честью и что больше в этом мире ему, пожалуй, ничего и не нужно.
Коломбина, возлежавшая на диване, обнаженная, с черно-белой клетчатой полумаской на лице, с нежностью в голосе рассказывала ему о добрых братьях и об их мартовских ночных бдениях, которые обычно проводятся в тайных храмах-житницах. Со дня на день Федерико должны были сообщить дату его присяги, и радующаяся этому известию не меньше его Андреа делилась с возлюбленным своим самым сокровенным знанием:
– Вплоть до сегодняшнего дня ты верил только в то, что написано в книгах. Теперь же тебе ясно, что все твои знания не стоят ни гроша. Пиноккио – вот кто покажет тебе другой путь, путь бессмертного дерева. Цель мертвого – не умереть совсем, а живое ставит себе целью показать, что оно смертно и рано или поздно умрет.
Федерико не до конца понимал, что говорит ему Коломбина, отдыхая после бурной встречи. Лишь спустя какое-то время, уже дома, он восстанавливал в памяти слова девушки, и его желание реализовать задуманное только усиливалось. Он ничего не мог с собой поделать – его привязанность к семье двух актеров становилась все сильнее. Если они правы и если целью мертвого является не умереть совсем, то существует возможность, что деревянная кукла осталась существовать в виде пустого носатого черепа для того, чтобы рано или поздно вновь обрести плоть и кровь в результате очередного чудесного превращения.
Он ждал, считая дни, того мгновения, когда его должны были пригласить на церемонию вступления в братство карбонариев. И Антонио, и Марк в своих письмах не одобряли столь безрассудного поведения друга. Тем не менее ни одному из них не удалось даже в малейшей степени поколебать решимость Федерико вступить в тайный орден. Марк боялся за друга. Он в открытую высказывал свои опасения и при этом признавал, что сам совершил ошибку, схожую с той, за которую они с Антонио упрекали Федерико. В течение довольно продолжительного времени Марк рассказывал Федерико о некоей женщине, англичанке, которая помогала ему в начатых поисках. Сам он страшно сожалел, что выдал тайну, в которую были посвящены лишь трое друзей, постороннему человеку – женщине, которую на самом деле знал слишком мало. Тем не менее Марк считал своим долгом вновь и вновь напоминать Федерико, что тот поступил не менее безрассудно, выдав посторонним людям истинную причину своего на первый взгляд странного увлечения историей Коллоди. Теперь отступать уже было поздно: Коломбина и старый Винченцо знали о Пиноккио и эксгумации черепа на карибском пляже не меньше, чем трое друзей, купивших его у гаитянской торговки. И Марк, и Федерико понимали, что мир таинственного черепа больше не принадлежит им с Антонио. В этом мире появлялись все новые и новые люди.
Той ночи, когда Федерико должен был приехать к Винченцо, с тем чтобы пройти наконец ритуал посвящения в карбонарии, предшествовали некоторые события, в какой-то мере сбившие Федерико с толку и даже отвлекшие его от предстоящей церемонии. В понедельник вечером он заглянул в свою электронную почту и обнаружил письмо от Антонио. Рассказ друга поставил перед ним множество новых вопросов.
«Федерико, я наконец посмотрел тот самый фильм Мельеса. Теперь я могу с полной уверенностью утверждать, что наш череп – это не подделка, как бы случайно подкинутая туристам, и не безделушка, с помощью которой на таких, как мы, хотели заработать побольше денег. Я уверен в обратном: этот череп жаждут получить и продолжают искать многие люди по всему свету. Вот почему мы должны держать в тайне тот факт, что он в данный момент находится в нашем распоряжении. Повторяю: для очень многих людей он представляет огромную ценность, и они не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить его. Поэтому нам троим грозит серьезная опасность.
Вскоре я тебе все расскажу подробно. Марку можешь не писать: я сам напишу ему сегодня же вечером. Предлагаю встретиться примерно через месяц. Я еще должен кое-что выяснить, но думаю, что эти сведения мне будет легче получить здесь, дома. Клянусь, дружище, нам еще никогда не удавалось подойти так близко к столь важной победе».
Федерико закрыл электронную почту и выключил компьютер. Сам того не ожидая, он почувствовал, как энтузиазм и оптимизм, которыми были окрашены последние месяцы его жизни, мгновенно улетучились. Впрочем, вскоре он вновь обрел душевное равновесие, и мир опять предстал перед ним в радужных тонах. Да, следовало признать, что Антонио, которому было известно о его отношениях с Винченцо и Андреа де Лукка, в своем письме чуть завуалированно предупреждал об исходящей от этой актерской семьи опасности. Вот только с какой стати принимать всерьез предупреждения от человека, находящегося на другом конце света? За время знакомства и Коломбина, и Арлекин сумели завоевать доверие Федерико, проявив себя людьми умными, тактичными, а главное – относясь к нему с неподдельной симпатией и заботой. С другой стороны, самого черепа у него не было, и об этом оба актера прекрасно знали. Рассказать им больше, чем уже было рассказано, Федерико просто не мог. В общем, опасаться ему явно было нечего. Эти рассуждения успокоили его и придали ему сил, чтобы он смог сделать решительный шаг к посвящению в карбонарии.
Это событие было назначено на среду той же недели. Воспользовавшись каникулами в университете, он должен был приехать во Флоренцию и пойти вместе с Винченцо в один из красивейших дворцов этого прекрасного города. Ни адреса, ни имени владельца дворца ему не сообщили. После ритуальной трапезы и предварительной части посвящения его должны были вывезти куда-то за город, где у стен храма-амбара ему предстояло дать клятву верности великому ордену карбонариев.
С какой стати ему беспокоиться из-за того, что написал Антонио? В конце концов, если этим людям известна подлинная история Пиноккио, было бы логично предположить, что его череп представлял бы для них немалый интерес. Однако если бы они захотели каким-то образом получить его в свое распоряжение, то за время знакомства с ним они бы так или иначе уже проявили интерес к этой теме. В общем, успокоив себя относительно опасности со стороны членов братства, Федерико начал сомневаться в искренности Антонио. Может, мексиканец просто запугивает его, чтобы сбить с верного пути. Он наверняка раскаивается, что поделился секретом с друзьями, и теперь, найдя кое-какую полезную информацию, просто хочет оказаться единственным, кто добьется успеха в поисках. «Вот истинный мотив обеспокоенности Антонио: он хочет навеки отдалить меня от Пиноккио, – подумал Федерико. – Ну уж нет, это у него не получится», – повторял он про себя, когда его воспаленное воображение рисовало мрачные и обидные для его самолюбия картины. Но если Антонио действительно хочет Добиться успеха в одиночку, зачем, спрашивается, он собирается увидеться с друзьями, зачем пишет об общем успехе и общем открытии, на пороге которого они, по его словам, стоят все вместе? В конце концов, они дружат уже много лет, и за это время Федерико имел возможность убедиться, что мелочность и скупость никогда не были характерными чертами Антонио. Никакого права думать о нем плохо у Федерико не было. Мексиканец всегда относился к нему с уважением, даже в те времена, когда сам Федерико был всего лишь нищим студентом, не знавшим, как и на какие деньги он будет продолжать учебу на следующий год.
Великодушие и щедрость Антонио проявились буквально с первого дня знакомства, когда Федерико и Марк встретились с ним в Александрии. Итальянец и англичанин, оба без гроша в кармане, вели бурную беседу о знаменитом маяке, вдохновлявшем некогда великих авторов античности. Этой беседой им пришлось заменить экскурсию к месту предполагаемого нахождения маяка, от которой они отказались по банальной причине отсутствия денег. Антонио, путешествовавший в тот раз в одиночестве, услышал их разговор и попросил разрешения подсесть к двум друзьям и присоединиться к беседе. Ему удалось расположить к себе обоих приятелей, причем настолько, что через короткое время они без стеснения признались ему, что не могут поехать на экскурсию к тому месту, где, по преданию, возвышался когда-то колосс на стеклянных ногах, потому что у них нет денег. Услышав это, Антонио рассмеялся и, неплохо изобразив интонацию героя сентиментальной мелодрамы, воскликнул:
– Неужели эта мелкая неприятность не позволит вам отправиться на поиски хрустального фундамента величайшей из руин древней Александрии?
Марк, не знавший испанского, практически ничего не понял, зато Федерико, представитель романской культуры, ответил на своем скромном итальянском, выбрав интонацию типичного героя Витторио де Сики:
– Non capito la sua intenzione. Niente.[23]
Все трое рассмеялись, а Марк посчитал возможным воздержаться от комментариев на своем родном языке и лишь удивленно приподнял бровь: сие универсальное выражение иронии не нуждалось в переводе. В конце концов Антонио удалось убедить новых друзей принять его приглашение и съездить всем вместе туда, где, согласно легендам, некогда возвышался знаменитый Фаросский маяк, сжигавший при помощи изогнутых зеркал вражеские корабли. Искренность и дружеский настрой Антонио смогли победить настороженность и самолюбие остальных. С тех пор они так и ездили по всему миру только втроем. Антонио, Федерико и Марк, жившие так далеко друг от друга, объединялись на время, чтобы посетить самые интересные и загадочные уголки мира, который столь часто склонен забывать о своем прошлом.
В общем, не доверять Антонио не было никаких оснований. Более того, разум подсказывал Федерико, что к предупреждениям друга нужно отнестись со всей серьезностью. Если тот утверждает, что существует некая опасность, то надо быть настороже, несмотря на то что сам Антонио не счел нужным или возможным указать хотя бы намеком, какого именно рода опасность угрожает им всем и Федерико в частности.
Во вторник на той же неделе беспокойство Федерико достигло высшей точки. На следующий день ему предстояла поездка во Флоренцию, где он должен был пройти обряд посвящения в карбонарии. Его сердце бешено колотилось, а руки тряслись мелкой дрожью. Он заметил это в тот момент, когда сел за компьютер, чтобы написать письмо Марку. Англичанин, оказывается, некоторое время назад обручился с Адой Маргарет Слиммернау и счел своим долгом сообщить друзьям о принятом решении. Эта новость не могла не удивить Федерико, но в то же время порадовала его тем, что была в своем роде поводом, чтобы рассказать другу о своих собственных планах и намерениях.
В нескольких словах Федерико сообщил Марку о своем грядущем посвящении в тайное братство и напомнил, что Антонио написал ему о найденной ленте Мельеса, про которую не было известно практически ничего. Ее название было утрачено, а точный метраж оставался неизвестен. Тем не менее мексиканец был твердо уверен, что через короткое время сможет предложить друзьям убедительное толкование загадки черепа. Вот только как и чем объяснить беспокойство Антонио и его предупреждения, Федерико не знал. Придуманная или реальная опасность нависла над тремя безрассудными головами, как занесенный топор палача.
«…Не знаю, что и подумать, Марк. Подозревать Антонио в чем бы то ни было у меня нет ни малейшего повода. И все же скажи на милость: ну какая, спрашивается, опасность может исходить от людей, интересующихся историей носатого черепа? В конце концов, мы сами нашли эту диковину и сами изменили собственную жизнь ради того, чтобы раскрыть тайну. В любом случае я отступать не намерен, какие бы опасности нам ни грозили. За последние месяцы у меня было время о многом подумать… Да, пока что у меня в руках нет никаких неоспоримых доказательств, но я на сто процентов уверен, что Пиноккио принадлежал к карбонариям; состояли в этом обществе и его отец, и автор знаменитой сказки. Завтра мне предстоит дать присягу тайному ордену, и я уверен, что передо мной раскроется тайна ожившей деревянной куклы. Марк, я не хочу принимать всерьез опасения Антонио, и все же давай договоримся так: я снова свяжусь с тобой не позже чем через неделю. Если же по какой-то причине я не выполню этого обещания, то прошу тебя… А впрочем, я и сам не знаю, о чем тебя попросить. Поступай как сочтешь нужным, дружище».
Марк прочитал письмо друга и надолго задумался. За окном моросил мелкий дождик, который зарядил, похоже, не на один день. Стекавшие по стеклу капли присоединялись к копившимся в душе Марка сомнениям. Затеянное им и его друзьями предприятие начинало казаться ему все более и более опасным. В письме своего итальянского друга он увидел вполне реальную угрозу, куда более серьезную, чем та, что, судя по всему, интуитивно чувствовал Антонио. Вступать в какое-то тайное братство было верхом безрассудства со стороны Федерико. В конце концов, кто его знает, какие фанатики состоят в этой организации. Похоже, преподаватель кафедры общего языкознания зашел слишком далеко и не принял во внимание слова, которые изрек Пиноккио, когда валялся в ногах у хозяина кукольного театра Манджафуоко: «Если несчастный Арлекин, мой верный друг, погибнет вместо меня, это будет в высшей степени несправедливо».
Чем помочь другу, Марк не знал. Какое право он вообще имел давать ему какие-либо советы, если сам решил жениться, будучи убежден, что именно посредством этого брака ему удастся приоткрыть завесу над тайной найденного ими черепа? Несмотря на всю свою влюбленность, Марк не был настолько наивен, чтобы не почувствовать взаимного интереса, который представляли и для него, и для Ады эти отношения. Мисс Слиммернау со дня знакомства не переставала напоминать ему – намеками и в открытую – о своих особых знаниях в области истинной истории жизни Пиноккио. Не было случайностью и ее чудесное появление в Главном читальном зале; неспроста она смогла очень быстро подобрать Марку именно ту литературу, которая была нужна ему в начатых поисках. Кстати, благодаря Аде его перестали мучить призраки и видения. Вскоре Марк, заходя в читальный зал, перестал испытывать страх встретиться с очередным призраком, и в его памяти сохранилось лишь одно яркое видение: молодой Диккенс, выводящий на листе блокнота слова «Сатис-хаус».
Рассказав Аде Маргарет об этом невероятном случае, Марк услышал в ответ лишь заливистый смех девушки, не придавшей большого значения столь театральному появлению призрака. С ее точки зрения, воображение просто сыграло с Марком злую шутку и ему не следовало обращать внимания на такие пустяки. И все же вместе с дождем в душу Марка вернулись забытые было сомнения; втайне от невесты он решил перечитать «Большие надежды» и вскоре нашел страницу с описанием того самого дома, о котором предупреждал его призрак Диккенса: «…построен из старого кирпича, со множеством кованых решеток на окнах, придававших зданию довольно мрачный вид. Часть окон была наглухо забелена, а вход во двор перекрывали тяжелые железные ворота… Одним из имен, которым называли этот особняк, было Сатис-хаус, что по-гречески, на латыни или на древнееврейском, а может быть, и на всех трех языках сразу обозначает „достаточность"… По всей видимости, считалось, что человеку, владеющему этим особняком, больше и желать в жизни нечего».
Интуиция подсказывала Марку, что особняк, получивший на страницах романа Диккенса название Сатис-хаус, играл какую-то роль в неведомой ему жизни Ады Маргарет Слиммернау. К его величайшему сожалению, девушка почувствовала его интерес к тому, чем она не собиралась с ним делиться, и расспрашивать ее о Диккенсе и Сатис-хаусе стало абсолютно бесполезно. Она лишь загадочно улыбалась, замолкала, а затем демонстративно переводила разговор на другую тему. Марку оставалось лишь рассчитывать на то, что, став мужем Ады, он сможет наконец распахнуть те невидимые двери, которые отделяли его от таинственных и невероятно притягательных для него сторон жизни и фактов биографии его невесты. Хорошенько подумав, он пришел к выводу, что сообщать друзьям о намерении оформить официальные отношения с Адой сейчас не время. «Сначала женюсь, а потом уже расскажу им об этом», – решил для себя Марк, прекрасно понимая, что ему придется пережить неловкий момент объяснения с друзьями и извиниться перед ними за то, что они не были приглашены на свадьбу. Сама церемония бракосочетания должна была состояться через две недели; к тому времени Федерико уже наверняка станет карбонарием, а у Антонио как раз хватит времени, чтобы собрать в единый связный фильм обрывки какой-то пленки, которая, по его заверениям имела прямое отношение к истории ожившей и загадочно исчезнувшей марионетки.
Федерико приехал во Флоренцию заранее – ему было о чем подумать, и, к счастью, времени на раздумья у него теперь было предостаточно. Сначала он прогулялся вдоль реки, а затем, припарковав машину на набережной, подальше от центра, поднялся пешком к часовне Сан-Миньято, построенной на месте древней обители отшельников. Отсюда великий тосканский город открывался перед ним как на ладони, во всем своем великолепии. Над крышами возвышались сверкавшие на солнце купола дворцов и храмов. Сан-Лоренцо, Санта-Мария дель Фьоре, Эль-Кармине – эти поднимавшиеся над плоскостью крыш выпуклости напоминали живот беременной женщины, готовой вот-вот разродиться. Федерико прогулялся по склонам холма, пытаясь привести в порядок мысли, кружившиеся в голове. Вечером ему предстояло дать присягу на верность братству карбонариев, а он до сих пор понятия не имел, каких людей со следующего дня ему надлежало называть братьями и, следовательно, относиться к ним как к самым близким людям.
Винченцо де Лукка рассказал ему, что на церемонии все присутствующие, за исключением посвящаемых в члены братства, будут в масках. Таким образом, он не сможет узнать в лицо никого из собратьев, зато его лицо станет известно всем. Кто знает, может быть, среди собравшихся он встретит кого-нибудь из знакомых, возможно, даже коллег по университету. По правде говоря, Федерико ничуть бы этому не удивился: он уже давно уверовал в реальность существования древнего ордена, его многочисленность и влиятельность.
Федерико не был уверен лишь в одном: не кроется ли для него какая-то опасность в том, что он собирается присоединиться к могущественной тайной организации. Кроме того, он испытывал серьезные угрызения совести, прекрасно отдавая себе отчет, что ему, как католику, пребывающему в лоне истинной Церкви, не следует вступать в какую-либо секту или иную организацию, связывающую своих членов некими духовными узами. Как воспитанник католического колледжа имени Микеланджело, он воспринимал свой поступок ни много ни мало как схождение в самые мрачные глубины ада. Образы, рожденные воображением и творческим гением великого Данте, – это всемирное и универсальное наследие, твердили ему год за годом. Лишь сейчас Федерико, как никогда, отчетливо осознал правоту этих слов, произносившихся машинально, как заклинание, его школьными учителями и университетскими преподавателями. Он спустился по лестницам садов Питти, сделав таким образом широкий круг по всему городу. Столь долгая прогулка, против ожидания, ничуть не успокоила его, а, наоборот, лишь пробудила страхи, дремавшие до этого времени в подсознании. Федерико спускался к реке по роскошным лестницам, проходя мимо статуй, изображавших обнаженных женщин, привлекавших внимание какой-то особой дерзкой красотой. По пути он не удержался и сделал небольшой крюк, чтобы заглянуть в пещеру Буонталенти – искусственный грот, повторявший своими сводами причудливые линии естественной подземной пещеры. У входа в грот была установлена статуя обнаженного шута, изображенного в виде Вакха, сидящего на черепахе. Этот персонаж ничуть не стыдился своего уродства и, более того, бесстыже пользовался своим огромным, по пропорциям напоминающим купола соборов животом для того, чтобы частично прикрыть свой детородный орган. То, что выглядывало из жировых складок, больше напоминало не орудие для продолжения рода, а язвительный, склонный пользоваться солеными и грубыми словами язык. Проходя мимо этого «красавца», Федерико не мог сдержать улыбки: уродство несомненно активнее привлекает к себе внимание, чем красота, и человек, рискующий отойти от привычных канонов, определенно будет скорее замечен окружающими, чем тот, кто скромно пытается жить, соблюдая все положенные заповеди. Поплутав по аллеям, Федерико вышел из сада Боболи и направился к дому у крепостной стены, где его ждали старый актер с дочерью.
Федерико уже некоторое время назад признался себе в том, что по-настоящему влюбился в Андреа. Это чувство столь похвальное в любой другой ситуации, в его нынешних обстоятельствах служило лишь препятствием – вполне возможно, непреодолимым – на пути к успеху в начатых поисках. Дерзкий и даже по-своему жестокий Пиноккио вошел, нет, влез в его жизнь, ломая все то, что было дорого Федерико. Он прекрасно понимал, что уже не сможет избавиться от призрака, чей череп был найден в песке на гаитянском пляже, до тех пор, пока не выяснит подлинную историю жизни и смерти ожившей деревянной куклы. Чтобы избавиться от этого наваждения, явившегося к нему из потустороннего мира, Федерико был готов приложить все мыслимые и немыслимые усилия.
Федерико должен был пообедать у актеров, а затем отправиться вместе с ними к месту проведения церемонии. Обед был в тот день очень скромен; хозяева, а вслед за ними и гость были воздержанны в употреблении вина. Федерико не мог не обратить внимания на скудость трапезы. Общаясь со старым актером и его дочерью уже долгое время, он не замечал за ними склонности к самоограничению. Не слышал он и о том, чтобы одним из пунктов доктрины братства карбонариев был аскетичный образ жизни. В тот день, к его удивлению, даже Коломбина вела себя не так, как обычно, – не как немного провинциальная девушка со своими странностями. Такое изменение в поведении отца и дочери окончательно сбило с толку и без того запутавшегося и напуганного Федерико. Часов в пять вечера они втроем вышли из дома у крепостной стены, и Федерико спросил, нужно ли ехать к месту церемонии на машине. В ответ Винченцо лишь молча покачал головой и знаком предложил следовать за ним по узкой улочке, состоявшей, как казалось, из одних только модных магазинов и бутиков. Федерико давно решил для себя, что не будет задавать лишних вопросов, и молча пошел за своим провожатым. Шли они довольно быстро; при этом ни девушка, ни старый актер не пожаловались на усталость. Наконец очередной переулок привел их к какому-то не то складу, не то заводскому корпусу, который, судя по внешнему виду, ни разу не ремонтировался как минимум лет сто. Они прошли через деревянные ворота, сколоченные из толстых досок, и оказались в темном дворе, окруженном красными кирпичными стенами. В дальнем конце двора находилось нечто вроде каменной пристройки с металлической дверью. Винченцо нажал на кнопку звонка, скрытую между камнями кладки. Потянулись секунды ожидания. Наконец железная дверь приоткрылась, и навстречу им вышел бледный, изможденный на вид старик, одетый, однако, богато и со вкусом. Он молча поцеловал Винченцо в щеку и так же молча, одним лишь кивком головы предложил гостям следовать за ним. Никому и в голову не пришло пропускать даму вперед, и Коломбина вошла внутрь последней. Так же, замыкая небольшую процессию, она следовала и дальше – вниз по явно очень старой лестнице, которая вскоре перешла в узкий полутемный коридор. Старик остановился и, внимательно оглядев Федерико, решил снизойти до пояснений:
– Друг мой, вам выпала большая честь проникнуть в древнее чрево этого города. Вот по этому подземному ходу мы пройдем в самый центр и окажемся под площадью Синьории. О своей безопасности можете не беспокоиться: уверяю вас, что ход выкопан задолго до того, как были построены здания, окружающие площадь, которая в последние годы превратилась в аттракцион для туристов.
Федерико, обрадовавшись, что на него наконец обратили внимание, решил из вежливости попытаться поддержать разговор:
– Это потрясающе интересно. Насколько я знаю, под каждым древним городом существует целая сеть тайных переходов и подземелий. Но обычно их строили по заказу тех, кто живет наверху. Я бы хотел спросить…
– Не будете ли вы добры помолчать, – отрезал провожатый – не то официально-вежливо, не то откровенно грубо.
Федерико устыдился своей бестактности и решил больше не вступать ни в какие разговоры, пока его прямо не спросят. Из полумрака к нему приблизилась Коломбина, на лице которой мелькнула ободряющая улыбка. Федерико кивнул и молча продолжил путь. Где-то рядом слышалось журчание воды, да и сами камни под ногами бляди влажными и скользкими. Он не мог понять, откуда в этот длинный коридор, пробитый в толще камня, проникает свет – несильный, но достаточный для того, чтобы превратить могильную тьму в густые сумерки.
– Это река, – заметил Винченцо, явно просчитав ход мыслей Федерико. – Река, как и город, имеет подземное отражение, подземную сестру. Это ее воды доносят сюда частицы отраженного света.
На этот раз Федерико предпочел промолчать и последовал за своими провожатыми, думая о том, как наконец научиться скрывать свои мысли и перестать быть настолько предсказуемым. Неожиданно Коломбина подошла к нему вплотную и прошептала на ухо:
– Дорогой, все это делается только ради тебя. Для тебя они разыгрывают этот заговорщический спектакль, для тебя устроена эта подземная прогулка. Главное – ничего не бойся. Все ценное на свете обычно скрыто под покровом тайны.
Федерико поцеловал ее, не сбавляя шага. Он почувствовал себя увереннее; Андреа, в свою очередь, получила тот ответ, которого ждала, – лицо ее возлюбленного стало спокойнее. Подземный ход шел не прямо: он то спускался, то поднимался, то изгибался, делая поворот за поворотом. Неизменными оставались лишь полумрак и сырость под ногами. Федерико потерял счет времени и, улучив подходящий момент, как бы случайно посмотрел на часы. Было уже начало седьмого.
Время от времени их коридор пересекался с другими Подземными ходами. На одном из таких перекрестков старик остановился и выудил из кармана черного пиджака довольно большой ключ.
– Мы находимся под дворцом. Здесь, мой друг, прямо над нашими головами, скончался один из представителей славного рода Бонапартов – Жозе, коронованный и взошедший на трон в Испании.
Эти слова старика, не отличавшегося особой любезностью, не произвели большого впечатления на Федерико. Он уже не впервые слышал эту легенду. В одном из самых элегантных и роскошных дворцов древней Флоренции, на берегу реки Арно, побежденный и униженный Бонапарт провел свои последние дни – в полном одиночестве и в окружении красоты, бесчеловечной в своем совершенстве.
Погруженный в свои мысли, Федерико даже не заметил, как они вновь оказались на поверхности. Вся компания вышла на дневной свет из глубины одного из искусственных гротов Буонталенти. Здесь, во внутреннем дворе замка, старик остановился. Дождавшись, когда глаза вновь привыкнут к солнечному свету, Федерико огляделся. Кроме них, во дворе не было никого. Выходившие во двор двери были заперты, а окна к тому же закрыты плотными ставнями. Вокруг стояла удушающая тишина. Ощущение было такое, что город, присутствие которого непременно должно было угадываться по шуму проезжавших машин, не то вообще исчез с лица земли, не то затерялся где-то в дальнем уголке прошлого. «Неужели это декадентство и есть наше будущее?» – мысленно задал себе вопрос несколько разочарованный Федерико.
Старик перекинулся парой слов с Винченцо и удалился. Он пересек двор и скрылся за небольшим фонтаном, гладь бассейна которого была покрыта белыми лилиями. Андреа взяла Федерико за руку, и он почувствовал в легкой, почти дружеской ласке весь жар чувств, которые испытывала к нему влюбленная девушка.
В тишине и молчании прошло, наверное, не меньше двадцати минут; Федерико решил ни о чем не спрашивать, а его спутники по-прежнему молчали. Сам того не ожидая, он почувствовал, что понемногу успокаивается: с одной стороны, шаг, который он собирался сделать, мог оказаться самым важным в его жизни, с другой – он был не первым, кто принимал такое решение. Наконец Винченцо прервал затянувшуюся паузу:
– Теперь ты останешься один. Ничего не бойся, а когда настанет время, отвечай на все вопросы, которые тебе будут задавать. Отвечай так, как подсказывает тебе сочесть. Мы больше ничем не сможем тебе помочь.
С этими словами старый актер и его дочь скрылись в том же направлении, в котором исчез и их провожатый. Федерико едва ли не впервые в жизни испытал то чувство полного одиночества, которое, наверное, ведомо только приговоренным к смерти: так они чувствуют себя в ночь накануне казни. Впрочем, эти пессимистические мысли недолго мучили его. Вскоре от них его отвлекло появление в непосредственной близости какого-то странного человека: незнакомец был одет в неряшливую хламиду, больше всего напоминавшую сильно потертый и во многих местах надорванный мешок. Лицо его, естественно, было скрыто. Взяв Федерико за руку, человек повел его за собой.
Они вошли во дворец с черного хода, как воры или же слуги. Провожатый Федерико открывал одну за другой внутренние двери и вел его по коридорам и лестницам. Мраморные плиты пола отражали слегка зеленоватый свет. Похоже было, что камень, из которого сложена знаменитая гробница Медичи, использовался при строительстве этого дворца как простой отделочный материал. Копившаяся веками роскошь проступала здесь повсюду: стены были покрыты фресками с изображениями обнаженных женщин, легко бегущих куда-то на фоне безмятежных буколических пейзажей; в проходящих по залам и коридорам отовсюду целились зловеще прищурившиеся амурчики; зеркала, вставленные в ниши, были такого размера, что казалось, им было уготовано отразить в своих глубинах всю Вселенную. То, что не было покрыто фресками, укрывали гобелены и шелка: на лиловом фоне резвились петухи и фазаны, а на поверхности навеки застывших озер дремали лебеди, изящно изогнув шеи. Канделябры здесь имели форму человеческих рук в натуральную величину, в каждом свободном месте на стене висела какая-нибудь мраморная миниатюра, а промежутки между гобеленами украшали резные панели из драгоценных пород дерева. Все, что человек мог украсть у природы и «улучшить» по своему разумению, представало здесь во всей своей красе. Эта показная, навязчивая роскошь явно была рассчитана на то, чтобы произвести неизгладимое впечатление на любого человека с не самым взыскательным вкусом. Федерико не столько понял, сколько почувствовал, что эта своеобразная экскурсия была для него неким предупреждением. Оставалось только гадать, о чем именно хотел его предупредить молчаливый провожатый. Чего следовало ждать от людей, в распоряжении которых был столь помпезный и шикарный дворец? Кто они: надевшие маски благородные синьоры, придумавшие себе в качестве развлечения игру в тайную секту, владеющую миром, или же, наоборот, настоящие заговорщики, пытающиеся в здравом уме и твердой памяти восстановить могущество тайного братства, некогда сыгравшего решающую роль в преображении Италии? Понять этого Федерико еще не мог, а отступать было уже поздно. Он зашел слишком далеко.
Человек в лохмотьях остановился на площадке очередной лестницы и предостерегающе поднял руку. Федерико послушно остановился рядом. Провожатый громко постучал в тяжелую деревянную дверь, повешенную на кованые петли, судя по всему, еще во время строительства дворца. Семь ударов разнеслись по дворцовым коридорам в ритме какой-то народной песни. Едва стихло эхо, как из-за двери послышался голос:
– Где надлежит совершить обряд посвящения первой степени?
Провожатый, ни секунды не замешкавшись, произнес:
– Колпак доброго брата надевается на посвященного в ложе карбонариев.
Дверь, тяжелая как скала, начала медленно приоткрываться. Федерико вдруг обнаружил, что его провожатый куда-то исчез и на пороге он остался один. Дверь наконец распахнулась, и он увидел перед собой толпу людей, одетых либо в плащи из мешковины, либо в одежды наподобие тех, что носили сельские сборщики хвороста. Узнать кого бы то ни было среди этого множества фигур было решительно невозможно. Лица всех присутствующих скрыты под масками. Женщины были затянуты в корсеты, а их юбки почти достигали пола. На многих мужчинах Федерико заметил панталоны, узкие, как рейтузы, подчеркивающие контуры ног. Далеко не все собравшиеся отличались спортивным телосложением, и в столь туго обтягивающей одежде эти люди выглядели весьма комично. Несколько секунд после того, как Федерико перешагнул порог зала, там стояла гробовая тишина. Все внимательно смотрели на вновь прибывшего. Вдруг, совершенно неожиданно для него, собравшиеся потеряли к новичку всякий интерес. Они завели оживленные разговоры друг с другом, и Федерико, понятия не имевший, чего ожидать от этой компании и как поступать в такой ситуации, остался стоять у входа в ожидании дальнейшего развития событий.
Воспользовавшись минутной передышкой, он внимательно оглядел зал. Пол здесь, как и в предыдущих помещениях, был выложен полированным мрамором, стены же, против ожидания, покрыты не фресками и гобеленами, а простыми деревянными досками – без всякого намека на резьбу. Вместо предметов столь презираемой университетским преподавателем роскоши на стенах висели самые разные инструменты и приспособления, так или иначе связанные с ремеслом угольщика, дровосека и сборщика хвороста: лопаты, разные по размеру и форме молоты, мешки для угля, топоры, гвозди, клинья, веревки и еще много разных предметов, о назначении которых можно было только догадываться. В общем, обстановка этого зала никак не была связана с роскошным убранством остальных помещений величественного дворца. Здесь все было подчинено духу и атрибутике легендарного братства карбонариев. Стоя у порога, Федерико никак не мог определить, были ли эти инструменты и доски новейшей декорацией, восстановленной адептами, желающими возродить древний орден, или же это ритуальное убранство украшало дворцовый зал с незапамятных времен. «Ничего, скоро я все узнаю», – подумал он, рассчитывая на то, что его опыт и вкус помогут отличить старинную подлинную вещь от современной подделки.
От этих размышлений его отвлекла подошедшая к нему рыжеволосая женщина, лицо которой, как и у всех присутствующих, было скрыто маской.
– Добро пожаловать, собрат! Впрочем, будет лучше, если я стану называть тебя просто братом.
– Большое спасибо, – как можно вежливее ответил Федерико, – но не могу не признаться, что мне немного не по себе. Все вокруг знают, кто я такой, а я понятия не имею, даже с кем, например, я сейчас говорю. Эти маски делают нормальное общение совершенно невозможным.
Широко и почти искренне улыбнувшись, женщина чуть наклонилась к нему и, к его немалому удивлению, сказала:
– Лично я не имею ничего против, чтобы назвать тебе свое имя. К сожалению, не могу обещать, что и все остальные последуют моему примеру. Мне здесь некоторая вольность простительна, ибо я иностранка. Меня зовут Ада Маргарет Слиммернау.
Это имя ничего не говорило Федерико, но по интонации женщины он понял, что она неспроста обращается к нему так открыто и явно желает перейти с официального тона на более фамильярный.
– Прошу прощения, но, как я понимаю, мы незнакомы. Не знаю, почему вы назвали меня братом, и могу лишь предположить, что это является частью какого-то неизвестного мне ритуала.
Ада Маргарет непроизвольно рассмеялась, причем довольно громко, чем привлекла к себе внимание кое-кого из братьев, находившихся неподалеку. Федерико подумал было, что она смеется над ним, но решил не показывать, что ему такое отношение неприятно.
– Не сердитесь, пожалуйста, – сказала женщина, понизив голос. – Нельзя же все принимать так близко к сердцу. Вы человек серьезный, но скажите на милость, разве может серьезный человек увлечься какой-то детской сказкой?
Федерико изумленно посмотрел на собеседницу. Ну вот, и она туда же. Откуда ей известно о его поисках, связанных с Пиноккио? И что еще знает эта женщина, чье лицо скрыто под маской птицы? Глядя на изогнутый в форме клюва нос маски, он почему-то подумал, что рыжеволосая женщина очень некрасива.
– Да, вы меня совсем не знаете, и я согласна, что веду себя несколько назойливо и бестактно. Но вы можете не опасаться моей настойчивости. Дело в том, что я жена вашего друга Марка Харпера.
У профессора Канали задрожали колени. Он почувствовал себя куклой, которую ребенок, не целясь, забросил в комнату, полную взрослых гостей. В первое мгновение он попытался как-то оспорить слова незнакомки, найти в них несоответствие, которое позволило бы ему высказать сомнение в правдивости ее дерзкого заявления. Но откуда посторонняя женщина могла знать о его дружбе с Марком и о таинственном черепе? Эта неожиданная новость настолько озадачила Федерико, что он почти забыл, зачем пришел в этот дворец и что ему вот-вот предстояло вступить в братство карбонариев – тех самых, которые отправили великого Гарибальди в знаменитый победоносный поход.
Глава четвертая
Бракосочетание Марка Харпера с Адой Маргарет Слиммернау происходило настолько заурядно, что сам жених подумал поначалу: невеста ничего от него не скрывает и о лучшей жене современный мужчина не может и мечтать. Новобрачные решили ограничиться чисто светским обрядом. Брак был зарегистрирован районным чиновником под внимательными взглядами родителей невесты, которые выглядели одновременно и взволнованными, и какими-то отстраненными. За несколько дней до свадьбы Ада призналась Марку, что ее родители уже много лет назад развелись, но оба будут присутствовать на бракосочетании и изо всех сил постараются разыграть счастливую супружескую пару. Так оно и вышло. В зале с розовой отделкой, украшенном портретом королевы Елизаветы, родители появились врозь, но тотчас же дружески и сердечно поздоровались и держались рядом во время церемонии, которая, к счастью, оказалась недолгой. Со стороны они действительно могли показаться вполне обычной, довольной собой супружеской четой среднего возраста, которая приехала на свадьбу после совместного завтрака, на котором они обсуждали, насколько качественно муниципалитет проводит дорожные работы на той улице, куда выходят окна их общего дома.
Родители невесты с улыбками на лицах обняли новоиспеченного зятя, который, не предупреди его Ада об их разводе, ничего бы и не заподозрил. К этому дню Марк уже знал, что Ада Маргарет – не единственный ребенок в семье. У нее было трое братьев: один жил в Австралии, другой в Индии, а самый младший в Эдинбурге. Никто из них не смог приехать на свадьбу, но каждый посчитал своим долгом прислать сестре подарок и передать в письме наилучшие пожелания новобрачным. Во время церемонии Ада вела себя так, как и подобает молодой невесте. Счастливая и романтически настроенная, она не выпускала из руки ладонь жениха и довольно улыбалась всякий раз, когда слышала клацанье затвора фотоаппарата. Идея пригласить фотографа была высказана самим Марком; он же, кстати, озаботился и поисками подходящей кандидатуры.
Семья Харперов также присутствовала на свадьбе, не совсем понимая, что именно происходит и в какой, собственно говоря, мере это их касается. Родственники Марка выглядели не как близкие новобрачных, а как случайные зрители не слишком интересного спектакля. По правде говоря, невесту толком никто и не знал, даже с родителями Марк познакомил ее всего за пару недель до свадьбы. Вела она себя предельно любезно, но со стороны могла показаться немного замкнутой. По крайней мере наедине с Марком и со своими родственниками она вела себя намного более открыто и раскованно.
Марк, в свою очередь, чувствовал себя виноватым, что не пригласил на свадьбу друзей. Он не без оснований опасался их реакции и, более того, внутренне был уверен, что этот поступок ставит под серьезную угрозу столь давние и дорогие его сердцу дружеские отношения. Впрочем, у него было веское оправдание своему поступку: в конце концов, в брак он вступил, движимый той же силой, которая вот уже столько месяцев заставляла его тратить все свободное время и силы на поиски разгадки черепа. Он просто не мог провести грань, которая разделила бы его личную жизнь и эти изыскания. По правде говоря, единство столь далеких друг от друга сторон жизни не могло не пугать Марка. Он прекрасно знал, как отреагирует Антонио, узнав о его женитьбе: мексиканец откровенно посмеется и воспримет женитьбу как поступок, на который люди идут порой со скуки, а не по любви и даже не по расчету. Более того, Антонио наверняка проклянет его за то, что он раскрыл секрет Пиноккио посторонней женщине. Да, именно посторонней, несмотря на всю близость их отношений. С этим все было более или менее ясно, зато реакцию Федерико предсказать было невозможно. Этот эрудит и интеллектуал отнесся бы к столь важному событию в жизни приятеля с подобающей серьезностью. Несмотря на всю свою сентиментальность, профессор Канали не стал бы в открытую выражать неодобрение поступком друга. Встретившись с ним, придется угадывать, что именно он хочет сказать своим многозначительным молчанием. В последнем письме Федерико ясно дал понять, что ему грозит какая-то серьезная опасность. Было в скупых строчках электронного письма нечто, заставившее Марка принять его слова всерьез. И как же он поступил, получив от друга столь тревожное известие? Отправился на помощь? Нет, он вместо этого озаботился устройством своей личной жизни. Интересно, выдержит ли их дружба столь серьезное испытание?
Вот какие мысли обуревали Марка, пока он ехал в машине тестя, который повез молодых прямо из зала бракосочетаний в здоровенный особняк, расположенный все там же – в Ковент-Гардене. Родные невесты приготовили по случаю свадьбы торжественный обед и обещали взять на себя «культурную программу». Оказавшись в компании незнакомых родственников, Марк понял, какую страшную ошибку совершил, согласившись на брак. Вся благопристойность семейства Ады Маргарет мгновенно испарилась, едва они перешагнули порог родового гнезда. Марк тотчас же понял, что попал в клан, принадлежащий к абсолютно чуждому ему миру. Буквально в течение нескольких минут он выяснил, что родные Маргарет, включая и ее родителей, были актерами. Этим людям оказалась свойственна непреодолимая тяга к лицедейству и эффектным выходкам, а также к притворству и откровенной лжи. В другой ситуации Марк не стал бы иметь с этими людьми ничего общего. Ему просто не о чем было с ними говорить, а общение с ними стало для него тяжелым испытанием. В общем, будь на то его воля, он пулей вылетел бы из особняка через минуту после того, как оказался внутри, и даже не подумал бы, в какой мере нарушает приличия.
Марк живо представил себе ехидно усмехающегося Антонио, который и сам любил пустить фиглярскую слезу по поводу психологических проблем своего отца – постаревшего актера, переставшего быть востребованным. Время от времени он даже доставал из бумажника фотографию отца и пояснял, что, например, твердый и решительный взгляд, который сумел поймать и удачно отобразить профессиональный фотограф, на самом деле говорит лишь о скрытой агрессивности и упрямстве. При этом Антонио иногда так увлекался описанием собственных страданий, вызванных необходимостью сосуществовать с престарелым самодуром, что Марк и Федерико, расчувствовавшись, готовы были поверить в искренность слез и вздохов своего мексиканского друга.
В день свадьбы Марк пал жертвой собственной безответственности. Он как мог старался быть любезным с гостями и пытался отвечать беззлобно, с легкой иронией на каверзные вопросы собравшихся родственников Ады. Невеста не предупредила его, какой стиль общения принят у них в семье, и Марку пришлось перестраиваться на ходу. Не то чтобы он был в восторге от такой фамильярности, но и выставлять себя на посмешище, продолжая общаться церемонно и официально, ему тоже не хотелось. Родственники самого Марка очень быстро перебазировались за угловой столик в дальнем конце террасы. Он прекрасно понимал, что чувствуют они себя здесь не в своей тарелке. Ему и самому было не по себе, и, чтобы заглушить внутреннюю неловкость, он опрокидывал рюмку за рюмкой любого спиртного, что попадалось под руку. Вскоре Ада Маргарет обратила внимание на эту, нехарактерную для Марка, жажду:
– Почему ты так много пьешь? По-моему, ты не привык к такому количеству алкоголя. Не забывай, сегодня наша свадьба и ты должен произвести благоприятное впечатление на гостей. Постарайся взять себя в руки.
Марк тотчас же прекратил пить и, устыдившись, вышел из зала. Он решил найти ванную и ополоснуть лицо холодной водой. В вестибюле толпилось много народу, и Марк не без труда обнаружил дверь, помеченную золотистой звездочкой. Полагая, что за ней находятся туалеты, он взялся за ручку и потянул дверь на себя. К своему удивлению, он обнаружил за дверью странное помещение, напоминающее артистическую гримерную. По крайней мере на каждой стене комнаты висело большое зеркало, окруженное по периметру множеством матово-белых лампочек. Прямо перед Марком, лицом к нему, сидели три старухи, такие же рыжие, как и его супруга. Они широко, во весь рот, улыбались Марку, не переставая при этом подкрашивать губы.
– Прошу прощения, дамы. Я искал мужскую комнату, – сказал Марк, стараясь скрыть свое изумление, – но, похоже, ошибся дверью.
Три старухи в один голос захихикали с несвойственным их возрасту кокетством. Лишь услышав их абсолютно одинаковые голоса, Марк осознал, что эти три пожилые женщины – сестры-близнецы.
– Нет, ты не ошибся, и Маргарет не ошиблась, что выбрала себе в мужья такого симпатичного молодого человека, – заверила Марка старуха, сидевшая посредине.
– Нет, нет, ни ты, ни она ни в коей мере не ошиблись, – с некоторой робостью в голосе поспешили согласиться ее соседки. – Кстати, нужная тебе комната вон там, за крайним зеркалом.
Марк подошел к зеркальной двери и вздрогнул, увидев свое отражение. Бледный, испуганный и бесконечно печальный – таким он себя никогда не видел. На несколько секунд он замешкался и вскоре услышал за спиной старушечье хихиканье. Более того, одна из рыжеволосых бабушек успела прийти к нему на помощь: старуха встала, подошла к зеркалу и, нажав на неприметную ручку, приоткрыла дверь, за которой глазам Марка предстала небольшая комната – что-то вроде прихожей. На двух деревянных дверях, выходивших в это помещение, он заметил традиционные знаки, обозначающие мужской и женский туалеты – схематично изображенные шляпу-котелок и туфельку на каблуке-шпильке, длинном и тонкой, как игла.
Марк прошел за дверь с котелком и закрыл за собой щеколду. Наконец-то он был один и мог немного расслабиться. Он повернул кран умывальника и несколько раз плеснул себе в лицо холодной водой. Похоже, он действительно слишком много выпил, а его организм к такому не был привычен, как совершенно справедливо заметила Ада Маргарет.
Он оперся на край раковины и внимательно посмотрел на себя в висевшее над умывальником зеркало. В какой-то момент ему показалось, что стеклянная поверхность движется. Более того, эти переливы явно искажали пропорции и форму отражавшегося лица. Он даже прикоснулся к щекам и подбородку, чтобы убедиться, что в зеркале отражается именно он, а не кто-то другой. Зеркальный двойник повторил его жест с ювелирной точностью. Значит, сомневаться в том, что в зеркале именно он, не приходилось. Неожиданно Марк заметил в своем отражении нечто такое, от чего немедленно покрылся холодным потом и протрезвел. Ему вдруг показалось, что его нос прямо на глазах удлиняется и вытягивается, становясь тонким, как палочка, которую обстругивает моряк, сидя на палубе и не зная, чем заняться в безветренный день. Марк повернулся в профиль, чтобы проверить, действительно ли происходит столь странная трансформация его лица, или ему все это только кажется. Скосив глаза к зеркалу, он вздрогнул: его нос больше всего походил на костяной отросток черепа, купленного на Гаити. Более того, в глубине зеркала, за его спиной, виднелся силуэт парусника, безвольно дрейфовавшего по волнам в полный штиль. По размерам и форме судно напоминало один из галеонов Вест-Индской торговой компании. В нос Марку ударил резкий запах корабельной смолы, смешанный с вонью судового гальюна. От этих ароматов его вывернуло наизнанку. «Ну конечно, это все она, старуха Лурдель, она отравила нас своим дьявольским зельем», – подумал Марк. Отражение в зеркале зашевелилось, по поверхности моря пробежала легкая рябь, и Марк, не в силах оторвать взгляд от этой картины, вдруг закричал во весь голос: «Будь ты проклята, будь ты проклята!» В тот миг он был полностью уверен, что галлюцинации вызваны странным напитком, поданным троим друзьям старой мулаткой, а вовсе не алкоголем, которым он успел накачаться с начала свадебного банкета. Ноги у него подкосились, и он безвольно рухнул на пол, как связка хвороста, которую сильным движением бросают в пылающую топку камина.
Перед тем как Федерико должен был произнести слова торжественной клятвы, которая навеки связывала его с братством карбонариев, его отвели в дворцовую библиотеку. Стены этого священного алтаря от пола до потолка были покрыты книжными стеллажами. Сами книги выстроились на них стройными рядами, одна к одной. Над упорядочением этого собрания явно поработал некий параноидальный архивист-библиотекарь, обладающий особым тайным знанием – способностью ориентироваться в бесчисленных кипах бумаги, сброшюрованной и переплетенной в тысячи и тысячи томов. Оказавшись после шумного зала в тихом помещении библиотеки, Федерико некоторое время приходил в себя. Он даже не сразу заметил, что за письменным столом в дальнем углу комнаты сидит какой-то человек. Незнакомцу пришлось покашлять, чтобы обратить на себя внимание нового кандидата в члены братства. Оторвав взгляд от бесчисленных рядов книжных корешков, Федерико увидел маленького сухонького человечка, чье лицо, естественно, было скрыто маской. Взмахом руки тот предложил ему подойти к столу.
– Добро пожаловать в наше братство, профессор Капали. Лично я очень рад, что вы присоединились к нам.
Без сомнения, такие люди, как вы, питают наше общество новыми идеями и в то же время не дают нам сбиться с истинного пути.
Федерико был поражен столь любезным и лестным тля его самолюбия приветствием и не задумываясь пожал протянутую руку. Тактильные ощущения в пальцах и ладони подсказали, что перед ним человек пожилой, худощавый и никогда не занимавшийся физическим трудом.
– Большое спасибо, не знаю, как и ответить на столь любезный комплимент в мой адрес. С непривычки мне трудно поддерживать непринужденный разговор, когда я не вижу лица собеседника.
– Не волнуйтесь, молодой человек, – участливо ответил старик. – Всему свое время. Когда настанет час, вы увидите лица всех братьев. Пока что постарайтесь поверить в необходимость этих мер безопасности, которые со стороны могут показаться несколько театральными.
Старик вновь махнул рукой, и Федерико послушно присел на неудобный деревянный стул с высокой спинкой. Тем временем библиотекарь стал подробно рассказывать об истории ордена карбонариев. Эта лекция затянулась больше чем на час. За это время Федерико был ознакомлен с огромным количеством подробностей из жизни старинного могущественного братства и прослушал немало исторических анекдотов на эту же тему.
– История возникновения нашего братства уходит корнями в германские леса. Отличительной чертой наших первых братьев была верность – великая вера и верность истинных карбонариев. Франциск Первый вступил в орден, когда его ложи укоренились на землях, принадлежащих французской короне. Монарх сумел добиться того, что тост за его здоровье поднимался на всех праздниках и торжественных собраниях добрых братьев. Сам Франциск, имевший огромную популярность в народе, очень способствовал становлению ордена и укреплению его могущества. Наши братья создали целую систему знаков и символов, по которым они могли узнавать друг друга, даже не будучи знакомы лично. Согласно легенде, король принял решение вступить в братство после того, как, проведя целый день на охоте, чуть было не заблудился в лесу. Устав и сбившись с пути, он наткнулся на хижину дровосека. Там его принял один из наших добрых братьев. Не зная, что за человек появился на пороге его скромного жилища, он немедленно предложил ему кров и еду. Король назвал себя и заявил, что с этого дня в его стране больше не будут преследовать членов ордена, в который он решил вступить и сам. Больше того, с тех пор по указу короля были отменены все карательные санкции против бедняков, рубивших дрова и собиравших хворост в королевских лесах. Впрочем, для этого пойманному с поличным лесорубу нужно было доказать свою принадлежность к братству. В Италию, – дрожащим от волнения голосом продолжал библиотекарь, – движение карбонариев пришло через Неаполь. В тысяча восемьсот седьмом году один из наполеоновских министров раскрыл заговор против французского владычества: это был заговор итальянских карбонариев. Первая настоящая ложа в нашей стране была основана с началом войны против Австрии. Первые законы были написаны по-английски – по причине огромного вклада этой страны в борьбу против империи великого корсиканца.
Библиотекарь продолжал говорить, посвящая неофита во всё новые истории из жизни ордена, свидетельствующие о его огромном могуществе. Сам Федерико слушал его вполуха и при этом плотоядно поглядывал на бесконечные ряды книг, составлявших эту, по всей видимости, роскошную библиотеку. Он очень рассчитывал, что, став членом братства, сможет припасть к бездонному источнику тайных знаний. Бесконечные исторические анекдоты, сыпавшиеся из уст старого библиотекаря как из рога изобилия, скоро наскучили Федерико, но он всячески старался изображать живой интерес, справедливо полагая, что именно такого поведения ждут от новичка.
– Ну что ж, теперь, когда я вкратце ввел вас в историю нашей организации, – продолжал его собеседник, – нам предстоит пройти в церемониальный зал и принести присягу на верность ордену. Вас уже ждут великие иерархи и посвященные высших степеней. Как отвечать на их ритуальные вопросы, вы знаете. Надеюсь, вам известно, что эти вопросы, внешне простые, исполнены глубокого смысла, а ответы на них имеют силу клятвы. Хорошенько подумайте о своем решении и постарайтесь не обманывать себя. У вас еще есть время повернуть все вспять. Ответьте самому себе честно: не основывается ли ваше желание вступить в орден на каком-то корыстном желании? Если это так, то все обеты будут даны напрасно и все ваши усилия не приведут к цели. В душах наших братьев должен гореть огонь верности и великодушия. Не забывайте и о том, что предательство – это страшный грех, который карается по всей строгости наших законов. Помните, что вердикт Великого магистра является окончательным и обжалованию не подлежит.
Федерико расценил эти слова как неприкрытую угрозу. Сам он понимал, что истинные причины, побудившие его вступить в орден, можно было расценить как чисто корыстные: его интересовало лишь одно – связь между карбонариями и Карло Лоренцини, Коллоди, автором истории Пиноккио. Но даже сейчас, получив столь серьезное предупреждение, он был готов идти дальше и разыгрывать свой спектакль так долго, как этого потребуют обстоятельства. Ничто не могло заставить его свернуть с избранного пути, по которому он должен был пройти к величайшему достижению в своей жизни: если все сложится так, как он задумал, то рано или поздно ему удастся найти подтверждение существования литературного персонажа в реальной жизни. Все эти мысли крутились в его голове, и, чтобы отвлечься от них, он поинтересовался у библиотекаря:
– Прошу прощения, а принимают ли в орден иностранцев?
Старческий смех, больше похожий на кашель, предварил ответ библиотекаря, немало озадачивший Федерико:
– Иностранцев? Какие же среди нас могут быть иностранцы? Пока что вы единственный, кто принадлежит к другому миру.
Из этих слов Федерико сделал вывод, что женщина, назвавшаяся женой Марка Харпера, была, как и Коломбина, так называемой «садовницей», то есть членом ордена, а тот факт, что она родом из другой страны, не имел никакого значения. «Что ж, нужно будет еще подумать, кто она такая, но скорее всего Марк прислал ее, чтобы она помогла мне, – подумал Федерико. – Жаль, сейчас не удастся расспросить ни ее, ни старика библиотекаря о том, что меня больше всего интересует». Федерико оглянулся и увидел, что в дверях библиотеки его уже ждут двое не то конвоиров, не то стражников весьма сурового вида и более чем солидных габаритов.
Охранники проводили его через несколько дворцовых помещений, и вскоре перед ним открылись двери в зал торжественных церемоний. Отделанное досками помещение напоминало по убранству деревенский амбар. Пол был выложен необожженными кирпичами, у стен стояли лавки без спинок. В дальнем конце зала находился большой деревянный помост, за которым сидел на трехногом табурете Великий магистр. Рядом с ним стояли еще двое иерархов ордена. Один выполнял обязанности секретаря, а второй был, по всей видимости, назначен на этот вечер глашатаем. На помосте, за которым восседал Великий магистр, были выложены и закреплены все предметы, имеющие особое символическое значение для членов ордена: клубок шерстяных ниток, ведро с водой, горсть соли крупного помола, деревянный крест, сухие листья, ветки деревьев в форме трезубца, жаровня с пылающими угольями, несколько комков вспаханной земли, терновый венец с выкрашенными белой краской шипами, лестница с семью ступеньками и мяч, скатанный из ниток и трех переплетенных лент – синей, красной и белой. Освещали зал три светильника из кованого железа, на которых были выгравированы слова первой клятвы нового члена ордена. Сам Великий магистр и оба его помощника держали в руках топоры.
Федерико почувствовал себя неуютно, но сумел справиться с собой и не показать волнения. К сожалению, он ничего не смог поделать с капельками пота, выступавшими у него на лбу одна за другой в такт частым ударам сердца.
Первым заговорил Великий магистр:
– Где и как надлежит принести клятву первой степени посвящения?
Федерико ответил без запинки:
– Колпак посвященного первой степени должен быть надет в ложе карбонариев.
– В какой градус надлежит посвятить вновь прибывшего? – последовал очередной вопрос.
– Новообращенному надлежит принять градус сухой почки и зеленого побега, – твердо отчеканил Федерико.
Трижды топнув ногой и повысив голос, Великий магистр воскликнул:
– Добрые братья, магистру нужна ваша помощь.
Сопровождавшие Федерико охранники подошли к нему сзади и обвязали его талию веревкой. Профессор Канали поднял сначала правую руку, а затем левую. Его движения напоминали взмахи крыльев ветряной мельницы или какой-то хищной птицы. Дождавшись, пока Федерико выполнит это упражнение положенное количество раз, Великий магистр воскликнул:
– До меня дошла весть, что одному из добрых братьев нужна помощь; быть может, ему нужно подкинуть Дров в печь.
Ассистенты подошли к Великому магистру, а тот, вновь обращаясь к Федерико, спросил:
– Откуда ты, добрый брат?
– Из леса, – последовал ответ.
– Куда ты идешь?
– В чертог чести. Я иду туда, чтобы смирить свои страсти и подчинить свою жизнь великому делу ордена карбонариев.
– Что ты несешь из леса?
– Дерево, сухие листья и землю.
– Несешь ли ты что-нибудь еще?
– Веру, надежду и благочестие.
Великий магистр встал с табурета и, обращаясь к своим помощникам, прокричал во весь голос:
– Да будет так! Ты теперь один из нас.
Федерико слушал эти слова с волнением в душе. Через секунду он опустился на колени и произнес заученную наизусть клятву:
– Клянусь своей честью хранить тайну добрых братьев, не причинять зла ни малым детям, ни вдовам и оказывать любую помощь собратьям по ордену. Да поможет мне Бог!
Перед тем как Федерико отвели к Великому магистру, в отсутствие кандидата было проведено голосование. Трех черных шаров было бы достаточно, чтобы прервать ритуал посвящения, но на этот раз против кандидата было подано всего два голоса. Таким образом, церемония продолжилась своим чередом.
Неофита, принесшего присягу, вновь ввели в зал, где его ждали все собравшиеся на церемонию братья. Когда Федерико переступил порог, в зале на несколько мгновений воцарилась полная тишина. Он смиренно склонил голову, но буквально через секунду присутствующие, все как один, сорвали с себя маски, подбросили их в воздух и закричали:
– Добро пожаловать, свободный гражданин Аусонии!
Таково было тайное имя, данное членами ордена Италии.
Хотя маски были сброшены, Федерико не заметил большой разницы: на всех лицах застыло одно и то же выражение несколько искусственной невинности. Казалось, лица юношей и стариков, мужчин и женщин были преисполнены добрых намерений: никто из собравшихся ни жестом, ни взглядом не выразил даже намека на угрозу или недоброжелательность. И все же было в этом всеобщем благолепии что-то неестественное. Федерико обратил на это внимание, когда наконец увидел в толпе собравшихся Винченцо и его дочь: старый актер и Андреа, она же Коломбина, как будто в очередной раз разыгрывали давно знакомую им сцену из «Комедии». С одной стороны, Федерико казалось невероятным, что все вокруг притворяются и что-то замышляют, а лишь он один ведет себя открыто и искренне, как подобает рыцарю благородного ордена. Может быть, на самом деле все совсем не так? Может, это как раз он разыгрывает здесь спектакль, а все остальные честны и открыты? Но весь жизненный опыт Федерико подсказывал ему, что это предположение неверно. Он никогда не был хорошим актером, с детства не умел врать и при всем желании не смог бы ввести в заблуждение столько людей сразу. Оставалось лишь ждать, когда какая-нибудь деталь, слово или взгляд выдадут истинные мысли собравшихся братьев.
Задумавшись, он даже не сразу обратил внимание, что в зале снова появился глашатай Великого магистра. Жестом призвав всех к молчанию, тот подошел к Федерико и объявил:
– Осталось исполнить последнюю часть церемонии, самую суровую для вновь посвященного. Брат, ты должен произнести здесь последние слова клятвы, произнести с открытым лицом, перед своими братьями, которые также не прячут лиц под масками. Помни, что ты не имеешь права ошибиться ни в словах, ни в мыслях, ни в намерениях.
Федерико прекрасно понимал серьезность момента и, напрягая память, начал повторять наизусть последнюю часть клятвы на верность ордену:
– Если же я нарушу свою клятву, то мне надлежит принять смерть от рук собратьев по ордену. Пусть меня привяжут к кресту и наденут на меня терновый венец. пусть мне вспорют живот, выдернут из меня внутренности и разбросают их по всем сторонам света. Таковы условия клятвы, которые я признаю и принимаю. Клянусь.
Зал вновь наполнился радостными криками братьев и сестер, приветствовавших нового члена ордена. Сам Федерико, живо представив себе страшную казнь, грозящую ему за нарушение клятвы, почувствовал головокружение и слабость в ногах. Напряжение, которое он испытывал во время ритуала посвящения, дало о себе знать. Покачнувшись, он оперся на первое подвернувшееся плечо. Замутненным взглядом он вдруг заметил длинные рыжие волосы, которые узнал тотчас же – даже в полуобморочном состоянии. Рядом с ним стояла та самая женщина, с которой он познакомился, когда она была в страшноватой маске с птичьим клювом.
– Ада? – на всякий случай спросил он.
– Да, профессор. Мы с вами уже близки к нашей цели. Главное – соберите волю в кулак и не падайте в обморок. Дышите глубже и старайтесь ни о чем не думать.
Федерико из последних сил улыбнулся и отметил про себя, что здорово ошибся, представив себе лицо Ады Маргарет под маской уродливым. На самом деле она была очень привлекательной женщиной, а ее открытая и доброжелательная улыбка стала для него в этот момент спасательным кругом, при помощи которого одинокий пловец с затонувшего корабля мог рассчитывать добраться до берега. Коломбина и Винченцо де Лукка стояли в противоположном углу зала и внимательно наблюдали за своим подопечным.
Голос Антонио разносился по всему дому. Требовательно и настойчиво он раз за разом повторял:
– Отец, отец!
Он шел по дому, одну за другой открывая двери в те комнаты, где, по его мнению, мог находиться старый актер. С тех пор как Антонио вернулся из Сересас, они еще не виделись.
Шофер привез его домой – в огромную квартиру в роскошном доме на проспекте Либертад. Первые несколько часов Антонио крепко проспал. При этом он положил кассету, отданную ему мажордомом, под подушку.
Поначалу он никак не мог толком уснуть: какие-то видения сменялись в его голове воспоминаниями о том, что происходило наяву на отцовской вилле, потом они уступали место образам, которые мерещились ему в бреду после чудесного спасения из бассейна. В общем, по-настоящему он уснул лишь через пару часов после того, как лег. Проснувшись, он почувствовал себя намного лучше. Первым делом он наведался на кухню. Ничего готового он там не обнаружил, но организм настойчиво требовал заполнить желудок чем-то съедобным. Покопавшись в буфетах и в холодильнике, он достал несколько консервных банок, содержимого которых хватило, чтобы вернуть ему вкус к жизни и вновь пробудить интерес к фильму, ставшему причиной его позорного изгнания из Сересас.
Первые кадры фильма были окрашены в традиционные для старых лет тона сепии. Через несколько секунд к ним стал примешиваться желтоватый оттенок какого-то непонятного происхождения, не свойственный ни стилю эпохи, ни самой технике обработки пленки в те далекие годы.
– Это еще что такое? – спросил он сам себя, дожевывая импровизированный завтрак.
Титров у фильма не было, и действие начиналось с первых же кадров: на экране появилось изображение большого парусного корабля, галеона. Судно боролось с ветром и штормовым морем. Огромные волны сносили корабль в левую сторону экрана. Иногда казалось, что судну удается продвинуться вперед и преодолеть порывы встречного ветра, но очередная волна вновь отбрасывала его назад, а через некоторое время штормовой порыв сорвал с мачт большую часть парусов. Реализм, с которым была снята эта сцена, не мог не поразить даже Антонио, не особо сведущего ни в истории кинематографа, ни в технике комбинированных съемок.
– Не может быть, чтобы все это было по-настоящему, – сказал он вслух. – Наверняка снимали макет в каком-нибудь бассейне. И все-таки чего стоят одни только эти молнии, сверкающие в небе! А как потрясающе реалистично сняты волны! И главное – люди, матросы на палубе, привязанные к мачтам. Не может же быть, чтобы…
С каждой секундой Антонио удивлялся все больше и больше. Он то и дело останавливал кассету, увеличивал изображение, насколько возможно, и все больше убеждался в том, что на экране перед его глазами не куклы, а настоящие живые люди, которые привязываются веревками к мачтам, чтобы их не смыло за борт, и отчаянно борются за свою жизнь.
В следующей сцене корабль предстал с почти сорванными парусами и поломанными реями. Море все так же бушевало, а на палубе уже не было некоторых членов команды из тех, что мелькали на экране в начале фильма. Неуправляемый корабль дрейфовал в сторону торчащих из воды скал, появившихся в правом углу экрана. В это мгновение изображение на несколько секунд исчезло. Ощущение было такое, что человек, стоявший за камерой, прикрыл объектив не то рукой, не то заглушкой. Антонио на всякий случай перемотал пленку, чтобы проверить, не является ли этот дефект следствием какой-то неисправности магнитофона. Нет, ошибки не было: отсутствие изображения на экране было следствием его отсутствия на самой пленке. Провал в фильме был сродни провалу в памяти. В следующей сцене корабль был показан уже севшим на рифы. Море к этому времени почти успокоилось. На судне не осталось ни единой целой снасти, все паруса были изорваны в клочья, не хватало даже части мачт. В кадре не было видно ни одного живого человека. Изображение покинутого корабля можно было смело называть аллегорией человеческой трагедии.
Антонио подумал, что на этом фильм и заканчивается. К его немалому удивлению, это оказалось не так: на пустой палубе выброшенного на рифы корабля стали появляться люди, укрывавшиеся во время шторма в трюмах. Теперь они поднялись на палубу, чтобы вдохнуть свежего воздуха и узнать, в каком состоянии находится судно. В общей сложности Антонио насчитал шесть человек, которые без особого энтузиазма принялись разбирать сорванные снасти и скреплять между собой сломанные мачты и реи. Затем настала очередь поднимать припрятанные запасные паруса и скреплять воедино куски парусины, которые разорвал штормовой ветер. Очередная сцена была посвящена наведению порядка на палубе и сжиганию собранного мусора и мелких обломков такелажа. Перед тем как поднести факел к груде мусора, оставшиеся в живых члены экипажа спустились в трюм. Судя по всему, корабль получил большую пробоину, потому что в каждом следующем эпизоде он опускался в воду все глубже и глубже. Вновь поднявшиеся на палубу члены экипажа вытащили из трюма завернутого в кусок парусины покойника.
Матросы положили этот кокон на палубу, и один из них поднес факел к груде мусора. Импровизированный погребальный костер стал быстро разгораться, но от него Повалил такой густой черный дым, что изображение на экране на некоторое время вновь пропало, скрытое этой дымовой завесой. На этот раз Антонио не стал проверять исправность аппарата, а просто подождал, когда появятся кадры новой сцены. Это случилось очень быстро, буквально через несколько секунд. В очередном эпизоде двое матросов начали распутывать стягивавшие тело покойника веревки и разматывать парусину, в которую он был завернут. Их движения были предельно аккуратными, а лица – торжественными и почтительными. Наконец из-под ткани появилось тело какого-то человекообразного создания – довольно высокого и со странным скелетоподобным телосложением. Антонио остановил воспроизведение и увеличил, насколько возможно, интересовавший его фрагмент кадра. Изумлению его не было предела: готова лежавшего на палубе мертвеца имела одно весьма редкое и более чем характерное отличие – неестественно длинный нос покойного заканчивался так хорошо знакомым Антонио острым кончиком. В общем, сомнений не оставалось: покойник, которого должны были вот-вот сжечь на палубе полузатонувшего галеона, был не кто иной, как Пиноккио.
Антонио все звал и звал отца, нетерпеливо врываясь в многочисленные комнаты их огромной столичной квартиры. Он хотел рассказать обо всем, что с ним произошло, а главное – пожаловаться на дерзкое поведение мажордома в Сересас. Ему хотелось выяснить, какой тайной властью обладает этот человек, который так бесцеремонно заставил его дать клятву никогда больше не приезжать в поместье, владельцем которого Антонио являлся практически наравне с отцом. В какой-то момент Антонио решил было, что отца нет дома, но тот наконец услышал призывные крики сына и вышел на порог той комнаты, которую обычно использовал как проявочную лабораторию.
– Что это ты так разорался? С ума сошел?
Антонио прервал отца:
– Папа, мне нужно с тобой поговорить. Нет, с ума я не сошел, но напуган и сбит с толку изрядно. Ты должен мне помочь, иначе я даже не знаю, что делать дальше.
Эти слова были произнесены так взволнованно и искренне, что не могли не произвести впечатление на старого комика. Он закрыл за собой дверь в студию и провел сына в уютную гостиную, располагавшуюся в северной части квартиры, где усадил в кресло и налил ему рюмку какого-то редкого ликера, который актеру присылали по специальному заказу из-за границы. Вторую рюмку он наполнил для себя.
Несколько секунд Антонио молчал. Нет, он и не думал скрывать от отца что-либо, просто ему никак не удавалось решить, с чего начать. Он чувствовал, что вместе с друзьями попал в какую-то липкую паутину и тот, кто сплел эту сеть, вот-вот должен явиться по их души.
– Папа, я больше никогда не смогу поехать в Сересас, – с глубокой печалью в голосе сказал он, понимая, что эти слова не могут не удивить отца. – Твой слуга, Хоакин, выставил меня оттуда раз и навсегда. Нет, нет, не перебивай, дай мне договорить, – поспешно проговорил он, видя, что отец собирается что-то сказать. – Я боюсь сбиться, и тогда у меня уж точно не хватит духу рассказать тебе все от начала до конца.
Старый актер почувствовал, насколько взволнован Антонио, молча кивнул и приготовился слушать столько, сколько будет нужно. Антонио закрыл лицо руками и, помолчав, продолжил подробный рассказ обо всем, что произошло с ним и с его друзьями за последнее время. Признание было подробным и совершенно искренним. Рассказывая о странных вещах, происшедших с ним в Сересас, и не поддающемся логическому объяснению поведении мажордома, он даже показал отцу небольшой шрам на руке, оставшийся после того, как ему пришлось поклясться на крови. Время от времени речь Антонио становилась сбивчивой, а иногда он даже начинал заикаться от страха и волнения. Звездный актер мексиканского кино слушал своего сына, не перебивая. Он впился глазами в Антонио и жадно ловил каждое его слово.
– Но это еще не все. Понимаешь, папа, я ведь поехал в Сересас, чтобы порыться в твоей коллекции фильмов. Я уже нашел было то, что искал, но эту находку вырвали у меня прямо из рук. Мои друзья сейчас далеко отсюда, да и не могу я полностью полагаться на них. У меня нет никого, кроме тебя. Отец, я тебя никогда ни о чем не просил, но сейчас мне нужна твоя помощь.
Антонио сверлил отца глазами, ожидая теплого и сердечного родительского ответа на свои мольбы. Тем не менее старый актер продолжал молча смотреть на сына, словно специально давая ему возможность выговориться. Антонио действительно рассказал ему правду, но пока что – не всю. Вплоть до этого момента он не касался самого важного – ни словом не обмолвился о черепе и уж тем более о том, что этот странный предмет, одно упоминание о котором вызывало столь неожиданную реакцию у многих людей, находится не где-нибудь, а в их с отцом квартире, в одном из нескольких замаскированных семейных сейфов.
– Раньше ты никогда не интересовался ни моими ролями, ни моей коллекцией, а теперь, увидев что-то необычное, может быть, даже сверхъестественное, прибегаешь домой в слезах, как маленький мальчик. Говори честно, где сейчас этот загадочный фильм и, самое главное, где череп? Если он где-то здесь, то покажи мне эти останки ожившей куклы.
Услышав эти слова, Антонио вздрогнул. Судя по всему, отец вовсе, не собирался успокаивать его, но это бы еще полбеды. Как выяснилось, старик прекрасно знал о существовании некоей таинственной пленки и, более того, ничуть не удивился присутствию в его доме носатого черепа. Понимая, что отпираться и выкручиваться дальше бессмысленно, Антонио встал с кресла и сказал:
– Прошу тебя, пойдем со мной. Я тебе кое-что покажу. Надеюсь, эта вещь станет ответом на многие твои вопросы.
Не произнеся больше ни слова, он прошел в отцовский парадный кабинет, где за типичным для мексиканского жилища домотканым ковром, висевшим на стене, находился самый большой в квартире сейф. В глубине металлического шкафа и лежал череп Пиноккио с того самого дня, когда Антонио привез его с Гаити.
Молодой человек не стал делать вид, что не знает шифра, и уверенными движениями набрал нужную комбинацию цифр. Тяжелая железная дверь отворилась, и Антонио, не пугаясь, сделал шаг в темноту – в глубину огромного, в рост человека, металлического шкафа. Он отодвинул футляры с драгоценностями, которые не увезла с собой мать, и вынул из-за них лежавший на полке полиэтиленовый пакет. Обернувшись, Антонио вздрогнул от удивления: за те секунды, что он искал череп, отец успел здорово измениться. Сейчас старый актер стоял у двери сейфа, распрямившийся и напряженный. Ни дать ни взять оловянный солдатик.
Антонио сделал вид, что не заметил ничего странного, и прошел к большому письменному столу. Без лишних предисловий он вынул носатый череп из мешка и водрузил на стол.
Костная ткань может выглядеть по-разному в зависимости от освещения и от тех условий, в каких она хранилась, включая и состав почвы, в которой происходило разложение мягких тканей мертвого тела. С того времени, как Антонио видел череп в последний раз, тот успел измениться: его теменная часть и раньше была неестественного, зеленоватого цвета, что свидетельствовало о влажной почве, в которой долгое время находились останки. Но сейчас эти кости приобрели еще более темный, густо-зеленый оттенок, словно их только что вынули из довольно глубокой могилы. Придумать этому странному явлению сколько-нибудь правдоподобное объяснение Антонио не смог, да и не стал уделять этому факту большого значения. В конце концов, по сравнению с остальными тайнами, так или иначе связанными с черепом, изменение его цвета не представлялось первостепенно важным.
– Вот, посмотри на него, – обратился Антонио к отцу. – Попробуй сам разобраться, что это за диковина.
Актер взял череп в руки точно таким же движением, как это сделал Антонио в доме старухи Лурдель. Он поднял странный предмет на уровень глаз й некоторое время молча рассматривал его со всех сторон. Длинный носовой отросток по-прежнему был основной отличительной чертой этого черепа, но далеко не единственной. На этот раз Антонио удалось разглядеть то, чего он не замечал раньше: цвет, текстуру поверхности кости, неприветливое, даже злобное выражение пустых глазниц. С черепом явно происходили какие-то небыстрые, но все же заметные изменения, словно он пытался восполнить отсутствующие мягкие ткани на своей поверхности.
– Если это известно Хоакину, то и все остальные уже знают, – негромко сказал актер, не отводя взгляда от черепа.
Антонио вопросительно посмотрел на него, не понимая, о каких «всех» идет речь.
– Ты хочешь сказать, что Хоакин выставил меня из Сересас из-за этого? – неуверенно спросил он.
– Конечно, из-за чего же еще. Он, кстати, не вручил тебе напоследок один старый фильм, в котором есть эпизод, где сжигают большую деревянную куклу? Если это так… в общем, можешь воспринимать это как предупреждение.
– Папа, но ведь… – взмолился Антонио. – Пойми, отступать уже поздно. Мои друзья ведут активные поиски, и я тоже хочу узнать всю правду об этой странной штуковине.
– Мой тебе совет, – неожиданно строго проговорил актер, – забудь обо всей этой истории, а я позабочусь о черепе. Поговори со своими друзьями, постарайся убедить их, что не нужно ничего искать и ни до чего докапываться. Скажи, что продал череп, что у тебя его нет, чтобы они отвязались от тебя со своими глупостями. Пойми, нельзя тревожить мертвых.
Антонио не верил своим ушам: как же так, неужели отец мог проявить себя таким трусом без всяких на то оснований? Что могло заставить его так испугаться? На самом деле такое поведение отца лишь еще больше убедило его в важности этой случайной находки. «Ну уж нет, – подумал он, – я от этого Пиноккио так просто не отстану. Рано или поздно я найду всему объяснение».
Много дней после свадьбы Марк Харпер провел в постели. Он пребывал в полусознательном состоянии, ничего не говорил и лишь время от времени открывал глаза и видел перед собой любящее и обеспокоенное лицо молодой супруги. Марк потерял сознание перед умывальником в мужском туалете. В состояние оцепенения его привело то, что он увидел в зеркале. Три тетушки Слиммернау, те самые, которые помогли ему найти дверь в туалет, обнаружили молодого человека лежащим на полу – бледным и словно окоченевшим. На лице его застыло выражение изумления и ужаса. Узнав, что на жениха внезапно обрушилась какая-то неведомая болезнь, гости быстро разошлись с банкета, причем многие даже не успели поздороваться со своим новым родственником. В последующие дни Марк не раз с сожалением вспоминал об этом. С молодыми оставались лишь родители Ады Маргарет и самого Марка. И те и другие помогали молодой жене ухаживать за так внезапно занемогшим супругом. Относительно причин этой напасти все сошлись во мнении, что Марк просто выпил слишком много и непривычный к такому воздействию организм отреагировал тем, что впал в ступор, из которого Марку пришлось выходить очень долго – несколько недель. Мать Марка, у которой вдруг проявилось материнское чутье на неприятные последствия происходящего, попыталась уговорить Аду, чтобы та позволила увезти больного в дом его родителей. Но все эти разговоры ни к чему не привели. Ада с понятным рвением взялась исполнять обязанности заботливой жены по уходу за больным мужем, и во избежание ненужных ссор и опасаясь испортить еще толком не сложившиеся отношения, миссис Харпер уступила невестке и уехала домой, мучимая мигренью и каким-то смутным беспокойством. Разобравшись с гостями и родителями, Ада вздохнула с облегчением и перевезла Марка в свой дом в Ковент-Гардене. Молодой супруг был уложен в постель, а вызванный врач констатировал болезненно неадекватное состояние пациента, выраженное в пассивной форме и вызванное сильным отравлением жидкостями, содержащими этиловый спирт. С точки зрения медика, главным лекарством в таком случае было время. Время, помноженное на спокойствие и благоприятную психологическую обстановку, в сочетании с препаратами, выводящими из организма продукты интоксикации, должно было дать положительный эффект. В общем, врачебные прогнозы выглядели весьма оптимистично. Ада, естественно, решила не оставлять мужа в таком состоянии одного. Перед свадьбой они вместе планировали, как проведут медовый месяц в путешествиях по разным странам – понятно, с учетом пусть и объединенных, но далеко не безграничных финансовых возможностей. К сожалению, эти романтические планы уступили место бессонным ночам, которые Ада проводила, сидя рядом с мечущимся в бреду Марком. По всей видимости, к алкогольному отравлению добавилось и сильнейшее психологическое напряжение, в котором Марк пребывал несколько месяцев перед свадьбой. Слушая полубредовые рассказы Марка, Ада гораздо лучше узнала его и оказалась посвящена практически во все тайны, которые он прятал в самых дальних уголках подсознания. Она узнала во всех подробностях и о посетителях с того света, навещавших Марка в читальном зале библиотеки. Так, например, Сатис-хаус он расписал ей во всех подробностях в одну тяжелую ночь, когда Аде казалось, что с нею рядом в комнате находится лишь полуживое тело, в то время как его душа обходит уголок за уголком старинный английский особняк, описанный Диккенсом. Время от времени Ада впадала в отчаяние: по всем расчетам, Марк уже должен был чувствовать себя лучше, но процесс выздоровления затягивался на неопределенное время. По прошествии недели она попросила некоторых родственников – тех, кому доверяла больше других, – чтобы они заглянули к ней и пообщались с Марком, все еще не встававшим с постели. Она надеялась, что это станет для него источником если не положительных эмоций, то хотя бы информации, которая сможет заинтересовать его и склонит душу и разум к тому, чтобы проводить большую часть времени в реальном мире, а не ускользать все дальше и дальше в непознанные глубины мира сверхъестественного и потустороннего.
Среди приглашенных помочь в лечении Марка, естественно, был и дядя Пол, энтомолог. Впрочем, очередь до него дошла не сразу. Лишь на третью неделю Ада Маргарет, уже терявшая надежду, позвонила человеку, который, сам того не зная, стал связующим звеном между двумя людьми, полюбившими друг друга. Дядя Пол не заставил себя долго упрашивать и явился в гости по первому же звонку Ады. Он был братом матери Марка и уже выдержал много разговоров с сестрой, почти убедившей его хотя бы из вежливости побывать у больного. К тому времени, как ему позвонила Ада, уважаемый энтомолог созрел для визита и принял приглашение сразу же. На самом деле дядя Пол был человек нелюдимый, старавшийся лишний раз не появляться в обществе и очень занятой. Он день и ночь торчал в лаборатории, а единственной его публичной активностью были лекции для студентов и научное руководство молодыми учеными, большей частью столь же малообщительными, как и он сам. Он был высокий, худощавый, с довольно длинными волнистыми волосами и в очках. Цвета его глаз толком никто не знал, потому что стекла-«хамелеоны» придавали им любой оттенок в зависимости от освещения. Все костюмы у него были неопределенного серого цвета, и это однообразие, подчеркнутое неизменной стрижкой не то седых, не то бесцветных волос, придавало его облику некоторую стильность и даже элегантность. Единственным ярким штрихом в его сером одеянии была крохотная заколка, которую он носил на пальто. Она представляла собой силуэт маленькой бабочки с ярко-алыми крылышками. Контуры крыльев, тельце насекомого и сама булавка были сделаны из золота. Эту изящную вещицу энтомологу подарили его младшие коллеги по случаю сделанного им научного открытия. Достижение Дяди Пола принадлежало к разряду открытий, о которых не пишут в газетах и не сообщают по телевидению, но которыми их авторы заслуженно гордятся в узком кругу просвещенных коллег.
В доме у новобрачных дядя Пол вел себя гораздо менее официально, чем обычно. Марк в своем привычном полусне, казалось, понимал, что рассказывал ему энтомолог, и бормотал в ответ нечто не совсем бессвязное. Ада совершенно не ожидала столь явного терапевтического эффекта от визита смурного и неразговорчивого родственника. Довольная и вновь обретшая ускользнувшую было надежду, она поцеловала мужа в лоб и сказала:
– Дорогой, все будет хорошо, вот увидишь.
В какой-то момент она вышла из комнаты, чтобы подготовить лекарство и шприц для очередной инъекции. Воспользовавшись ее отсутствием, Пол наклонился к больному и негромко, но отчетливо сказал:
– Бедняга Марк, не знаю, что с тобой случилось, но уверен, что такие шутки не в твоем духе. Если ты меня слышишь, дай знать, а если сможешь, попытайся попросить о том, что тебе нужно и о чем ты не станешь просить даже собственную жену. Что я могу для тебя сделать?
Марк поморгал, как будто полностью понял слова Пола. Судя по всему, у него просто не было сил ответить словами. Поняв, что происходит с племянником, Пол наклонился еще ближе и сказал:
– Ты, главное, успокойся, все самое страшное уже позади. Скоро ты снова будешь с нами, снова станешь нормальным человеком.
Из глаз Марка стекли по щекам две слезинки. Только сейчас дядя понял всю глубину страданий молодого человека. Судя по всему, то, что он пережил, оказалось для него чрезвычайно болезненным. Вернувшаяся в комнату Ада просто не могла не заметить происшедшую с мужем перемену. Она с благодарностью обняла Пола:
– Не уходите, переночуйте у нас. Ваше присутствие очень благотворно сказывается на Марке. Как знать, если вы останетесь, может быть, он уже к завтрашнему дню поправится. Сделайте мне это одолжение, умоляю. Пол воспринял ее просьбу без большого энтузиазма, но, тронутый мольбами и волнением Ады, все же поддался на уговоры и согласился провести долгий вечер за разговорами и чаем у постели больного.
Чай они пили действительно долго и неторопливо, беседуя при этом о разных пустяках. Ада внимательно следила, чтобы Марк выпил полную чашку, что, согласно предписаниям врача, ему полагалось делать каждые четыре часа. Время шло неспешно и незаметно. Марк прямо на глазах становился более активным, его лицо смягчалось, и у Ады да, впрочем, даже и у Пола возникло ощущение, что он готов вот-вот пробить изнутри мутную скорлупу безмолвия, окружавшую его последние недели. В какой-то момент Пол и Ада даже замолчали, чтобы сосредоточиться на движении зрачков Марка на его все более осмысленном взгляде. Вдруг обоим стало понятно, что критический момент наступил. Еще через несколько секунд губы Марка дрогнули и он заговорил:
– Скапен, Санторелло! Немедленно выгоните отсюда Изабель и Леандру, а потом бегите и прячьтесь под юбкой новой Коломбины.
Ада и Пол переглянулись, сбитые с толку столь неожиданной тирадой Марка. Сам же он приподнялся на постели и внимательно посмотрел в глаза жены:
– Ада, дорогая, почему ты оставила меня одного? Почему тебя не было со мной, почему я уехал в это путешествие без тебя?
Ада, сияющая и с горящими глазами, летящая, словно на нее перестала действовать сила земного притяжения, обняла мужа и сбивчиво заговорила:
– Прости, что не была с тобой до конца искренней. Поверь, я вела себя так лишь для того, чтобы помочь тебе и защитить тебя. Мне хотелось, чтобы ты все время был со мной рядом. Больше я не буду обманывать тебя, ведь я даже не знала, что ты обладаешь этим редким даром. Но и ты тоже не знал о своих способностях. Это путешествие было для тебя неизбежным, и слава богу, что ты все же сумел вернуться назад.
Марк обнимал жену и слушал ее, как могло показаться со стороны, не слишком внимательно. Лишь его взгляд выдавал нежность и обожание. Пол некоторое время смотрел то на молодую пару, то куда-то в сторону, а затем счел за лучшее выйти из спальни Марка в гостиную. В большое окно он увидел луну – полную, круглую и почему-то показавшуюся ему ужасно глупой. Ночь выдалась на редкость ясной, без каких бы то ни было заметных глазу метеорологических явлений. Такая погода свойственна скорее не Британии, а гораздо более приятной по климату Тоскане.
Для Марка и Ады настал час взаимных признаний. Им обоим нужно было разобраться в своих отношениях и дать ответы на те вопросы, которые они избегали ставить друг перед другом. Марк теперь знал о себе гораздо больше, чем до свадьбы, и твердо вознамерился узнать не меньше о своей жене, не позволяя ей вновь и вновь ускользать от его вопросов и прятаться за какими-то дурацкими отговорками. Некоторые его подозрения сменились полной уверенностью, и, несмотря на слабость и головокружение, он был настроен не терять времени даром.
Ада без единого слова поняла, что замкнулся начатый ею самой круг. Начался новый цикл их с Марком отношений, а следовательно, настал час откровенных, пусть и болезненных признаний.
– Ты обязательно расскажешь мне, где пробыл все это время, где путешествовала твоя душа, пока здесь, на кровати, лежало твое почти безжизненное тело. Но прежде чем ты расскажешь о неведомых мне краях и странах, я должна приоткрыть для тебя одну из страниц своей жизни. Должна признаться в том, чего ты до сих пор обо мне не знал. Я не рассказывала тебе об этом, во-первых, потому, что никак не могла решиться, а во-вторых, просто не знала, как ты к этому отнесешься. Теперь же, когда ты побывал там, где не бывал никогда раньше, и узнал то, что было тебе до сих пор неизвестно, а кроме того, скорее всего, пообщался с теми, кто мне так близок и дорог, я чувствую себя обязанной рассказать тебе, кто я такая и кем были мои предки.
В ответ Марк лишь благостно улыбнулся. Судя по всему, он настолько устал душой, что был просто не в состоянии реагировать на что-либо происходящее вокруг. Он был готов слушать жену сколь угодно долго, готов простить любой ее проступок, даже преступление – лишь бы она сейчас была рядом и никуда не уходила. Ада взяла его за руку и продолжила свой рассказ:
– Не знаю, любимый, рассказывали ли тебе когда-нибудь об ангеле западного окна.
Марк на это ничего не ответил. Восприняв его молчание как позволение продолжить рассказ, Ада сказала:
– Ну что ж, тем лучше. Я расскажу тебе о нем, и ты узнаешь, какова была жизнь и судьба одного предателя.
Двадцать первого ноября тысяча пятьсот восемьдесят второго года некоему Джону Ди явился ангел в образе маленького мальчика. Ребенок вошел в помещение библиотеки через окно и протянул Джону Ди черный камень. Этот камень, который по сей день хранится в Британском музее, наделил Джона способностью к бестелесным путешествиям и к предсказаниям. Одаренный этими колдовскими способностями, он сумел подобраться поближе к королевскому двору и вместе со своим закадычным другом Эдвардом Келли, или Тэлботом, зарабатывал на жизнь астрологией и политическими интригами. Таким образом он сумел совместить власть, данную ему звездами, с земным могуществом, отвоеванным им у других смертных. Оба друга-колдуна обрели способность, которая, как выяснилось, присуща и тебе, – они смотрели в зеркало, и отражение, свободное от собственного тела, могло уноситься в неведомые края, за пределы того, что доступно обычному магу и уж тем более простому смертному. Келли был настоящим некромантом, то есть человеком, который использует мертвых для того, чтобы узнать, что будет с живыми. Его любопытству не было предела, а кроме того, он не считал себя связанным какими бы то ни было этическими нормами и правилами.
В ночь на четвертое ноября тысяча шестьсот пятого года Келли убедил Джона Ди, астролога королевы Изабеллы, пойти вместе с ним на кладбище и там вскрыть могилу кормилицы королевы. Он собирался допросить покойную и выяснить у нее, какие колдовские способности та передала королеве, всегда скрывавшей лицо под маской. Однако в ту ночь, тихую и лунную, как эта, им была уготована еще одна встреча. Там, на кладбище, рядом с поваленной и расколотой безымянной могильной плитой, они увидели Гая Фокса, который клялся отомстить монархии, подорвав устои королевства как в прямом, так и в переносном смысле.
Когда гроб был поднят из могилы, два колдуна, довольные тем, что все прошло гладко и никто не помешал им исполнить задуманное, неожиданно столкнулись с мрачным и недружелюбно смотревшим на них человеком, вышедшим из темноты. Понимая уязвимость своего положения, Ди и Келли спросили у Гая Фокса, сколько денег он хочет за свое молчание. Услышанный ответ немало удивил их обоих: «Мне нужно лишь то же, что и вам, – спросить кое о чем того, кто лежит в этом гробу». Колдуны поняли, что имеют дело не с обычным человеком, и с готовностью согласились на его условия. Так, втроем, помогая друг другу нести гроб, они дошли до дома Келли, где без труда сняли с деревянного ящика крышку.
Джон Ди обратился к покойной на том языке, который, как он полагал и как написал позднее в своей автобиографии, был языком Адама вплоть до дня его изгнания из рая. Покойница, от которой к тому времени в гробу остался лишь полуразложившийся труп, откликнулась на могущественное заклинание и в свою очередь обратилась к колдуну с вопросом: «Что тебе нужно? Зачем ты заставил меня вернуться?»
Гай Фокс хотел первым спросить покойницу о чем-то очень важном. Удивленные такой настойчивостью, колдуны уступили его просьбам. Гай Фокс объяснил, что вместе с некоторыми недовольными офицерами и братом иезуитского ордена Джоном Джерардом устроил заговор с целью свергнуть монархию и уничтожить ересь, укоренившуюся в Англии. Заговор должен был осуществиться на следующее утро. Вот почему Гай Фокс хотел знать, добьется ли он с товарищами желаемого успеха. Старая кормилица рассмеялась во весь полубеззубый рот и пугающе-дружеским голосом произнесла: «Гай, ты ведь уже мертв, да-да, и ты, и вся твоя семья, и все, кто пойдет за тобой. Отныне и вовеки твое имя и твоя кровь будут гореть в пламени праздничных костров».
Предсказания мертвецов всегда сбываются, но Ди и Келли обеспокоились судьбой своего нового знакомого вовсе не по этой причине. Джон, полный решимости перейти к активным действиям, воскликнул: «Мы должны помочь этому человеку». Эдвард Келли согласился. Гай смотрел на них, словно не понимая, что происходит, и явно не придавая значения словам колдунов. Его сердце, пораженное столь четким и чудовищно жестоким предсказанием, билось во много раз сильнее и чаще, чем обычно, а все его мысли были направлены на то, каким образом спасти от неминуемой беды жену и детей.
Марк, который выслушал этот рассказ не перебивая, вдруг вспомнил, как в день праздника порохового заговора заметил, что Ада – в те дни еще мисс Слиммернау – ведет себя несколько странно. Не желая слушать даже самых невинных расспросов своего возлюбленного, она убежала прочь и стала играть с огнем праздничных костров. Тогда Марку это показалось довольно неожиданным, но он списал такой поступок на несколько инфантильное восприятие мира его невестой.
Ада внимательно посмотрела в глаза мужу и, выдержав паузу, спросила:
– Ты меня слушаешь?
Вновь поймав нить разговора, Марк утвердительно кивнул. Чуть успокоившись, Ада продолжила свою историю:
– Чем все это закончилось, ты, наверное, и сам знаешь. Гая и его сообщников арестовали в ту же ночь, когда они пытались поджечь здание парламента. Как предсказала мертвая старуха, сначала их пытали, а затем казнили. Досталось и ближайшим родственникам заговорщиков. Так вот, Марк: я принадлежу к прямым потомкам Гая Фокса, который спас свою семью, называя себя вплоть до последнего вздоха чужим именем. Он так и умер, записанный в судебных документах под именем Джона Джонсона. Воспоминания о столь печально знаменитом предке наложили печать на всю историю нашей семьи. У родных Гая Фокса отобрали собственность, имущество и титулы. Ввергнутые в нищету, они нашли свой собственный способ сохранить жизнь и более-менее свободное существование: все родственники, как один, стали актерами и жили из поколения в поколение под чужими личинами. Эту традицию наша семья хранила веками. Лишь на мне она дала сбой, и я выбрала себе жизнь, не связанную с театральными подмостками. Я прекрасно понимаю твое удивление, когда после свадьбы ты стал знакомиться с моими родными. Да, все они актеры и в самом деле уже разучились просто жить, а не исполнять очередную роль. Даже когда они не на сцене, а рядом с тобой, не знаешь, говорят ли они тебе правду или врут, произносят чужие слова или говорят то, что сами думают. Отношения между родственниками в нашей семье всегда были сложными, но еще сложнее складывались отношения с внешним миром: почти все наши браки заканчивались разводами, но никто, ни один из нас, за все эти столетия не предал семью и не поступился нашими общими интересами. Кроме тебя, ни один посторонний не знает об этом не то братстве, не то сборище заговорщиков, которое существует уже несколько веков. Тебе я рассказала об этом лишь потому, что ты очень похож на одного из нас. Ты тоже обладаешь даром покидать собственное бренное тело и переноситься душой в другое место и в другое время. Я знаю наверняка: ты не подведешь меня, не обманешь моего доверия и не сделаешь ничего, что пошло бы во вред мне или моим близким.
Марку было нелегко поверить в слова Ады, но, с другой стороны, уставший после долгого путешествия, он не мог не признать, что в мире есть та реальность, о существовании которой он раньше и не предполагал. Он был сам не свой. Мысленное путешествие полностью преобразило его. Вплоть до этого дня он считал себя человеком обычным, простым, если не сказать – примитивным. Его жизнь осложнялась только элементарными комплексами робкого и замкнутого юноши. Теперь же он воспринимал самого себя как некое чудовище, как индивидуума, обладающего особенностями, несвойственными нормальным людям. Кроме того, он чувствовал, что каким-то образом вторгся в запретный для обычного человека мир. Все это не на шутку пугало Марка: интуиция подсказывала ему, что следующей остановкой на этом пути в неведомые миры может стать потеря рассудка.
– Я, кажется, понял, – сказал он, впиваясь взглядом в глаза Ады. – Тот дар, который колдун Джон Ди передал обвиняемому в заговоре Гаю Фоксу, и представлял собой способность ускользать душой из собственного тела и, следовательно, не чувствовать боли. Пока палачи терзали его тело и вынимали внутренности из вспоротого живота, твой знаменитый предок переносился куда-нибудь, например на гаитянские пляжи, или же начинал представление в кукольном театре, дергая за ниточки марионеток.
Ада улыбнулась ему, и в этой улыбке читалось вновь возродившееся доверие.
– Все было именно так, как ты говоришь. Этот дар – или проклятие, называй как хочешь, – остался с нами, потомками Гая Фокса, на века. Джон Ди сделал нас свободными и в то же время превратил в чудовищ, безжалостных и циничных. Вот почему ты должен понять, что и нам очень важно узнать, что произошло с тем черепом, который вы с друзьями купили на Гаити. История Пиноккио принадлежит и нашему миру, ведь он был актером, как и мы.
– В этом я ни на минуту не усомнился, – заверил ее Марк не без доли цинизма, – но, к сожалению, в данный момент я не могу сказать ничего, что пролило бы свет на эту загадку. Путешествие далось мне тяжело, и, несмотря на то что я многое увидел и почувствовал, ни один из увиденных образов, уверяю тебя, не был никак связан с этой историей. Кроме того, мне потребуется некоторое время, чтобы восстановить и привести в порядок воспоминания о моем путешествии. На данный момент я просто не способен сказать что-нибудь вразумительное.
Ада была явно разочарована, но ей пришлось удовольствоваться тем, что он вообще согласился говорить с ней на эту тему. Она не без оснований полагала, что он теперь не вполне доверяет ей и не торопится поведать о тех местах, где побывал за время своего долгого путешествия. Опасаясь навлечь на себя еще большие подозрения, она лишь осторожно напомнила Марку о том, что уже слышала от него:
– Когда ты очнулся, то произнес имена Скапена и Санторелло, Леандры и Изабель. Все они друзья Полишинеля, и все итальянцы, как и Пиноккио. Почему ты к ним обращался?
Марк честно признался, что не помнит, почему именно эти имена пришли ему в голову при пробуждении. Терзаемый сомнениями и подозрениями, он осторожно встал с кровати и в первый раз за три недели сам дошел до гостиной, где и обнаружил вздремнувшего в кресле дядюшку Пола. Ада решила больше ни о чем не расспрашивать Марка и подождать, пока время и ее забота восстановят в полной мере память мужа, чуть не покинувшего этот мир навсегда и исцелившегося столь чудесным образом.
С того дня, как Федерико дал торжественную клятву на верность братству карбонариев и к тому же познакомился с женой своего друга Марка Харпера, у него началась новая жизнь; при этом старая никуда не делась и стала лучше, чем прежде. В этой двойной жизни он был тем, кем всегда хотел быть и никогда не мог стать. В университете он работал не менее увлеченно, чем раньше, и к нему быстро вернулась былая слава отличного преподавателя и вдумчивого, прилежного исследователя. Работал он просто без устали и при этом совершенно перестал удивлять коллег какими бы то ни было странностями в поведении. Более того, он вновь стал участвовать в посиделках в кафе. Коллеги не могли нарадоваться его взвешенным и всегда хорошо аргументированным высказываниям и примирительному тону, которым он отвечал на любые опрометчивые заявления какого-нибудь зарвавшегося ревизиониста или анархиста. Федерико обрел такое внутреннее равновесие и цельность образа, что вполне мог сойти за улучшенную и подлакированную копию самого себя в недавнем прошлом. Впрочем, все это не мешало ему меняться и внешне, и внутренне в те свободные часы, которые он посвящал целиком и полностью деятельности в рамках тайного братства.
Поездки во Флоренцию он совершал теперь с завидной регулярностью. Отношения с Коломбиной перешли в восхитительную фазу легкой и в то же время зрелой влюбленности, а былые предрассудки преподавателя Канали отбрасывались один за другим и снимались с него, как шелуха с луковицы. Наконец в его отношениях с Коломбиной остались лишь изначальные, первородные мысли и чувства, позволившие Федерико воспринять любовь на дантовский манер как некий stil nuovo [24]. Федерико наслаждался каждой минутой своей любви и в неменьшей степени наслаждался телом своей возлюбленной до головокружения от божественного нектара – смеси духовного и телесного начал, прекрасного вина, которого ему прежде не доводилось даже попробовать. Со своей стороны актер Винченцо де Лукка с гордостью рассказывал добрым братьям о том, какой замечательный молодой человек появился у его не менее замечательной дочери. Кроме того, он был невероятно горд собой за то, что именно с его подачи Федерико был принят в члены братства. Какое-то время Федерико считал благоразумным вообще забыть о черепе и во время встреч с добрыми братьями не упоминать об этой странной находке. Несколько слов Ады Маргарет Слиммернау, произнесенных в ночь его посвящения, запали ему в память и словно запечатали ему рот. Федерико понял, что не может позволить себе никакой слабости. Ни один из членов братства не должен был догадаться, что на самом деле страшное любопытство просто сжигает его изнутри. Он научился играть избранную роль и проводить немалую часть жизни, надев на себя пусть и невидимую, но от этого не менее непроницаемую маску безразличия, которое было для него лучшими доспехами, щитом и шлемом.
Федерико пунктуально посещал все собрания отряда Лесных братьев – так называлась ячейка братства. Очень быстро он убедился в том, что эти встречи и разговоры нисколько не обогащают его, а, наоборот, наводят страшную тоску. Горьким открытием для него стал тот факт, что тайное общество, по всей видимости, представляет определенный интерес лишь до того момента, как человек становится его членом. Когда же обет дан и произнесены слова клятвы, сосуществование с сектантами делается столь же обыденным и вульгарным, как и взаимодействие с любой другой человеческой организацией. Если же в братстве недостаточно ярких или хотя бы просто интересных личностей, то все встречи членов ордена очень скоро превращаются в формальное исполнение заскорузлых от времени и частого употребления ритуалов. Федерико, например, удивляло то, что больше ему так и не удалось встретиться с Великим магистром и редко доводится бывать во дворце Бонапарта, в том самом месте, где происходила церемония его посвящения. Стараясь не вызвать никаких подозрений у братьев по ордену, он не задавал лишних вопросов и не проявлял своей заинтересованности в каком-либо конкретном деле. Под маской поверхностного дилетантизма и беспечности он тщательно скрывал свою безумную страсть.
Еще в день посвящения Ада Маргарет выказала ему свою симпатию и готовность стать доверенным лицом в ордене. Федерико не смог заставить себя отвергнуть протянутую ему руку помощи. После церемонии именно Ада проводила его до окраины города. По дороге они, естественно, заговорили о Марке, и Ада призналась, что старый друг Федерико находится в ужасном состоянии – между жизнью и смертью, между сном и бредом. Судя но ее словам, она бросила тяжелобольного мужа и приехала во Флоренцию лишь для того, чтобы помочь Федерико и сделать для него посвящение не столь трудным и утомительным. Федерико слушал ее, не перебивая, но вовсе не торопился верить каждому ее слову. Чем-то эта рыжая англичанка была ему подозрительна. Особенно удивило его то, как она с первой же минуты знакомства стала вести себя с ним чуть ли не как родная сестра. Ада, казалось, не замечала его подозрительного отношения к ней и продолжала рассказывать об Англии, о Марке, о поездке на Гаити, об Антонио и его знаменитом отце. Федерико старательно скрывал разбиравшее его любопытство и демонстративно ограничился лишь несколькими фразами, без которых в подобном разговоре было просто не обойтись:
– По правде говоря, я удивился, что Марк не сообщил нам о своем решении жениться. Это на него не похоже. Неужели он нам не доверяет?
– Да что ты, наоборот, – поспешила Ада вступиться за мужа. – Ты просто не знаешь, как было дело, и потому понимаешь все неправильно. Все произошло очень быстро. У нас не было возможности подготовиться к свадьбе так, как хотелось бы. Марк много рассказывал мне о тебе и, конечно, об Антонио. Уверяю тебя, вашей дружбе ничто не угрожает.
Федерико изобразил на лице гримасу сомнения, но доброжелательная улыбка Ады заставила его немного сменить тон.
– Может быть, ты и права, но все же… я никак не возьму в толк, почему Марк не сообщил нам о столь важном шаге в своей жизни.
– Первое, что он собирался сделать после свадьбы, – настойчиво повторила Ада, стараясь держаться по-прежнему любезно и приветливо, – это связаться с вами и сообщить каждому из вас лично о нашем браке. Разумеется, он хотел и объясниться с вами по поводу долгого молчания. К сожалению, он не успел этого сделать, так как заболел прямо в день свадьбы.
При очередном упоминании тяжелой болезни, неожиданно свалившейся на Марка, Федерико обеспокоился еще больше. Он не стал делать вид, что состояние друга его не интересует, и принялся настойчиво расспрашивать Аду:
– Так что же все-таки случилось? Он ведь никогда не жаловался на здоровье, а что касается физической силы, то я мог ему только позавидовать.
– Эта напасть не физического свойства, а скорее психического, – сокрушенно сказала Ада. – Он неожиданно упал в обморок и до сих пор не пришел в сознание. Кормим мы его, как получится: к счастью, даже будучи без сознания, он хотя бы открывает рот. Но сколько с ним ни разговаривай, он, похоже, ничего не слышит и, даже когда открывает глаза, явно не видит нас.
Эти слова еще больше обеспокоили Федерико. Сев в машину, он поехал домой как можно быстрее – ему хотелось выяснить, насколько соответствует действительности то, что рассказала ему эта женщина. Войдя к себе, он, даже не сняв пальто, бросился к телефону. На другом конце провода трубку взяла мать Марка, подтвердившая Федерико все только что услышанное. Беспокойство, которое слышалось в голосе миссис Харпер, еще больше встревожило Федерико. В некотором роде он чувствовал себя если не виноватым, то ответственным за происшедшее. Повесив трубку, он немедленно набрал номер Антонио, но в Мехико никто не ответил. Посмотрев на часы и прикинув, сколько времени сейчас по другую сторону Атлантики, Федерико решил подождать более подходящего часа.
Больше он не встречался с Адой Маргарет Слиммернау. Ни на одном из последующих собраний, на котором Федерико присутствовал уже в качестве доброго брата, он не видел эту женщину, которая, как ему показалось, была еще одной претенденткой на то, чтобы наложить лапу на злосчастный череп.
Несколько дней он пытался связаться с Антонио, причем звонил как в дневное время, так и в неурочный час – поздно ночью, лишь бы застать друга дома. Все было напрасно. В столице Мексики никто не желал брать трубку. Электронные письма также оставались без ответа. Естественно, такое положение дел еще больше обеспокоило Федерико. Он терялся в догадках по поводу того, какие тяжелые или, быть может, трагические обстоятельства мешают Антонио ответить на звонок или просмотреть электронную почту. Вскоре он получил еще одну новость, которая расстроила его еще больше. В одной из самых популярных итальянских газет на странице, посвященной культурным событиям, он вдруг увидел фотографию отца Антонио, под которой крупным шрифтом было напечатано: «Судебная тяжба за коллекцию фильмов знаменитого мексиканского комика». Не на шутку удивленный, Федерико тут же прочитал заметку, набранную уже обычным газетным шрифтом. Оказывается, актер скончался два дня назад. Сразу же после его смерти по решению судьи была опечатана вся собственность, принадлежавшая ему, включая загородный дом, где хранилась знаменитая коллекция старых фильмов. В газете говорилось, что Антонио, единственный сын актера, затеял судебный процесс с продюсерской компанией «Фальконер» и даже решил судиться с собственной матерью. Кроме того, в газете упоминалось и о каких-то правах, которые имеет на часть имущества некий друг и давний деловой партнер покойного актера по имени Хоакин. В этом персонаже Федерико без труда узнал мажордома с виллы Сересас. Эксперты оценивали стоимость коллекции фильмов, собранной старым актером, в сумму как минимум с шестью нолями. Вот почему после внезапной смерти, которая настигла актера дома, в квартире на проспекте Либертад, по не названным в заметке причинам, судья тотчас же выписал постановление, согласно которому участникам тяжбы и всем потенциальным наследникам строжайше запрещалось вскрывать опечатанные помещения, а также сейфы, находившиеся в разных домах и квартирах, принадлежавших покойному.
«Бедный Антонио», – подумал Федерико и, впервые за много дней сбросив с себя маску человека безразличного и благоразумного, напросился на срочную встречу с Коломбиной, чтобы не быть в одиночестве.
– Я просто в отчаянии. Я ведь даже не могу выразить ему свои соболезнования. Уверен, что ему сейчас очень тяжело, и слова друга могли быть хоть немного поддержать его.
Коломбина гладила Федерико по голове и внимательно слушала его жалобы. Ее ласка и сочувствие несколько успокоили его. Он перестал хныкать и даже задумался о том, как перейти к более активным действиям.
– Я должен что-то сделать. Нельзя же сидеть сложа руки, зная, что моему другу плохо. Надо ему как-то помочь.
Коломбина, не вставая с дивана, позволила себе возразить:
– Не думаю, что ты можешь действительно что-то сделать. Если Антонио не отвечает на звонки, не хочет говорить с тобой, значит, у него есть на то свои причины. Может быть, ему просто нужно время, чтобы прийти в себя. Боль и скорбь – сложные чувства, тяжело терять близкого человека, а тем более тяжело, если отношения с ним не были безоблачными.
Федерико претило пассивное ожидание, которое предлагала ему Андреа. Почему он должен ждать, когда все решится само собой и судьба сама вновь сведет его с Антонио? И потом, он был не на шутку обеспокоен развитием событий: как-никак, череп спрятан в одном из сейфов, теперь опечатанных полицией. Кто его знает, в чьей собственности он окажется в результате судебного разбирательства? Вполне вероятно, что столь ценная находка попадет в руки людей недостойных, не имеющих никакого права даже прикасаться к этой реликвии. Размышляя над сложившейся ситуацией, Федерико пришел к выводу, что Антонио затеял судебную тяжбу вовсе не из-за отцовских денег, а из-за права обладания носатым черепом. Испытывая самые лучшие чувства к другу, Федерико жаждал помочь ему или хотя бы как-то поддержать в трудную минуту. В словах Коломбины он ощутил скрытое, но достаточно отчетливо выраженное предложение не лезть в чужие дела и бросить Антонио на произвол судьбы, забыв об узах дружбы. Кроме того, по ее тону он понял, что от него в такой ситуации не требуются никакие активные действия и любая его инициатива будет расценена как самоуправство.
– Мне надо идти, не могу я здесь больше сидеть. Нужно что-то делать… – настаивал Федерико.
– Мой тебе совет – лучше подожди, – повторила Коломбина. – Надеюсь, ты не забыл, что завтра у нас встреча с братьями? Ты не сможешь оправдать перед ними свое отсутствие.
– Да пошли они к чертям, эти братья! – не сдержавшись, выругался Федерико. – Есть друзья, которые ближе, чем братья. Антонио – вот мой самый настоящий брат.
– Не забывай о клятве, которую ты дал на верность ордену, не забывай о своих обязанностях, – проговорила Коломбина, повысив голос. – Это тебе не политическая партия, и приостановить свое членство тебе так легко не удастся. И я ведь не прошу о многом: подожди всего день, посети очередное собрание, а там – делай что хочешь.
Федерико вышел из дома де Лукка в расстроенных чувствах. Уходя, он столкнулся с Винченцо, шествовавшим по коридору с деревянной шпагой и в черных панталонах. В этот момент Федерико показалось, что старый актер действительно тронулся умом. Сам он пообещал Коломбине вернуться к ужину и не принимать поспешных решений, не посоветовавшись с нею. Тем не менее мятежный дух, который он с удивлением обнаружил в себе, требовал решительных и самостоятельных действий, казавшись на улице, он вздохнул с облегчением, словно выйдя из темницы на свободу. Первым делом он дошел до ближайшего угла, где стояла телефонная будка. Ему пришлось слушать длинные гудки несколько минут. Наконец на том конце провода трубку взяла женщина. По голосу он безошибочно определил, что это Ада Маргарет Слиммернау. Зная о состоянии Марка, можно было заранее предположить, что трубку снимет не он, а его жена. Тем не менее этот вполне ожидаемый факт нанес Федерико тяжелейший удар. Не сказав ни слова, он повесил трубку и вдруг, впервые с самого начала поисков, почувствовал себя совершенно одиноким. Связь с друзьями была потеряна, а почему так получилось – оставалось лишь догадываться. Интуиция подсказывала, что это вышло не случайно, что он с друзьями оказался втянут в какую-то гораздо более сложную и значительную игру, объяснять смысл и правила которой ему никто не собирался. Страх, испытанный им накануне вступления в тайное братство, вернулся в форме приступа паники, мешающей спокойно думать и принимать взвешенные решения.
Он зашел в ближайшее кафе и попросил принести всю свежую прессу. Информации о смерти мексиканского актера в газетах оказалось даже больше, чем он ожидал. Почти во всех редакциях и международных агентствах печати были, по-видимому, заранее заготовлены на такой случай биографии и некрологи многих известных людей. Об отце Антонио писали разное, но сходились в том, что, будучи человеком безусловно талантливым, он не только пользовался этим талантом в полной мере, но и спекулировал им перед массовым зрителем. Его персонажи ассоциировались даже не с простым, а именно с так называемым маленьким человеком, а от среднестатистического представителя человеческого общества его отличал особый характер: он всегда оставался ребенком, даже в какой-то степени младенцем. И в самых последних фильмах, где пожилой актер играл небольшие эпизоды, его персонажи казались неспособными не то что постареть, но и по-настоящему позврослеть.
Именно эта мысль почему-то особенно задела воображение Федерико, сильнее, чем другие похвалы или критические замечания по поводу актерского мастерства покойного. Неспособность взрослеть, искусство, основанное на инфантильных жестах, на мимике куклы-марионетки, на постоянных насмешках над властью, олицетворяемой образом огромного, всегда вооруженного до зубов полицейского. В этих фильмах герой постоянно спотыкается, падает; гоняясь за ним, падают и кувыркаются другие… Все это очень напоминало балаган, народный театр. Судя по всему, кино и стало для этого актера переносным театром, сценой, которую можно развернуть где угодно, там, где нет тебя самого. С экрана, как со сцены, можно было нести людям то, что всегда в чуть ироничной, но от этого не менее назидательной форме проповедовал скончавшийся мексиканский актер: он говорил о любви к ближнему, о смирении, о скромности, не забывая при этом напомнить и о праве каждого человека на защиту собственного достоинства. Конфликт прав и обязанностей, выражавшийся то в камне, брошенном бедным мальчишкой в окно шикарного особняка, то в торте, метко запущенном в лицо богатому обжоре, пожалуй, и являлся тем магнитом, который десятилетиями притягивал зрителей к экрану, когда на нем появлялся этот знаменитый актер.
«Да, пожалуй, Антонио был несправедлив по отношению к отцу, – подумал вдруг Федерико. – Зря он так презрительно отзывался о его таланте и о фильмах с его участием. Сейчас, когда уже ничего не вернуть и не исправить, ему, наверное, очень тяжело и печально».
«Он стал знаменитым, потому что говорил много, но не сказал ничего. Это и есть искусство, подлинное мексиканское искусство» – так было написано в небольшой статье за подписью одной известной американской журналистки. «Сотни и сотни коробок пленки и их копии на видеокассетах – вся эта коллекция, хранящаяся на вилле покойного в Сересас, должна перейти в собственность государства, а не оставаться в пользовании того, в ком просто течет кровь покойного». Эти строчки Федерико читал, не веря своим глазам. «Скончавшийся актер – это просто золотая жила для истории кино. Даже в собранной им коллекции прослеживается особое, несколько странное понимание искусства и реальной жизни». Чем больше читал Федерико, тем яснее ему становилось, что какие-то могущественные силы всерьез вознамерились лишить Антонио права на наследство, и в первую очередь на коллекцию фильмов. Преподаватель Канали засомневался, в том ли мире и в том ли веке он живет. Неужели священное право собственности уже отменено? Это ведь не борьба за имущество покойного между его наследниками, это открытое ограбление Антонио, которое будет проведено если не самим государством, то по крайней мере с ведома властей. Да что же это за общество, в котором можно вот так разом взять и отказать единственному сыну покойного в праве на наследство?
Эх, поговорить бы сейчас с Марком, он бы помог разобраться в данной ситуации, вот только вряд ли он каким-то чудом мгновенно пришел в себя после долгой болезни, да и эта рыжая ведьма едва ли усердно заботится о его скорейшем выздоровлении». Федерико вдруг осознал, что из троих друзей только ему к этому дню удалось сохранить хоть какую-то независимость в принятии решений. Впрочем, было бы неразумно и в этом себя обманывать. Вот, например, сейчас ему больше всего хотелось уехать из Флоренции куда глаза глядят, а он скорее всего последует совету Андреа, вернется на ужин и будет дожидаться очередного идиотского собрания добрых братьев. Рассчитывать на помощь ордена – вот уж действительно глупость из глупостей. Как же наивен он был, когда полагал, что сумеет воспользоваться тайным знанием древнего братства. Пока что все получалось с точностью до наоборот: это они, так называемые братья, в полной мере пользовались им.
Отступать было поздно, раскаиваться – глупо, оставалось лишь терпеть неприятные последствия собственных поступков. Похоже что теперь следовало еще раз рискнуть – дать событиям развиваться своим чередом, надеясь, что в какой-то момент удача все же обернется к нему лицом. А еще можно попробовать постепенно переходить к более активным действиям. На ближайшем собрании добрых братьев нужно будет завести разговор о скончавшемся мексиканском актере. Как знать, может быть, кто-нибудь из собравшихся и проговорится, упомянет хотя бы вскользь о чем-то малоизвестном, не вошедшем в газетные статьи и некрологи. Главное – слушать, о чем будут говорить другие, не выказывая особого интереса к обсуждаемой теме. «Судя по всему, – подумал Федерико, – мне придется разыгрывать идиота, который пытается выяснить, что лежит в запертом шкафу, не имея ни ключа, ни возможности взломать дверцу». Он заказал себе бренди и выпил рюмку одним глотком. Согревающий напиток должен был разжечь его воображение и придать мужества. Как-никак, ему предстояло вернуться в тот дом, который стал его временной тюрьмой, куда его упекли за не слишком здоровое проявление чуть было не утраченного им, но возрожденного и преображенного самосознания.
Глава пятая
Смерть актера стала той новостью, которая была способна разрушить молчаливое, не требующее лишних слов взаимопонимание между друзьями, между соратниками, сражающимися в разных концах света за одни и те же цели. Антонио никак не мог смириться с тем, что его отношения с друзьями уже не будут такими, как раньше, а в отношениях с отцом ни изменить, ни исправить ничего уже нельзя. Старый актер умер через несколько дней после последней встречи с сыном. Та встреча навсегда сохранилась в памяти Антонио. Вроде бы они с отцом были в кабинете одни, но у него осталось впечатление, что в разговоре участвовали трое. Череп стал не просто свидетелем, а самым настоящим, пусть и молчаливым, участником тяжелого разговора. Актер тогда если не приказал, то по крайней мере настоятельно посоветовал сыну перестать задумываться над тайной черепа и оставить свои поиски. Слушая отца, Антонио неожиданно для себя заметил странный блеск в пустых глазницах черепа и отметил, что гладкие кости мертвой головы словно налились изнутри какой-то новой жизненной силой.
Теперь, в дни траура, Антонио вновь и вновь вспоминал этот последний разговор. Между тем подготовка к похоронам шла своим чередом. В мире богемы, а особенно в той его части, которая имеет отношение к кино, все принято делать пышно и эффектно, включая, разумеется, и прощание с ушедшим коллегой. Желающие высказать Антонио свои соболезнования тянулись к его дому нескончаемой вереницей. Мужчины в элегантных черных шляпах и золотистых галстуках походили скорее на гостей праздничного банкета, чем на убитых горем друзей усопшего. Женщины появлялись в квартире небольшими группками, напоминая при этом ходячий букетик из искусственных розочек, выцветших и запыленных за долгие годы. Эти самые годы женщины, безжалостно терзая себя, пытались спрятать за шрамами, оставленными скальпелем пластического хирурга. Женщины вели себя в соответствии с принятым в их кругу этикетом: судя по всему, его главной заповедью было говорить не переставая, чтобы родственники покойного ни в коем случае не оказались ни на миг в тишине. Чем-то они напоминали рой пчел, встревоженно кружащихся над мертвым, уже не дающим нектара цветком.
Мать Антонио, узнав о смерти мужа, тотчас же прилетела из Англии, чтобы присутствовать и на церемонии отпевания, и на похоронах. Министр культуры принял ее с поистине королевскими почестями, будто бы и не было между ней и покойным двадцати лет не оформленного официально развода и полного безразличия друг к другу. Антонио чувствовал себя, как никогда, плохо: он вдруг осознал, что даже при живой матери остался круглым сиротой. Иногда он подсознательно представлял себя в образе человечка с деревянным туловищем и острым носом, удлинявшимся в такт всем бездушным и искренним, фальшивым и честным, формальным и сердечным словам, которые бесконечные гости произносили ему, как заклинания. Совсем плохо ему стало во время церемонии отпевания. В какой-то момент он вышел на улицу и, сам не понимая, что делает, прямиком отправился на проспект Либертад. Ему хотелось побыть одному, его тошнило, а самое главное – ему срочно нужно было прикоснуться к теплому, словно живому, черепу, лежавшему в отцовском сейфе.
Сейф он открыл, не обращая внимания на сработавшую сигнализацию. Сел на пол и прижал к груди ставни ему родным череп, купленный у старухи Лурдель. Со щек Антонио на гладкие кости черепа скатилось несколько слезинок. Опустив взгляд, Антонио с изумлением обнаружил, что на макушке черепа вновь начали пробиваться волосы. Да и сама кость уже не казалась сухой и мертвой, а словно набухала изнутри, наполняясь какой-то невидимой, но вполне осязаемой живительной жидкостью. Антонио воспринял эти перемены как данность и сокрушался лишь о том, что его отец теперь находится куда ближе к черепу, чем он сам. От мертвого до мертвого дистанция велика, но преодолима. Она сравнима с расстоянием между юношей и стариком, нищим и богатым, умным и глупым. Интуиция подсказывала Антонио, что смерть отца так или иначе связана с этой ревностно хранимой реликвией, с его поездкой в Сересас, с тем страхом, который сам Антонио испытывал теперь даже не за себя, а за своих друзей. Какой теперь будет его жизнь? Наверное, она станет похожей на пустой экран без изображения, на силуэт китайского театра теней без руки, тень которой должна проецироваться на ширму.
Антонио все крепче прижимал череп к груди, словно надеясь вдохнуть в него новую жизнь. Вот только чью жизнь? Пиноккио? Своего отца? Свою собственную? Деревянная игрушка умерла, но от нее, придуманной, остались самые настоящие кости: вот этот череп с длинным острым носом и открытым, будто смеющимся, ртом.
Блуждая в полубезумных мыслях, Антонио даже не заметил, как в квартиру ворвались полицейские. Разобравшись, в чем дело, они выключили сигнализацию и опечатали буквально каждую дверь в огромной квартире. Череп у Антонио отобрали и на его глазах вернули обратно в сейф. В последний раз он посмотрел на себя в зеркале ванной комнаты – единственного помещения, которое полицейские не стали опечатывать. Он согнулся над раковиной, и его вывернуло наизнанку. Вместе с содержимым желудка он, сам не заметив, как это получилось, исторг из себя боль и горе.
Когда он вернулся в траурный зал, церемония уже подходила к концу. Чтобы попрощаться с великим актером, присутствовавшие без лишней сутолоки выстраивались в некое подобие очереди, сплошь состоявшей из известнейших актеров, режиссеров, сценаристов, продюсеров – добровольных заложников экрана и камеры. У самого гроба Антонио заметил знакомый силуэт: мажордом из Сересас с видом человека, который имеет на это право, задержался у тела покойного и едва ли не принимал соболезнования как самый близкий ему человек. При этом он внимательно смотрел в лицо усопшего, будто пытаясь хотя бы взглядом вырвать, выцарапать, вытащить у него ответ на последний вопрос, который он так и не успел дать. Первым желанием Антонио было подойти к дворецкому и выставить его в шею. Однако он сдержался, чувствуя, как на ладони вновь начинает саднить давно зажившая ранка. Словно в оцепенении, он наблюдал за тем, как Хоакин провел рукой над лицом покойного и даже задержал над ним ладонь, словно делая пальцами едва заметный тайный знак. Это было уже слишком. Антонио подошел и в полный голос спросил:
– Что это ты делаешь? Вздумал смеяться над моим отцом?
Мажордом посмотрел на Антонио, как на какое-то мерзкое насекомое:
– Оставь меня в покое.
Антонио, собравшись с духом, решил, что наступило время определиться в отношениях с Хоакином, и прямо, без обиняков заявил:
– Я скоро вернусь в Сересас. Ты больше не работаешь у моего отца, теперь я хозяин поместья. Ты уволен. Собирай свое барахло и проваливай оттуда.
Лицо Хоакина расплылось в недоброй, презрительной улыбке, но отвечать он не стал. К этому времени вокруг них уже собрался кружок любопытствующих «скорбящих», внимательно слушавших эмоциональные речи Антонио. Мажордом все так же молча повернулся спиной и вышел из зала.
Следующие несколько дней Антонио провел в бесконечных перемещениях по городу и улаживании самых срочных дел. Естественно, пришлось ему побывать и в офисах самых известных и дорогих адвокатов. Кроме того, его несколько раз вызывали в суд, чтобы он дал назначенному государственному судье показания по делу о спорном наследстве. Дела множились, плодились и наматывались одно на другое. Вскоре этот снежный ком полностью накрыл Антонио, который уже не пытался сопротивляться, а несся куда-то вдаль, влекомый непреодолимой силой событий, разворачивавшихся помимо его воли. За эти дни он с изумлением узнал о другой, скрытой от него жизни отца. Постепенно из мелких эпизодов стала вырисовываться достаточно цельная картина того, во что старый актер старался не посвящать своего сына. Судья Ларедо поведал о близких отношениях, продолжавшихся более десяти лет, между отцом и одной английской актрисой – замужней женщиной, супругой другого актера. Антонио получил привилегию прочесть некоторые частные письма отца, в которых эта женщина именовалась уменьшительным именем Поппи. Из этих писем, длинных и эмоциональных, Антонио узнал о поездках отца в Англию, которые тот совершал гораздо чаще, чем было известно сыну. Судя по всему, эта женщина была не единственной его близкой знакомой, и теперь частная переписка отца была приложена к делу о наследстве, на которое в силу своих особых отношений с покойным начинали претендовать все новые и новые люди. Кроме того, похоже, он остался должен «кому-то что-то» – за оказанные услуги. Может быть, при жизни ему шли навстречу из уважения или в расчете на какое-то нематериальное вознаграждение, но после смерти так называемые благодетели твердо вознамерились получить за свои добрые дела вполне реальные деньги.
Неизвестные друзья, женщины, скрывающиеся за экстравагантными именами, романтические свидания на самых дорогих и знаменитых курортах Европы, скоротечные визиты в отели самых элегантных столиц мира: билеты, посадочные талоны, гостиничная бронь, письма, счета, чеки на покупку самых невероятных вещей – все это свидетельствовало, что покойный вел весьма бурную жизнь, не вписывающуюся в традиционные рамки общественной морали и приличий. Антонио вынужден был признаться себе, что увидел отца совершенно иным человеком. «Наше поместье в Сересас, должно быть, было я него тихим тайным святилищем», – подумал Антонио, еще не потерявший надежды понять устройство и механизм функционирования странного мира кино. Все сводилось к тому, что ему в ближайшее время придется ехать в загородное поместье, где, естественно, должна состояться не слишком приятная встреча с человеком сильным, опытным, а главное, готовым и дальше по-собачьи преданно служить уже мертвому актеру.
– Ласло, – спросил Антонио своего адвоката, – а как вообще вписывается Хоакин во всю эту историю? У меня такое ощущение, что отец доверял ему безгранично. Лично я не собираюсь не только вверять ему свои дела, но и вообще терпеть его общество. Откуда отец его выкопал? Мне кажется, будто Хоакин маячил у него за спиной всегда – как зловещая тень, как привидение, отгонявшее от отца всех людей, которые хотели общаться с ним чуть ближе, чем это казалось допустимым нашему дворецкому.
Адвокат Антонио, венгр по происхождению, но вписавшийся в пейзаж мексиканской столицы как родной – лучше, чем многие мексиканцы, чем сам Антонио, – покрутил в руках бокал с мексиканским коктейлем и ответил:
– Ты абсолютно прав в своих наблюдениях. Но если честно, я не советовал бы тебе сейчас соваться в Сересас, во всяком случае пока у нас не будет соответствующего постановления судьи. Нам придется заказать оценку всего имущества и ценностей на вилле, и в первую очередь той самой коллекции фильмов. Пойми, эти ленты теперь стоят гораздо больше, чем при жизни твоего отца. Со временем они станут культовыми, их будут показывать крупнейшие телекомпании мира. Так что дело пахнет большими деньгами, и желающие урвать свою долю уже потирают руки. Это ведь не просто собрание, а коллекция, собранная знаменитостью, гениальным актером, отчего ее стоимость резко повышается.
Антонио, не желая сдаваться, снова обратился к Ласло:
– И что с того? Все это я и так знаю, но я ведь его единственный сын и наследник. Кроме меня, на отцовское имущество нет законных претендентов. Или, может быть, кто-то уже предъявил хранившееся в тайне завещание, в котором он иначе распорядился своим наследством?
Ласло, продолжая разговор, как и положено опытному адвокату, не стал заявлять клиенту, что тот не прав.
– Все так, как ты говоришь. Согласно закону и имеющемуся у нас завещанию, ты единственный наследник. Несмотря на все ваши разногласия и, что греха таить, частые ссоры, отец составил завещание так, чтобы максимально защитить тебя. И все же ты должен понять, что не все его поступки в последние годы были, скажем так, абсолютно законными. Он пользовался услугами некоторых людей, получая выгоду от некоторых не совсем ясных обстоятельств. Я и сам всего еще не знаю; поэтому, прежде чем предпринимать какие-либо действия, мы лучше подождем, пока проявятся те, кто пожелает урвать у нас хотя бы кусочек. Когда знаешь, кто твой враг и какими силами он располагает, с ним легче бороться.
Из слов Ласло Антонио понял, что борьба за наследство будет если не тяжелой, то в любом случае долгой и муторной. Судя по всему, то, что он пережил в последние дни, было еще цветочками. Затем его мысли вернулись к Хоакину.
– А этот мерзавец, который выгнал меня из Сересас?… Предложил бы ты ему денег. Пусть он оставит меня в покое раз и навсегда.
– Есть люди, чьи поступки определяются вовсе не жаждой наживы. Деньги их не интересуют. Неужели ты никогда о таких не слышал? – сказал адвокат, смягчив иронию в голосе вежливой улыбкой. – Хоакин больше всего на свете хочет остаться в Сересас, считая, что только он сможет по-настоящему сохранить память о твоем отце и, разумеется, содержать в порядке его коллекцию. В подтверждение своих слов он приводит тот факт, что по сегодняшнего дня, пока он заботился о поместье, в нем все было в полном порядке, а из коллекции ничего не пропало. Согласись, что, с его точки зрения, смерть твоего отца ничего не изменила.
– Но я-то не хочу, чтобы он оставался жить там! – повысил голос Антонио. – Коллекция принадлежит мне, вилла тоже. Если кто и имеет на нее право, так только моя мать, но, насколько мне известно, она не желает ничего слышать ни о доме, ни о том, что в нем осталось.
– В этом ты тоже прав, – сказал Ласло, постаравшись сбить волну эмоций, захлестывающих Антонио, – но, между прочим, о Хоакине она даже не упоминала. Он ее не беспокоит, она его практически не замечает, а если и видит, то воспринимает как еще один экспонат из коллекции своего покойного мужа. Для нее он все равно что кассета или бобина с пленкой.
При этих словах адвоката Антонио не мог не рассмеяться. В чем-то этот венгр был прав. Самому Антонио никогда не приходило в голову посмотреть на Хоакина с такой точки зрения. Теперь ему забавно было представить мажордома в виде рулона пленки в металлической коробке, открыв которую можно показать собравшимся зрителям всю историю жизни этого человека.
– Ласло, – уже более спокойным тоном обратился он к адвокату после пары минут размышлений, – у меня к тебе еще одно дело. Понимаешь, не все, что находится у нас в квартире на проспекте Либертад, принадлежит моему отцу. Есть там одна вещь, которая является только моей собственностью. Он не имеет к ней никакого отношения. Я очень хочу взять ее себе – вне зависимости от того, как пойдет и чем обернется дело о наследстве. Сделать этого я сейчас не могу. Сам знаешь, судебные приставы вместе с полицией опечатали там все двери. Мне даже войти в квартиру и то нельзя. Мне очень нужно получить разрешение, постановление или как там еще называется – в общем, распоряжение судьи, с которым я мог бы войти в квартиру и взять то, что принадлежит только мне.
В первую секунду адвокат, похоже, не понял смысла просьбы своего клиента. Ему казалось глупым отвлекать сейчас судью на то, чтобы изъять из спорного наследства какую-то небольшую долю, судя по словам Антонио, не представляющую особой ценности. Это бы только затянуло дело и отодвинуло ту минуту, когда сын актера сможет войти в собственный дом как единственный хозяин.
– Неужели это так срочно? Не мог бы ты подождать, пока судья разберется со всеми формальностями?
– Нет, не могу, – лаконично ответил Антонио.
– Ну хорошо. Завтра я подам судье прошение, но в качестве обоснования мне придется представить ему подтверждение покупки этой вещи: я имею в виду счет или чек. В противном случае не удастся доказать, что она принадлежит именно тебе.
– У меня ничего такого нет, – спокойно сказал Антонио, еще не понимая, насколько сложную задачу ставит перед своим адвокатом.
Ласло не стал торопиться с ответом. Он прикрыл лицо ладонями и несколько секунд сидел молча.
– Все равно потребуется какое-то доказательство, что эта вещь принадлежит не вам с отцом, а тебе лично. Иначе придется ждать конца судебной тяжбы.
Эти слова стали для Антонио ушатом холодной воды. Он сдержал готовые выплеснуться эмоции и, движимый столь редко проявлявшимися в нем благоразумием и осторожностью, не стал демонстрировать даже перед доверенным адвокатом, насколько беспокоит его судьба одной-единственной не названной пока вещи. Немного подумав, он рассудил так: если в суде потребуется доказательство того, что эта вещь принадлежит только ему, он сможет представить двух свидетелей, что именно он совершил эту покупку на Гаити. Нужно будет срочно связаться с Марком Харпером и Федерико Канали.
– Ласло, уж ты-то должен знать, как покупаются продаются старинные вещи. Смотришь, решаешь для себя, нужна тебе эта штука или нет, торгуешься – и забираешь. Просить чек или выяснять, откуда хозяин ее взял, сам понимаешь, как-то не принято. Вот и в этом случае у меня нет ни счетов, ни чеков. Единственное, что я могу представить, – это показания двух свидетелей покупки. А с точки зрения закона, да и любого нормального человека эта вещь не представляет никакой ценности. Я думаю, этого хватит для получения нужного постановления судьи.
– Ну, если дело обстоит именно так, – с сомнением в голосе произнес Ласло, – то, наверное, больших проблем у нас не возникнет. Давай поступим так: получишь показания свидетелей – сразу же звони мне. Мы подтвердим их подлинность и тогда подадим ходатайство судье.
В глазах Антонио вновь появился довольный блеск. Он нисколько не сомневался, что с помощью Марка и Федерико сумеет получить тот самый череп, который после смерти отца обрел для него несравненно большую ценность. Его успокаивало сознание того, что этот носатый череп был, наверное, единственным предметом, на который не распространялись претензии желающих поживиться отцовским наследством. Пусть все имущество отца достанется кому-то другому, пусть его растащат по кускам, но этот череп навсегда останется с ним и будет главным доказательством того, что вся его жизнь не была сплошной чередой глупостей и ошибок.
Федерико все же решил почтить своим присутствием собрание той ложи братства, к которой он был причислен. Мыслями он при этом все время был далеко – в Мехико; он пытался представить себе, как трудно сейчас Антонио, и не знал, как и чем помочь другу. Направляясь на собрание, он лелеял надежду, что на этот раз ему удастся найти в роскошном дворце хотя бы одного человека, способного вольно или невольно помочь ему в расследовании, которое он начал вместе с двумя друзьями. Марк на время выбыл из строя и пребывал в состоянии, судя по всему, близком к помешательству, да к тому же находился под постоянным контролем молодой жены, не знающей устали в проявлении супружеской заботы. В какой-то момент синьор Канали подумал, что сегодня Ада Маргарет вполне может оказаться среди приглашенных на собрание. «На этот раз она так легко от меня не отделается, – подумал он, – я сумею выудить из потока ее лжи хотя бы крохотное зерно истины».
Лестницы и полы в палаццо были выложены плитами из мрамора редкой красоты. Стоило присмотреться к узору под ногами, как он начинал складываться в какие-то картины, которые по мере прохождения по очередной плите разворачивались в целый сюжет – ни дать ни взять настоящее кино, спроецированное на мраморную поверхность. Федерико не отказал себе в удовольствии посмотреть это «кино», дав волю своему воображению. Когда провожатый оставил его у дверей зала приемов Великого магистра, он прислонился к стене и продолжал разглядывать плиты, выстилающие пол просторной приемной. Вскоре мраморное «кино» закрутилось с новой скоростью – в такт настроению и душевному состоянию единственного зрителя в этом огромном зале. Самая большая плита – раза в два больше остальных – лежала перед порогом двери, выходящей в соседний зал. Федерико сначала сосредоточился именно на ней. Изображение на поверхности мрамора было словно подернуто легкой дымкой из мельчайших известковых песчинок янтарного цвета. Вскоре Федерико удалось разглядеть в этом тумане контуры парусника, изрядно потрепанного бурей. Сильный ветер, начертанный на полу сверкающими кристалликами кварца, неумолимо тащил обреченное на гибель судно к прибрежным скалам. За стеной тумана Федерико не без труда рассмотрел крохотные фигурки моряков, отчаянно сражающихся за спасение корабля, а значит, и за свои жизни. Сквозь пробитый во многих местах левый борт парусника в море вываливался груз – мешки с табаком и огромные тюки хлопка. Ураганный ветер и судьба несли обреченный корабль прямо к порогу приемного зала Великого магистра.
Призывные удары молота секретаря не сразу оторвали Федерико от этой прекрасной, полной драматизма картины. Вздрогнув, он сделал шаг вперед и, чуть пригнув голову, чтобы пройти под невысокой притолокой, переступил порог приемного зала. За большим столом, инкрустированным полудрагоценными камнями, его уже ждали секретарь ордена, тот самый старик, с которым Федерико познакомился в библиотеке, и еще один человек, с которым до сего дня он не встречался. Больше в просторном помещении никого не было – ни единого доброго брата, который в очередной раз пустился бы в дилетантские разглагольствования о судьбах республики. Такого поворота дела Федерико совершенно не ожидал. Его лоб покрылся холодной испариной. Не зная, что все это значит, но предчувствуя недоброе, он так и остался стоять у входной двери.
– Проходите, брат, не стойте у порога как чужой.
– Спасибо, – машинально ответил Федерико.
Он понятия не имел, что за трибунал заседает за столом в дальнем конце зала и за какие проступки его вызвали на это судилище. Осторожность, эта робкая и ненавязчивая сестра, которую он обнаружил в себе после долгой разлуки, когда вступил в братство, советовала ему молчать и не задавать лишних вопросов. Тем временем сидевшие за столом карбонарии улыбнулись, судя по всему, догадавшись о причинах его молчаливости.
– Нет нужды быть таким замкнутым и скромным, мы ведь братья и все находимся по одну сторону баррикад. Если кого-то вам и нужно бояться, то уж точно не нас, – дружески заверил Федерико библиотекарь.
– Я просто не понял, почему нас так мало. Мне сообщили, что сегодня должно состояться общее собрание.
– Ах вот вы о чем, – задумчиво произнес библиотекарь с таким видом, словно Федерико указал на что-то, до сих пор им не замеченное. – Может быть, мы не совсем точно определили форму намеченной нами встречи. В следующий раз мы будем выражаться более определенно.
Эти слова немного успокоили Федерико, который понял, что его, по крайней мере сегодня, не собираются ни изгонять из братства, ни наказывать за какой-либо недостойный доброго брата поступок, который он мог совершить по недомыслию.
– Садитесь, друг мой. Нам нужно с вами поговорить.
Доверительный тон секретаря вновь пробудил тревогу.
Причиной, побудившей нас организовать эту встречу, – с недоброй улыбкой произнес секретарь, – является один вопрос, который очень волнует нас, но никак не может быть назван достоянием всех добрых братьев.
У Федерико Канали вспотели ладони. Со лба то и дело стекали капли, испарявшиеся на горячих щеках, не успев добежать до подбородка и шеи. Лицо его стало блестящим, как загримированные лица-маски театральных и цирковых актеров. От этого его мимика стала преувеличенной, как у актеров пантомимы или немого кино, изображавших те или иные чувства стандартными движениями лицевых мышц, а также заученными жестами, понятными любому зрителю.
Театральность ситуации, включая и черные полумаски на лицах троих братьев, ведущих допрос, не способствовала ни спокойствию Федерико, ни желанию отвечать искренне.
– Господа, если мы собрались для решения вопросов, которые даже не требуют присутствия всех братьев, то почему вы прячете лица под масками?
Ответом на его вопрос стал сухой, с трудом сдерживаемый смех, похожий на проявление нервного тика. При этом трое иерархов ордена засмеялись одновременно и одинаково. Даже губы у всех троих изогнулись в абсолютно одинаковых улыбках. Стало заметно, что у секретаря – судя по всему, заядлого курильщика – желтые зубы.
– Федерико, – доверительным тоном обратился к нему библиотекарь, – ну что за ребячество! Что касается масок – уверяю, вам нечего опасаться. Мы традиционно надеваем их в целях конспирации.
– Прошу прощения, – виновато сказал Федерико, – просто я все никак не могу привыкнуть к этому ритуалу. В конце концов, я всего лишь обычный преподаватель, который только недавно стал членом ордена и очень многого в этом мире не знает.
– А вот в этом вы как раз и не правы, – вступил в разговор незнакомец, до сих пор хранивший молчание. – Именно вы знаете очень многое об одном деле, которое интересует и нас. Вот об этом мы с вами и поговорим.
Федерико не без труда сидел прямо, изо всех сил упираясь спиной в деревянную спинку стула. Нервная дрожь пробирала его до самого позвоночника, и, чтобы не показать этой слабости, он старался сидеть не сутулясь, с гордо поднятой головой. Его сердце билось так сильно, словно готово было выскочить из груди. Он прекрасно понимал, что рассчитывать на чью-либо помощь ему не приходится. Даже двое друзей, которым он всегда доверял и был уверен в их готовности выручить его из любой беды, сейчас находились далеко и к тому же сами оказались не в лучшем положении, чем он.
– Я к вашим услугам, вы же знаете. Я не зря вступил в ряды добрых братьев и готов продемонстрировать верность ордену, как только это потребуется.
– Отлично, отлично… – заметил библиотекарь. – Именно эти слова мы и хотели услышать. – Не отводя взгляда от Федерико, он тяжело и глубоко вздохнул, а затем продолжал: – Мы осведомлены о том, что вам хотелось бы получить доступ к фондам нашей библиотеки и что к вступлению в орден вас в некоторой степени подтолкнуло любопытство и желание припасть к Источнику тайных знаний. Что ж, мы прекрасно это понимаем; тайные общества всегда окружены таким ореолом, и люди не без основания считают, что членам этих обществ открыт доступ к знаниям, недоступным для посторонних. Мы не ставим под сомнение вашу искренность; вот почему мы приняли решение предоставить вам возможность пользоваться нашей библиотекой без ограничений. Кроме того, если потребуется, вы сможете проводить работу в наших архивах. Я уверен, что вы найдете там много интересного и неожиданного. Не поленюсь повторить еще раз: далеко не всем братьям дарована эта привилегия. Мы уверены, что вы с пользой проведете время в нашей библиотеке и архиве. Исследования, которыми вы занимаетесь, получат новый толчок благодаря сведениям, почерпнутым в наших фондах. Взамен мы попросим вас об одной маленькой услуге, фактически о чисто символическом подтверждении вашей верности ордену.
Сердце Федерико готово было разорваться от напряжения. Оно то сбивалось с ритма, то еле трепетало, то вновь начинало биться со скоростью и грохотом отбойного молотка. Он был на грани обморока. Его душа словно приготовилась к тому, чтобы на время покинуть терзаемое сомнениями физическое тело, однако он из последних сил пытался по-актерски изобразить спокойствие, которого ему на самом деле так не хватало.
Библиотекарь тем временем буравил его взглядом, в котором читались настойчивость, властность и в первую очередь – алчность.
– Итак, мой друг, не будем больше уходить от темы. – В его голосе послышалась неожиданная жесткость. – Великий комик мертв, а игрушка пропала. Мы сейчас не знаем, где она находится, и даже не можем предположить, в чьем распоряжении она окажется. Наш мексиканец отвергает добрые советы близких и родственников, он не способен справиться даже с собственными чувствами. Будьте хотя бы вы благоразумны и ответьте прямо: где череп?
В одно мгновение позвоночник Федерико согнулся под тяжестью навалившихся проблем, и тело молодого человека чуть не рухнуло на стол. Он опустил голову на руки и прикрыл лицо ладонями, как маской.
– О чем вы говорите? Какая игрушка? Какой мексиканец?
– Не усложняйте ситуацию, – перебил его секретарь. Судя по всему, возникшая драматическая атмосфера начинала раздражать его. – Повторяю: бояться вам нечего, вы один из нас. Поймите же наконец, что нами движет то же самое любопытство, которое направляет и вас.
– Господа, чего вы от меня хотите? Я страшно переживаю за своего друга, а вы мне говорите про какую-то вещь, о которой никто даже не знает, существует ли она в действительности.
Это были, пожалуй, единственные искренние слова, которые Федерико произнес за время столь неожиданной и неприятной для него встречи. Видимо почувствовав, что сегодня большего от него добиться не удастся, трое добрых братьев встали и ритуальными прощальными жестами дали понять, что беседа окончена. Никто не посчитал нужным хотя бы дать совет по поводу того, как Федерико следует себя вести. Никто не ободрял его, но и не угрожал. Из этой встречи, отнявшей у него столько сил, сам Федерико вынес лишь одно: череп нужен этим людям не меньше, чем ему. Судя по всему, эта странная вещь обладала для них каким-то особым значением. Вполне возможно, что, используя череп в каких-то своих ритуалах, они могли бы добиться неких поставленных перед орденом целей, приблизиться к высшим тайным знаниям. А может быть, этот странный череп должен был помочь мудрецам ордена соединить жизнь со смертью, путь духовного развития, приводящего к власти над тонкими мирами, и путь научного познания мира, который позволяет контролировать то плоское, искаженное отражение Вселенной, которое мы привыкли считать реальным миром.
Как только Марк, фигурально выражаясь, встал на ноги, Ада Маргарет Слиммернау устроила поездку на Южное побережье Англии. Она полагала, что морской воздух и прогулки по прибрежным пляжам помогут восстановить их супружеские отношения, пострадавшие в результате внезапной болезни. Марк не стал перечить супруге. В маленьком городке над песчаным пляжем омываемым водами Ла-Манша, ему в руки случайно попала газета, пролежавшая несколько дней на столике одного из местных пабов. На первой странице Марк увидел фотографию сильно загримированного человека, лежащего в гробу, – это был отец Антонио.
Новость вызвала в еще не оправившейся после тяжелой болезни душе Марка сильный приступ волнения и жажду деятельности. Он понял, что ему необходимо срочно связаться с друзьями и предложить им всю возможную в его нынешнем состоянии помощь. Он жаждал защитить их от любой реальной или воображаемой опасности и внести тем самым свою лепту в выполнение условий тройственного пакта, который они заключили там, в гаитянской лачуге, над странным носатым черепом.
Он наскоро выпил заказанный кофе и вышел на улицу городка, где они с женой поселились по приезде из Лондона. С самого начала они остановились в снятом на неопределенный срок домике, стоявшем на окраине городка. Выглядел домик очень живописно: белые стены, темные деревянные балки и соломенная крыша. Впрочем, несмотря на нарочито простецкий деревенский вид, дом располагал внутри всеми необходимыми удобствами, предлагаемыми современной цивилизацией. При всем комфорте существования в таком жилище Марка не покидало ощущение некоторого обмана, несоответствия формы и содержания. Вернувшись домой, Марк не стал говорить Аде Маргарет о смерти знаменитого актера. Он постарался вести себя как обычно, и ему все же удалось замаскировать обуревавшие его чувства под привычной личиной безразличия. Ада ничего не заподозрила. Обычно она просыпалась рано утром и в восемь часов уже выходила из дому, чтобы сходить в магазин за продуктами. После этого она несколько часов работала в местной библиотеке.
Марк воспользовался отсутствием супруги и попытался связаться с друзьями. Первым делом он написал электронное письмо на имя Федерико Канал и, отправив его на университетский адрес. В письме он умолял ответить как можно скорее, так как боялся, что Ада вернется домой и обо всем догадается.
«Федерико. Это Марк, у меня все хорошо, за меня не волнуйся. Я приехал на юг Англии, на побережье Ла-Манша, чтобы восстановить силы после болезни. Чувствую себя уже намного лучше. Совершенно случайно я узнал, что умер отец Антонио. Сообщи мне, пожалуйста, что произошло. Говорил ли ты с Антонио? Как он там держится? Я о нем ничего не знаю. Постарайся ответить как можно скорее, я не хочу, чтобы Ада знала, что мы опять переписываемся».
Марк оставил компьютер включенным, очень рассчитывая на скорый ответ. Сам он сел за столик у камина и продолжил читать книгу, которую привез из Лондона: это был старинный том с ученым трактатом, посвященным истории театра. Марк купил его в букинистическом магазине, покоренный тем, что в главе, посвященной итальянскому театру, не только разбирались все основные классические пьесы, но и указывались имена наиболее известных актеров с XIX века до наших дней. Не менее интересными были и иллюстрации. Больше всего внимание Марка привлекла гравюра Ф. Бертелли под названием «Maschere da ebrei».[25] Она изображала нескольких музыкантов, выступающих на карнавале в Венеции в 1642 году. Лица исполнителей были закрыты масками, а сами они в качестве карнавальных костюмов выбрали традиционные еврейские наряды.
Оригинал гравюры хранился в библиотеке Британского музея, где Марк его когда-то видел. На переднем плане были изображены два главных персонажа в огромных шляпах; они пытались прочитать нотные партитуры. В масках, скрывавших их лица, были проделаны довольно большие отверстия на уровне рта, отчего казалось, что человек, надевший такое карнавальное украшение, сразу же должен запеть. Впрочем, не рты были самыми выразительными и запоминающимися деталями лиц: куда больше их выделяли носы – большие, широкие и крючковатые. Они нарушали композиционное равновесие всей картины, придавая ей ироничный и даже бурлескный характер.
Длинные изогнутые носы музыкантов опускались на страницы с нотами, как какие-то странные птицы. Судя по всему, этими носами они и переворачивали страницы партитуры, когда их руки были заняты музыкальными инструментами. При этом, глядя на гравюру, нужно было помнить, что эти носы не настоящие, а сделаны из папье-маше или какого-нибудь другого легкого материала. В противном случае чудовищного размера отростки перевесили бы головы обоих музыкантов и заставили их согнуть шеи под тяжестью такого груза. Эта гравюра была, пожалуй, одним из самых любопытных произведений изобразительного искусства, которые Марк видел за свою жизнь. Присмотревшись к ним повнимательнее, он, сам не зная почему, стал размышлять об иррациональном процессе увеличения линейных размеров носового отростка Пиноккио. «Il carnevale italiano»[26] – прочитал он на следующей странице. Небольшой параграф ученого трактата был посвящен карнавалу как празднику одиночества бренной плоти, из которой душа уходит в бесконечность через любую едва заметную прорезь. Закончив читать страницу, он вернулся к гравюре и обратил внимание, что еврейские плащи укрывали участников карнавала почти целиком, свисая до самой земли. Скорее всего, главной целью столь неброского карнавального костюма было привлечь внимание к единственной броской детали облика музыкантов – крупным выразительным носам, явно пародировавшим носы итальянских евреев. Кто его знает, может быть, Сирано действительно писал стихи носом и путешествовал на Луну по лестнице из запахов, но никто из литературных персонажей не обладал способностью сохранять в своем черепе вещественную энергию несуществующей кости.
Нос исчезает вместе со смертью; лишь Пиноккио удалось сохранить его по прошествии своей земной жизни. Труп с таким носовым отростком не стали бы хоронить ни в саркофаге, ни в гробу, потому что этот аппендикс, торчащий наподобие древка знамени, пробил бы любую крышку и приподнял бы могильную плиту, которой люди накрывают останки усопших.
Эти размышления настолько поглотили Марка, что он совершенно забыл о назначенных ему врачом процедурах, а также обо всех напутствиях любящей жены. Лишь сейчас он понял, что находится в той же точке пути, который был прерван его неожиданным и затянувшимся на долгие недели обмороком, причиной чего стала скорее всего слишком шумная компания чужих ему по духу родственников жены, собравшихся на свадьбу. Старинную книгу о театре он втайне от Ады Маргарет положил на дно своего чемодана и читал ее понемногу в отсутствие супруги. Почему-то Марку не хотелось, чтобы жена знала, что он до сих пор интересуется чем-либо из той, прежней, жизни – до свадьбы и болезни. Для нее круг его размышлений и рассуждений был ограничен погодой, природой, а времяпрепровождение заключалось в многочасовых прогулках по саду и ближайшим окрестностям – разумеется, если этому не мешали дождь или густой туман. Она не позволяла ему читать книги, так или иначе связанные с историей деревянного мальчика, и очень переживала всякий раз, когда замечала, что ее муж задумывается о чем-то серьезном, а уж тем более возвращается мыслями к своей навязчивой идее. Сам Марк, в свою очередь, перестал доверять жене: все то, что он виде и слышал за долгие дни метания в бреду, делало невозможным возвращение того светлого чувства, которое он испытывал к Аде в прошлом.
Время от времени он машинально вставал со стула и выглядывал в окно, выходившее в сад. С этой точки отлично просматривалась дорога к городку, и Марк мог быть уверен, что никто не подойдет к дому неожиданно и не застанет его врасплох за тем, что не было предписано врачами. Вдруг его мысли были прерваны коротким мелодичным сигналом: компьютер объявил о получении электронного письма. На экране появилось сообщение от Федерико Канали:
«Дорогой друг, ты даже не представляешь, как я рад, что ты связался со мной и что тебе уже лучше. Если бы ты знал, как я за тебя волновался! Теперь главное – не терять бдительности и не доверять никому. Не хотелось бы описывать в подробностях, что меня беспокоит, потому что письмо могут прочитать те, кому оно не предназначено. Постарайся поверить мне на слово: нам обязательно нужно увидеться. Пока что я не знаю, как и когда удастся это сделать, надо будет все продумать. У меня все хорошо, по крайней мере мне грозят те же опасности, что и тебе, – ни больше ни меньше. С Антонио я до сих пор не смог связаться. По правде говоря, меня это пугает. Он такой наивный и порой склонен поступать совершенно необдуманно… Попытайся связаться с ним, и я тоже буду его разыскивать. Я буду писать тебе. Очень хорошо, что теперь мы знаем, как связаться друг с другом. Сообщи мне свой почтовый адрес или хотя бы как до тебя в случае чего добраться. Не торопись возвращаться домой, по крайней мере пока я не сообщу тебе все подробности о том, что с нами происходит и что нам грозит. Не рассказывай об этом письме своей жене. Ты уж меня извини, но у меня есть ощущение, что она не во всем с тобой откровенна, а может быть, в чем-то и обманывает тебя. Дружески обнимаю. Твой Федерико».
Марк поспешно удалил письмо из памяти компьютера. Лишь после этого он вздохнул с облегчением. По крайней мере Федерико жив и здоров; впрочем, как и он сам, его друг оказался пленником более чем неопределенного будущего. Антонио по-прежнему оставался где-то далеко от них и слишком близко к черепу, а следовательно, ему грозила гораздо большая опасность, причем, по всей видимости, сам Антонио этого не сознавал. Все время оставшееся до возвращения жены, Марк потратил на попытки связаться со своим мексиканским другом. Он написал несколько электронных писем, а также пытался дозвониться до Мехико. Все было напрасно. На всякий случай Марк наговорил на автоответчик Антонио несколько сообщений, содержащих лишь просьбу выйти на связь – никаких компрометирующих подробностей:
«Антонио, дружище, это Марк. Я знаю, что твой отец скончался, и приношу тебе свои соболезнования. Федерико тоже в курсе и пытается связаться с тобой. Нам хотелось бы знать, как ты там. Мы не станем тебе надоедать разговорами, просто позвони или напиши кому-нибудь из нас. В любое время дня и ночи мы будем рады любой весточке от тебя: звонок, письмо, телеграмма – все, что угодно, только ответь нам».
Это было последнее сообщение, которое Марк уже в отчаянии наговорил на автоответчик. Повесив трубку, он выключил ноутбук, закрыл его и положил на то же место, где тот лежал все последние дни. Впрочем, внимательный человек сразу же обратил бы внимание на теплый невидимый след, который оставляют после себя в воздухе только что выключенные домашние электроприборы.
Ада Маргарет вернулась домой свежая и довольная – с полной корзиной овощей и зелени и с горшочком натурального меда, который ей удалось купить в магазине экологически чистых продуктов. Ее волосы сверкали, как костер на берегу моря ранним утром. Даже в своем невеселом настроении, Марк не мог не признать, что выглядела она на редкость привлекательно. Он позволил себя поцеловать и держался с ней, как послушный пациент со строгой медсестрой.
Наверное, пора обедать, как ты думаешь? – спросила Ада у мужа.
– Согласен. Я здорово проголодался. Похоже, морской воздух в самом деле хорошо влияет на здоровье.
Трудно было сыграть роль довольного и даже счастливого мужа более убедительно. Ада в свою очередь не менее талантливо исполняла роль любящей жены, смыслом жизни которой является счастье супруга.
– Если все и дальше пойдет так же хорошо, то мы скоро сможем вернуться в Лондон. Здесь, конечно, очень здорово… но я уже соскучилась по работе, по нашей привычной жизни.
Марк, в голове которого накрепко засели указания, полученные от Федерико, решил пресечь в зародыше намерения Ады:
– Да, я действительно чувствую себя намного лучше, но торопиться мне бы не хотелось. В конце концов, имеем мы право на медовый месяц, который из-за моей болезни закончился, так и не начавшись?
Ада хитро улыбнулась. Нет, она, конечно, не догадывалась об истинных намерениях Марка, но решила, что он просто хочет продлить это мирное существование, этот отложенный отпуск, которого он ждал больше, чем самой свадьбы. Со дня выздоровления Марка супруги не возвращались к мрачным историям о предках, к воспоминаниям о Гае Фоксе и к разговорам о сверхъестественных способностях, которые перешли к семейству Ады благодаря заклинаниям некроманта Джона Ди. Марк вообще никому не рассказывал о признаниях своей жены. Она уже почти поверила, что он действительно о них забыл. На самом деле он постоянно вспоминал о них, и лишь осторожность помогала ему сдерживать свое любопытство и не расспрашивать Аду вновь и вновь об истории ее семьи. Но в своем воображении он выстроил вполне стройную схему, в которой вопросы о семье Ады и ее сверхъестественных способностях были напрямую связаны с черепом, купленным Антонио. Сам Марк уже не был столь наивен, как раньше. Как бы ему ни хотелось уверовать в обратное, разум подсказывал, что Ада Маргарет знала, зачем шла в Большой читальный зал и для чего ей нужно познакомиться с ним. Ей откуда-то уже стало известно о его поисках, и она решила присоединиться к ним как можно скорее. Судя по всему, эта компания не то медиумов, не то безумцев, не то шарлатанов – Марк так до конца и не определился, как называть многочисленных родственников жены, – желала заполучить носатый череп и была заинтересована в этой диковине не меньше его самого. Из этого следовал весьма неприятный для Марка вывод, касавшийся в первую очередь его лично: видимо, настоящую любовь в их паре успел испытать только он один. Нежность и влюбленность со стороны Ады были лишь искусной игрой исполнительницы главной роли в комедии на сцене одного из лучших театров Ковент-Гардена.
Сомнения, раздумья и кошмары продолжали терзать Марка, несмотря на общее улучшение его физического и психического здоровья. Это не могло не беспокоить его. Днем он самозабвенно играл роль человека, постепенно приходящего в себя после серьезной болезни, заново родившегося и, как положено младенцу, не интересующегося ничем из прошлого, да и не слишком заботящегося о будущем. К сожалению, ночь не была полностью в его власти: Марк прекрасно понимал, что во сне он может себя выдать. Какая-то часть мозга, над которой он был не властен, могла сыграть с ним злую шутку. Ада старательно делала вид, будто совсем забыла о своих признаниях, о чувстве вины за поведение своих не слишком тактичных родственников, и это не могло не беспокоить Марка, который не был склонен считать свою жену недалекой женщиной с короткой памятью.
Имя Пиноккио было словно вычеркнуто из их памяти: ни Марк, ни Ада не произнесли его ни разу с того самого дня, когда Марк начал приходить в себя. Не касались супруги в разговорах и темы театра как такового, даже если речь вдруг заходила о ближайших родственниках Ады. Поначалу Марк полагал, что она пытается таким образом оградить его пошатнувшийся рассудок от лишнего напряжения. Но в тот день, прочитав статью с невеселыми новостями, он решил проверить, насколько искренна эта забота и насколько Ада сжилась со своей ролью не помнящей лишних подробностей заботливой жены.
– Послушай, а что, в мире-то происходит? Я ведь с тех пор, как мы сюда приехали, не прочел ни одной газеты, а радио и телевизора у нас нет. Мне чего-то не хватает. Как будто меня выставили на улицу голым.
Эти слова он произнес, находясь в гостиной, в то время как Ада готовила ужин на кухне, дверь в которую была открыта. На небе сгущались тучи, предвещавшие шторм и, вполне вероятно, грозу. Воздух был так насыщен электричеством, что напоминал пистолет со взведенным курком, готовый выстрелить в любую секунду. Ада, как и следовало ожидать, не ответила Марку, сделав вид, будто не услышала. Он был вынужден повторить свой вопрос уже громче.
– Что ты говоришь? Извини, я тут соль ищу. Это не ты поставил ее сюда – за полочку со специями?
Марк понял, что так он ничего не добьется, и решил по-другому сформулировать вопрос:
– Я не знаю, что происходит в мире. Я немного устал от ничегонеделания и от этой пасторальной идиллии. В конце концов, любому нормальному человеку становится скучно говорить с самим собой и слушать собственные мысли.
На этот раз Ада вышла из кухни и крепко обняла мужа:
– Самое главное сейчас – это то, что тебе стало лучше и ты наконец смог вырваться из плена тоски по безвозвратно ушедшему прошлому. А что касается новостей – ничего особенно интересного в мире не произошло за то время, что ты не читал газет. По крайней мере ничего такого, что заслуживало бы твоего внимания. Ни одна из новостей не касается нас с тобой лично, так что можешь успокоиться и отдыхать дальше. Вот вернемся в город – и делай что хочешь. Там ты никуда не денешься ни от ежедневной прессы, ни от скучных политических новостей, ни от всей совершенно бесполезной информации, которая на нас выливается.
Марк был уверен, что Ада прекрасно знала о смерти знаменитого актера и не рассказывала ему об этом печальном событии, чтобы не выводить его из состояния блаженного витания в облаках, из этой новой жизни – без книг, без Друзей и без лихорадочных поисков решения проблемы, от которых он уже один раз чуть было не сошел с ума. И все же он решил продолжить начатую проверку.
– Я сегодня заходил в паб, и мне попалась газета, где была статья о смерти отца Антонио. Наверное, нужно послать телеграмму с соболезнованиями. От него уже давно нет никаких известий. Ему наверняка сейчас нелегко, и наша моральная поддержка будет нелишней.
– Забудь ты про своего Антонио, его дела нас не касаются. Ты от него и так уже натерпелся. Сам того не желая, он довел тебя чуть ли не до сумасшедшего дома. Его детская увлеченность какими-то дурацкими проблемами привела к тому, что ты заболел и до сих пор не можешь до конца поправиться. Я не позволю, чтобы ты снова наступил на те же грабли. Да, его отец умер. Да, Антонио сейчас наверняка плохо и одиноко. Но в конце концов, он сам это заслужил. А вообще-то беспокоиться о нем незачем: у него есть деньги, есть знаменитая фамилия, в конце концов, есть родственники да и друзья, принадлежащие к его кругу. Наши с тобой соболезнования ему ни к чему, как и наша дружба.
Марк просто оцепенел. То, что Ада не одобряет его дружбу с Антонио, не стало для него большим откровением, но тон, каким было высказано все это, его просто поразил. В голосе Ады прозвучала такая внутренняя сила, которая могла свидетельствовать только о том, что Марк еще плохо знал свою жену и не догадывался, насколько велика сила ее воли и как она умеет добиваться своего. Так, совершенно неожиданно для себя, Марк выяснил, что внутренний мир Ады остается для него полной загадкой. Обидные слова он решил оставить без ответа: так было лучше, чем пытаться ей что-то доказывать дрожащим, слабым от страха голосом. Если же начать спорить в полную силу, то она может догадаться, что он ей не доверяет и затеял этот разговор лишь с одной целью: убедиться в правоте собственных подозрений. Вот почему он решил промолчать. Налил себе воды и чуть не поперхнулся первым же глотком. Его сдавленный кашель был заглушён грозовым ливнем, обрушившимся в тот самый миг на соломенную крышу дома.
Узнав, где находится Марк и в каком состоянии он пребывает, Федерико немного успокоился. Судя по короткому письму, он понял, что его друг, несмотря на все болезни и страдания, остался самим собой, а его странная и очень подозрительная жена не смогла ни в малейшей степени поколебать его решимость довести до конца задуманный троими друзьями план идентификации черепа. Они должны были найти то имя, которое носил при жизни носатый уродец, ведь, вероятно, он звался не Пиноккио, а как-нибудь иначе. Последние события в жизни Федерико привели к тому, что он перестал доверять кому бы то ни было, включая и своих друзей. Он не чувствовал себя в безопасности и вздрагивал, услышав стук в дверь или телефонный звонок. По ночам он плохо спал, а днем, появляясь на людях, подозрительно посматривал на всех, кто попадался ему на пути.
Пляж у Слэптона, куда Марк отправился на прогулку, – отличное место, чтобы уйти на время от мира и обрести себя. Две мили песка, пропитанного историей и человеческими трагедиями. Именно здесь американцы устраивали учения, готовя солдат к дню «D» – до сих пор хранящей много тайн высадке союзников в Нормандии. Среди местных жителей ходили слухи, что во время учений погибли более двухсот американских солдат. Официальная версия командования состояла в том, что часть десантных кораблей была потоплена немецкими подводными лодками, но у населения окрестных городков и деревень было на этот счет совершенно иное мнение: они считали, что несчастные солдаты погибли не от огня противника, а в результате халатности командования союзных войск. Пожалуй, лишь птицы, столетиями гнездящиеся на близлежащем озере Слэптон-Ли, могли бы рассказать правду об этих событиях, потому что только они являются прямыми потомками тех, кто видел, как все происходило на самом деле.
Какие-то ржавые обломки да не найденная саперами бомба – вот и все безмолвные свидетели тех далеких событии, той уже давней войны. Безлюдным берег здесь стал потому, что ради сохранения режима секретности в ходе подготовки к операции из всех деревень и городков в радиусе нескольких миль от места учений были принудительно эвакуированы жители. Теперь эти две мили песчаного пляжа – то место, где можно встретиться с призраками погибших американцев. Есть фантазеры, считающие, будто эти покойники возвращаются на берег каждый год – в день своей трагической учебной высадки. Появление сгоревших и утонувших солдат сопровождают старые военные песни, а грозовые ливни смывают кровавыми потоками синеву с неба, превращая его в холодный, стального цвета кинжал мести.
День за днем на пляж приходит старик, который утверждает, что участвовал в тех событиях и сумел чудом избежать гибели. Он подолгу стоит у самой воды и молча смотрит в море. Он написал книгу, в которой рассказывает свою правду о том, что произошло на побережье у Слэптона. Кто-то из туристов ее покупает, кто-то просто не обращает внимания. У старика на голове каска, в руках винтовка, а на груди старая ржавая медаль. Как актер на театральных подмостках, он раз за разом повторяет команды капитана и выразительно жестикулирует, давая сигнал к началу учений. Он встает в воображаемый строй и отдает честь своим невидимым товарищам. Затем он падает ничком на песок и прикидывается мертвым. Случайные зрители думают, что это игра, и, включившись в спектакль, приносят цветы на импровизированную могилу. Однако старик не унимается: это не спектакль, и он избежал смерти не для того, чтобы жить, а для того, чтобы служить живым напоминанием о погибших.
В день учебной высадки у английского побережья не было замечено ни одного немецкого корабля или подлодки. Учениями руководили командиры союзных армий, поначалу все шло по плану, и вдруг… раздался взрыв. Покрытый броней корабль вспыхнул, как промасленный факел, в который попала молния. Солдат, умирающий каждый день, как в день «D», утверждает, что мертв уже сорок лет, что любой, кто хочет в этом удостовериться, может просто взять винтовку и выстрелить в него. За все эти годы среди зрителей не нашлось ни одного человека, который рискнул бы провести столь опасный эксперимент, и безумец со слэптонского пляжа приходит сюда день за днем, не давая туристам покоя своими, уже никому не нужными, историческими реконструкциями.
Федерико тоже помнил эту легенду, которую когда-то рассказал ему Марк, сам находившийся в то время под сильным впечатлением от происшедшего. И сейчас Федерико не понимал, почему Марк решил поехать в то место, где столь многое напоминало о далеком прошлом – о том прошлом, которое на самом деле ему не принадлежало. Скорее всего, по мнению итальянца, к этому подтолкнула еще не до конца оправившегося друга его чересчур заботливая жена, естественно не посчитавшая своим долгом объяснить мужу, почему они едут именно сюда. Впрочем, нельзя было не признать, что подобная попытка вырваться из мрачного круга закрутившихся вокруг него событий была вполне в духе Марка. Наверняка он убедил себя в том, что Слэптон станет для него тихим прибежищем, где он спасется от созданных его же собственным воображением химер, домом, куда будет заказан вход призракам и привидениям из старого Сатис-хауса. Федерико знал, что Марка частенько посещали подобные гости из потустороннего мира и что во многом его болезнь была связана именно с путешествиями за грань реальности.
И все же, что могли рассказать ему призраки солдат, когда-то давно утонувших там, в холодных водах пролива Ла-Манш? А ведь, между прочим, череп, что купили они на Гаити, также когда-то принадлежал человеку, чье тело после смерти было предано не земле, а воде. Море отторгло его и выбросило на берег, как мертвые водоросли, как гладкие, обточенные водой камни, под которыми прячутся от полуденного солнца крабы, обитающие на южном побережье Англии.
Федерико готов был спрашивать совета у кого угодно, даже обратиться к астрологу, если бы верил, что звезды могут дать ему ответ на вопрос, как выбраться из того безнадежного положения, в которое он сам себя поставил. В секте, куда он вступил, рассчитывая обрести ключ к тайне, он оказался на положении изгоя, преданный неизвестно кем и непонятно по какой причине. Сразу же после кошмарного допроса в палаццо он направился в дом Винченцо де Лукки и его дочери Коломбины с твердым намерением потребовать объяснений: с какой стати ему пришлось выслушивать угрозы в свой адрес, основанием для которых могли стать лишь сведения, которыми он доверительно поделился со старым актером и его юной дочерью?
Войдя в гостиную, он увидел актера, лежащего на диване – на том самом месте, где он ждал его во время их первой встречи. Федерико тотчас же вспомнил страх, испытанный в тот день, а также подозрительность и суровые слова, которыми его встретил Винченцо. На этот раз все было иначе: старик даже не привстал с дивана и молча, одним лишь неопределенным жестом предложил Федерико сесть в кресло, стоявшее у камина. Его дочери в гостиной не было, она не появилась и в течение всего разговора.
Федерико потребовал объяснений: он хотел знать, откуда добрым братьям стало известно про череп и в особенности – почему они связывали смерть отца Антонио с теми поисками, которые Федерико вел здесь, в Италии. Винченцо не смог или же не захотел дать внятного ответа. Он поклялся своей маской влюбленного Арлекина, что никогда и никому не рассказывал о черепе и более того, несмотря на всю симпатию, которую он испытывал к Федерико, эти поиски казались ему откровенным ребячеством и совершенно неразумной тратой времени. В общем, эту, с позволения сказать, тайну он не то что не собирался никому выдавать, но вообще не считал достойной внимания.
Федерико почувствовал, что актер просто хочет избавиться от его нежелательного и раздражающего присутствия, но в тот день инстинкт самосохранения взял верх над хорошими манерами, которыми был известен университетский преподаватель. Федерико встал с кресла и решительно подошел к книжному шкафу, где на полке, как он прекрасно знал, старый актер хранил ту самую маску, которой поклялся несколько минут назад. Вынув маску из ящика, Федерико помахал ею перед лицом лежавшего на диване Винченцо. Тот напрягся, но не сказал ни слова.
Вне себя от злости, Федерико сквозь зубы заверил актера, что сожжет маску прямо у него на глазах, если не получит ясного ответа. Может быть, пламя, в котором сгорит эта маска, сможет объяснить, почему останки скончавшихся актеров являются такой огромной ценностью для некоторых тайных обществ. Этой угрозы хватило на то, чтобы вывести Винченцо из состояния внешнего безразличия ко всему происходящему. Он не поленился встать с дивана и постарался занять позицию между Федерико и камином, чтобы по мере возможности помешать сжиганию легендарной маски, в которой он блистал на сцене в молодые годы.
– Не вздумай! Только не это! Умоляю! Что же ты за человек такой? Неужели ты способен уничтожить то, что так дорого твоему ближнему?
Федерико в ярости оттолкнул Винченцо и, взяв черную маску за кончик ленточки, поднес ее вплотную к огню.
– Я долго терпел, вы играли со мной как хотели, и я этому не препятствовал. Хватит, теперь ситуация изменилась. Я вступил в орден и, как один из карбонариев, имею кое-какие права, например право играть в вашу же игру и даже, может быть, иногда что-то выигрывать. Единственное, чего я хочу, – вступить в игру на тех же условиях, на которых играете вы. Я хочу знать, что вам известно обо мне, и то, чего я о вас не знаю.
Маска тем временем начала дымиться, а край ее левого глаза даже обуглился. Еще немного – и она вспыхнула бы как спичка. Винченцо театральным жестом поднял руку к голове и прижал ее к левому виску, давая понять, как сильно он страдает от головной боли. В следующую секунду он закачался и, словно потеряв сознание, рухнул на пол, где для пущего драматизма немного, но эффектно постонал, а затем затих. Федерико отвел маску от огня и лениво поаплодировал представлению:
– Неплохо, Полишинель, совсем неплохо, капитан, в актерском мастерстве тебе не откажешь. Ты, видно, готов на все, лишь бы не говорить о том, о чем тебя спрашивают. Но меня этим не проймешь. Пусть ты будешь умирать от горя, но моя рука не дрогнет, и твоя маска сгорит.
Полный решимости исполнить свою угрозу, он вновь подошел к камину, чтобы бросить маску в огонь. В ту же секунду он услышал за спиной шорох, а затем ощутил сильный удар чем-то тяжелым по затылку. Он успел оглянуться и увидеть бледное напудренное лицо Коломбины, державшей в руках увесистый стеклянный шар.
Очнувшись, Федерико понял, что лежит на мягкой и удобной постели. Рядом, на стуле, стоявшем у изголовья украшенной мраморными пластинами кровати, сидела Коломбина. В руках у нее была книга. Постепенно Федерико восстановил в памяти последние события и понял, что так и не покинул дом де Лукки по той простой причине, что потерял сознание после удара по голове. У него болели спина и голова, а кроме того, стоило ему сфокусировать взгляд на каком-нибудь предмете, как остальное пространство куда-то сдвигалось и начинало описывать широкие круги. Больше всего ему сейчас хотелось встать и уйти из этого «гостеприимного» дома, но, подумав несколько секунд, Федерико признался себе в том, что в его состоянии лучше даже не пытаться встать.
– Зачем ты это сделала? – первым делом спросил он Коломбину. – Зачем вы с отцом так со мной поступили? Я же был с вами откровенен и ничего плохого не хотел. Почему вы не помогаете мне?
Коломбина захлопнула книгу и с улыбкой посмотрела на него:
– Это ты не разрешаешь нам помочь тебе. Ты ничего не понимаешь и к тому же вбил себе в голову, что мы хотим тебе зла. Ну посмотри, что ты натворил! Отец чуть не умер с горя. Бедный старик, а ведь он искренне поручился за тебя перед братьями!
Головная боль не давала Федерико сосредоточиться и спланировать новую стратегию поведения, которая бы позволила ему противостоять козням Коломбины.
– Не понимаю я такой помощи. Рассказали о моих секретах добрым братьям, у которых от жадности аж слюнки потекли.
– А ты что думал? Как ты себе все это представлял? – с сарказмом в голосе возразила синьорина де Лукка. – Неужели ты считал, что вступление в тайное братство, существующее уже много веков, не будет тебе ничего стоить? Или ты считаешь, что можно поехать, куда тебе хочется, и при этом не платить за проезд?
Федерико приподнялся на подушках и сделал глубокий вдох.
– А почему вы не предупредили меня о последствиях? Я вовсе не мечтал стать слепым орудием в руках тех, чьи цели мне неизвестны. Я же объяснил вам, что хочу просто помочь своим друзьям создать нашу собственную сказку. Череп – это наша тайна, и мы сами будем его изучать, а не горстка самозванцев, считающих себя посвященными или просвещенными и для пущей театральности рядящимися в маски.
Коломбина встала со стула и, скрестив на груди руки – те самые руки, которые так нежно ласкали Федерико, – с презрительным выражением на лице спокойно произнесла:
– Ты не уйдешь из этого дома, пока не вобьешь себе в голову одну вещь: в тот день, когда ты произнес клятву верности братству, ты взял на себя обязательство верно служить ордену и ставить это служение превыше всего. С того дня свободы для тебя больше не существует. И вспомни еще вот что: не мы к тебе пришли, а 1 ты к нам, чтобы просить о помощи. Никто не собирается отнимать у тебя то, что принадлежит только тебе, но есть важные вещи, которые ты обязан разделить с братьями во исполнение своей клятвы. У тебя нет больше друзей, а этот череп – существует ли он на самом деле? Не дав Федерико ответить, Коломбина развернулась и стремительным шагом скрылась за дверью. Ему оставалось лишь лежать и размышлять над ее словами. Он совсем запутался и заблудился в той игре, которую сам затеял. Похоже что Антонио и Марк испытывали те же самые проблемы и, наверное, уже сами были не рады, что купили в доме старухи Лурдель костяную штуковину с острым носом. «Бедные мои друзья, – сокрушенно подумал он, – а я, я – строгий, поклоняющийся разуму преподаватель филологического факультета… я, который всегда верил в силу слова, облеченного в звук или в букву… Зачем мне все это нужно? Зачем я затеял это путешествие в неведомое, в не познаваемое наукой пространство?» Таким одиноким он еще никогда себя не чувствовал. Бежать было некуда, и оставалось лишь… да, оставался лишь один выход – продолжать идти вперед, при этом изображая верного ордену доброго брата. Ему вдруг стал понятен подлинный смысл маски Арлекина – слуги двух господ. Двуличие должно было теперь стать его маской, которой, быть может, еще суждено прирасти к его лицу. Ему предстояло лгать и изворачиваться, шутить и веселиться, чтобы скрыть сжимающую душу печаль. Как знать, возможно, на этих подмостках в образе шута и фигляра ему суждено вновь повстречать Марка, исполняющего роль солдата, готовящегося к высадке в Нормандии. Что ж, главное – встретиться, а там они сбросят с себя маски и карнавальные костюмы и вместе уедут в Мексику, к Антонио, – если, конечно, сам Антонио сумеет продержаться до прибытия подкрепления из Старого Света.
Федерико ошибался, думая, что Ада Маргарет Слиммернау не знает о событиях, происходивших некогда на Слэптон-Бич. На самом деле Марк не только рассказывал ей эту легенду, но и описывал чувства, обуревавшие его в том месте. Несмотря на все это, Ада решила ехать именно туда, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье мужа. Впрочем, Марк не посвящал ее во встречи, которые у него были в этом военном аду в то время, пока он пребывал в бессознательном состоянии. В итоге она не стала возражать, когда Марк, еще не полностью оправившийся от болезни, стал настаивать на поездке именно в те места, утверждая, что морской воздух пойдет ему на пользу. Вскоре после приезда Ада стала разрешать Марку долгие самостоятельные прогулки сначала по поросшим камышом берегам озера, а затем и по морскому берегу, который особенно красив на закате, когда море отступает и обнажающийся в часы отлива песок отражает алые солнечные лучи, как зеркало.
Выздоровление Марка уже можно было считать окончательным и бесповоротным. Его лицо приобрело свой обычный цвет, а круги под глазами исчезли. Он даже чуть-чуть поправился, и его тело, еще недавно слабое, обрело былую силу и уверенность в движениях. Его ежевечерние прогулки по берегу моря становились все более долгими. Лишь плохая погода могла заставить его остаться вечером дома. Ада, довольная и счастливая, не могла не замечать этих перемен и считала, что уже настало время возвращаться в Лондон. Марк же никуда не торопился и постоянно предлагал жене задержаться еще немного, чтобы вдоволь насладиться неторопливой провинциальной жизнью и вновь обрести чуть было не утраченное счастье. Ада, конечно же, соглашалась с ним, не подозревая об истинных причинах, заставлявших Марка оставаться в маленьком прибрежном городке. На самом деле он лишь тянул время, дожидаясь, что со стороны Федерико последуют какие-то активные действия. При этом в глубине души он прекрасно понимал, что такое положение дел не может продолжаться долго. Каждое утро Ада уходила за покупками, а затем шла в библиотеку. В эти часы Марк был полностью предоставлен самому себе. Стоило Аде выйти за дверь, как он тотчас же бросался к компьютеру и писал Федерико. Он давно уже оставил попытки дозвониться до Антонио, так как не получил ответа ни на одно из своих сообщений. Молчание мексиканца приводило его в отчаяние, и Марк вновь и вновь писал исполненные страха и переживаний письма вконец измученному Федерико.
Со своей стороны, профессор Канали старался беречь пошатнувшуюся нервную систему друга и не рассказывал ему о тех неприятностях, которые, как выяснилось, поджидали его в братстве карбонариев, а также о той ситуации, в которую загнал сам себя, став пленником собственных клятв и обещаний. Движимый лучшими чувствами, Федерико как мог старался успокоить Марка, и это ему во многом удалось. По крайней мере англичанин поверил в то, что скоро весь этот кошмар кончится. Кроме того, Федерико утверждал, что в поисках ключа к тайне черепа они находятся на верном пути. Но на самом деле, несмотря на все проведенные исследования, никто так и не нашел подтверждения реального существования Пиноккио.
Марк впервые за много месяцев стал спать спокойно. Постепенно он свыкся с мыслью, что вся эта история была одной большой ошибкой и ему, человеку рассудительному и здравомыслящему, вообще не пристало принимать участие в подобных дурацких затеях. Все, что он успел прочитать о Пиноккио, следовало смело отнести в разряд фантазий, сказок и – что хуже всего – списать на слащавую прогорклую сентиментальность, присущую средиземноморским странам. Морализм, дидактичность и подчеркнутое следование неким благородным традициям всегда были свойственны этим полуцивилизованным народам. Порой Марк откровенно смеялся сам над собой, вспоминая день свадьбы и тот страх, которому он так легко поддался в компании трех тетушек Слиммернау. Не внушал ему теперь мистического ужаса и увиденный в бреду парусник, отчаянно пытающийся противостоять разыгравшемуся шторму. Видения из того далекого путешествия за край реального мира не то чтобы стерлись из памяти Марка, но стали более расплывчатыми и гораздо менее пугающими. В общем, он был готов начать свою внутреннюю жизнь с чистого листа – белого, как молоко, которое каждое утро Ада подавала ему прямо в постель. Единственное, что нарушало его покой, – это неизвестность относительно судьбы Антонио. Кроме того, ему было не по душе резко отрицательное отношение Ады как к самой дружбе с мексиканцем, так и к любым попыткам связаться с ним и выяснить, как у него дела.
Антонио всегда был хорошим другом – великодушным, щедрым, оригинально мыслящим, несколько теряющимся в тени великого отца, но при этом сохранившим способность быть самим собой и противостоять любым превратностям судьбы. Похоже, из них троих лишь он по-прежнему пытался разрабатывать ту жилу, которую они застолбили еще там, на Гаити. Причем делал он это упорно, но совершенно по-дилетантски, в отличие от Марка и Федерико, действовавших в соответствии со строгими научными методами исследований. Антонио, человек совершенно одинокий, но при этом очень контактный, всегда с удовольствием пускался в разные авантюры. Вот только на этот раз он, похоже, зашел слишком далеко. Поиски тайны носатого черепа могли закончиться для него плачевно. Пожалуй, в чем-то Ада была права: нужно было скорее забыть обо всей этой истории и вновь стать самим собой, поймать пульс своей прежней жизни. Лишь в одном Марк не был готов идти ни на какие уступки. «Забывать об Антонио я не собираюсь, и зря Ада пытается настроить меня против него, – думал Марк. – Она меня еще не знает». Полный оптимизма, он был уверен, что рано или поздно сумеет убедить в своей правоте женщину, на которой его угораздило жениться.
Вот в таком душевном состоянии он и переписывался с Федерико, который, в свою очередь, также перестал настаивать на скорейшем продолжении исследований относительно Пиноккио. Мало-помалу друзья пришли к выводу, что эта затея была с самого начала обречена на неудачу. Однако профессор Канали оставлял в силе свое предложение немедленно бросить все и поехать в Мексику, как только Антонио выйдет на связь или же каким-то образом даст знать, что ему нужна помощь.
Марк был очень доволен своим образом жизни – без лишних проблем и тягостных воспоминаний. Иногда ему даже удавалось убедить себя, что все сказки, рассказанные ему Адой насчет Джона Ди и Гая Фокса, были всего лишь ее женскими уловками, к которым она прибегала, чтобы отвлечь его от Пиноккио.
– Ты меня любишь? – спросила его Ада как-то вечером, стоя у камина и неторопливо расчесывая волосы.
– Почему ты спрашиваешь? Неужели до сих пор сомневаешься? – ответил Марк и взял ее за руку.
В камине трещали дрова, и Марк с Адой сидели на диване, крепко обнявшись и уткнувшись в плечи друг другу. Марк рассеянно глядел в топку камина, где над углями и дровами то и дело вспыхивали яркие искры. В этой тишине совершенно неожиданно – как внезапно пришедшая в голову мысль – раздался звонок в дверь. Ада вскочила с дивана первой и, надев домашние туфли, пошла открывать.
– Бандероль для мистера Харпера, – доложил молодой почтовый посыльный с растрепанными от ветра волосами. – Распишитесь, пожалуйста.
Ада не стала спрашивать у почтальона, откуда пришла посылка, и лишь поставила закорючку в протянутой ей квитанции. Марк выглянул в прихожую и заинтересованно смотрел, что происходит. Он, конечно, удивился, но не заподозрил ничего дурного. Ада протянула ему пакет, даже не посмотрев на адрес и имя отправителя.
– Интересно, что там? Вроде бы и весит немного.
Марк, которого не меньше интересовало содержимое пакета, не стал разглядывать упаковку, а просто вскрыл ее и бросил на пол. В бандероли, завернутая в мягкую ткань, лежала небольшая деревянная шкатулка. Марк и Ада вопросительно посмотрели друг на друга.
– Наверное, какой-нибудь заблудившийся на почте свадебный подарок, – улыбаясь, предположила Ада.
Марк аккуратно открыл шкатулку.
– Ну что, – немного нервно спросила Ада, – что там внутри?
Марк запустил руку в коробочку и, покопавшись в соломе, вытащил небольшую деревянную фигурку. Едва взглянув на нее, оба поняли: перед ними кукла-марионетка из сказки Коллоди. Да, да, ошибиться было невозможно: именно Пиноккио, и никто иной, смотрел на супружескую пару дерзкими и нахальными глазами.
Ада не на шутку встревожилась:
– Этого не может быть. Это какое-то наваждение!
Марк с любопытством разглядывал деревянную куклу.
– Посмотри, откуда это прислали, – сказала Ада, стараясь взять себя в руки.
Осмотрев всю упаковку, они не нашли ни имени, ни адреса отправителя. Почтовый штемпель и марки были мексиканские. Судя по дате, посылку отправили месяц назад.
– Это Антонио! – воскликнула всерьез разозлившаяся Ада. – Этот чертов мексиканец решил окончательно испортить нам жизнь, но я ему этого не позволю.
Марк, не слушая жену, продолжал разглядывать куклу. Деревянный мальчик был одет в белую остроконечную шапочку и красный с зеленым костюмчик; короткие, до колена, штанишки, белые носочки, на ногах черные башмаки, а в спину вмонтирован нехитрый пружинный механизм. При нажатии на маленький рычажок Пиноккио двигал руками и ногами, а также наклонял голову, словно здороваясь. В качестве глаз у него были нарисованы два белых кружочка с черными точками в центре. Длинный и тонкий нос заканчивался, как и шапочка, острым кончиком. Лицо дополняли нарисованные крупными мазками губы, застывшие в беспечной улыбке.
Ада молча смотрела на Марка, который рассеянно, не замечая ничего вокруг, играл с двигающейся куклой. Подходить к нему и пытаться о чем-нибудь заговорить было сейчас бесполезно. Ада собрала волю в кулак и решительным движением вырвала игрушку из рук мужа. Против ее ожидания, Марк не оказал никакого сопротивления и даже не возмутился. Сама не понимая, что делает, Ада подошла к камину и без единого слова швырнула деревянную куклу в огонь.
По гостиной мгновенно распространился запах влажного леса и свежих листьев. Ада почувствовала, что задыхается. Марк же, наоборот, вдохнул запах старого дерева, давно не видевшего солнечного света, полной грудью. В какой-то момент у них обоих возникло ощущение, что дождь идет не на улице, а прямо у них в комнате. Крохотные капли – размером с острие иголки – впивались в их кожу.
Ада хотела подойти к Марку, но какая-то сила удержала ее на месте. Ее ноги словно приросли к полу. Марка в доме уже не было, хотя физически он по-прежнему сидел на месте, а его глаза неотрывно смотрели в огонь, медленно, но неотвратимо пожиравший куклу. Сначала у Пиноккио сгорели ступни и руки. Костюмчик и носочки продержались чуть-чуть дольше. Вскоре от деревянного мальчика осталась лишь одна голова; его длинный нос походил на сгоревшую спичку. Шапочка-колпачок стала из белой темно-коричневой, словно вылепленной из керамики. Запахи леса, дерева и листьев врывались в гостиную из каминной топки волнами – как ароматы духов. Так продолжалось, пока кукла не превратилась в несколько едва тлеющих угольков.
Марк встал со стула и оглядел комнату невидящим взглядом. Он был словно одурманен ароматами, шедшими из камина. Открыв дверь, вышел на улицу с таким решительным видом, будто уже точно знал, куда именно собирается идти. Густой туман и серое, почти свинцового цвета небо стали для него отличным маскировочным фоном: буквально через несколько секунд силуэт Марка исчез из виду. Это произошло еще до того, как он вышел за калитку сада, окружавшего дом.
Ада по-прежнему стояла у камина неподвижно. По ее щекам текли слезы, а в душе все сильнее занимался пожар безотчетного страха. Она уже раскаивалась в том, что, поддавшись минутному порыву, столь поспешно сожгла эту проклятую куклу. Глядя в пасть топки, она видела лишь синенький огонек, пляшущий над маленькой кучкой углей. От этих углей в воздух поднимались небольшие, но плотные облачка белого дыма – как будто кто-то там, в глубине камина, курил любимую сигару.
Марк все шел и шел к слэптонскому пляжу. Море разыгралось, и волны прилива прилизывали и причесывали прибрежный песок. Влекомые волнами камни оглушали окружающее пространство, ударяясь друг о друга. Они словно аплодировали каким-то невидимым актерам, скрытым за белым занавесом пены прибоя. Мысленно Марк уже был там – в волнах, в той бескрайней пустоте, где его измученная, израненная душа разбивалась на бесконечное множество ощущений, оставляя после себя одну зияющую рану в сознании. Он не помнил ни кто он такой, ни как его зовут, ни где он находится, ни даже был ли он когда-нибудь в каком-нибудь другом месте. Ему казалось, что он всегда, с самого рождения, был только здесь и всегда смотрел на воду и небо, которые сливались друг с другом.
Он остановился и, глядя в море, вдруг почувствовал, как какая-то невидимая рука не по-доброму сжала его сердце. Цвет волн изменился: теперь они стали серыми, словно замшевыми, и перекатывались одна за другой тяжело, будто смешанные с текучей ртутью. На берег хлынул целый поток изуродованных расчлененных тел. Откуда они взялись, из каких глубин подняло их течение – Марк не знал и не хотел думать об этом. Черепа, черепа – круглые, маленькие, расколотые надвое, черепа, оскалившиеся сохранившимися в челюстях зубами, черепа с патлами грязных водорослей вместо волос – такие разные и такие одинаковые в отчаянном желании как можно скорее вернуться на землю. Та же непреодолимая сила, которая когда-то унесла их на морское дно, сейчас была готова выбросить их обратно на берег.
Вместе с появлением на линии прибоя груды костей над поверхностью послышались старые военные песни – ре самые, которые пели солдаты на десантных кораблях, чтобы не сойти с ума от навалившегося на них страха. Винтовки, каски и обрывки формы болтались между костями. Каждый кусок тела и каждая вещь стремились найти того единственного, кому они принадлежали при жизни. Лохмотья, в которые превратилась форма, как могли пытались прикрыть человеческие останки. Ничто не подходило друг к другу, ничто не совпадало по размеру. Какая-то каска накрыла, как огромная стальная чаша, маленький, почти детский череп юнги. Большая берцовая кость морского офицера не подходила к длинной кости голени в сухопутном камуфляже. Винтовка не держалась в беспалой ладони взорвавшегося в пороховом погребе артиллериста. Кисть руки, оставшаяся без запястья, из последних сил держала древко выцветшего до сплошного серого цвета знамени… Целая рота останков потонувших солдат изготовилась к отчаянному броску на захваченный условным противником берег. Каждый хотел вернуться обратно в свое время и убежать, дезертировать, скрыться с этой чудовищной земли куда угодно, но лучше всего – к родному дому.
Это морское сражение разворачивалось сейчас перед Марком, бесстрастно взиравшим на борьбу мертвых за право снова стать живыми. В какой-то момент он понял, что не может больше противостоять зову обреченных душ, и не задумываясь пошел прямо к воде – туда, где ревели и разбивались о берег волны прибоя. Марка так ждали и так хорошо приняли, что он даже не понял, когда именно совершил тот самый последний шаг, после которого возвращение стало невозможным. Его переход в другой мир произошел спокойно и незаметно даже для него самого. Человеческие черепа, которыми кишела вода вокруг него, заставили его навсегда забыть тот единственный череп, которым он так стремился обладать – еще тогда, при жизни.
Федерико не на шутку встревожился, не получив от Марка за три дня ни единого электронного письма. Некоторое время назад они договорились связываться ежедневно, в основном в утренние часы, когда Ады Маргарет не было дома. Странное молчание Марка, не ответившего ни на одно из посланий итальянца, привело профессора Канали в отчаяние: он настолько переволновался, что решил рискнуть и нарушить в одностороннем порядке те самые правила конспирации, которые они с Марком установили для общения друг с другом.
Взяв трубку, он набрал телефонный номер. На звонок никто не ответил, что, естественно, лишь усилило его беспокойство. Он звонил в Англию весь день, но после нескольких долгих гудков ему неизменно отвечал любезный голос автоответчика, предлагавший оставить сообщение. В конце концов Федерико поддался на эту провокацию и наговорил на автоответчик несколько фраз, адресованных обоим супругам. Он просил, нет, умолял их связаться с ним любым удобным для них способом. В конце сообщения он добавил, что просто не переживет еще сутки без известий о судьбе друга и его семьи. Сутки прошли. Ответа так и не было. Федерико понял, что больше ждать не может, и стал собираться в Англию. Он взял билет на первый же самолет, который летел из аэропорта Фьюмичино на Британские острова. Приземлившись в Лутоне, он сел в автобус и поехал на юг. За последние полтора дня он не сомкнул глаз и практически ничего не ел. Впрочем, в эти часы он не чувствовал ни усталости, ни голода. Его терзало сначала смутное, а затем все более отчетливое нехорошее предчувствие. Ему казалось, что если непоправимое несчастье еще и не произошло, то по крайней мере обратный отсчет уже начался.
Добравшись до того дома, который Марк описал ему в письмах, Федерико наткнулся на запертую на ключ дверь и закрытые ставнями окна. Дом казался нежилым. Перепугавшись еще больше, он пошел к центру городка, рассчитывая спросить у первого встречного, где можно найти молодую пару приезжих из Лондона. Городок был совсем маленький, и вряд ли в нем было больше одной гостиницы, да и ту скорее всего сдавали местным жителям как пансион. Здесь просто не могли не знать приехавшую из столицы семью, снявшую полтора месяца назад один из самых старых домов в городе.
День был серым и мрачным, как будто какие-то невидимые небесные рыбаки набросили на небо сеть и стянули его ближе к земле, не позволяя свету пробиться сквозь многослойную пелену тяжелых облаков. Со стороны берега доносился шум прибоя – море как будто хотело выбросить на прибрежный песок все свои секреты. Неожиданно Федерико услышал звуки органа. Он быстро сориентировался и вскоре увидел то здание, откуда доносилась музыка. Это была небольшая баптистская церковь, возвышавшаяся на пригорке прямо в центре городка. Церковь была окружена кладбищем со старинными памятниками и частично расколотыми надгробными плитами. Федерико решительно направился в ту сторону. Первой, кого он увидел, переступив порог, была Ада Маргарет Слиммернау, сидевшая на скамье в переднем ряду. Ее рыжие волосы разметались по воротнику черного пальто, наброшенного на плечи. Она сидела ссутулившись, даже сгорбившись, ничуть не пытаясь держаться на публике с достоинством и сохранять хорошую осанку. Священник читал заупокойную молитву, и вместе с Адой Маргарет его слушали еще несколько человек, сидевших на дальних от входа скамьях.
Федерико обратил внимание на трех пожилых женщин, таких же рыжих, как Ада, сидевших рядом с ней в первом ряду. Еще один человек показался ему знакомым: это был Пол, энтомолог, родственник Марка, который не раз принимал участие в их встречах и долгих разговорах.
Поминальная служба шла своим чередом. Федерико решил не отвлекать присутствующих и не нарушать их скорбную сосредоточенность. Он вышел из церкви и обошел городское кладбище по периметру. Симметрично расположенные могилы как нельзя лучше подходили к неуютному климату этих мест. Федерико не раз задавался вопросом, как люди могут жить в такой стране – холодной, сырой и неприветливой. За время всех своих поездок в Англию он ни разу не видел солнца на небе в течение больше чем четверти часа кряду. У него сложилось ощущение, что какой-то зловредный ветер собирал все тучи, впитывавшие в себя воду над Мировым океаном, и сгонял их в одну огромную стаю, заставляя проливаться бесконечными дождями именно здесь.
Вскоре он вернулся мыслями к своему другу. Среди присутствовавших на похоронах его не было. И все же Федерико сумел добиться своего и теперь был буквально в нескольких шагах от Марка. «Вот кончится служба, – подумал он, – тогда подойду и поговорю с Адой, а может быть, и с дядей Полом. Они, конечно, удивятся, как я здесь оказался, но это не главное. Для начала скажу, что меня сюда занесло по делам». Федерико с трудом сдерживал себя. Ему казалось невозможным ждать еще хотя бы минуту, не зная, где Марк и что с ним. «Ну ничего, надо потерпеть, – убеждал он себя. – Если у Марка с Адой будет хорошее настроение, они, может быть, пригласят меня переночевать у них. Вот тогда мы и поговорим обо всем начистоту. А потом поедем с Марком в Мексику. Антонио наверняка тоже пережил немало неприятных минут, которые так или иначе были связаны с необдуманно данной нами дружеской клятвой. Похоже что носатый череп и его тайна стали навязчивой идеей не только для нас троих, но и для многих окружающих. Нужно избавиться от этой странной штуковины и забыть о наших дурацких планах и попытках узнать его тайну. Смерть старого мексиканского актера, видимо, сильно изменила жизнь Антонио. Наверняка он почувствовал себя вправе не исполнять некоторые обязательства, взятые ранее. В конце концов, у него теперь много дел там, в Мексике, и ему, может быть, просто некогда выходить на связь с друзьями из Европы. Скорее всего, и лихим поездкам по всему миру теперь пришел конец».
Федерико понял, настолько он был смешон, когда считал, что лишь он один продолжал слепо верить в необходимость познания секрета этой костяной скорлупы, найденной на гаитянском пляже. Иногда ему начинало казаться, что вся эта история ему только почудилась, что не было в его жизни ни Коломбины с ее странным домом, словно привалившимся к древней флорентийской стене, ни посещений роскошного палаццо в сопровождении членов тайного братства, которое на самом деле существует лишь на страницах книг. Все эти карбонарии, клятвы, секретарь, библиотека – все это просто розыгрыш его университетских коллег, которые столь жестоко наказали его за желание и попытку познать непознаваемое, причем ненаучным методом. Такое толкование событий последних месяцев вполне устраивало Федерико: не было в его жизни ни носатого черепа, ни тайного братства – ничего из того, что он себе напридумывал.
Посетив библиотеку братства, пользоваться фондами которой ему было любезно дозволено, он в очередной раз решил проштудировать трактат доктора Вильгельма Готтлиба Кельха, профессора патологической анатомии Кёнигсбергского университета. Речь в этой книге шла о конкретном приложении краниологической теории Галля к черепу одного известного человека, а именно Иммануила Канта. Профессор-ассистент по фамилии Кнорре сделал точнейший гипсовый слепок с черепа великого философа, что позволило провести все измерения и составить детальное описание. Ничто, ни единый бугорок, впадинка, выступ или трещинка, не ускользнуло от внимания аккуратного до педантизма исследователя. Федерико запали в память первые строчки из этого описания: «Череп Канта в силу правильного соотношения его различных частей и в то же время наличия большого количества индивидуальных особенностей имеет весьма специфическую форму». Что же это за странность, которую обнаружили в черепе гениального философа ученые-патологоанатомы? Скорее всего, правильность формы и равенство внутренних разнонаправленных диаметров свидетельствовали о большом объеме внутричерепных полостей. Что же касается лицевой части, то наиболее характерной и заметной ее составляющей были хорошо выраженные надбровные дуги – костные выступы над глазными впадинами.
Ничего похожего на это описание в черепе, купленном у старухи Лурдель, не наблюдалось. Все обстояло с точностью до наоборот: над глазными впадинами не было ни намека на какие-нибудь выступы, а на поверхности теменной и височных частей черепа не было заметно ни единой линии, по которым обычно срастаются черепные кости. Ощущение было такое, что носатый череп был отлит или выточен из единого куска костной ткани. Если применить теорию краниологической психологии к гаитянской находке, то следовало признать, что обладатель носатого черепа имел интеллект не то что ниже среднего, а даже почти нулевого уровня. Наверняка он был по характеру злобным, неуравновешенным, склонным ко всякого рода патологиям и извращениям и, вполне возможно, характеризовался непредсказуемым психопатическим поведением. А как же быть с носовым отростком? Этот фрагмент головы сохранился на черепе противоестественным образом, словно он при жизни был для этого человека чем-то большим, чем простым хрящевым выростом, который все нормальные люди утрачивают после смерти. Даже у великого Канта, несмотря на всю его гениальность, на месте отростка, которым люди воспринимают запахи, сохранилась лишь дыра между костями лицевой части черепа. В какой-то мере это могло служить косвенным доказательством того, что череп, найденный в прибрежном песке, принадлежал человеку, у которого при жизни было развито иное чувство, отличающееся от того, что принято называть обонянием. Быть может, этот закостеневший носовой отросток воспринимал не только и не столько запахи, а некие иные воздействия окружающей среды. Вполне возможно, что некогда это свойство было характерно для всех людей, но с неменьшей вероятностью можно было предположить, что данная редкая особенность стала результатом какой-то индивидуальной мутации. В то же время сомневаться в подлинности гаитянского черепа не было никаких оснований: по крайней мере с точки зрения медицины и анатомии он ни в коей мере не был подделкой. Такое заключение дал в Мексике один из крупнейших специалистов по судебно-медицинской экспертизе, которому Антонио показал свою находку по приезде в Мехико.
Носовой отросток от переносицы до самого кончика состоял из той же самой костной ткани, что и остальные части черепа. В этом-то как раз и заключалась тайна, которая пробудила такое любопытство по обе стороны Атлантики. Неправильный черепной свод и в особенности носовой отросток разрушали все привычные представления об эволюции и ломали всю сложившуюся классификацию живых организмов. Появление этой находки в научной среде было бы равнозначно представлению на суд научной общественности пойманного живьем минотавра, нахождению археологами Ноева ковчега или же высадке на Марсе и освоению человеком части территории Красной планеты.
Федерико вдруг осознал, что в очередной раз позволил себе увлечься размышлениями на запретную тему. Из глубокой задумчивости его вывел усилившийся дождь. Находиться под открытым небом и дальше означало промокнуть до нитки. Медленным шагом он вернулся в церковь, чтобы посмотреть, не закончилась ли поминальная служба.
Несколько человек плотным кольцом окружили скамейку, на которой сидела Ада Маргарет. Было видно, как она кивает в ответ на слова соболезнования и утирает красные глаза. Федерико решил, что скорее всего скончался кто-то из ее родителей – скоропостижно, неожиданно, но без всяких тайн и подозрений, как отец Антонио. Его очень удивило отсутствие Марка на траурной церемонии, но он решил, что его другу просто отсоветовали являться на заупокойную службу в силу еще не до конца отступившей болезни.
Федерико решил, что оставаться в тени и дальше бессмысленно, и подошел к собравшимся вокруг Ады. Извинившись, он пробрался к ней, а она, увидев его, разрыдалась и даже обняла Федерико.
– Мои соболезнования, Ада, – машинально произнес Федерико, все еще не зная, что же здесь на самом деле произошло.
– Он так тебя любил, – произнесла она едва слышным шепотом.
Федерико не понял, о ком она говорит, но беспокойство, сжигавшее его изнутри, разгорелось с новой силой. Он сумел высвободиться из объятий безутешной вдовы и постарался как можно скорее пробиться через кольцо родственников к дяде Полу. Энтомолог наблюдал за происходящим, стоя чуть в стороне от остальных приглашенных, столпившихся вокруг Ады. Едва заметным жестом руки он сделал Федерико знак следовать за ним к выходу из церкви. За дверью он вздохнул полной грудью и все так же молча, одним лишь кивком головы дал понять Федерико, чтобы тот шел за ним и дальше – по одной из тропинок, расходившихся лучами от церкви по кладбищу. Дядя Пол был одет как обычно – длинное серое пальто прикрывало его высокое, худое и несколько нескладное тело. Все та же красная бабочка одиноко сверкала на лацкане – как слабенький язычок пламени, пробивающийся сквозь толстый слой пепла. Темная, какого-то неопределенного цвета шляпа прикрывала голову дяди Пола от дождя, а глаза – от посторонних взглядов. Пройдя вдоль аллеи, по сторонам которой лежали в основном совсем новые могильные плиты, Пол остановился.
В несвойственном этому уравновешенному человеку порыве он обнял Федерико за плечи и, чуть повернув его и наклонив ему голову, указал на надпись на последней из плит, лежавшей на невысоком холмике из свежей земли. Сама плита была высечена из белого мрамора, а вырубленные на ней буквы, казалось, были напечатаны каким-то четким типографским шрифтом. У итальянца подкосились ноги и он едва не упал, когда сумел заставить себя прочесть то имя, которое для него было чем-то гораздо большим, чем просто суммой букв: МАРК ХАРПЕР.
Порыв ветра хлестнул Федерико, как пощечина. Он вздрогнул и обернулся к Полу, который стоял рядом, молчаливый и печальный, понимая, что сейчас никакие слова не нужны. Постепенно до Федерико стало доходить, что он безнадежно опоздал, приехав сюда уже после смерти друга. Он не без труда заставил себя вновь посмотреть на могильную плиту и прочитать дату смерти. От того момента, когда еще можно было что-то изменить, его отделяло пять дней. Пять дней сомнений, страданий, мрачных предчувствий и страхов. Постепенно вся тяжесть и необратимость случившегося стала наваливаться на Федерико. Кроме того, он вдруг осознал, что и все остальное, так или иначе связанное с их последней с Марком затеей, не только не было им придумано, но, наоборот, представляет собой вполне реальную враждебную и грозную силу. Коломбина и маска Винченцо не были его выдумкой, а руки добрых братьев дотянулись и до Англии: кто, как не они, расправились с Марком при помощи той рыжеволосой женщины, которая рыдает сейчас на пороге церкви. Именно ее он видел на собрании в день своего посвящения в карбонарии.
– Прими мои соболезнования. Болезнь унесла от нас моего племянника и твоего друга. Он утонул – сам бросился в море после того, как получил какую-то посылку, судя по всему, отравленную – не то в прямом, не то в переносном смысле.
Федерико закрыл лицо руками и, потеряв равновесие, чуть было не упал. Ноги у него дрожали и подкашивались. Пол, поняв, в чем дело, поддержал итальянца, а затем помог ему дойти до ближайшей скамеечки под кладбищенским кипарисом. Мелкий дождь продолжал омывать и без того чистые могильные плиты.
– Я ничего не ел со вчерашнего дня и, наверное, поэтому плохо держусь на ногах, – сказал Федерико, почему-то приписывая свою слабость именно голоду. – Нет, это невозможно. Все, что происходит со мной, – просто какое-то наваждение.
Пол, которому и самому было невесело, не знал, что сказать итальянцу, чтобы хоть как-то успокоить его. Тем не менее, твердо убежденный, что любое слово лучше тягостного молчания, он попытался продолжить разговор, уцепившись за слова, произнесенные Федерико:
– Будет лучше, если мы пойдем куда-нибудь, где не так сыро и мрачно, а главное, где ты сможешь поесть. Ты посмотри на себя: того и гляди, упадешь в обморок.
– Марк был совершенно здоров, я это прекрасно знаю. Мы с ним переписывались каждый день. У него было отличное настроение, и он полностью освободился от всех иллюзий. Я не могу поверить, что он снова без всякой причины тронулся рассудком. Как он мог броситься в море? Как здесь вообще можно утонуть? На этом пляже и купаться-то глупо, а не то что топиться.
В словах Федерико читалось не только нежелание верить в реальность случившегося, но и отчаяние из-за невозможности что-либо изменить. Слышались в его голосе и угрызения совести, которые уже начинали его мучить. В конце концов, он должен был это предугадать и попытаться предотвратить несчастье. Пол прекрасно понимал чувства итальянца и решил воздействовать на них логическими доводами. Он повел Федерико по дороге, уводившей от кладбища к центру города, пытаясь по пути объяснить сложившуюся ситуацию:
– Как знать, может быть, его полное выздоровление было только кажущимся. Такие болезни просто так не отступают, и лекарства от них еще не придуманы. Людям энергичным, но живущим уединенно, погруженным в свои мысли и переживания, свойственна особенность слышать всякие внутренние голоса и даже полностью поверяться им. В таком состоянии любая мелочь может быть воспринята ими как знак свыше, а ответная реакция бывает совершенно непредсказуемой – вплоть до самоубийства.
– Нет, что-то здесь не так, – настаивал Федерико. – В таком случае я давно бы уже умер. Дядя Пол, ты же меня знаешь, я – не самый приспособленный к жизни человек и не умею противостоять враждебным силам. И все-таки я дожил до того дня, когда увидел могильную плиту с именем своего лучшего друга, который всегда критически подходил к реальности, был воплощением здравого смысла. Не верю я в этот диагноз, посмертно поставленный Марку.
Энтомолог привык анализировать жизнь людей с той же беспристрастностью и тщательностью, с какими он описывал, например, совокупление пауков в положенный период спаривания. Ему было что возразить итальянцу, но, понимая терзавшие того чувства, он решил промолчать, хотя в глубине души был уверен, что смерть его племянника являлась неизбежной. Он знал Марка с детства и был в курсе всех его маний и навязчивых идей. Он помнил и ту депрессию, в которую впал Марк, когда семья решила продать старый дом, куда его привозили к бабушке, когда мать, большая любительница путешествий, уезжала в Индию и не могла взять ребенка с собой.
– Сатис-хаус. Тебе что-нибудь говорит это название? – спросил Пол, решив попытаться объяснить необъяснимое.
Федерико, стерев со щек слезы, удивленно посмотрел на Пола:
– Это из романа Диккенса, а что еще может мне сказать это название? Это тот дом, где женщины издевались над маленьким Пипом, стараясь добиться, чтобы он раз и навсегда забыл про чувство собственного достоинства.
Прежде чем продолжать, Пол помолчал и собрался с мыслями.
– Понимаешь, не все так просто, – сказал он, начиная некий монолог, целью которого была попытка хоть как-то успокоить Федерико и помочь ему привести в порядок свои мысли и чувства. – Сатис-хаус – это не просто художественный образ, это нечто большее – символ некоего неопределенного пространства наподобие чистилища, где души мертвых тысячелетиями пребывают в темноте и тишине. В общем, это своего рода мрачная пародия на вечность. Закрытый ящик, фабричный грохот, доносящийся из-за забора, грозный и вместе с тем сладострастный рык спаривающихся где-то в темноте зверей. Все эти ощущения, лишенные смысла и ценности, входят в понятие вечности.
Федерико и в лучшие времена недолюбливал загадки и шарады, а теперь в его голосе появилось раздражение.
– Пол, мне теперь не до литературных тайн. Марк умер, и Сатис-хаус может представлять для меня интерес только в том случае, если при помощи этого образа я смогу объяснить причину случившейся трагедии. Не хочу показаться невежливым, но сейчас я не в настроении выслушивать лекции по теоретической психологии.
Эта озлобленность, прозвучавшая в голосе Федерико, очень порадовала Пола. Он добился того, чего хотел, – реакции итальянца на происходящее. Он прекрасно понимал, что Федерико нужно сейчас поругаться, поссориться с кем-то и излить на собеседника ту тоску и горе, в которые его повергла смерть Марка. Сам Пол готов был сыграть роль мальчика для битья. В конце концов потом все встанет на свои места, а сейчас главное – помочь Федерико выйти из состояния сковавшего его душевного оцепенения.
– Как-то раз, когда Марк сидел в читальном зале библиотеки, какой-то незнакомец своей рукой написал в его тетради слова «Сатис-хаус». Мой племянник был уверен, что это сделал сам Диккенс, явившийся к нему с того света, или, если хочешь назвать это иначе, из другой реальности. Судя по словам Марка, призрак хотел предупредить его, что нельзя смешивать чувства из собственного прошлого с теми поисками, которые ты ведешь сегодня. Разумеется, речь шла о поисках любой информации, так или иначе связанной с произведением Коллоди. Он сам мне рассказал об этой встрече, и знаешь, я ему поверил. Мне известно, что у Марка был особый дар – он умел находить контакт со сферами, недоступными большинству людей. Вот почему я считаю – и ты тоже можешь воспринять это как утешение, – что Марк вовсе не так мертв, как это нам с тобой кажется.
Федерико и сам не знал, откуда у него взялись силы, чтобы повысить голос. Схватив Пола за лацкан, он громко спросил:
– Да что ты мелешь? Ты сам ненормальный! Эта чертова Ада вас всех довела до безумия. Как ты можешь говорить такое сразу после похорон своего племянника?
Пол, которого несколько задели обидные слова профессора Канали, не ожидал такой болезненной реакции, но решил продолжать приводить итальянцу логические доводы, всегда помогавшие ему в дискуссиях с коллегами – специалистами по микроорганизмам.
– Ада, конечно, женщина необычная, но за одно это нельзя приписывать ей все несчастья, которые на нас свалились.
Федерико замолчал, а про себя принял решение не уезжать из этого городишки, пока ему не удастся поговорить со вдовой. Поженились они, не известив об этом друзей, и теперь ему хотелось узнать, что послужило причиной такого странного и неожиданного поведения Марка.
– Я отсюда никуда не уеду, пока не поговорю с Адой. Пойдем к ней. Не думаю, что ее скорбь настолько глубока, чтобы она не смогла или не захотела поговорить о только что скончавшемся муже.
Пол выслушал эти слова без особого энтузиазма. Он понимал, что не сможет полностью контролировать итальянца, и полагал, что разговор с Адой может плохо кончиться. Но он отдавал себе отчет, что не может отказать лучшему другу скончавшегося племянника в его праве пообщаться со вдовой. Он достаточно хорошо знал профессора Канали, и искренность его дружеских чувств к Марку не вызывала никаких сомнений.
– Что ж, если хочешь, можем сходить к ним домой. Заодно познакомишься кое с кем из родственников, узнать которых у тебя до сих пор не было возможности.
– Мне нет никакого дела до ее родственников, я хочу поговорить с ней и после этого сразу же уеду.
Пока они шли к центральной площади городка, дождь стих, и вода продолжала капать на прохожих лишь с придорожных деревьев. Издали доносился монотонный шум набегавших на берег морских волн. Ветер изменил направление, и вместе с тем чуть изменилась тональность звучания прибоя. Близость смерти наполняла сумрачный дождливый день особым смыслом. Федерико воспринимал этот полумрак не как отсутствие света, а как непроглядную ночную тьму, надевшую маскарадный костюм в надежде на то, что ей удастся остаться неузнанной. В душе самого Федерико, как и в сердце Пиноккио, повешенного на дереве и брошенного лисой и котом, боролись теперь два чувства: страх и гнев.
По дороге Пол предложил зайти в кафе под названием «Fish Bone».[27] Обычные посетители из местных жителей к этому времени как раз стали расходиться. Остались лишь несколько девушек с бокалами пива, сидевших в весьма экстравагантных позах и при этом пытавшихся держаться как настоящие аристократки, несмотря на довольно пеструю одежду, купленную, возможно, в магазине секонд-хенд. Эти очаровательные создания даже на миг не оторвались от какого-то интересного разговора и не посмотрели в сторону двух вошедших в кафе мужчин.
Известие об утонувшем приезжем обрушилось на тихий приморский городок, произведя эффект подлинно шекспировской трагедии. Все только об этом и говорили: подходя к столику у окна, Федерико краем уха слышал несколько слов о происшествии. Разговор вели две женщины, сидевшие буквально через столик от них. Обеим было за сорок, но при этом они сумели сохранить подростковые фигуры, судя по всему, истязая себя поистине садистскими диетами, режимами и упражнениями. Федерико машинально отметил, что одна из женщин была рыжая, точь-в-точь как Ада Маргарет. Видимо, она была ее родственницей, прибывшей из Лондона, чтобы попытаться утешить несчастную. Это предположение заставило Федерико прислушаться к разговору, на который он поначалу не собирался обращать внимание.
– Неужели он не мог умереть в Лондоне, как все нормальные люди? – спросила родственницу Ады ее спутница.
– Когда человек действительно решает свести счеты с жизнью, сцена и декорации важны, а что с ним случилось, вообще никто не знает, – ответила родственница Слиммернау. – Может быть, он вовсе и не хотел умирать. Я, как его в первый раз увидела, сразу поняла, что он – персонаж трагический. Бедняжка Ада, они ведь так недавно поженились.
Глоток текилы тем временем обжег горло ее собеседницы.
– Да уж. Моей кузине вечно не везло с мужчинами. Умеет она влюбиться в того, кто ей не подходит. Вот и на этот раз все пошло прахом, как тогда, с тем итальянцем. Помнишь его – такой претенциозный, вроде героя эпохи Возрождения?
Губы женщины скривились в недоброй усмешке, отчего она стала похожа на засушенную жабу.
– Извини, я просто не могу удержаться от смеха, когда вспоминаю о нем. И где она только его нашла? Он словно вышел из какого-нибудь фильма Феллини. По-моему, он был родом из Флоренции. Я, кстати, так и не поняла, почему они все-таки расстались.
В ожидании заказанного ужина Пол и Федерико продолжали внимательно слушать разговор женщин. Пол понимал тот интерес, который в данном случае проявил профессор Канали к чужой беседе, и решил пока что не комментировать его поведение. Женщины же не замечали, что их внимательно слушают, и продолжали злословить и перешучиваться совершенно беззаботно.
– Я и сама этого не знаю. Ада такая скрытная. Никогда никому ничего не рассказывает, и о том, что происходит в ее жизни, узнаешь уже постфактум. Взять хотя бы ее свадьбу. Думаешь, она меня пригласила? Как же. Я только от тетушек и узнала, что они поженились, а к тому времени после свадьбы прошло уже больше месяца.
Собеседница рыжеволосой женщины была полностью поглощена перевариванием новых подробностей и откровений.
– Ушам своим не верю. Неужели она тебя не пригласила? Как же так? Вы же с детства дружили, в школу вместе ходили… да и потом тоже. Да, кстати, а как сложилась ее жизнь после этого? Вроде бы она решила не учиться на актрису?
Рыжая утвердительно кивнула, играя при этом кольцом на пальце. Официант принес Полу и Федерико заказанную ими жареную рыбу с картошкой и две большие кружки пива. Федерико заговорщически взглянул на Пола:
– Эти кумушки знают о том, что случилось, больше, чем мы. Давай послушаем, о чем еще они будут говорить. Может быть, узнаем что-то новое о жизни молодой вдовы.
Пол, хотя и не собирался вступать в дискуссию, все же заметил:
– А тебе не кажется, что это не очень вежливо? В конце концов, она ведь была его женой. Не стоит забывать об этом.
– Извини, Пол, – сказал Федерико, набрасываясь на рыбу. – Вы, англичане, всегда такие вежливые, но лишь до тех пор, пока на вас смотрят посторонние. А дальше… все люди одинаковы. Кстати, эти две подружки – отличный тому пример. Я не интересуюсь чужими секретами, но сейчас особый случай. Я хочу знать, почему умер Марк и почему он женился на женщине, с которой был едва знаком.
Их соседки по кафе тем временем продолжали перебывать косточки молодой вдове Харпер.
– Ее покойный муж казался человеком здравым, уравновешенным, совсем не склонным к какой-то эксцентричности, и вот – сама видишь, чем все кончилось. Он оказался куда более странным, чем мы все думали. Чего стоит только этот финал: он свел счеты с жизнью, как великий актер.
Упоминание об актерах неприятно кольнуло Федерико. Он не мог отделаться от ощущения, что все это как-то связано с Коломбиной и старым Винченцо. Знать бы, какие тайные связи объединяют людей театрального мира, находящихся так далеко друг от друга, в самых разных странах. А отец Антонио – он ведь тоже был актером, как и все они.
Женщины тем временем допили свою текилу, и у той, что сидела спиной к Федерико, уже стал заплетаться язык. Вторая, рыжая, несомненно принадлежащая к роду Слиммернау, набросила на плечи пальто, явно собираясь уходить. Ни одна из них даже не посмотрела в сторону Пола. Женщины рассчитались у барной стойки и, продолжая болтать, вышли на улицу.
Мужчины проводили их взглядами, при этом каждый по-своему обдумывал подслушанный разговор. От рыбы на их тарелках остались лишь кости, а уровень пива в кружках понизился примерно наполовину.
– Ну что ж, я чувствую себя лучше и готов к бою. По-моему, настало время поговорить с Адой, – твердым голосом заявил Федерико.
Пол, выдерживая паузу, стал большими глотками допивать оставшееся в его кружке пиво.
– Кстати, – сказал итальянец, впившись взглядом в энтомолога, – надеюсь, это не ты их познакомил? Откуда ты знаешь Аду? Я, кстати, так и не слышал от тебя никаких объяснений на этот счет.
Действительно, Пол Харпер не рассказывал Федерико, кто, когда и каким образом познакомил Аду с Марком и откуда он сам знал эту женщину. Он не сделал этого по двум причинам: во-первых, не было подходящего случая, а во-вторых, он и в самом деле чувствовал себя в какой-то мере ответственным за случившееся. Но виноватым в чем бы то ни было он себя не считал. Просто настал момент объясниться с профессором Канали, пока тот не успел прийти к ошибочным выводам.
– Ты прав, мы с тобой никогда не говорили об этом. Впрочем, рассказывать мне особо нечего. Мисс Слиммернау прослушала у меня курс в университете. Я читал лекции о ядовитых насекомых и воздействии их яда на человека. Эта дисциплина не имела ничего общего с ее основной специальностью, но девушка проявила завидный интерес. Более того, она показала себя человеком широких взглядов, умеющим мыслить глобально, обладающим аналитическим складом ума, наблюдательным и усидчивым. В общем, у нее были все качества, способные сыграть добрую службу, если бы она решила посвятить свою жизнь науке. Ее вопросы, предлагаемые ею решения свидетельствовали о редкой способности мгновенно ухватывать самую суть проблемы. По крайней мере в механизме самозащиты наиболее хрупких многоклеточных живых организмов на Земле она разобралась превосходно. Не стану отрицать, что такой подход и такие успехи студентки, не специализирующейся на моем предмете, произвели на меня глубокое впечатление. Мы не раз продолжали начатые разговоры уже за порогом аудитории, а иногда она даже провожала меня в лабораторию. Постепенно я стал все больше доверять ей, и мы начали видеться чаще, в основном – в университетской библиотеке. Во время одной из этих встреч я узнал, что она всерьез занялась изучением итальянской народной культуры. Целью ее исследования было показать влияние итальянского народного театра на появление драматического театра в Англии. Она была увлечена своей работой, и, насколько я могу судить, ее исследования шли успешно. По ее скромному мнению, выводы, к которым она пришла в результате изучения множества документов, позволили ей воспринимать театральное искусство совершенно иначе. Насколько я понимаю, она собиралась обнародовать свои сенсационные заключения. За день до моей встречи с ней ко мне заглянул Марк. Ему понадобились мои связи, чтобы получить доступ в главный читальный зал библиотеки Британского музея. Естественно, я поинтересовался, зачем ему это понадобилось. Вот тогда он и рассказал мне странную историю о каком-то черепе, который вы втроем купили где-то на Гаити. Этот череп, судя по всему, действительно обладает колдовской силой, потому что с его появлением мой племянник резко изменился. Он стал беспокойным, неуравновешенным и при этом был готов хвататься за любые книги, лишь бы получить интересовавшую его информацию. Он рассказал мне о мулатке Лурдель, о потерпевшем крушение судне под названием «Lone» и о фрагментах человеческих останков, весьма странных с точки зрения антропологии… В конце концов он не выдержал и назвал мне имя Пиноккио; впрочем, похоже, он тотчас же раскаялся в собственной слабости. Я рассмеялся, не в силах сдержаться. Марк сразу же замолчал и потупил взгляд. Я, конечно, извинился и объяснил, что смеялся не над ним, а над его наивностью. Не может же разумный, образованный человек так легко верить во всякие сказки и небылицы. Надо подходить к любой проблеме здраво и осмотрительно, требовать доказательств или хотя бы косвенных свидетельств любой гипотезы. Но, увы, он меня уже не слушал. Когда он собрался уходить, я сказал ему: «Ладно, договорились, я устрою тебе пропуск в читальный зал, а кроме того, познакомлю тебя с человеком, хорошо знающим ту эпоху, когда была написана знаменитая сказка Карло Коллоди». Он пожал мне руку, и больше мы никогда не говорили на эту тему.
Федерико внимательно выслушал рассказ Пола, но, судя по всему, у него по-прежнему оставались вопросы, требовавшие ответа.
– А как ты сумел убедить Аду помочь твоему племяннику? У такой женщины наверняка не слишком много свободного времени, и она вряд ли стала бы тратить его, чтобы потакать чьим-то инфантильным капризам. Как они познакомились?
Пол чувствовал себя как на допросе. Он ощущал в словах профессора Канали недоверие к нему человека, потерявшего друга и не знавшего причин его смерти. Он прекрасно понимал душевное состояние Федерико и был готов терпеливо отвечать на его вопросы, не обращая внимания на их несомненную бестактность.
– Знаешь, все получилось как-то само собой. В день рождения Ады я заглянул к ней в гости. Она была очень рада видеть меня и пригласила пообедать с ней. Я воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать ей о Марке. К тому времени у него уже несколько месяцев был пропуск в читальный зал, и, как рассказывали мне друзья, он появлялся в библиотеке как минимум раза два в неделю. Естественно, я не стал рассказывать Аде ни про Пиноккио, ни про странный носатый череп. В конце концов, Марк сам попросил меня, чтобы это осталось между нами. Я лишь рассказал ей, что у меня есть племянник, который интересуется историей Италии эпохи, предшествовавшей объединению страны. Она слушала меня, не перебивая и жадно впитывая каждое слово. В общем, в тот вечер она не столько ела или говорила, сколько слушала. В итоге она разговорила меня так, что я описал ей Марка во всех подробностях. Я рассказал, как он выглядит, какие у него вкусы, а она даже успела расспросить меня о его детстве. Благодарный за такое внимание, проявленное к моему родственнику, я подробно описал ей все, что смог вспомнить. Рассказал о странностях его матери, о меланхолически-депрессивном складе характера его отца, о бабушке и проданном старом доме, о ваших путешествиях, вашей дружбе, и уже под конец разговора, когда мы подняли тост за ее день рождения, я, к сожалению, проговорился о том, о чем следовало бы промолчать. Да, я назвал имя Пиноккио. Признаю свою вину. Почему так получилось, сам не знаю. Ощущение такое, что меня кто-то тянул за язык. Может, это был тот самый Джеппетто. После этих слов, согласно канонам народной сказки, мой язык должен был либо отсохнуть, либо превратиться в деревяшку.
Слушая Пола, Федерико все больше склонялся к тому, что этому человеку можно доверять, однако в душе у него все сильнее закипала ненависть к Аде, этой английской Коломбине. Конечно, это она расставила те силки и ловушки, в которые угодил Марк, она довела его до смерти. Никаких сомнений у него не оставалось. Его вердикт был окончательным, а в отношении к вдове друга не осталось ничего, кроме резкой антипатии. Вскоре у него на глазах вновь выступили слезы. Однако они не были проявлением его слабости: страх покинул его тело, и Федерико был полон решимости немедленно поговорить с Адой Маргарет Слиммернау, причем поговорить начистоту и высказать все, что он о ней думает.
На подходе к дому, который в последние недели служил пристанищем молодой пары, Федерико почувствовал сильную дрожь. Ощущение было такое, будто его позвоночник превратился в змею, которая извивалась и свертывалась кольцами, сжимая изнутри его тело. Одновременно какой-то непонятный, слышимый только ему звук донесся до его ушей и, как показалось Федерико, пронзил его барабанные перепонки, достав до самого мозга. Он остановился. Пол, заметив, что ему не по себе, спросил, как он себя чувствует. В ответ Федерико лишь помотал головой и снова пошел вперед. Вскоре они прошли через калитку в сад, окружавший дом, и зашагали по узкой тропинке к крыльцу. Тучи по-прежнему закрывали все небо, моросил мелкий дождь, и казалось, что влажная темнота настолько густа и осязаема, что ее можно резать ножом. Подойдя к дверям, Пол дернул за шнур звонка. Прошло, наверное, несколько минут, но дверь так и не открылась. В доме было тихо, но из-за плотных штор все же пробивался горевший в комнатах свет. Федерико в нетерпении дернул шнур изо всех сил – чтобы произвести как можно больше шума. Наконец послышались шаги, дверь приоткрылась, и на пороге появилась пожилая женщина, чьи рыжие волосы были прикрыты платком с узором из оранжевых цветов. Не разглядев в темноте гостей, женщина спросила, что им нужно. Пол, по-видимому знакомый с ней, приветственно махнул рукой и улыбнулся. В ответ женщина также не сдержала улыбки и, сделав шаг назад, сказала:
– А, так это вы, дядя Марка. Ну конечно, входите, и вы, молодой человек, тоже. Не стойте в дверях: на улице холодно, а вы, как я вижу, промокли.
Пол вошел в дом первым. Федерико Канали шел за ним, словно не замечая тех знаков внимания, которые оказывала им пожилая женщина.
– Проходите, проходите в гостиную. Давайте я налью вам бренди.
– Нет, спасибо, – возразил Федерико, которому пришлось для этого даже повысить голос. – Пожалуйста, сообщите миссис Харпер, что я хочу ее видеть. Я профессор Канали, друг Марка.
Хорошо поставленный преподавательский голос итальянца прозвучал в погруженном в тишину доме как раскат грома. Женщина безмолвно исчезла за шторой, отделявшей прихожую от основной части дома. Буквально через несколько секунд она вернулась в компании еще двух женщин примерно одного с ней возраста. Все трое мило улыбались, что казалось совершенно неуместным в доме, погруженном в траур. Пол поздоровался и, обращаясь к Федерико, пояснил:
– Это тетушки Ады. Они присутствовали на ее свадьбе и вообще всегда поддерживают ее в самые ответственные минуты жизни.
– Да, да, именно так и есть, – вступила в разговор женщина, выглядевшая старше остальных. – Мы все трое знали вашего друга и очень скорбим по поводу его безвременной кончины.
– Примите наши искренние соболезнования, – хором подтвердили две сестры, до сих пор не вступавшие в разговор.
Профессор Канали вежливо, но сухо поблагодарил женщин за слова участия, но по-прежнему настаивал на том, чтобы скорее встретиться со вдовой. Все эти разговоры и хождение вокруг да около казались ему пустой тратой времени.
– Мне бы очень хотелось поговорить с вашей племянницей. Я хочу выразить ей свое участие и по возможности утешить ее в этом ужасном горе.
Несмотря на вежливые и сердечные слова, Федерико с трудом удавалось скрыть свое нетерпение. Он все время смотрел по сторонам поверх голов женщин, словно рассчитывая, что ему все же удастся увидеть в полутемной гостиной ту, ради разговора с которой он и пришел сюда.
– Очень сожалею, – суховато произнесла старшая из сестер, – но боюсь, что вы напрасно проделали столь долгий путь под дождем. Ада Маргарет уехала в Лондон сразу после поминальной службы и больше сюда не вернется.
– Но я же видел ее буквально пару часов назад! – воскликнул Федерико, не скрывая недоверия в голосе. – Как вы могли позволить ей уехать одной в ее состоянии?
Самая маленькая по росту и младшая по возрасту женщина, отзывавшаяся на имя Финела, изобразила на лице задумчивую улыбку и, вскинув брови, ответила:
– Мы просто не смогли ее удержать. Она сказала, что не может больше находиться в доме, где прошли последние часы жизни ее мужа. Горе погнало ее в дорогу, хотя в такую погоду лучше сидеть дома, а путь ей предстоит неблизкий. Если бы вы были хорошо знакомы с моей племянницей, то знали бы наверняка, что никто и ничто не может удержать ее, если она решила что-то сделать.
– Насчет этого я как раз в курсе, – со злобой в голосе заметил Федерико. – Полагаю также, что столь поспешный отъезд вдовы в какой-то мере спровоцирован угрызениями совести.
Три женщины изумленно переглянулись, а затем старшая из них взяла слово:
– Молодой человек, я не знаю, на что вы намекаете, но позволю себе заметить, что мне не нравится, когда в моем присутствии малознакомые люди нелицеприятно высказываются о тех, кто мне близок и дорог.
Пол поспешил вмешаться и обрушил на трех женщин целый поток извинений и пояснений, касавшихся состояния, в котором пребывает уважаемый профессор Канали, уставший после почти двух суток, проведенных в дороге, и к тому же почти падающий с ног от голода. Итальянец не стал его перебивать, но и не произнес ни единого слова в свою защиту. В эти минуты он думал только о бегстве Ады Маргарет. По всему выходило, что поговорить с ней в обозримом будущем ему уже не удастся.
Они вышли из дома, причем Федерико так и не сказал ни слова. Пол, прекрасно понимавший его настроение, попытался его успокоить и предложил ему свою машину и себя в качестве шофера: он мог бы отвезти Федерико прямо к дому Ады, избавив таким образом от необходимости плутать по узким переулкам Ковент-Гардена.
– Можем ехать хоть сейчас, ты, главное, не волнуйся. Завтра ты уже сможешь поговорить с ней. Я знаю, где она живет, – бывал у нее в лондонском доме несколько раз. Только на многое не рассчитывай, не строй иллюзий. Мне почему-то кажется, что у нее нет ответов на вопросы, которые ты собираешься ей задать. В любом случае я постараюсь тебе помочь. Не хочу, чтобы ты уехал, ни в чем не разобравшись.
– Спасибо, – ответил несколько успокоившийся Федерико, к которому вместе со слезами вернулись тоска и боль утраты. – Не знаю, что бы я без тебя делал. Действительно, не хотелось бы уезжать из Англии, не поговорив с Адой. Может, ты и прав, но я все-таки думаю, что она знает о Марке больше любого из нас. Возможно, ею движет та же самая идея, что и нами, – я имею в виду тот череп с Гаити.
Последние слова не на шутку встревожили Пола. Вплоть до этого момента он полагал, что профессор Капали поступает столь странно из желания выяснить истинные причины смерти друга. Теперь же, после очередного упоминания о проклятом черепе, он начал сомневаться, что итальянцу нужно именно это. Полу даже показалось, что Федерико гораздо интереснее узнать, что известно Аде о черепе, чем выяснить, какие странные обстоятельства привели Марка к смерти. Впрочем, энтомолог сумел отогнать от себя это предположение, посчитав его просто чудовищным. Как знать, может, в душе Федерико все перемешалось и уже трудно отделить его переживания по поводу гибели Марка от исследований и экстравагантных выходок троих друзей, которые разыскивают по всему миру якобы оживших литературных героев.
«Неужели он на самом деле умер?» – спрашивал себя Пол во время долгой поездки по шоссе, ведущему в столицу. В ночной темноте, озаряемой лишь фарами встречных машин, стиралась грань между нормальной жизнью и существованием в бессознательном состоянии. Время от времени он искоса посматривал на Федерико, который сидел молча, практически неподвижно, словно погруженный в летаргический сон, лишающий человека возможности думать и действовать рационально. Пол вдруг представил себя водителем катафалка, украшенного подобранными соответственно случаю цветами. Он даже почти ощутил запах жасмина, гардении, александрийской гвоздики – в общем, все ароматы, которые ему в ходе экспериментов удавалось выделить или даже синтезировать лабораторным путем и запаять в пробирку. Море осталось далеко позади, но его незримое присутствие ощущалось в дороге еще долгое время.
Солдаты со Слэптон-Бич пели на ухо Полу старые военные песни. Песни войны – вот только какой войны? Первой мировой, Второй или той, которая еще будет? Музыка, словно прошедшая через множество рядов горящих свечей, накрывала незримым саваном лицо задохнувшегося, захлебнувшегося Марка. Воображение рисовало все более яркие и при этом страшные картины, а Федерико – единственный человек, способный нарушить молчание и прервать эту цепь непрошеных образов в сознании Пола, – продолжал сидеть молча и неподвижно, чем-то напоминая напуганное, забившееся в угол клетки животное, которое не издает ни звука лишь потому, что боится неминуемо следующего за этим удара.
В какой-то момент Пол словно очнулся и свернул к придорожному кафе, открытому даже в столь поздний час. Итальянец нарушил долгое молчание:
– Что случилось? Почему ты остановился?
– Я устал. Не могу больше вести.
– Ты прав, давай посидим, перехватим чего-нибудь. Я, честно говоря, тоже очень устал.
Немного размяв ноги у машины, они вошли в кафе. Поев и выпив кофе, решили вернуться обратно в машину и несколько часов поспать. Сон Федерико был беспокойным и нисколько не добавил ему сил. Стоило ему закрыть глаза, как перед его мысленным взором возникало лицо Марка. Федерико сам вызывал в памяти образ друга, потому что хотел увидеть его, поговорить с ним, рассказать обо всем, что произошло за последние несколько дней. «Почему ты так поступил? – спрашивал он тень своего друга. – Почему ничего не сказал мне? Будь я на твоем месте, прежде чем совершить такой непоправимый поступок, я обязательно посоветовался бы с тобой и даже дождался бы твоего приезда, а уж в крайнем случае оставил бы тебе письмо, какой-то знак, хоть что-то, что облегчило бы твои страдания и освободило от угрызений совести».
Федерико вытянул вперед руку, чтобы дотронуться до лица своего друга, но чем сильнее он тянулся, тем дальше отходил Марк. Лицо его имело какой-то синеватый оттенок, глаза были красные и блестели – он словно готов был вот-вот разрыдаться. Одежда на Марке была изорвана в лохмотья, но при этом Марку удавалось сохранить свойственную ему элегантность. От его бледной, белой кожи, проступавшей из-под лоскутов рубашки, исходило какое-то едва уловимое вибрирующее свечение.
«Точь-в-точь как на картине Караваджо, – подумал Федерико. – Да и улыбка у тебя, как у того хмельного Вакха, а опухлость твоего окоченевшего тела напоминает скульптуру карлика в садах Боболи».
Он говорил во сне и даже ссорился с призраком покойного. «Не понимаю, откуда у тебя все это – эти шрамы на лице, эти синяки, из-за которых я тебя с трудом узнаю». Федерико смотрел на Марка и продолжал его расспрашивать: «С кем ты дрался? А может, высадка солдат, утонувших возле Слэптона, проходила через твое тело? Ты никогда не был моряком, а сейчас, глядя на тебя, я почему-то думаю, что ты за эти дни успел повоевать против всех враждебных сил моря. Не молчи! Поговори со мной! Не оставляй меня одного! Я буду снова и снова искать тебя – всякий раз, как только закрою глаза. Я не смогу спать, пока ты не расскажешь мне всю правду».
Мучившие Федерико видения ничуть не беспокоили провалившегося в глубокий сон Пола. Он даже не лег, а просто рухнул на заднее сиденье машины и тотчас же уснул. Дождь по-прежнему выводил свою монотонную мелодию, барабаня тысячами капель по крыше машины. Запотевшие стекла образовали вокруг пассажиров что-то вроде обманчиво надежной скорлупы. Так прошли три часа. Федерико, которого по-прежнему терзали воспоминания о Марке, продолжал разговаривать с ним во сне: «Дружище, ты ведь так ничего мне и не ответил. Что же, по-твоему, я должен буду сказать Антонио, когда мы встретимся? Как я ему объясню, что тебя с нами больше не будет, что ты так легко и жестоко разрушил нашу Дружбу? Подумай наконец и о черепе: а вдруг именно по твоей вине мы никогда не узнаем его тайну? Неужели все наши страдания и мучения были напрасны?»
При последних словах лицо Марка исказилось. Казалось, ему больше всего на свете хочется вдохнуть полной грудью и вернуться к жизни. Даже являясь частью сна Федерико, Марк не хотел, чтобы им управляли другие. Мысли итальянца отступили, дав мертвому другу возможность высказать то, что могло стать главным ответом на самый важный для них обоих вопрос. Лицо Марка уже не было мертвенно-бледным, а, наоборот, налилось какой-то неестественно темной, почти бурой кровью. Его рот искривила гримаса, словно он делал мучительные усилия, чтобы заговорить. Наконец с мертвых губ слетели слова, произнесенные пусть и неразборчиво, но зато – таким знакомым и привычным голосом:
«Не приставай ко мне больше со своими вопросами. Неужели ты думаешь, что, раз я умер, теперь мне все известно? Ошибаешься: я теперь еще более слеп, чем прежде, и ничем не смогу вам помочь. Если тебе нужен какой-то знак, то слушай меня внимательно. Над нами нависла какая-то большая ложь».
Крик Федерико разбудил Пола, который с испугу начал трясти итальянца и в свою очередь разбудил его.
– Что с тобой? Почему ты так кричишь?
– Извини, – смущенно сказал Федерико, поняв, что поднял переполох. – Я отключился, и мне приснился Марк. Когда ты меня разбудил, он как раз говорил со мной.
Пол закрыл лицо руками и покачал головой. Ситуация в общем-то была понятна: молодой итальянец подсознательно никак не мог смириться со смертью близкого друга и теперь готов верить в то, что тот жив, хотя бы во сне. Пол не знал, что сказать, какими словами облегчить его страдания.
– Может быть, тебе не стоит ехать к Аде. Ты очень нервничаешь, и эта встреча может тебе дорого обойтись. Подумай, может, я лучше отвезу тебя прямо в аэропорт.
– Нет, Пол, прошу тебя. Поехали дальше. Что касается криков – клянусь, больше это не повторится. Чувствую я себя нормально, а то, что мне приснился кошмар, вполне понятно. В таком состоянии человеку еще и не то приснится. Неужели ты думаешь, что я всерьез верю в разговоры с мертвыми? Это же просто образ, рожденный в усталом воображении, желание сделать снова все как было. Настоящий мужчина не придает значения тому, что видит во сне, – с мрачной многозначительностью закончил Федерико.
Оставшуюся часть пути до Лондона они проехали без приключений. Пол включил радио, и они слушали песни «Битлз», под которые и доехали до развязки, откуда свернули на шоссе, ведущее к центру города. «Lucy in the Sky with Diamonds», «Revolution» и, наконец, «Let it be» помогли обоим путникам прийти в себя и чуть развеяться. Эти мелодии были словно романтическим отражением их юности.
Пол, несмотря на всю усталость, почувствовал себя гораздо лучше, когда, взглянув в очередной раз на Федерико Канали, заметил, что тот внутренне подобрался и его взгляд устремлен куда-то вперед, а не внутрь себя.
– Давай сначала заедем ко мне домой, примем душ и немного отдохнем, а ближе к полудню поедем к Аде. Что скажешь?
Федерико согласился, но без особого энтузиазма. Ему сейчас очень не хотелось демонстрировать свою слабость в любом ее проявлении, выглядеть смешным и жалким перед Полом.
«Дом энтомолога ничуть не напоминает Сатис-хаус», – не без юмора подумал Федерико, удивившись еще сохранившейся в нем способности шутить, пусть и мрачно. На самом деле жилище Пола походило на негостеприимное убежище погруженного в свои исследования ученого, не слишком заботящегося об уюте и комфорте. Все пространство в доме занимали книги, лабораторное оборудование, большой письменный стол, бесконечные электропровода, удлинители и розетки, образовавшие на стенах некое подобие паутины. В самых дальних углах комнат почему-то были расставлены кривые, искажающие отражение зеркала. Повсюду в глаза бросались застекленные витрины с коллекциями омерзительных на вид насекомых, а кроме того, везде, по всему дому, были разложены, расставлены и разбросаны кости – множество костей. Из окон открывался невеселый вид на близлежащие крыши, изломанную плоскость которых нарушали иногда кроны деревьев. Федерико обратил внимание, что нигде во всем доме не было ни единой картины на стене, ни фотографий, ни личных вещей или сувениров, которые указывали бы на то, что нашелся человек, согласившийся жить в этом доме, приспособленном скорее для учебы и научной работы, чем для повседневного существования.
– Пол, все эти животные у тебя в доме – мертвые?
– Ну конечно, – ответил тот. – А как же иначе я смогу их изучать?
– Ну, не знаю. А собаки, или кошки, или хотя бы канарейки ты не держишь – не с научной целью, а просто для компании?
– На держи полотенце. Иди в душ, а я пока приготовлю что-нибудь поесть, – так ответил Пол на не слишком тактично сформулированный комментарий по поводу атмосферы в его доме.
Федерико закрылся в ванной и на время забыл обо всем. Он с удовольствием подставил тело под прохладные струи душа. Помывшись, вышел на кухню и обнаружил, что еда уже готова. Картофельное пюре и мясо неизвестного происхождения стояли на столе, но Пола нигде не было видно. Итальянец подождал несколько минут, и наконец хозяин дома вышел из своей комнаты с весьма озадаченным выражением лица.
– Тут тебе звонили. Из Италии. Какая-то женщина оставила для тебя сообщение.
– Кто же это? – изумился Федерико. – Никто ведь не знает, что я сейчас у тебя.
– Я тоже так думал. Но некая Андреа де Лукка сообщила, что тебе нужно немедленно вернуться во Флоренцию. Антонио приехал из Мексики и ждет встречи с тобой.
По лицу профессора Канали было видно, как взволновало его это известие. Он еще не оправился после смерти Марка, не свыкся с этой мыслью, а его вновь ставили в ситуацию, требующую срочного решения и быстрых действий. Антонио проделал долгий путь, чтобы встретиться с друзьями, даже не зная, что Марка ему увидеть уже не суждено. Федерико очень беспокоился за мексиканца. Один во Флоренции, лицом к лицу с женщиной, принадлежащей к ордену карбонариев и жаждущей получить свою долю власти над черепом, – он вовсе не был в безопасности. Как же передать ему, чтобы он был осторожен? Как дать понять, чтобы он ни в коем случае не поддавался очарованию Коломбины? А кроме всего прочего, Федерико по-прежнему считал, что не может уехать из Англии, не поговорив с Адой Маргарет Слиммернау. Время, и без того сжавшееся до невозможности, начинало рассыпаться на мелкие кусочки.
Глава шестая
Вот с какими гневными словами обратился Антонио к Ласло:
– Моя жизнь прошла между кабинетом доктора Калигари и эксцентричными выходками Фуманчу. Я жил, надеясь когда-нибудь создать Голема – существо, которое во всем потакало бы моим желаниям и воплощало бы в реальность мои самые сокровенные сны и мечты. Мне казалось, что сама судьба уводит меня прочь от мира кино, я не собирался иметь ничего общего ни с персонажами, созданными на съемочных площадках, ни со сценарными диалогами, уродующими воображение нормального человека. Лишь когда умер отец, я понял, что вел себя глупо и смешно, как актер-дебютант, приглашенный сниматься в фильм без сценария. Я должен узнать, что скрывается на вилле Сересас, какой секрет унес с собой в могилу отец, скончавшийся так внезапно. Чтобы раскрыть эту тайну, я готов идти до конца, меня ничто не остановит, а уж тем более угрозы, высказанные каким-то ничтожным человеком. Хоакин не сможет меня удержать, да и полиция тоже. Я доберусь до черепа и заберу его себе. Я уверен, что знаю, где он сейчас находится.
Эту эмоциональную речь он произнес после того, как его адвокат подал ходатайство о допуске сына покойного в квартиру на проспекте Либертад. Судья, которому было поручено вести дело о наследстве знаменитого актера и коллекционера, отклонил ходатайство. Единственный сын покойного был надежно изолирован от всей оставшейся после отца собственности. Уже не слова Хоакина, а постановление суда запрещало ему появляться на вилле Сересас – по крайней мере до окончания рассмотрения дела. В распоряжении Антонио оставалась лишь та сумма, которую ежемесячно перечисляли ему со счета отца. Антонио с достоинством и без лишних жалоб принял все эти, по словам судьи, временные ограничения, но, когда ему отказали в праве один-единственный раз в присутствии представителей властей войти в свою квартиру, он не смог сохранить спокойствие и сделать вид, что не слишком заинтересован в том, что происходит с наследством отца. Он даже, сделав над собой усилие, позвонил матери, потребовал у нее предпринять хоть какие-то шаги, чтобы изменить ситуацию. Она же с присущим ей безразличием в голосе напомнила сыну, что в его распоряжении есть достаточная сумма денег и он преспокойно может продолжать праздно существовать, как и раньше, дожидаясь, когда дело о наследстве будет закончено. С точки зрения матери, ему следовало набраться терпения, да и вообще научиться ждать. Пусть, мол, все идет как идет, и не нужно вмешиваться в ход событий. Логика и здравый смысл были, безусловно, на стороне матери: получение основной части наследства было для него всего лишь вопросом времени и приложения каких-то минимальных усилий по юридической части.
– Спасибо, мама, за твои пояснения. Но, к сожалению, то, что ты говоришь, для меня сейчас ничего не значит. Нет у меня времени, понимаешь, не могу я ждать. И кстати, ты ошибаешься, если думаешь, что меня интересуют только деньги. Поверь, в жизни есть вещи гораздо более важные. А впрочем, откуда тебе знать. Отец никогда не был тебе интересен как человек. То, что он ценил, что было для него важным, так и осталось для тебя тайной, и раскрыть ее ты даже не попыталась.
Повесив трубку, он почувствовал себя лучше, словно выполнил наконец какое-то тягостное обязательство. Презрительно усмехнувшись, сплюнул на пол прямо в кабинете Ласло. Адвокат посмотрел на него с отвращением, но заговорил с неизменной вежливостью:
– Делай что считаешь нужным, но прислушайся и к моим словам. По крайней мере нарушать закон я тебе не советую. Мы ведь с тобой уже не раз говорили о сложившейся ситуации: да, твой отец оставил кое-какие вопросы неразрешенными. Ничего страшного в этом нет. Нужно просто дождаться, пока суд рассмотрит некоторые иски и заявления. Ты, главное, не наделай сейчас глупостей и ни в коем случае, ни под каким предлогом не появляйся в Сересас. Хоакин, в отличие от тебя, имеет полное право находиться там до оглашения вердикта суда. А ты к отцовской вилле даже не приближайся.
Антонио так сильно вспотел, что его шелковая итальянская рубашка плотно облепила тело. Нетерпение просто сжигало его, и он уже не был способен слушать кого бы то ни было.
– Я хочу получить то, что принадлежит мне. Я ведь не требую ничего такого, что было бы не моим. Я имею право распоряжаться своей собственностью. Надеюсь, ты, как юрист, не станешь этого отрицать?
Ласло, в котором от адвоката было гораздо больше, чем можно было подумать на первый взгляд, заверил Антонио, что тот абсолютно прав, вот только – тут адвокат вынужден был развести руками – в данный момент он не может сделать больше ничего для своего клиента, по крайней мере в этом конкретном вопросе. В то же время Ласло как бы невзначай упомянул, что если Антонио нарушит наложенные на него судом ограничения, то этот поступок надолго затянет дело об отцовском наследстве. Пока Ласло не удалось ни получить разрешения на то, чтобы Антонио мог забрать из квартиры свои вещи, ни добиться подписания временного соглашения между сторонами, участвующими в процессе. Судебная тяжба за имущество самого знаменитого мексиканского актера превратилась в государственное дело.
Разозлившись на Ласло, Антонио, хлопнув дверью, вышел из его роскошного кабинета и, поймав такси, поехал почему-то к Национальному музею. Здесь, в одном из залов, он надолго задержался у знаменитого камня Солнца. Наверное, сам не отдавая себе отчета, он рассчитывал, что в непосредственной близости от древнего ацтекского символа ему в голову придет какая-нибудь блестящая идея, которая, как луч маяка, укажет путь в бушующем океане свалившихся на него проблем и неприятностей. Внезапно в его памяти всплыли отрывки из стихотворения Октавио Паса. Все произведение целиком он, конечно, не вспомнил, но и эти фрагменты выстроились у него в голове в стройные строки, пусть и лишенные авторской последовательности, ритма и логичности: «Для того чтобы быть, я должен быть другим, а не самим собой, выйти за пределы себя, найти себя среди других; других, которые не я, если я не существую; других, которые даруют мне право существовать; меня нет, всегда будем мы». Камень Солнца – это часы: часы без механизма с единственной устремленной в глубину космоса стрелкой. Высеченные на ней иероглифы и изображения повествуют о том, что жизнь человека – цепочка бед и несчастий. А ведь поэт был еще и актером. В одной из картин, найденных в коллекции отца, Антонио разглядел знакомое по портретам лицо не то галантного кабальеро, не то бесстрастного робота – молодого Паса, загримированного так, как это было принято тогда в Голливуде. Да и стихи мексиканского поэта всегда были кинематографичны, их образы представляли собой последовательность кадров, повествующих о самой сути человеческого существования. Антонио не знал, что делать и куда податься. Больше всего на свете ему хотелось получить череп, но ему не с кем было поделиться своими мыслями и желаниями. Люди, на которых он мог бы рассчитывать, либо подвели его, либо не смогли помочь по объективным причинам. Федерико, сидя у себя в Италии, вообще выпал из всей ситуации, а Марк – бедняга, он, наверное, уже отчаялся писать и звонить, так и не получив ответа ни на одно сообщение. Англичанин направил Антонио свои соболезнования и с тех пор постоянно звонил или писал ему из своего временного убежища на юге Англии. С каждым разом тон его сообщений становился все более просительным и даже умоляющим. Поэтому Антонио не мог позволить себе ответить Марку Харперу какими-то простыми дружескими словами, не сообщив ему чего-либо чрезвычайно важного. Вот когда в его руках вновь окажется череп, тогда они и увидятся вновь все вместе, вчетвером: он, Федерико, Марк и голова их длинноносого приятеля. А пока такой возможности нет, Антонио предпочитал хранить молчание.
Посмотрев еще раз на ацтекский камень Солнца, Антонио принял решение ехать немедленно на проспект Либертад и попытаться без всяких разрешений войти в отцовскую квартиру. Ключ у него был, а консьержа он знал уже много лет. Некоторой суммы в долларах наверняка будет достаточно, чтобы старик не стал поднимать шум и пропустил его в квартиру. Время Антонио выбрал самое удачное – ближе к концу рабочего дня. В этот час деловые люди, служащие, офисные сотрудники и прочие представители столичной бюрократии выходят из своих контор с уныло-усталым выражением на лицах. При этом они не просто не замечают тех, с кем сталкиваются по пути, – с учетом плотности человеческой массы на единицу площади городских улиц вероятность быть узнанным кем бы то ни было в этом потоке стремится к нулю. Пожалуй, муравьи, толкущиеся у входа в муравейник, отличаются друг от друга больше, чем работники бесчисленных контор, офисов и фирм после тяжелого трудового дня.
Консьерж, как и предполагал Антонио, мирно позевывал в своей стеклянной будочке. Антонио даже пожалел, что ему приходится нарушать сонную идиллию. Господи, сколько же времени прошло с тех пор, как он сам мог позволить себе уснуть так же безмятежно!
– Просыпайся, Хорхе, давай ключи от квартиры.
– А, это вы, сеньор. Но ведь мне приказали…
Антонио не дал ему договорить. Перед вытаращенными от изумления глазами пожилого консьержа замелькали зеленые бумажки, которые Антонио тасовал между пальцами, как фокусник – карточную колоду.
– Ну, я даже не знаю. Меня ведь за это по головке не погладят. Но, с другой стороны, это же квартира вашего отца и я не могу не пустить вас к себе домой.
Разговор логично развивался в том направлении, в котором его подталкивало мелькание зеленых банкнот в руках Антонио. Пожилой консьерж смотрел на купюры с плохо скрываемым вожделением. Волнение и ловкость рук Антонио не давали ему сосчитать предложенную сумму и сопоставить ее с возможными последствиями нарушения полученного приказа.
– Боюсь, что риск тут слишком большой… Я ведь с огнем играю. А вдруг вас поймают – не знаю, что со мной тогда будет.
В какой-то миг Антонио показалось, будто он смотрит эпизод из фильма с участием отца. Бедняк, готовый пасть жертвой соблазна и нарушить закон за некоторое количество бумажек с пуритански гордым и одновременно смиренным ликом Джорджа Вашингтона. Антонио добавил к уже выставленной на суд консьержа сумме еще с полдюжины таких же зеленых купюр. Этой платой за риск консьерж удовлетворился. Он вышел из своей будочки и направился вслед за Антонио к лифту.
– Вы уж постарайтесь там побыстрее управиться. А я, пожалуй, подожду в дверях, посмотрю, не идет ли кто.
– Не волнуйся, Хорхе. Несколько секунд – и все: нас там уже нет и не было.
Выйдя из лифта, консьерж внимательно осмотрел коридор и прислушался. Они прошли к нужной двери, старик вставил ключ в замок и быстро повернул его. Антонио включил свет и сказал, чтобы Хорхе ждал его в прихожей у самой двери, прислушиваясь ко всем звукам, доносящимся из коридора.
В большой гостиной все было так, как в последний раз, когда Антонио был здесь. Даже бокалы и те оставались на столе на тех же местах. Большой портрет актера по-прежнему был главной композиционной доминантой в помещении, и Антонио не смог не посмотреть на него и не остановиться на секунду перед этой любимой отцом фотографией. «А ты все такой же, папа. Всегда молодой, всегда веселый. Я ведь почти не помню твоего настоящего лица. В памяти все время всплывают фотографии и кадры из фильмов. Каким ты был на самом деле, особенно в последние годы, я уже, наверное, никогда не узнаю». Затем он чуть внимательнее осмотрелся в просторном зале. Все вещи, казалось, находились именно там, где и должны были быть. Судя по всему, за последние недели здесь никто ничего не трогал. Это успокоило Антонио, который был уже на сто процентов уверен, что найдет то, что ищет. Он подошел к большому сейфу и стал на память вращать колесики с цифрами, набирая шифр замка. Ошибиться сейчас ему было никак нельзя: иначе сработает сигнализация и к дому немедленно приедет полиция.
Антонио, стараясь не спешить, набирал комбинацию цифр очень внимательно. Все было сделано правильно, и сейф открылся. Он представлял собой если не кладовку, то по крайней мере большой глубокий шкаф, в который даже было проведено освещение, автоматически включавшееся через несколько секунд после открытия тяжелой двери. Дождавшись, когда загорится лампочка, Антонио стал искать то, что ему было нужно, среди ящиков и коробок, разложенных на полках сейфа. Осмотрел все бронированное помещение от пола до потолка, но обнаружил только бумаги, футляры и коробочки с разными старинными безделушками, которые покупал у не слишком щепетильных антикваров, пачки фотографий, рулоны пленки, отцовские контракты, налоговые счета, внушительную сумму денег в новеньких американских банкнотах, но – никаких следов черепа. Антонио прекрасно понимал, что дольше оставаться в квартире опасно, и в то же время вновь и вновь обшаривал взглядом полки и коробки внутри сейфа. Оказывается, он рисковал напрасно. Кто-то опередил его и похитил принадлежащую ему вещь. Драгоценный предмет был потерян – возможно, навсегда.
«Этого не может быть, – в отчаянии повторял он про себя, – мы же оставили его здесь, а после смерти отца сюда больше никто не заходил. Я же помню: череп стал меняться, в нем начались какие-то внутренние трансформации. Теменные кости потемнели, будто на них собиралась нарасти кожа, а глазные впадины словно чуть прищурились. Нос казался еще более длинным и дерзко вздернутым».
– Ради бога, быстрее! Мне нужно спускаться вниз, я ведь все-таки на работе.
Голос Хорхе вывел Антонио из оцепенения. Не было смысла дальше оставаться в квартире, потому что черепа здесь явно нет. У Антонио был только один подозреваемый: Хоакин. Конечно, это он воспользовался всеобщей сумятицей и сразу же после похорон пробрался сюда. Времени у него было достаточно: зашел, открыл сейф, взял то, что нужно, и вышел из квартиры. А потом вернулся в Сересас, где мог чувствовать себя как в крепости. Но ведь Хорхе наверняка видел его и, скорее всего, даже получил от мажордома какие-то деньги за то, что впустил его в квартиру.
Перед тем как попрощаться с консьержем, Антонио решил поинтересоваться, не заходил ли кто-нибудь в квартиру после смерти его отца.
– Отвечай, не бойся, кто здесь бывал до меня?
Побледневшее лицо Хорхе приобрело какой-то неестественный, оливково-серый оттенок, глаза забегали. Впрочем, возможно, любой человек заволновался бы в такой ситуации не меньше.
– Никого здесь не было. Только полиция и судья. А так, чтобы с улицы, – никого. Только вы.
Консьерж произнес эти слова настолько заученной скороговоркой, что Антонио сразу понял: он врет. Худшие опасения подтверждались. Конечно, Хоакин опередил его и теперь чувствовал себя в полной безопасности на вилле, куда ему, Антонио, путь был заказан. Ситуация складывалась просто смешная. Единственный наследник оказался, по крайней мере на время, лишен наследства, да еще у него отобрали едва ли не единственную вещь, которая принадлежала именно ему. Пожалуй, только эту вещь Антонио купил сам, рассчитывая на то, что она навсегда останется в его полном и безраздельном владении. И вот именно эту вещь, представлявшую для него подлинную ценность, у него отобрали, как игрушку у расшалившегося ребенка. В отчаянии он даже подумал было, что все это – результат заговора, который организовали против него Марк и Федерико. Он решил, что это они подкупили Хоакина и сговорились с ним похитить череп. Только им двоим была известна его истинная ценность, только с ними, своими самыми близкими друзьями, он делился мечтой найти рано или поздно разгадку не то игрушки, не то чудовища, созданного гением Коллоди.
Это продолжалось, наверное, не больше секунды, но за столь короткий промежуток Антонио успел испытать всю мощь ненависти, на которую, как оказалось, он был способен. Он, как Пиноккио, поверил на слово своим двум попутчикам, тем самым коту и лисе, которые затем жестоко обманули его. Он вдруг вспомнил, как деревянный мальчик доверчиво пришел на поле, где, как ему сказали, из закопанных монет должно было вырасти дерево с деньгами вместо листьев. Так и он похоронил этот череп в отцовском сейфе, как в гробу, а теперь, когда пришел забрать свое, обнаружил, что его драгоценность украдена. Странное, более чем странное совпадение. «Неужели я такой же дурак, как Пиноккио? Похоже, так и есть. Да, я – Пиноккио!»
Запутавшийся вконец, Антонио вернулся в офис Ласло. Адвокат был несколько удивлен, увидев его вновь.
– Опять ты? Что-то случилось?
Антонио твердым, не терпящим возражений голосом огорошил адвоката совершенно неожиданным требованием:
– Ты должен сегодня же поехать со мной в Сересас. Хоакин обворовал нашу квартиру. Я пока еще не знаю, как он это сделал, но он унес оттуда одну вещь – ту самую, которая принадлежит не отцу, а мне лично.
Услышав эти слова, Ласло, до сего момента слушавший Антонио вполуха и одновременно просматривавший какие-то бумаги, взглянул на него и сказал:
– А ты откуда знаешь, что это он? И вообще, откуда ты узнал о пропаже? Ты что, был там? А если тебя кто-нибудь видел? Неужели ты не понимаешь, что своим поведением делаешь наше положение еще сложнее?
Не желая слушать лишних вопросов, Антонио наклонился над столом адвоката и громко спросил:
– Ты едешь или нет? Я поеду в любом случае – с тобой или без тебя. Но предупреждаю: если ты оставишь меня в такой момент без поддержки, я откажусь от твоих услуг и делом о наследстве будет заниматься кто-нибудь другой. Можешь попрощаться с той славой и репутацией, которые ты намерен заработать на разделе наследства моего отца. Мне придется искать другого адвоката.
Ласло мысленно взвесил угрозу и понял, что она вполне реальна: Антонио был столь же упрямым и настырным, как его отец. Оба привыкли, что любые их желания и капризы рано или поздно будут исполнены, пусть и за хорошую цену. С точки зрения адвоката, вся эта семейка была сборищем людей недалеких и даже примитивных, а главное – ни отец, ни сын не знали, что такое настоящая работа, не умели ценить ни чье-либо прилежание, ни радость от маленьких личных побед, которые обычно составляют жизнь простого человека. В общем, будь его воля… Но Ласло прекрасно понимал, какое значение имеет для него это дело. Бросать защиту интересов наследника умершего актера было бы неразумно – не только из-за потери обещанного гонорара, но и из-за последствий профессиональной репутации. Даже сейчас, когда дело было еще далеко до завершения, а уж тем более до завершения победного, к нему в кабинет стали заглядывать все новые и новые клиенты – люди обеспеченные, влиятельные и известные, включая и некоторых политиков. Кто-то приходил с конкретным делом, кто-то наводил мосты в расчете на будущее. Ласло втайне не без основания полагал, что, завершив дело в пользу Антонио – пусть даже не без потерь, – он станет одним из самых влиятельных и модных адвокатов в стране. В общем, дело обстояло так: сам Антонио, конечно, заслуживал не больше уважения, чем тень, отбрасываемая каким-нибудь кактусом, но рвать с ним отношения сейчас было крайне невыгодно. Ласло, иностранец по происхождению, но стопроцентный мексиканец по образу мышления и мировосприятию, прекрасно умел играть роль верного слуги, готового исполнить любую прихоть хозяина. В этом он не слишком отличался от Хоакина.
Отдав секретаршам распоряжения относительно наиболее важных дел, он сообщил, что уезжает на пару дней по срочной необходимости. Отчитываться перед партнерами по юридической конторе у него не было нужды. Кроме того, он всегда оставался на связи и мог решать многие вопросы по телефону. Антонио выглядел довольным и даже гордым: еще бы, он сумел заставить Ласло ехать с ним в Сересас. Его наглость основывалась на ощущении безнаказанности, которую всегда испытывает клиент перед хорошо оплачиваемым адвокатом.
Ласло по-прежнему был уверен в, мягко говоря, неуместности этого визита. Хоакин был человек странный, и адвокат знал его недостаточно хорошо, чтобы заранее предсказать, какова будет его реакция на их появление в поместье. Личность дворецкого всегда оставалась тайной для окружающих. При жизни актера адвокат виделся с Хоакином всего несколько раз по каким-то сугубо формальным делам и не имел возможности познакомиться с ним сколько-нибудь близко. Сам мажордом не выезжал за пределы поместья без крайней необходимости, причем только по личным поручениям старого актера.
Ласло вспомнил, как увидел его впервые. Старый комик тогда вернулся из большого гастрольного турне, и как раз в это время его фильм «Отпуск под водой» завоевал огромный успех в прокате. Продюсерская компания получила такую большую прибыль, что актер решил выйти из состава ее соучредителей и в дальнейшем лично продюсировать фильмы с собственным участием. Компания сочла это неприемлемым и затеяла судебный процесс по условиям контракта. Ласло пришлось немало потрудиться: он применил все свои знания, навыки и уловки, чтобы доказать в суде право актера на самостоятельность в действиях, включая выход из состава соучредителей продюсерской компании. Когда дело было в самом разгаре, Хоакин заехал к нему в офис и привез все бумаги, необходимые для представления в суде: контракты, договоры и, самое главное, соглашение о пропорциональном разделе прибыли от фильмов. Мажордом положил на стол адвоката увесистый пакет с копиями всех запрошенных документов. Ласло в благодарность за столь быстро и четко исполненную просьбу пригласил его поужинать. Хоакин принял приглашение без особого восторга, понимая, что венгр делает это лишь ради удовлетворения собственного любопытства.
Ласло повел его в один из самых дорогих ресторанов в своем районе города; он наивно полагал, что дворецкий здесь будет чувствовать себя не в своей тарелке и его будет проще разговорить. Но он ошибался. Хоакин не испытывал ни малейшего неудобства в шикарной атмосфере и под наблюдением нескольких официантов, которые то и дело меняли им пепельницы и подливали вина в бокалы. Наоборот, Хоакин чувствовал себя здесь как рыба в воде. Казалось, что он чуть ли не всю жизнь провел в ресторанах подобного уровня. Это выражалось во всем: в аристократической осанке, в деликатных жестах, в умении обращаться с приборами так, как это может делать человек, наученный этому искусству с детства и оттачивавший его всю жизнь. Ласло был просто поражен тем выбором, который сделал Хоакин, просмотрев карту вин: он не просто выбрал редкое по букету вино, но и сумел обосновать свое решение. Ну а ловкость, с какой он управился со сложным в сервировке блюдом, вообще повергла Ласло в состояние, близкое к оцепенению. Сам Хоакин вовсе не стремился облегчить ему задачу: прекрасно понимая, что его пригласили сюда как объект для изучения, он в основном молчал и говорил лишь о том, что касалось поданных блюд и напитков. Адвокату самому пришлось начинать разговор на интересовавшую его тему:
– Вы давно уже работаете там, на вилле?
– С третьего фильма, – коротко ответил Хоакин, продолжая есть.
Венгру стало понятно, что разговорить мажордома не удастся. С таким же успехом можно было пытаться заставить сболтнуть лишнее какую-либо скалу. Тем не менее Ласло, как и положено настоящему адвокату, бился до конца, использовав в разговоре все свои психологические приемы и уловки. В итоге за все время ужина он сумел выяснить только дату начала работы Хоакина в поместье. На съемках той самой третьей картины Хоакин присутствовал в качестве актера второго плана. Там он и познакомился со знаменитым актером. Хоакин был значительно моложе, но уже обладал некоторыми связями и знакомствами в мире кино.
– Нет, я просто представить себе не могу вас в качестве актера! – с искренним удивлением воскликнул Ласло. – Вы такой спокойный, сдержанный человек.
В ответ Хоакин в первый раз за все время рассмеялся, причем в полный голос. Он сверкнул красивыми и ровными белыми зубами, а его лицо вдруг приобрело совершенно иное выражение: на миг перед Ласло оказался любезнейший и очаровательный мужчина, судя по всему, готовый всегда и во всем уступать первому встречному в любом деле или споре. Впрочем, это наваждение пропало так же внезапно, как и возникло. Но у Ласло больше не было вопросов относительно актерских способностей обычно сухого и сурового мажордома из Сересас.
С того дня Ласло перестал недооценивать Хоакина. Он понял, что тот действительно сыграл немалую роль в становлении карьеры, да и в частной жизни знаменитого актера, и относился к нему с холодным, несколько отстраненным уважением. Второй раз они увиделись, когда Хоакин улаживал формальности, необходимые для помещения актера в одну из столичных частных клиник: его патрону предстояла сложная хирургическая операция на желудке. Во время довольно долгого творческого простоя старый комик просто сбежал от всего мира на виллу Сересас, где под неусыпным наблюдением мажордома пытался прийти в себя после неудачно закончившегося любовного приключения. Он находился тогда в состоянии самой настоящей депрессии, чем немало напугал самых близких ему людей.
Хоакин не оставлял хозяина ни на минуту. Он охранял и защищал его всеми доступными средствами; по крайней мере журналистам и случайным знакомым вход в поместье был заказан. Более того, окончательно войдя и образ ангела-хранителя, Хоакин впервые взял на себя смелость запретить появляться на вилле и Антонио – единственному сыну актера. Злые языки утверждали, что не то запертый, не то запершийся в своем поместье комик пьет целыми днями и развлекается тем, что заново проигрывает свои старые роли и бьет все зеркала, которые попадаются ему на глаза. Хоакин действительно на какое-то время убрал из дома все зеркала, оставив без столь необходимого атрибута даже ванные комнаты. Такой страх перед собственным отражением Ласло воспринимал как признак весьма серьезного психоза. Пожалуй, никогда еще его неуравновешенный клиент не находился в состоянии, столь опасном для психического здоровья.
Одним из наиболее тяжких последствий этого периода запоев и фобий стало внутреннее кровотечение, вызванное чрезмерным потреблением алкоголя, притом в основном на голодный желудок. Решающую роль сыграл выпитый неразбавленный спирт. Незадолго до этого Хоакин в порыве борьбы за здоровье хозяина приказал вынести из дома все спиртное, надеясь таким образом прервать многодневный запой старого комика. Но тот проявил сообразительность, которой мажордом от него никак не ожидал: он сумел пробраться к объемистому шкафу с медикаментами, который стоял в небольшой комнате в самом дальнем крыле дома. Это помещение, в свою очередь, являлось тамбуром перед бомбоубежищем, построенным в поместье по приказу актера в разгар холодной войны. Дверцу аптечного шкафа он разбил молотком, и в его распоряжении оказался флакон медицинского спирта. Пары глотков хватило, чтобы актеру потребовалась срочная операция, от которой в буквальном смысле слова зависело спасение его жизни. Хоакин проявил недюжинные организационные способности, когда обнаружил хозяина в луже крови, и в кратчайший срок сумел обеспечить прибытие в поместье медицинской бригады воздушным путем. Именно с того момента, весьма неприятного для всех родственников актера, между Антонио и мажордомом пробежала черная кошка. После того как актер оказался в больнице, эта вражда нисколько не утихла, а, напротив, разгорелась с новой силой. Виделись они достаточно редко, но даже этих нечастых встреч хватало, чтобы сделать друг другу нелицеприятные замечания, а то и откровенно поругаться. В общем, их напряженные отношения вскоре переросли во взаимную ненависть, скрываемую с большим трудом.
Ласло вел машину и копался в воспоминаниях. Антонио не лез к нему с разговорами, понимая, что адвокат напряженно работает, профессионально готовясь к предстоящей встрече. Шоссе было широкое, ровное и довольно прямое; унылый, однообразный пейзаж производил на обоих гнетущее впечатление. Ласло мысленно пытался найти хоть какую-то брешь в стене, выстроенной между Хоакином и окружающим миром. К сожалению, пока что все попытки вспомнить хоть какую-то слабость или уязвимое место мажордома были безрезультатны. Это подтверждали и воспоминания о последней встрече между дворецким и адвокатом, которая состоялась по случаю намечавшегося развода актера.
Актриса-англичанка в один прекрасный день просто исчезла из поместья. Первое время муж терпеливо ждал ее возвращения, но через полгода даже он сумел убедить себя в том, что уехала она навсегда. Эта странная женщина не взяла с собой ничего – ни драгоценностей, ни денег, ни каких-нибудь сувениров, ни даже собственного сына. Свое прошлое она оставила в Сересас с таким же безразличием, с каким мертвец оставляет и забывает все, что происходило с ним при жизни. Поначалу Ласло предполагал, что это своего рода тактический маневр, а стратегическая цель такого странного поведения англичанки – последующее выдвижение требований о разделе семейного имущества, на что, кстати, она имела полное право. На ее стороне были законы ее страны, да и в Мексике статус законной супруги сулил при разделе семейной собственности большие преимущества. К удивлению адвоката, все произошло совсем не так, как он предполагал. За все последующие годы англичанка не потребовала никакой компенсации и полностью удовлетворилась довольно скромным денежным содержанием, которое ежемесячно перечислялось ей со счетов актера. Не выдвинула она никаких требований и по поводу собственного сына. С ее стороны не поступило даже какого-нибудь предложения о том, чтобы он, например, ежегодно проводил с нею определенное время. На первых порах она ограничилась тем, что звонила Антонио каждую неделю, а затем, по мере того как мальчик взрослел, телефонные разговоры стали происходить дважды в месяц, а потом и того реже. На день рождения она непременно отправляла Антонио открытку, а также поздравляла его с Рождеством и Пасхой. Все остальное время она вела себя так, словно у нее не было никаких детей, а взрослеющий подросток, оставленный ею в Сересас, был всего лишь фрагментом лелеемой актером мечты о семейном счастье. Антонио так никогда и не простил мать за то, что она его бросила. Нанесенная ему в детстве психологическая травма навсегда отложилась в его подсознании и во многом определила его поведение, когда он уже вырос.
Ласло истолковал заявление актера о намерении развестись как последнюю попытку заставить супругу хоть как-то отреагировать на все его звонки и письма. Адвокатское бюро, в котором работал Ласло, подало международный иск об официальном расторжении брака вследствие долговременного раздельного проживания супругов, против ожидания юристов, англичанка никак не отреагировала на полученное уведомление об открытии дела. К тому времени она жила в Англии уже больше двух лет и за все это время ни разу не виделась с мужем. Собственно говоря, официальная процедура развода должна была всего лишь документально зафиксировать уже существующее положение дел. Для нее развод ничего не менял. Тем не менее актер настоял на том, чтобы Ласло сделал все возможное и добился присутствия супруги в суде во время рассмотрения дела. По всей видимости, он втайне надеялся, что ему удастся если не уговорить жену вернуться, то хотя бы получить от нее какое-то объяснение происшедшему. Задачу он поставил перед адвокатом весьма и весьма непростую. Судя по всему, англичанка не имела ни малейшего желания приезжать к уже бывшему мужу для какого бы то ни было выяснения отношений и исполнения формальностей. Чтобы разобраться в ситуации и понять, как можно заставить эту женщину пересечь океан, Ласло решил подробно выяснить, как складывались отношения между супругами. Для этого он попросил у актера разрешения поговорить с Хоакином. Мажордом ничем не выказал неудовольствия по поводу пусть и неформального, но все же допроса. Все произошло как всегда: актеру потребовалась от Хоакина какая-то услуга, и верный секретарь, слуга, дворецкий и телохранитель исполнил волю хозяина в точности и в полном объеме. В назначенный день он приехал в столицу и предстал перед адвокатом. Ласло прекрасно помнил тот разговор. Он сразу же отметил про себя, что Хоакин ничуть не изменился за то время, что они не виделись. Ощущение было такое, будто дворецкий заключил сделку с дьяволом и благодаря каким-то колдовским приемам научился сохранять если не молодость, то по крайней мере молодцеватость. Помогали ему в этом нелегком деле худощавое телосложение и хорошая крепкая фигура, пусть и не с самыми мощными, но рельефными мускулами.
В кабинете Ласло дворецкий появился в синей джинсовой куртке и кричаще-белых брюках. Чем-то он напоминал моряка-яхтсмена, сошедшего на берег в сомбреро, поля которого прикрывали от посторонних взглядов верхнюю часть его лица, включая и глаза.
– Сеньора всегда вела себя исключительно корректно. Это заявление мажордом сделал буквально с порога, только-только усевшись в глубокое кресло и выслушав первый вопрос собеседника.
– Она никогда не выходила из себя, не теряла душевного равновесия. Я ни разу не слышал от нее хотя бы слова на повышенных тонах. Она всегда говорила ровно и очень спокойно.
Ласло, несколько сбитый с толку таким заявлением, не сдержался и воскликнул:
– Она что, была растением, а не живой женщиной? Вы лучше скажите, были ли у сеньоры поводы на что-нибудь жаловаться.
Хоакин, которому, по всей видимости, было свойственно несколько иное чувство юмора, чем адвокату, с сомнением покачал головой:
– Не знаю, были ли у нее причины жаловаться, но жалоб с ее стороны не поступало. За это я ручаюсь.
Ласло, которого уже стало разбирать любопытство – чисто человеческое, а не служебное, – продолжал свои настырные расспросы:
– Если в ваших интересах помочь хозяину, то постарайтесь проявить больше готовности к общению. Расскажите мне, как они жили. Например, что они делали вместе, а что в поведении мужа не нравилось его супруге. Я просто не верю, что вы ни разу не были свидетелем каких-нибудь разногласий и споров или даже ссор между ними… А ребенок? – спросил Ласло, вспомнив о столь важном факторе в отношениях любой пары. – В конце концов, мать должна была беспокоиться о своем ребенке, заботиться о нем.
Хоакин спокойно выслушал эмоциональные слова Ласло и, прежде чем ответить на его вопросы, на некоторое время задумался. Адвокат приписал эту паузу ограниченным умственным способностям дворецкого или же не слишком развитой функции сознания, а именно памяти. Впрочем, Хоакину вновь удалось легко опровергнуть то мнение, которое могло первоначально сложиться у собеседника. Проявляя как чудеса памяти, так и недюжинные способности к анализу и обобщению, он стал в подробностях описывать совместную жизнь супругов:
– Мой хозяин познакомился с этой женщиной в Доме игры, – сказал он, взвешивая каждое слово.
Ласло понял это так, что актера и его избранницу объединила страсть к азартным играм. Но Хоакин, как всегда, сумел мгновенно опровергнуть поспешный вывод.
– Вы меня неправильно поняли, – сказал он. – Я сказал: не в игорном доме, а в Доме игры.
Венгру не пришелся по душе стиль изложения Хоакина, который все время изъяснялся какими-то загадками. Его адвокатская душа требовала большей ясности и определенности в терминах.
– Понимаете, это такое особенное место, куда приходят играть, но играть не в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Речь идет не о тех играх, какие всем нам известны. Это своего рода частный клуб, куда принимают далеко не каждого. Лично я так и не смог стать его членом, поскольку мне этого просто не позволили. И речь тут идет не о финансовой состоятельности претендента: там ценятся другие добродетели, а престиж человека оценивается совсем не так, как в обычном светском обществе.
Этот рассказ совсем сбил Ласло с толку. Раньше он никогда не слышал о подобной ассоциации и теперь чувствовал себя не в своей тарелке: в положении невежды, которому мажордом терпеливо объяснял то, что ему самому было давно известно.
– Продолжайте, прошу вас, постарайтесь вспомнить все, что получится. Время у нас есть.
Хоакин спокойно и неторопливо продолжал:
– Сеньора вступила в клуб раньше, чем сеньор. Мне известно, что он, уже будучи приглашенным туда, долго откладывал дату вступления в силу своей скромности и, я бы даже сказал, робости. Мне кажется, он так и не решился бы на этот шаг, если бы не уговоры партнеров по продюсерской компании. Они убедили его, что это просто необходимо, потому что там он сможет познакомиться со многими полезными людьми и научиться чему-либо важному для своей карьеры. Но мой хозяин все еще сомневался. Вы сами знаете, что человек он не самый отважный, и он опасался, что это окажется неким тайным обществом со строгим уставом и правилами. В конце концов он все же победил свои страхи и стал готовиться к церемонии приема в члены клуба. Для этого нужно было одеться в соответствии с определенными предписаниями, сообщенными заранее; я сам помог ему выбрать подходящий костюм.
Ласло не верил своим ушам: сидевший перед ним человек – в общем-то, всего лишь слуга, актер второго или даже третьего плана, которого судьба вытащила из какой-то пригородной помойки и швырнула на съемочную площадку, – брал на себя смелость высказывать свои суждения по поводу того, как должен одеться его хозяин в такой торжественный и, судя по всему, трепетный для него момент. Как всегда, Хоакин озадачил венгра и успел разрушить очередной стереотип раньше, чем тот даже задумался о его ложности.
– Я выбрал для него кожаные туфли синего цвета – на редкость дорогие, можете поверить, но я-то знаю, что именно обувь такого качества сразу создает должное отношение к человеку и если подобрать к этим туфлям соответствующий костюм, то успех гарантирован. Рубашку я подобрал из тонкого белого шелка, не слишком блестящую, но с легкими внутренними переливами, эффектно подчеркивающими игру теней на фигуре хозяина.
Ласло, уже теряя терпение, перебил Хоакина, углубившегося в бесконечные детали:
– Прошу вас, Хоакин, поближе к делу. Вы говорите об актере, как о боге, спустившемся на землю. Нельзя ли перевести его в разряд простых смертных и описать некоторые стороны его жизни чуть более естественно?
Мажордом, явно разгневанный этим ироническим комментарием, не задумываясь отчеканил:
– Если вы еще хоть раз перебьете меня, я больше вообще не скажу ни слова.
Испуганный перспективой остаться в неведении относительно некоего тайного общества и его роли в жизни актера, венгр поспешил извиниться. Хоакин с выражением удовлетворения на лице продолжал свое повествование:
– Дом игры не привязан к какому-либо определенному месту, у него нет адреса, он перемещается из города в город, из страны в страну. Никто и никогда не знает, на каком континенте или на каком острове произойдет следующая встреча. Уже одно это обстоятельство делает такое сообщество в некотором роде уникальным. Участников встречи извещают за несколько дней до нее, и, хотя присутствие формально не является обязательным, три пропуска подряд – повод для исключения, причем вне зависимости от причин отсутствия исключение является окончательным и бесповоротным. Повторно вступить в клуб невозможно. Речь не идет о наказании или порицании отсутствующего, просто отношения между обществом и его бывшим членом считаются законченными. В этот клуб могут вступать люди самых разных профессий: в нем состоят врачи, политики, архитекторы и, как вы, наверное, уже догадались, много актеров. Встречи продолжаются примерно по шесть часов, и на протяжении этого времени есть две запретные темы для разговора: религия и политика. Разумеется, частная жизнь также не подлежит обсуждению. Основной темой и основным занятием на встречах является исключительно игра.
Ласло слушал внимательно. Актер никогда не рассказывал ему ничего подобного, и теперь, спустя многие годы, адвокату стало понятно, откуда взялись все те люди, которые после его смерти вынырнули словно из небытия и стали предъявлять какие-то права на его фильмы и его состояние.
– Сеньора раньше была актрисой, но к моменту их знакомства уже перестала сниматься. Она не была молода, но сумела сохранить какую-то особую красоту и не менее своеобразное чувство юмора, которое в первую очередь и поразило моего хозяина. Когда он вернулся с той первой встречи с членами клуба, я его, можно сказать, не узнал. Это был другой человек: он подолгу о чем-то задумывался, начал интересоваться тем, до чего раньше ему не было никакого дела… и даже, – вспомнил вдруг Хоакин, улыбаясь не то умиленно, не то печально, – попросил меня посадить в саду новые цветы и деревья, причем выбрал какие-то редчайшие сорта и виды, которые обошлись ему в целое состояние. Я сразу же подумал, что он влюбился, и это предположение меня напугало.
Хоакин, углубившийся в свои воспоминания, продолжал говорить увлеченно, как никогда раньше. Легкость, с которой лились его слова, убежденность в своей правоте делали его рассказ не просто правдоподобным, а заслуживающим полного доверия. Из слов мажордома Ласло узнал, что начиная с того времени актер стал часто летать в Англию – в страну, где жила женщина, которой было суждено стать его единственной законной супругой.
Из очередной такой поездки он приехал уже не один. Мексиканские друзья актера не раз высказывали неудовольствие его браком – неожиданным и, главное, заключенным втайне от всех. Впрочем, перед лицом реальности они были вынуждены смириться с новым статусом известнейшего в стране артиста. Примерно в то же время продюсерская фирма затеяла судебное дело с целью получить полный и всеобъемлющий контроль над экранным и сценическим образом актера. По замыслу продюсеров, они приобретали исключительные права на этот бренд. Вот тогда Ласло и предложили выступить на стороне мексиканской звезды и попытаться отстоять его право на собственную личность и на использование своих актерских навыков, в частности, для получения прибыли. В конце концов дело удалось выиграть, и Ласло стал личным адвокатом актера. Рассказ Хоакина полностью соответствовал его собственным воспоминаниям. Сеньора действительно приехала в Сересас в то самое время, когда адвокат готовился подписать долговременный контракт с актером.
Они ехали уже больше двух часов. Мимо проносились то небольшие поселки, состоящие из полуразвалившихся домов, то унылые, почти пустынные пейзажи. Небо висело над ними так низко, что, казалось, придавливало своей массой жителей тесно застроенной высотными домами столицы, не привыкших к столь длительному перемещению в пространстве. Антонио, погруженный в свои размышления, за все время дороги не проронил ни слова. Ласло иногда отвлекался от собственных мыслей и искоса посматривал на своего пассажира.
Антонио выглядел бодрым и даже веселым. Он с интересом смотрел в окно машины и вроде бы ничуть не беспокоился по поводу предстоящей встречи с Хоакином. Казалось, он совсем забыл о клятве на крови, которую дал, когда в последний раз приезжал на виллу. Не было в его глазах ни страха, ни даже чего-либо похожего на грусть, вполне оправданную перед посещением любимого дома отца.
– Скоро приедем, – нарушил молчание Ласло, – осталось проехать буквально две деревни. Ну что, ты не передумал?
Антонио, уставший от навязчивой заботы адвоката, даже не удостоил его ответом. Он лишь отрицательно покачал головой, из чего венгр сделал вывод, что по крайней мере ехали они в такую даль не зря и ему не придется разворачивать машину на подъезде к поместью.
Рождение сына стало важнейшим событием в жизни актера – Ласло прекрасно это помнил. Антонио родился через несколько месяцев после приезда англичанки в Сересас. Он был недоношенный, весил очень мало и в первую же неделю жизни подхватил желтуху, которая надолго окрасила все его тельце в морковный цвет. Узнав, что у него родился наследник, актер был вне себя от счастья. На этот раз он не скрывал своих чувств ни от кого.
За очередным поворотом Ласло притормозил, и машина свернула с шоссе на второстепенную дорогу. Уже стемнело, но поместье можно было найти, даже не зная пути: над виллой поднималась заметная издалека шапка света, обозначавшая местонахождение величественного здания, которое было возведено по распоряжению актера в нескольких километрах от поселка.
Сама вилла чем-то напоминала кладбище. Белоснежные фасады и сверкающий мрамор в саду, окруженном шеренгами кипарисов, создавали ощущение умиротворенности и покоя – сродни тому, что люди испытывают на ухоженном кладбище среди выложенных ровными рядами могильных плит. Весь этот ансамбль совершенно не вписывался ни в окружающий пейзаж, ни в сельскую атмосферу, характерную для данной местности. Поместье со дня своего основания было маленьким мирком, надежно огражденным от окружающей его полупустынной золотистой равнины. Еще одна экстравагантная выходка старого актера, подумал Ласло, в котором время от времени поднимал голос европеец, не склонный к пышности и готовый восстать против любых безвкусных проявлений кричащей роскоши. «Лично я никогда не построил бы себе такой мавзолей», – мысленно повторял он, прекрасно осознавая, что в нем говорит адвокат, привыкший смешивать желаемое и обязательное к исполнению.
Они неторопливо ехали по дорожке, уходившей вглубь территории поместья. Их путь освещали высокие фонари, выстроившиеся двумя шеренгами вплоть до самых дверей виллы. Примерно на половине пути машина остановилась перед воротами с переговорным устройством – глазами и ушами неумолимого мажордома. Ласло вдруг осознал, что они с Антонио находятся в полной власти Хоакина; если бы он не захотел открыть им, день можно было считать потраченным напрасно. Чтобы не беспокоить Антонио раньше времени, адвокат не стал говорить о своих опасениях. Остановившись у ворот, он первым вышел из машины, готовый выслушать через переговорное устройство отказ принять их в поместье. К его удивлению, железные ворота почти мгновенно распахнулись, и больше ничто не препятствовало их проезду в сад, окружавший виллу. Антонио довольно улыбался, уже предвкушая свою победу. Они проехали по аллее из высоких деревьев, казавшихся при искусственном освещении какими-то чудовищами, порожденными генной инженерией. Далеко не все окна в доме были закрыты плотными шторами, и свет, падавший на парадный подъезд сквозь стекла, смешивался с декоративной наружной подсветкой. Мрамор сверкал, фонтаны журчали – в общем, все очень походило на торжественную встречу долгожданных гостей. Ласло припарковал машину у фонтана по левую сторону и вместе с клиентом направился к главному входу в здание.
За цепочку звонка, которая, как поговаривали, была сделана из чистого золота, дергать не пришлось. Дверь открылась сама. Ласло в последний раз проговорил про себя основные пункты предварительно разработанного им сценария, который вполне правдоподобно объяснял их с Антонио появление в поместье и при некотором везении, быть может, свел бы к минимуму недовольство Хоакина их визитом. Впрочем, все заранее припасенные доводы и аргументы отпали сами собой, когда прибывшие увидели, что на пороге виллы их ждет не мажордом, а какая-то женщина.
– А ты что здесь делаешь? – изумленно спросил Антонио свою мать.
– Я приехала за тобой, – ответила она, и по ее голосу Ласло понял, что у него появился еще один повод для беспокойства.
– За мной? Интересно, что же такое случилось, что ты соизволила вернуться сюда, когда отца уже нет в живых? Ладно, мама, я тебя вот о чем попрошу: не лезь не в свое дело. Я заехал сюда только для того, чтобы забрать то, что мне нужно.
– Антонио, – настойчиво сказала она, взяв его за руку, – твой друг Марк Харпер умер. Он покончил с собой, бросившись в море в заливе под Слэптоном.
Ласло смотрел на Антонио и видел его немигающие глаза, видел, как у него задрожали ноги и как он, мгновенно ссутулившись и забыв о горделивой осанке, чуть было не упал. Мать проводила его в так называемую малую гостиную, где хозяева обычно принимали в неофициальной обстановке самых близких друзей. Здесь на столе уже стояли заботливо приготовленные чьей-то рукой два стакана со льдом и бутылка виски. Женщина сама разлила напиток по стаканам и молча подала их сыну и адвокату. Ласло заметил, что Хоакина нигде не было видно, и порадовался отсутствию надменного и весьма неприветливого мажордома. После недолгих сомнений и размышлений он решил, что бывают такие минуты, когда лучше пить, а не говорить, и буквально одним глотком осушил поданный ему стакан.
Визит Федерико в дом Ады Маргарет Слиммернау оказался излишне насыщен какими-то совершенно бесполезными случайными встречами. Сначала Пол провез его по Лондону – городу вульгарному, приземленному, но при этом богатому и роскошному, как и подобает любой европейской столице. Итальянцу Лондон никогда не нравился: он просто не видел тут тех положительных качеств, которые обычно отмечают иностранцы. Ему достаточно было почувствовать напряженность уличного движения или разок-другой увидеть длинные очереди иммигрантов, ожидающих приема в каком-нибудь учреждении, отвечающем за устройство на работу и размещение граждан бывшей империи, желающих переселиться на постоянное жительство в столицу некогда столь ненавистной им метрополии. Некоторые из этих очередников были одеты в соответствии с канонами и этикетом, принятыми в их странах, отчего казались фотоиллюстрациями из какого-нибудь альбома, посвященного этнографическим курьезам. Город с некоторых пор покоился на нескольких абсолютно одинаковых столпах заокеанского потребительства; эта глобальная поступь общества потребления в сочетании с вавилонским смешением языков и цветов кожи практически погребла под собой последние остатки модели поведения, свойственной англичанам с викторианских времен. От легендарной британской чопорности и вежливости в наши дни осталась лишь жалкая тень, проявляющаяся в первую очередь в витиеватых текстах официальных актов и законов. В общем, от той старой доброй Англии в сегодняшнем Лондоне сохранился лишь легкий ностальгический аромат – как запах табака в комнате, где хозяин время от времени приоткрывает табакерку.
Нет, кое-что из прекрасных творений прошлого осталось на своих местах, например Трафальгарская площадь со знаменитой колонной Нельсона. Тем не менее старый город уже практически сдался под напором современной архитектуры в ее самых чудовищных новомодных проявлениях. Новые здания, а порой целые кварталы и даже районы напоминали монстров, прилегших отдохнуть на руинах разрушенной цивилизации.
Профессор Канали благодарил судьбу за то, что Италия никогда не была империей; повернись ее история в этом направлении – и сегодня Флоренция, с ее относительной помпезностью и роскошью, считалась бы отсталым в архитектурном отношении городом, который власти немедленно потребовали бы привести в надлежащий вид, воздвигнув в центральных кварталах каких-нибудь стеклобетонных колоссов, напоминающих эрегированные фаллосы. К счастью, благодаря не столь блестящей и славной истории Италии такой кошмар мог воплотиться в ней лишь в минимальных количествах в Риме времен короля Виктора– Эммануила.
Лондон же в последние десятилетия утратил даже свои знаменитые туманы, создававшие ореол загадочности и романтизма. Именно эта промозглая мгла позволила Диккенсу писать о тысяче форм боли. Несомненно, одной из этой тысячи была та боль, которую испытывал Федерико с того мгновения, как он узнал о смерти Марка. Его сознание словно погрузилось в туман, не позволяющий человеку видеть реальность в ее привычном обличье. Нет, сегодняшний Лондон не мог хранить в своем чреве никакой тайны, хоть как-то связанной с деревянным мальчиком. Пиноккио не смог бы ни летать с простодушием Питера Пэна, ни двигаться в том ритме, в каком дергают за ниточки городских марионеток, которые и погружают его в океан хаоса. Иные механизмы движут персонажами этого полуразвалившегося театра XIX века. Величие короны, имперские сады и шекспировская драматургия – все это не имеет ничего общего с тривиальной драмой человечка, созданного Коллоди. Ущипни его – и он даже не вздрогнет, уколи – и из него не капнет кровь, спроси, как его зовут, – и он едва ли сможет даже выстроить в ряд несколько слогов, составляющих слово.
Пол повез Федерико в Ковент-Гарден. Итальянец по-прежнему был настроен немедленно поговорить со вдовой Марка, а затем сразу же поехать в аэропорт и сесть на ближайший самолет до Флоренции. В глубине души он надеялся, что ему удастся сделать все достаточно быстро и появиться в Италии до того, как на его мексиканского приятеля обрушатся серьезные неприятности. Он чувствовал себя в полной мере ответственным за судьбу своего, теперь уже единственного живого, друга. Домой Полу звонила не кто иная, как Андреа де Лукка, приставленная к Федерико «садовница». Это она передала сообщение о приезде Антонио. При одной мысли об этом у Федерико замирало сердце. Ощущение было такое, что он сам загнал себя в угол и теперь не знал, как выбраться. Может быть, следовало бросить все и немедленно мчаться в аэропорт, но – вот он, дом Ады, буквально в двух шагах. Федерико понял, что не может позволить себе уехать, не узнав, какую версию смерти Марка предложит ему Ада.
Под ногами было скользко. Нескончаемый дождь покрыл садовые дорожки слоем жидкой грязи. Ох уж эти сады! Что за дурацкий обычай строить дома с садиками в безнадежной попытке изобразить посреди города уединенное крестьянское жилище. А эти покатые крыши, а окна, которые ничего не скрывают, – большие прозрачные стекла и лишь решетчатые ставни, чтобы прикрывать помещение от лишнего света. Вся частная собственность выстроена здесь горизонтально и открыта взгляду любого постороннего человека, но закрыта для возвышенных, утонченных душ. Под ногами – неизменная перина стриженого газона, и лишь освещение не может не радовать – неяркое, чуть приглушенное, то самое, от которого глаза практически не устают. Впрочем, к этому моменту Федерико настолько устал, что чувствовал себя слепым и к тому же страшно раздраженным путником, которого угораздило оказаться в городе, не сумевшем защитить жизнь его друга. Варварский, не освященный римской цивилизацией город, жители которого до сих пор поклоняются божествам Стоунхенджа, солнечным часам и совершенно особым мерам всего, что только возможно измерить, включая и необъяснимый с рациональной точки зрения фунт стерлингов. Город англиканской традиции, эгоистичный, угловатый, подлинное гнездо, кишащее сатрапами. Вот в этот чудовищный город, целый мир без солнца и света, в этот незаконченный роман о мертвецах, привидениях и воспоминаниях и ворвался Федерико, втайне сгоравший от желания придушить Аду собственными руками. Впрочем, до поры до времени ему приходилось довольствоваться проклятиями, мысленно адресованными не столько ей, сколько самому городу. Он, цивилизованный преподаватель лингвистики, напоминал он себе, потерял своего английского друга, утонувшего на слэптонском пляже, среди призраков тех солдат, которым так и не суждено было высадиться в Нормандии.
Когда Ада открыла дверь, по ее лицу было видно, как ей тяжело смириться со своей утратой. Бледная, непричесанная, она не сказала ни слова и лишь жестом пригласила их войти. Пол и Федерико оказались в гостиной – той самой, которая еще совсем недавно так нравилась Марку. Вакх кисти Караваджо по-прежнему восседал над незажженным камином. Погасшие непрогоревшие поленья словно впитывали в себя весь свет, которому удавалось добраться до того угла, где хозяйка усадила гостей. Ни душевное состояние Ады, ни ее внешний вид не заставили Федерико усомниться в необходимости задуманного разговора. Сама она ни о чем не спрашивала и, кажется, даже не удивилась, увидев их на пороге своего дома. Более того, было ощущение, что она ждала их. Федерико напомнил себе, что он человек воспитанный. Поэтому он заставил себя произнести все положенные формальные слова соболезнования и даже изобразил чувство боли, объединяющей людей после утраты близкого человека. Затем он перешел к интересовавшим его вопросам. Пол не спускал с него глаз. Итальянец начал с того, насколько странной показалась ему внезапная смерть Марка. Ада согласно кивала головой, но молчала, не возражая и вообще никак не комментируя его слова. Примерно через четверть часа Федерико вдруг понял, что все время говорил фактически он один, а между тем и эта ночная гонка, и неожиданный визит были устроены для того, чтобы он смог получить важные для него сведения. Поняв, что отклонился от цели и к тому же ограничен во времени, он оборвал себя на полуслове и без обиняков спросил:
– Что же случилось? Почему ты позволила ему уйти, хотя знала, что он еще не совсем здоров?
Ада разрыдалась, словно и признавала свою ошибку, и в то же время отказывалась в нее верить. Пол тотчас же подошел к ней и стал успокаивать. Федерико продолжал сидеть неподвижно, в ожидании ответа. Наконец она вытерла слезы ладонями и отбросила назад растрепавшиеся рыжие волосы.
– Я ничего не смогла поделать. Марк чувствовал себя хорошо, можно сказать, он уже совсем поправился. Виновата во всем эта кукла, которую прислали из Мексики. Марионетка с механизмом, позволявшим ей двигать руками и ногами. Мы ее сразу же сожгли в камине, и, по-моему, дым от нее просто одурманил нас обоих.
Вдова подробно описала последние минуты, проведенные рядом с мужем. Беспокойство Федерико от ее рассказа лишь усилилось. До сих пор он ничего не знал ни о какой посылке из Мексики, а выслушав Аду, понял, что очень сомневается в правильности ее догадок насчет отправителя чудовищного подарка. И в то же время тень мексиканского актера будто витала над всей этой историей. В общем, под подозрение итальянца попали двое людей, вроде бы незнакомых, но в чем-то схожих: мексиканская кинозвезда и Коломбина.
Но подумать над тем, кто послал отравленную куклу, можно было и потом, а сейчас Федерико хотел выяснить у Ады, как она связана с добрыми братьями.
– Я хочу, чтобы ты мне кое-что объяснила. Я, например, не знаю, что ты делала на собрании братства в день, когда я приносил присягу. У меня иногда возникает ощущение, что все твои поступки оказываются слишком хорошо просчитаны.
Ада прекрасно поняла обвинения Федерико, но внешне отреагировала очень сдержанно, не позволив втянуть себя в обмен упреками. Выражение ее лица немного изменилось, а на бледных как мел щеках даже появился легкий румянец.
– Я думаю, Пол рассказал тебе, как мы познакомились. Так что эти детали я опущу. Так вот, когда наши отношения с Марком перешли из дружеских в более близкие, он поделился со мной своей навязчивой идеей. Я обещала оказать ему всю возможную помощь, и с тех пор наши отношения развивались под знаком этого проклятого черепа. Мы жили им, думали только о нем, все свободное время тратили на то, чтобы найти какие-то свидетельства или документы, которые пролили бы свет на мучившую нас загадку. Но скоро я стала замечать, что это увлечение плохо сказывается на здоровье Марка. Он ведь был не такой, как все; такую восприимчивость и впечатлительность редко у кого встретишь.
У нее снова выступили слезы, лишь подчеркнув мелькавшие в зелени ее глаз страх и тоску. Из слов Ады Федерико сделал вывод, что она практически с самого начала участвовала в исследованиях, которые проводил Марк.
– Но ты мне так и не ответила, как тебя занесло на собрание братства и почему ты сразу же подошла ко мне, хотя мы не были знакомы.
Ада закрыла глаза, на ее губах мелькнула грустная улыбка.
– Да, действительно, ты ведь совсем ничего обо мне не знаешь. Но поверь, мое молчание и моя скрытность были основаны только на желании помочь Марку и защитить тебя. Я так хотела освободить своего мужа, спасти его, не – увы! – мне это не удалось. О чем теперь говорить! Прошлого не вернешь и в нем ничего не изменишь.
Как ни странно, Федерико немного успокоился. Судя по всему, он не ошибся, и вдова Марка действительно могла рассказать ему много важного, что помогло бы ему наконец сорвать маски со всех персонажей этой непонятной пьесы. Он поднялся и пересел ближе к Аде. Он хотел слышать каждое ее слово, каждый вздох, видеть каждый жест, а главное – выражение ее лица.
– С тех пор как вы купили этот череп, – продолжала она, – вы все очень изменились, хотя сами того не заметили. Перемена произошла не в один день, но те, кто наблюдал за вами со стороны, не могли не обратить на нее внимания. Встреча с новым миром, о существовании которого вы раньше даже не подозревали, подтолкнула вас к усердным поискам и к попытке играть по правилам, навязанным этим миром. И вскоре вы, в силу собственный неопытности, превратились в своих поисках из охотников в жертв.
– Ада, прошу прощения, – перебил Пол, – но ты так и не ответила на вопрос. Что ты делала на собрании братства карбонариев?
Глаза профессора Канали с надеждой впились в ее лицо, весь он обратился в зрение и слух: вот-вот должен был прозвучать ответ на самый главный для него вопрос. В конце концов, все остальные детали и подробности ее рассказа можно было интерпретировать по-разному – в зависимости от того, что она скажет о своем знакомстве с коломбиной и о том, что объединяет этих двух женщин.
– Никакого братства не существует, – четко и категорично проговорила Ада Маргарет Слиммернау, – это всего лишь пьеса, затянувшийся спектакль, в котором все мы играем определенные роли. Твоя клятва – только эпизод в большом театральном представлении, которое продолжается вот уже несколько веков.
Федерико отказывался верить своим ушам. Внутренне он был убежден, что женщина пытается скрыть от него правду и навести на ложный след. Но он не сдавался и продолжал настойчиво расспрашивать:
– Даже если это так, мой вопрос остается в силе. Ты была там. Ответь же наконец: что ты там делала?
– Играла, – не задумываясь ответила Ада, – исполняла свою роль, как я делаю всякий раз, когда меня об этом просят. Мы, актеры, – вечные рабы своего ремесла, и нам не дано свободы выбора собственной жизни и собственных поступков. Меня пригласили на собрание, чтобы я познакомилась с тобой. Было решено, что пора нам всем постепенно познакомиться друг с другом. Когда я ехала туда, я понятия не имела, с кем именно мне предстоит встретиться. Но, увидев тебя, я тотчас же вспомнила все, что рассказывал о тебе Марк. Так что узнать тебя было нетрудно. Ну а потом я поняла, какая опасность тебе грозит: ты ведь попал в жадные лапы «садовников», как молоденький росток, к которому со всех сторон тянутся морды голодной домашней скотины.
Ада еще долго говорила об опасностях, навязчивых идеях, алчности и прочих отвлеченных вещах. Федерико не слишком хорошо понимал ее, а главное – не мог побороть в себе недоверия к ее словам. Она не сказала, была ли знакома с Коломбиной и общались ли обе женщины после того, как у них завязались интимные отношения с двумя друзьями. Столь же загадочной оставалась для него и роль старого Винченцо, который, судя по всему, являлся в актерском братстве довольно важной фигурой. Он вполне мог быть одним из ассистентов режиссеров – невидимых и неведомых, по крайней мере до поры до времени. С его подачи актеры могли разыгрывать одну за другой забытые старинные пьесы, ставившиеся когда-то на сценах разных городов и стран. Вдруг его внимание сосредоточилось на одной детали, которая до сих пор не казалась ему важной.
– Но ведь ты… ты не профессиональная актриса, – сказал он уверенным тоном.
– Нет, я актриса, – возразила она столь же уверенно, – актриса от рождения. Я никогда не работала в театре, не играла в обычных спектаклях, не демонстрировала свой талант на публике. Но можешь не сомневаться – я самая настоящая актриса.
У Федерико вспотели ладони; он чувствовал, что усталость и растерянность свели на нет его способность отличать правду от лжи. Ада казалась ему каким-то чудовищем, от которого Марк должен был бы бежать без оглядки, если бы понял, что происходит. Сейчас нетрудно было представить себе эту женщину исполняющей любую предложенную ей роль – от любящей жены до безжалостной ведьмы. Каждый из этих образов был бы абсолютно реальным и убедительным. Как ведьма, так и жена вполне могли бы привести его друга на грань безумия. Оставшееся время разговора было потрачено практически впустую. Федерико не удалось вытянуть из Ады больше никакой информации – ничего, что помогло бы ему разобраться в хитросплетениях человеческих страстей и отношений, которые так или иначе были связаны с носатым черепом. Эта проклятая костяная игрушка притягивала к себе все эксцентричные натуры, они жаждали обладать ею так, словно кусок кости с необычным отростком был сокровищем необычайной ценности. И все же какая связь могла существовать между этой жаждой обладания и заговором против него и его друзей, судя по всему, имевшим целью погубить их всех?
Коломбина, его милая «садовница», также затащила его в свои сети и очаровала настолько, что он перестал замечать, что происходит. Оказывается, никому были не нужны ни его клятвы, ни обеты. Все было затеяно лишь для того, чтобы подчинить его разум и чувства чьей-то чужой воле. Вероятно, и любовь Коломбины вспыхнула не сама по себе, а была зажжена специально – с целью вызнать у возлюбленного самый главный его секрет, играть его рассудком и эмоциями. Марк погиб именно из-за этого, он не выдержал напряжения, которое испытывал, как актер-дебютант, пытающийся на равных участвовать в спектакле, который разыгрывают опытные мастера. Они создают один придуманный мир за другим, эти миры вспыхивают как звезды и бесследно исчезают в непроглядной темноте Вселенной. У этого спектакля нет ни конца, ни начала. Мертвые и живые вместе произносят слова, написанные рукой неведомого драматурга. Вот и наследница Гая Фокса научилась у своего далекого предка изображать боль, не чувствуя ее. Что же за чудовища встретились на пути бедного Пиноккио? В какую борьбу вступил он, исполняя свою роль деревянной игрушки, и какой ценой ему удалось добиться, чтобы у него не отобрали роль человека? Смерть Пиноккио на тонущем корабле, будь то у берегов Гаити, в зеркале или в мраморных мозаиках во флорентийском дворце, являлась составной частью крушения какого-то огромного пустого здания. Сатис-хаус, о котором постоянно вспоминал Марк, возможно, и был фрагментом той сцены, где действовали все привидения и призраки театра, где они собирались, чтобы разыграть новый, еще не исполнявшийся эпизод бесконечной пьесы – сцену воскрешения деревянной куклы.
В самолете, по пути во Флоренцию, Федерико наконец смог немного поспать. Усталость и печаль настолько глубоко проникли в его тело, что он фактически перестал воспринимать окружающую действительность. Думать о чем бы то ни было, задавать себе все новые вопросы у него тоже не было сил. Ада призналась ему в том, кто она такая, но это признание ни в коей мере не могло помочь решить навалившиеся на него проблемы. Через несколько часов он вернется домой, где его ждет Антонио. Кто знает, в каком он состоянии, что с ним происходит. Коломбине доверять не приходится: Федерико прекрасно понимал, что появление во Флоренции его друга лишь возбудит еще сильнее алчность тех, кто больше всего на свете жаждет обладать носатым черепом. В какой-то момент он не на шутку испугался, предположив, что мексиканец привез реликвию с собой, что голова Пиноккио, совершая трансатлантический перелет в кожаном чемодане, вдруг ожила там, на высоте, в результате низкого давления. Огромным усилием воли он заставил себя забыть об этом кошмаре, после чего заснул как убитый, прислонившись к иллюминатору, за которым сияло столь близкое солнце. Смерть M арка причинила такую огромную боль и страдание его оставшимся в живых друзьям, что, узнав о случившемся, они словно зачеркнули у себя в памяти часть молодости, часть уже прожитой жизни. Федерико догадывался, как тяжело было Марку в последние часы жизни, но не отдавал себе отчета, в каком состоянии находится он сам, как трудно далась ему эта двухдневная поездка. Двое суток он почти не ел и не спал. Ему казалось: он покрыт слоем пыли, грязи и пота. В полусне-полубреду он начал понимать, что заболевает, – сначала его охватил жар, а потом начала бить лихорадка. Губы у него задрожали, дыхание стало прерывистым и учащенным.
Выйдя из самолета, он едва не упал на трапе, потому что с трудом держался на ногах. Машинально руководствуясь указаниями светящихся стрелок, он сумел пройти в здание терминала. Багажа у него не было, и он сразу же вышел на улицу. Там, буквально у самых дверей, нежная и заботливая, как самая близкая родственница, его ждала Андреа де Лукка. Именно ее приветственные взмахи руками Федерико увидел, едва выйдя за порог аэровокзала. Он не стал сопротивляться и, положившись на милость судьбы, подошел к своей Коломбине. Она чмокнула его в щеку и, взяв за руку, повела к машине.
– Да у тебя жар. Тебе обязательно нужно сходить к врачу, нет, лучше вызовем врача на дом. Тебе нужно выспаться. Отец уже ждет нас и готовит ужин.
Профессор Канали поблагодарил ее и не стал задавать вопросов. Лишь уже на подъезде к городу он умоляющим тоном спросил Коломбину:
– А где Антонио? Я хочу повидаться с ним. Он прилетел с другого конца света, и нужно сообщить ему, что я здесь.
Андреа ответила совершенно непринужденным тоном, как будто ее вовсе не пугала перспектива встречи двух друзей:
– С Антонио все в порядке, ты за него не беспокойся. Он остановился в отеле в центре города. Он в курсе, что ты сегодня приезжаешь, но прекрасно понимает, как тяжело далась тебе эта поездка, и тоже считает, что тебе нужно сначала отдохнуть. Увидитесь завтра.
С точки зрения Федерико, все нужно было сделать наоборот: сначала встретиться с Антонио, а уж потом отдыхать, но он понимал, что сейчас бесполезно сопротивляться планам старого актера и его дочери. Все же он нашел в себе силы спросить:
– Ты знакома с женой Марка? Она тоже актриса. В тот день, когда я присягал на верность ордену, она была в большом зале вместе с нами.
– Правда? – спросила Андреа, зловеще улыбаясь. – Вполне возможно, что мы знакомы. В нашей профессии все знают друг друга.
Федерико больше ни о чем не спрашивал, понимая, что Коломбина будет отвечать невпопад, как ей вздумается или как ляжет карта. Его всегда покоряла эта способность жить, повинуясь лишь порывам собственного настроения. Неожиданно он осознал, что больше всего на свете хочет сейчас обнять ее, сделать своим ее тело – тело, скрывающее какую-то неведомую ему реальность. Как знать, может быть, на самом деле она мертва и ее теплая ласковая плоть, так хорошо угадываемая под одеждой, – это всего лишь еще одна ловушка на его пути.
Старый Винченцо распахнул дверь дома; на нем был элегантный домашний халат. Седые волосы аккуратно уложены; он явно только что принял ванну и теперь распространял вокруг себя тонкий аромат какого-то незнакомого одеколона. Он хлопнул сухими ладонями и громко произнес:
– Добро пожаловать, мой друг! Ты помнишь день, когда впервые переступил порог этого дома? Ты был уверен в себе и рассчитывал найти здесь старого отставного вояку, немного пьяного, немного хвастливого. И как же мы все с тех пор изменились! Столько событий – и все из-за какой-то деревяшки…
Эта риторика синьора де Лукки уже не могла ни заинтересовать, ни обеспокоить Федерико. Он с трудом стоял на ногах. Андреа отмахнулась от отца:
– Не приставай к человеку. Не видишь, как он устал? Пусть сначала поужинает и поспит, а завтра видно будет.
Винченцо церемонно поклонился. Пока они шли по коридору в столовую, он продолжал говорить:
– Да, дочка, ты права. Я смотрю, у него сильный жар. Пусть умоется перед ужином. Я сегодня составил такое меню, от которого воскреснет даже покойник. – С этими словами он обернулся и сделал театральный поклон, который должен был дать понять, что он раскаивается за столь неуместную шутку. – Прошу прощения, как-то само сорвалось! Я не хотел тебя обидеть. Ты только что похоронил друга, а какой-то старый дурак толкует тебе о воскрешении человеческой плоти.
Андреа, похоже, была недовольна шутками отца. Она бросила на него такой холодный и злобный взгляд, что, казалось, он должен был провалиться на месте, поняв, какое отвращение вызывает у собственной дочери.
– Арлекин, ты что-то разболтался. У Федерико нет никакого желания слушать твою галиматью. Быстро принеси еду и оставь нас в покое!
Отвешивая поклоны, будто перед ним была аплодирующая публика, старый де Лукка наконец вышел из комнаты. Федерико с трудом дошел до кресла и буквально рухнул в него. Он был настолько измотан, что закрыл глаза. Коломбина вышла, и он остался один. Его трясла лихорадка, а в голове шумело так, будто в ней несся целый табун лошадей. Сил у него не было ни на что – даже на то, чтобы просто встать и уйти. Вспомнив об Антонио, он даже засомневался, суждено ли им когда-нибудь увидеться. Ему вдруг показалось, что его опять обманули и мексиканец вовсе не приезжал во Флоренцию. Пытаясь воззвать к остаткам логики, он рассудил, что, будь Антонио во Флоренции, он скорее всего приехал бы вместе с Андреа в аэропорт, чтобы увидеться со старым другом незамедлительно. Впрочем, из всего, что происходило с Федерико в последнее время, ничто нельзя было назвать нормальным и логичным. Все события развивались не так, как требовал здравый смысл. Вещи, явления и люди – все становилось расплывчатым и виделось как в дымке, как за стеной дождя, смывающего следы путников.
Коломбина вернулась через пару минут и принесла флакон туалетной воды. Она намочила платок и обтерла лоб Федерико. Ему сразу же стало легче. Жидкость издавала приятный аромат моря и будто смывала иссушающий жар лихорадки. Мало-помалу он восстановил силы, которых, как ему казалось, должно было хватить, чтобы в течение еще какого-то времени выдержать жажду сценической активности, обуревающую старого Полишинеля.
«Хорошее вино – лучшее лекарство», – повторял Винченцо де Лукка за ужином. Федерико, уставший от навязываемого ему в Англии пива, не заставлял себя упрашивать и с удовольствием следовал рецепту, прописанному гостеприимным хозяином. Любезность, с которой встретил его отставной офицер, свидетельствовала, что у него нет никаких обид на любовника своей дочери. Неприятный инцидент, когда Федерико грозился сжечь маску Арлекина, казалось, забыт окончательно.
– Ботаник, хороший ботаник, настоящий ученый. Ты можешь назвать хоть одного такого? – вопрошал Винченцо, потягивая отличное вино, специально открытое по случаю встречи.
– В данный момент ни одного не могу припомнить, – ответил Федерико, не горевший желанием вступать в разговор на эту тему.
– Каролюс фон Линнеус, проще говоря, Линней – вот кто был величайшим. Это он открыл половое разделение растений, выставив на всеобщее обозрение ту тайну, которую природа стыдливо скрывала от нас. Он был швед, сын протестантского пастора, обожавшего садоводство.
Федерико спрашивал себя, к чему может привести импровизированный симпозиум на тему естественной истории. Похоже, во всем этом балагане осмысленным был только один образ: сад в пасмурной холодной Швеции как символ насилия над природой и испытываемой ею боли. Несмотря на всю усталость и нежелание поддерживать дурацкие разговоры, профессор Канали приготовился слушать и делать выводы из услышанного. Стараясь беречь силы и поменьше говорить, он все же сумел продемонстрировать искренний интерес к словам старого де Лукки, который под воздействием выпитого обрел еще более впечатляющий дар красноречия. Его дочь слушала разговор вполуха, не вникая в детали, по ее лицу было видно, что пьяная болтливость Арлекина ей не по душе. Судя по всему, она опасалась, что в таком состоянии он может сболтнуть лишнего.
– Путешествия – вот ключ ко всем тайнам и загадкам, – продолжал тот, – но путешествовать можно по-разному. Вот посмотрите на меня – я в своей жизни столько путешествовал, сколько вам и не снилось, но физически я очень редко покидал город. Я могу оставаться здесь в бессознательном, кататоническом состоянии, а моя душа унесется так далеко, как я захочу. В общем, могу летать, куда пожелаю, – как ведьма, только без помела. Ха-ха-ха! Соображаешь, сынок? – С этими словами он зловеще подмигнул.
– Эй, капитан, хватит молоть всякую чушь, – перебила Андреа властным тоном, давая понять, что болтовня отца ей неприятна.
– Нет, нет, Коломбина, дорогая, пусть он говорит как настоящий добрый брат. Арлекин имеет полное право говорить правду, ему нет смысла быть неискренним или прятаться от опасностей в кустах. Мы же как братья. Нет, даже больше – мы карбонарии!
На этот раз актер приветствовал слова Федерико бурными аплодисментами:
– Прекрасная Аусония принадлежит нам. Скоро начнется новый цикл, новая эпоха, и все это благодаря тебе, мой друг. Кончилось наше прозябание, и мы, бедные актеры, встретим наконец нашего спасителя. Настает время подлинной свободы!
Профессор поднял бокал и произнес тост в честь блестящего будущего, уже видневшегося на горизонте. На самом деле он понятия не имел, о чем говорит старый Винченцо, но был твердо намерен следовать ходу его мысли.
– А как мы этого добьемся, Винченцо? Я, смиренный посланник судьбы, обращаюсь к тебе за разъяснением.
– Твой мексиканский друг привез сюда череп. Я его пока что не видел, но уже ощущаю где-то рядом аромат этой лысой головы, на макушке у которой пробиваются ростки новых волос – те самые ростки, которые озеленят наш сад. Я еще помню, как свел счеты с жизнью этот бедный парень. Он едва успел превратиться в живого человека из плоти и крови и решил повторить свое первое путешествие – вернуться в чрево чудовища, которое и пропитало его эссенцией вечной жизни. Он привязал себе на шею тяжелый камень и бросился в море с той же скалы, с которой шагнул в воду в первый раз, но на этот раз он уже не был деревянным мальчиком и не мог удержаться на поверхности, а под водой ему нужно было дышать, как и любому из нас. Море его поглотило, и никто больше о нем ничего не слышал. Так продолжалось много лет, пока вы – трое храбрых молодых людей! – не догадались, кому могли принадлежать эти печальные останки, выкопанные из песка. – С этими словами он сделал еще глоток вина, церемонно поклонившись Федерико в знак благодарности. – Мы бывали в доме Лурдель раньше вас, намного раньше, но нам не посчастливилось найти реликвию. Я сам, не вставая с этого кресла, – он сделал жест в сторону кресла, где еще недавно почти без сознания полулежал Федерико, – обнаружил эту жалкую хижину в порту, возле кафе «Кюль-де-Сак», в этой грязной столице государства бывших рабов.
– Папа, хватит! Ты слишком много выпил. Сам не понимаешь, что говоришь, – почти закричала Коломбина, вскочив со стула.
– Оставь его, пусть говорит! – прикрикнул на нее Федерико, уже забывший и о лихорадке, и об усталости. – Подобострастно поклонившись старому актеру, он обратился к нему в насмешливо-высокопарном стиле: – Божественный Арлекин, эта танцовщица заставляет тебя замолчать, потому что капитан Скарамуш соблазнил ее, пока ты добивался любви женщины с огненными волосами, дочери католика-поджигателя. Я сам видел, как в день Праздника пороха она танцевала с тремя ведьмами из Зазеркалья.
– Черт тебя побери! – гневно обрушилась на него Андреа. – Хватит лезть в больные мозги моего отца. Ты решил воспользоваться его состоянием, но уверяю, что ничего полезного для себя ты там не найдешь. Тебе не удастся узнать ничего, что знать тебе не положено.
Винченцо де Лукка встал из-за стола и рассмеялся. Он обнял Федерико и, не обращая внимания на дочь, продолжал разглагольствовать. Неожиданно он стал серьезным и без всякой связи с предыдущими словами спросил профессора, глядя ему в глаза:
– А ты знаешь, где могила Джеппетто? – И, не дожидаясь ответа, продолжил: – Завтра, когда к нам придет твой друг, мы все вместе отправимся туда.
Это были последние слова, которые Винченцо де Лукка произнес в тот вечер. Сколько ни пытался Федерико подбить его на продолжение разговора, настроение актера изменилось. Он быстро допил свое вино и столь же поспешно вышел из зала. Федерико остался один на один с Андреа, которая, не проявив никакого внимания к его персоне, проводила его в комнату, где он провалился в глубокий сон на те недолгие часы, что еще оставались до наступления дня.
Глава седьмая
Единственной могилой во Флоренции, достойной внимания профессора Канали, был знаменитый пантеон Медичи. Он бывал там не раз и надолго задерживался у величественных гробниц. Ему казалось, что здесь царит какая-то особенная атмосфера, а высота нависшего над могилами купола не только позволяла, но и помогала душе воспарить над обыденностью. Мысли порхали под куполом, словно бабочки, едва касаясь хрупкими крыльями знаменитых фресок Пьетро Бенвенути. Резной мрамор, огромные гробницы с траурными арками приковали к себе его внимание с самого первого раза, когда он оказался во Флоренции. Художественное наследие, накопленное в тосканской столице, включало величественный ансамбль надгробных памятников, о которых Федерико думал перед тем, как уснуть.
В церкви Санта-Кроче могильные плиты были вмурованы в пол в полном беспорядке, без какого бы то ни было соответствия по размерам. Их оформление тоже не отличалось единообразием. Рядом с простым гербом можно было увидеть роскошный барельеф, изображающий всадника в полном боевом облачении. Гробницы, устроенные в стенах, отличались большей помпезностью, но почему-то, все как одна, были пусты. Та, что предназначалась для Микеланджело, окруженная музами Живописи, Скульптуры и Архитектуры, которых Вазари расположил в соответствии с идеалами симметрии, парадоксально входила в противоречие с истинной красотой творений Буонаротти. В общем, эта жемчужина, привлекающая к себе бесчисленных туристов, оставляла Федерико холодным и равнодушным. Точно так же он воспринимал и роскошный памятник Данте Алигьери, властителю подземного царства и автору величайшего географического описания территории Смерти. Макиавелли, Россини, Уго Фосколо, Галилео Галилей – лесть, фимиам, слава и тщеславие составляли основу экскурсионной программы по видимой части загробного царства. Эти гробницы изначально создавались в расчете на то, что люди будут приходить не к могилам тех, кто находится под плитами, а к самим памятникам – чтобы полюбоваться творениями их авторов. У побывавшего здесь путника должно было возникнуть неодолимое и вместе с тем неосуществимое желание покоиться в подобной усыпальнице, в атмосфере легкой печали, неподвластной ходу неумолимого времени. С такими приятными мыслями Федерико наконец заснул, предоставив природе восстановить силы в его измученном теле. Наутро он, естественно, забыл, о чем думал перед сном, но почему-то его не покидало странное ощущение, что он якобы спал не в кровати, а в роскошном саркофаге, рядом с усыпальницей Козимо Медичи. При этом старый де Лукка в образе священника вел поминальную службу в калейдоскопически пестром алтаре часовни тосканских герцогов.
Приняв душ, Федерико вышел в гостиную, где его уже ждали Винченцо с дочерью. Старый комик был совсем не похож на вчерашнего блестящего оратора и вновь обрел важный вид, достойный отставного офицера. Коломбина же, как всегда, была сама собой – веселая, подвижная, невероятно свежая, словно бы вчерашнее полуночное бдение с возлияниями не оказало на ее жизнерадостную чувственность ни малейшего воздействия. Федерико наконец избавился от мучившей его сонливости и от необходимости все время напрягать силу воли, чтобы неожиданно не отключиться. С некоторым усилием он все же заставил себя поверить в то, что он, в отличие от Марка, человек действительно волевой и целеустремленный и хотя бы в какой-то степени держит в руках вожжи судьбы, а значит, ни при каких условиях не натворит таких глупостей, какие совершил его друг. Он был готов встретить любые трудности и любых врагов лицом к лицу, готов сражаться и, если это окажется необходимым, наносить болезненные удары. Начиная с этого дня, решил он для себя, для него не будет существовать никаких моральных ограничений.
Они спустились на первый этаж и вышли на улицу через маленькую боковую дверь, пробитую прямо в старинной городской стене. Машина была припаркована здесь же, на площади, и казалась более чистой и блестящей, чем накануне, словно ночью кто-то на совесть отмыл ее и отполировал. Коломбина открыла дверцу, и мужчины забрались на заднее сиденье.
– Первым делом заедем за Антонио. Я думаю, ты не против повидаться с ним. Он нас наверняка ждет.
– Отлично, – согласился Федерико, не боясь показать свое нетерпение. – Я бы с удовольствием поговорил с ним еще вчера, но вы были правы: мне действительно нужен был отдых. Теперь я чувствую себя гораздо лучше.
Это признание он сделал для того, чтобы обозначить свою позицию и продемонстрировать своим не то спутникам, не то противникам, что силы его восстановились и он рвется в бой. Машина покатила по узким извилистым переулкам старого города, часть которых оказалась Федерико совершенно незнакомой. Он в очередной раз удивился, как в этом, в общем-то небольшом, городе, исхоженном им вдоль и поперек, еще могли оставаться неизвестные уголки. Вскоре Андреа остановила машину перед небольшим современным строением без малейшей роскоши в отделке. Снаружи оно больше всего напоминало безликое офисное здание. Останавливаться в подобных заведениях было не в духе Антонио, но кто его знает, может быть, срочность и сложившаяся ситуация не позволили ему долго выбирать и он, не капризничая, согласился на первую же гостиницу, к которой его привезли.
Тяжелая стеклянная дверь и окна на первом этаже были тонированы в цвет карамели, и при таком освещении вестибюль напоминал старую выцветшую фотографию. За стойкой человек среднего возраста говорил по телефону. На нем была синяя униформа с какими-то знаками отличия. Андреа подошла к нему и попросила сообщить постояльцу из Мексики, что его друзья хотят с ним встретиться. Администратор с широкой улыбкой заверил, что известит его немедленно. Трое гостей проследовали вглубь вестибюля, который был оформлен если не изящнее, то по крайней мере занятнее, чем само здание снаружи. Стены были выкрашены в кобальтово-синий цвет, а между окнами из стен выдавались ярко-белые полуколонны. Было в этом что-то неожиданное и даже вызывающее. Большая часть мебели также была белая, в колониальном стиле. Посредине находился большой круглый стол, и прямо в центре этого сверкающего белизной круга стояла совершенно кладбищенского вида ваза с несколькими засохшими желтыми цветами. Гости присели на синий, как и стены, диван и в ожидании Антонио завели разговор.
– Помнится, вчера кто-то что-то говорил о могиле Джеппетто. Судя по тому, в каком мы были состоянии, я предполагаю, что это была всего лишь шутка.
Винченцо посмотрел на Федерико без тени улыбки:
– Никаких шуток. Я действительно предлагал тебе осмотреть его могилу, и мне казалось, что ночь – самое подходящее для этого время. В конце концов, настроение у тебя все равно после смерти друга было печальное.
Лицо Федерико тотчас же помрачнело, он вспомнил, что видел могилу Марка, но приехал слишком поздно, чтобы увидеть его живым или хотя бы попрощаться с его телом. На несколько мгновений ему показалось, что актер снова играет с ним в какую-то игру, расставляя свои силки и сети. Наверняка ему зачем-то было нужно, чтобы Федерико поверил в то, чего на самом деле нет и быть не может. Немного подумав, он решил рискнуть и задать интересовавший его вопрос:
– Мой друг исчез, и я не знаю, в каком он сейчас состоянии. Ты говорил, что можешь путешествовать по всему миру, не вставая с кресла. А ты сможешь рассказать мне, что сейчас с ним и где он?
Винченцо изумленно посмотрел на него. Коломбина тоже притихла и ожидала ответа отца.
– Смерть – это не игра. Мы, умеющие путешествовать так, как ты описал, никогда не позволяем себе заглядывать в царство мертвых.
Старый де Лукка не успел рассказать, почему на мысленные путешествия наложены столь строгие ограничения. В этот самый момент в вестибюле появился Антонио. Федерико вскочил и бросился к нему. Они посмотрели друг другу в глаза и молча, не сказав ни единого слова, обнялись, словно какая-то невидимая сила притянула их, как магнит. Они смотрели друг на друга, прикасались к волосам, к плечам, к рукам. Наконец Антонио сказал:
– А ты похудел, да и вид у тебя усталый.
– Ты тоже исхудал, – ответил Федерико, прикинув, насколько изменились габариты мексиканца с тех пор, как они виделись в последний раз.
– Ты должен мне столько всего рассказать. Я знаю, как тяжело далась тебе поездка в Англию. Бедняга Марк!
– Я опоздал. Может, если бы я приехал раньше, все пошло бы иначе и он был бы жив. Никогда себе этого не прощу.
По выражению лица Антонио можно было понять, что Федерико не в чем обвинить себя: если кто и виноват в том, что дело закончилось такой трагедией, так это сам Антонио.
– Если бы я ему вовремя ответил, написал бы раньше… Не понимаю, почему я повел себя так глупо. Все произошло так быстро и неожиданно, на меня навалилось столько неприятностей, что я… в общем, я не решился признаться ему, что череп исчез.
Когда мексиканец произнес эти слова, взгляды Винченцо и его дочери, до сих пор вроде бы беседовавших о чем-то своем, прямо-таки впились в Антонио. Оказывается, их равнодушие было совершенно показным. На самом деле они внимательно вслушивались в разговор друзей. Поняв это, Федерико решил, что нужно что-то придумать, – ему было просто необходимо поговорить с Антонио наедине.
– Я думаю, нам с тобой надо прогуляться вдвоем. А с ними мы договоримся где-нибудь пообедать.
Он сделал жест в сторону своих спутников, затем, не дожидаясь ответа, подошел к актерам, которые вновь Углубились в разговор, делая вид, что встреча двух друзей их не касается. Федерико сообщил им, что хочет поговорить с Антонио, и предложил встретиться всем вместе попозже.
– Ладно, – согласился Винченцо, – если хотите, приходите обедать к нам домой. Мы будем ждать, только слишком не задерживайтесь, мы ведь должны еще посетить могилу Джеппетто.
Профессор Канали не стал возражать старому де Лукке, хотя сейчас ему трудно было бы объяснить другу, что на вечер у них назначена встреча с одним довольно известным покойником. Он уточнил, когда им лучше вернуться, и Винченцо с дочерью вышли на улицу.
Федерико глубоко вздохнул с облегчением:
– Антонио, наконец-то мы одни!
В тот же миг выражение лица Антонио изменилось. Он вообще показался Федерико каким-то нервным и беспокойным. Прервав приятеля на полуслове, он попросил подождать, пока позвонит по телефону.
Мексиканцу позарез нужно было связаться с Ласло. Он боялся, что, воспользовавшись его отсутствием, люди, претендовавшие на отцовское наследство, предпримут новые шаги против него. Из Сересас он уехал в мрачном настроении, с трудом сдерживая себя. Его мать, по обыкновению, сумела вывести его из равновесия и подтолкнуть на поступки, которые он совершал лишь под влиянием загоняемых куда-то вглубь инстинктов. Мать рассказала ему о смерти Марка Харпера, но умолчала о подробностях. Антонио не удалось узнать от нее практически ничего, в том числе и того, каким образом эта информация стала ей известна. Он несколько раз переспрашивал ее, просил, умолял, но в ответ слышал лишь ничего не значащие фразы, которыми мать всегда отделывалась в самых драматических жизненных ситуациях. Она сказала, что приехала в Мексику лишь для того, чтобы быть рядом с сыном, когда он узнает о смерти друга. Ласло во время их разговора старался держаться в тени – в прямом и переносном смысле. Он лишь с опаской оглядывался на двери гостиной, ожидая, что в какой-то момент на пороге появится разгневанный мажордом. Однако Хоакин к ним так и не вышел, и Антонио на обратном пути уже забыл о страхе, внушаемом ему этим человеком, потому что его гораздо больше занимали те откровения, которые ему все-таки удалось выудить у матери.
Вдова звезды мексиканского кино узнала о смерти Марка Харпера от одной старой подруги – актрисы, которая снималась примерно в одно время с ней. Сейчас, почти забытая зрителями, она жила скромно – на пенсию, которую милостиво выплачивал ей один из ее бывших возлюбленных. Обо всем этом Антонио рассказал Федерико за кофе в баре неподалеку от площади Синьории.
Переговорив с Ласло по телефону, Антонио вместе с Федерико вышел из гостиницы и отправился гулять по городу. Гуляли они не меньше часа. Ни один из них не хотел раньше времени садиться за обеденный стол, а беспокойство, испытываемое обоими, заставляло их плутать по улицам, без всякого плана. Время от времени Антонио оглядывался, словно опасаясь увидеть за спиной кого-то, кого он так и не решился назвать своему другу. Иногда и Федерико ловил себя на том, что напряженно озирается, но и он не смог бы сформулировать, кто конкретно мог следить за ними и почему этого следует опасаться.
– Ты вроде бы сказал, что череп куда-то исчез. Как это получилось, ты же хранил его в отцовском сейфе?
Дыхание Антонио участилось, и он поспешно рассказал Федерико обо всех усилиях, предпринятых им, чтобы вернуть череп. Во всей этой ситуации вопросов было гораздо больше, чем ответов.
– Когда мы ехали в Сересас, я был уверен, что череп украл Хоакин, но появление матери сломало все схемы, которые выстроились у меня в голове. Раньше ее никогда не волновало то, что касалось меня. В последний раз мы виделись на похоронах отца, и мне показалось, что ее равнодушие было столь же очевидным, как и факт его смерти. Федерико вдруг осознал, что кончина актера помогла ему понять, насколько та история, в которую они с друзьями впутались, связана с обстоятельствами их жизни: теперь ничего не происходило просто так.
– Похоже, мы слишком далеко зашли. Знаешь, если бы все вернулось назад, ничто не заставило бы меня принять участие в наших поисках, да и в самой покупке.
Это искреннее признание ни в коей мере не меняло сложившейся ситуации, по крайней мере для Антонио, который понимал теперь, что все проблемы с отцовским имуществом и его правом на наследство так или иначе связаны с проклятым черепом.
– Что поделать, вернуться в прошлое еще никому не удавалось. Череп – мой, и, если с ним связана какая-то тайна, раскрыть ее должен только я. И я никому не позволю воспользоваться чудодейственными свойствами этой штуковины, если, конечно, они у нее есть. Отец ведь знал о существовании черепа и предупредил меня об опасности. К сожалению, у нас не было времени разобраться, что это за опасность и почему она мне угрожает. Он умер практически сразу после того, как дал мне понять, что ему известно об этом черепе гораздо больше, чем я могу предположить.
Федерико несколько озадачили запальчивые слова Антонио. С некоторых пор череп, оказывается, принадлежал только ему, а не всем троим друзьям. Раньше мексиканец никогда не проявлял подобного чувства собственности. Это заявление не могло не спровоцировать деликатного, но довольно ироничного комментария профессора Канали:
– А я-то думал, что череп принадлежит нам всем и если есть возможность получить от него хоть какой-то прок или выгоду, то мы поделимся этим поровну.
Антонио тотчас же понял всю нелепость своих рассуждений. Смутившись, он посмотрел куда-то в небо, где над их головами висела луна, – ночное светило появилось на голубом небосводе среди бела дня, подчеркивая иррациональность момента.
– Ты меня неправильно понял. Извини! Дело в том, что ты не актер и тебе просто не дано воспользоваться тем, что может дать эта вещь настоящему лицедею. Понимаешь, Пиноккио – он ведь появился на свет в очень необычной семье. В человека он смог превратиться лишь после того, как провел ночь в чреве кита и потом увидел надгробный памятник на могиле феи – своей давно умершей матери Ады.
Федерико посчитал, что настал момент сообщить другу: вечером им предстоит нанести визит к могиле Джеппетто. Мексиканец пришел в восторг: полету его воображения не было границ. Он все пытался чем-то поразить итальянца, подсознательно стараясь отвлечь его от мыслей о том, что в будущем, когда носатый череп откроет свои истинные возможности, его, по всей видимости, оттеснят в сторону и не дадут воспользоваться плодами этих чудес.
Антонио говорил легко и свободно; он словно ловил мысли и образы в воздухе так понравившейся ему Флоренции. Ему нравилось здесь все, даже запахи, встречавшиеся друг с другом и вступавшие в восхитительно ароматное противостояние. В какой-то момент он вдруг вспомнил древних богов своей родной страны, требовавших жестоких ритуалов, включая человеческие жертвоприношения. «Камни могут кровоточить, – повторил он про себя, – иногда такое случается, хотя люди упорно отказываются признавать это. Демонстрация некоторых сверхъестественных способностей может сломить человека, сокрушить его волю. Глаза великого бога Чууэниля закрыты маской, а рот у него во все лицо. Его называют Господином Целого Года, и умилостивить его можно только кровью». В какой-то миг Антонио показалось, что он даже чувствует запах кожи Федерико. Он тряхнул головой, чтобы сбросить наваждение и привести в порядок свои мысли.
– Чья могила? – заинтересованно спросил он.
Иногда профессору Канали казалось, что он живет не в реальном мире, а в мультфильме Уолта Диснея. В этом нарисованном мире автор сценария сначала прописывал все сюжетные ходы и поведение каждого персонажа на словах, и лишь затем их жизнь воплощалась в реальном для них двухмерном пространстве. Каждый герой действовал в строгом соответствии с тем, что ему было предписано автором фильма. Вот и сейчас, глядя на Антонио, Федерико не мог избавиться от ощущения, что он говорит с одним из утят – мексиканских родственников Дональда Дака из давней ленты Диснея. В последнее время Федерико вообще стал замечать за собой, что наблюдает за миром как бы через видоискатель кинокамеры. При таком восприятии окружающей реальности становилось заметно, что большинство людей ведет себя так, как требует от них заранее написанный сценарий и размеченная съемочная площадка.
– Интересный ты человек: вроде бы готов верить во все, что тебе скажут, в любую чушь и глупость, но, когда дело доходит до того, что может существовать на самом деле, ты почему-то начинаешь сомневаться.
Примирительный тон Федерико не смог скрыть его некоторого разочарования. Он с каждым днем все отчетливее понимал, что его внутренняя жизнь плохо совмещается с теми отношениями, которые он вынужден был поддерживать, существуя во внешнем мире. На несколько минут он позволил себе отключиться от всего, что его окружает, в том числе и от своего друга. Кроме того, сам мексиканец также уделял Федерико лишь ту меру внимания, которая была продиктована сложившимися обстоятельствами. «Как же, оказывается, все изменилось, – подумал Федерико, – мы так хотели встретиться и вот, оказавшись вместе, едва скрываем навалившуюся на нас скуку».
Иногда их воспоминания становились для обоих более важными, чем желание общаться, и друзья молча думали каждый о своем. Приближался полдень, тени съежились, и роскошные архитектурные формы старой Флоренции потеряли свою объемность, вроде бы и выставленные напоказ под отвесно падающими лучами и в то же время раздавленные этим светом до состояния плоских чертежей и декораций. Федерико вспомнил, что в Англии все по-другому: на его памяти солнце ни разу не поднималось там так высоко и у всех предметов неизменно оставались длинные тени, которые порой существовали сами по себе. Больше ему было не о чем думать, некуда направить высвободившиеся после долгих размышлений мысли. Он получил все отправленные ему сообщения, прочитал и как мог разложил по полочкам их содержание, но по-прежнему оставался все в той же мертвой точке, откуда не было никакой возможности получить достоверного ответа на вопрос, какую загадку хранит в себе носатый череп и восхождением на какую голгофу закончилось земное существование его обладателя.
Антонио был здесь, рядом, он стоял молча, с уважением воспринимая молчание друга. Перенесенные испытания не оставили особых отметин на его лице – ни пропажа черепа, ни даже смерть отца. Он был таким же, как всегда, разве что немного нервным и чуть менее самоуверенным; все свои внутренние переживания и конфликты с внешним миром он скрывал под маской легкомысленного безразличия. Пока Федерико предавался бесцельным и бесполезным размышлениям, мексиканец мысленно пытался поймать ритм той борьбы, которую он уже долгое время вел с ненавистным мажордомом из Сересас…
Хоакин не участвовал в разговоре Антонио с матерью, не появился он и на следующий день, когда они завтракали на террасе виллы втроем с Ласло. Позже Антонио искупался в бассейне – том самом, где он чуть не утонул в ту кошмарную ночь, когда копался в отцовской фильмотеке. Хоакин не то всучил, не то подарил ему пленку, которой как раз и не хватало в собрании. В том фильме вроде бы и не было ничего важного: просто похороны не то моряка, не то марионетки, очень похожей на Пиноккио. Иными словами, того Пиноккио, каким он мог быть, если бы действительно превратился в человека. Сама сказка Коллоди оканчивалась как раз в момент этого превращения. Судя по всему, больше о взрослой жизни деревянного мальчика не было написано ни слова, а следовательно, нечего было и ломать голову над загадкой мальчишки, на которого обрушилось столько несчастий, потому что он не родился, а был выточен из полена. К такому выводу пришел Антонио после долгих размышлений. Ласло помог ему направить подобные мысли в нужное русло.
На обратном пути в столицу Антонио все время болтал и изводил сидевшего за рулем Ласло вопросами. К его удивлению, адвокат вовсе не был расположен поддерживать беседу и отвечал односложно, а то и просто ссылался на плохую память, в чем раньше никогда не был замечен. Антонио очень интересовало, почему они не видели Хоакина, что именно делала на вилле его мать и какие особые условия были прописаны в завещании относительно коллекции фильмов, хранящейся в Сересас.
Ласло ничего не знал, ничего не понимал и ничего об этом не думал.
– Черт тебя побери с твоей дурацкой амнезией! Какой из тебя адвокат – видимость одна. Да я всегда так и думал. Уж не знаю, чего отец в тебе нашел!
Венгр спокойно кивнул, словно соглашаясь с раздраженным Антонио, чем раззадорил того еще больше.
– Уж ты-то должен был знать, что мать собирается в Сересас. Почему меня все время держат в неведении, почему я все время узнаю обо всем последним? А может, ты давно работаешь на Хоакина?
Услышав столь абсурдное обвинение, Ласло не сразу нашелся что ответить. Он свернул на обочину и остановил машину.
– Ты с каждым днем становишься все больше похож на отца. Никому не веришь, строишь какие-то абсурдные схемы, подозреваешь в чем-то людей без всяких на то оснований.
– Пожалуй, ты прав, – с раскаянием в голосе произнес Антонио, понимая, что просто сорвал на нем плохое настроение. – На самом деле я подозреваю всех на свете и никак не могу понять, в чем дело.
Ласло открыл дверцу и вышел из машины. Вслед за ним вышел и Антонио. Не сговариваясь, они подошли к придорожному кафе, где подавали мясо с соусом чили и какой-то резко пахнущий напиток, явно содержащий мескаль. В это время местных жителей в кафе не было, и их, как единственных посетителей, обслужили моментально.
– Твоя мать и Хоакин заключили что-то вроде пакта о ненападении. Они помогают друг другу, обмениваются информацией, прикрывают и выгораживают один другого. Я давно это заметил, но твоему отцу ничего не говорил: сам понимаешь, как бы он отреагировал. Я не думаю, что речь идет о каких-то личных отношениях, Хоакин не такой. По-видимому, у них некие общие интересы и они действуют заодно. Может, они решили прибрать к рукам все наследство.
Ласло одним глотком опустошил чуть ли не весь стакан с адским напитком, дурманящий аромат которого почувствовал даже Антонио.
– Да что за гадость ты пьешь? У тебя совсем уж крыша съехала. Хоакин был протеже моего отца и всегда оставался благодарен ему за это. Каким бы мерзавцем он ни был, но единственное, в чем я твердо уверен, так это в том, что он уважал отца и сохранил это чувство и после его смерти. Мать, конечно, играла определенную роль в жизни отца, но не более того. Я думаю, для Хоакина она – просто еще один экспонат из отцовской коллекции.
– Интересно, почему же тогда он оставил всю коллекцию именно ей? – перебил его Ласло, продолжая заливать в себя адское пойло.
– Что ты сказал? – с ужасом переспросил Антонио, глаза которого чуть не вылезли из орбит.
Венгр ожидал такой реакции. Он уже давно пытался выяснить, как обстоят дела на вилле. Этот неожиданный визит, нанести который его заставил Антонио, помог узнать кое-что важное. По крайней мере, он стал свидетелем эффектного театрального появления вдовы в сцене дележа наследства. Хоакин не только не выставил ее из поместья, но даже не сообщил никому о ее присутствии. Судя по всему, он не имел ничего против ее участия в заварившейся каше наследственного дела и предстоящей судебной тяжбе. В Сересас все время ощущалось его незримое присутствие.
– Ощущение такое, что мой отец был не одним человеком, а состоял из нескольких личностей, – мрачно произнес Антонио. – Вполне возможно, что мать теперь действительно в сговоре с Хоакином, ведь он знает об отце то, что не известно ни мне, ни тебе. Отец ему в самом деле слепо доверял – буквально во всем.
Постепенно Федерико и Антонио возвращались из мира своих мыслей в реальность. Пора было идти домой к комической паре.
– Извини, я что-то задумался. Да, ты прав. Пора идти.
Антонио чуть виновато улыбнулся Федерико, который ничуть не был на него в обиде. Он понимал, что скорее всего им предстоит напряженный вечер и времени на спокойные размышления у них не будет. Ведь Винченцо де Лукка собирался отвести их в то место, откуда можно было отсчитывать начало нового этапа или даже нового цикла истории.
– Слушай, но если череп куда-то пропал, что мы теперь можем сделать?
Мексиканец в очередной раз задумался. С его точки зрения, правильным было первое же подозрение, которое пришло ему в голову: мажордом из Сересас украл череп из квартиры на проспекте Либертад и теперь от души развлекался, предлагая купить этот трофей всем, кто проявлял к нему интерес. Мать Антонио скорее всего тоже приехала в поместье, чтобы не пропустить момент продажи и получить свою долю от сделки. Огорошив сына сообщением о смерти Марка, она сделала все возможное, чтобы отвлечь его от поисков черепа. Теперь он был уверен, что стал объектом какой-то сложной интриги, в которую была включена не только его жизнь, но и жизнь его друзей. Глядя Федерико прямо в глаза, он сказал, что приехал из Мексики даже не для того, чтобы попытаться разыскать череп, а в первую очередь чтобы спасти ему жизнь – жизнь единственного человека, который после всего случившегося связывал его с остальным миром.
Профессор Канали был тронут этими словами, но интуиция подсказывала, что не стоит слепо доверять им. Не так все было просто в сложившейся ситуации. Как только актеры из «Комедии» поймут, что черепа у мексиканца нет, они немедленно дадут об этом знать тем, кому верно служат, и тогда вся рать карбонариев обрушится на тех, кого считает виновными, как чума, как новая казнь египетская.
– Послушай, Антонио, помнишь, когда мы были на Гаити, то как-то заговорили о диктаторе Дювалье по прозвищу Папа Док и о его гвардии, состоявшей из зомби. У него ведь даже при генеральном штабе состояли на службе опытные колдуны, умеющие управлять целыми армиями из царства смерти, и опирался он в первую очередь на них, а не на своих генералов.
– Да, я помню, – подтвердил Антонио. – Марк еще очень интересовался всеми этими церемониями. Буквально накануне покупки черепа он ушел на целую ночь, чтобы присутствовать при проведении такого ритуала.
Федерико механически шагал по улице в направлении старинной городской стены, словно неосознанно выбирая направление, гонимый поднявшимся ветром, дувшим как раз в нужную сторону. Говорил он негромко и очень сосредоточенно, пытаясь вспомнить все, что произошло с ними на Гаити после того, как они рассчитались со старухой Лурдель за покупку.
– Вдова Марка рассказала мне о каком-то особенном даре, который открылся в нем совершенно неожиданно. Он якобы мог слышать голоса с того света, и, когда он пришел на слэптонский пляж, у него было видение. У меня из головы не выходит мысль, что он сам выбрал место своей смерти и пришел туда не случайно.
Антонио шел рядом с Федерико, преодолевая страх и мрачные предчувствия, которые охватили его при воспоминании о погибшем англичанине.
– Мне всегда казалось, что старуха нас ждала, что она была уверена: мы обязательно купим ее сувенирчик.
Вскоре они подошли к узкому переулку, представлявшему собой скорее проход между домами, и были вынуждены идти друг за другом. Ветер уже сдул с неба появившуюся в неурочный час луну и затянул небосвод серыми тучами, предвещавшими сильный дождь. Солнечный средиземноморский день сменился мрачными, почти английскими сумерками.
– Надеюсь, из-за дождя не придется отменять прогулку на кладбище.
Появление кинематографа стало важнейшим событием в современной истории. Вылетевшая из объектива птичка оказалась настоящим фениксом – символом невиданного, показавшегося фантастическим возвращения ушедшего. Мертвые могли теперь навеки оставаться живыми: лишь для большей сохранности их упаковывали в коробки, напоминающие консервные банки, их тела и души сжимались до размера крохотных кадров на рулонах пленки. Зато они могли навеки оставаться молодыми, здоровыми и, главное, живыми. Это было невероятно – все равно что дотянуться до звезд на небе. История человечества разделилась на эру до появления кино – и эру кинематографа.
В темные века, когда кино еще не было придумано, его функцию пытались восполнить волшебными фонарями и другими жалкими подобиями проектора. Эти движущиеся картинки возникали на секунды и тут же исчезали, как росток хрупкого растения, которое после короткого цветения быстро вянет и засыхает. До появления аппарата, изобретенного братьями Люмьер, немногие отваживались браться за изучение силы запечатленного образа. Одним из таких безумцев был монах-иезуит Атанасиус фон Кирхер, собравший, опираясь на легенды и древние манускрипты, все, что было известно о передаче и фиксации изображения. Он описал и волшебные зеркала, и пещеры, стены которых покрыты рисунками, выполненными кровью, и голоса оракулов, исходившие из глубоких трещин и ущелий в горах; он же изобрел систему иероглифов, при помощи которой можно адресовать мольбы и просьбы богам экрана. Уже после него были открыты и описаны новые феномены: химические реакции, происходящие под воздействием света, свойства потока лучей, разделение света на спектральные составляющие в узком пространстве. Все это, собранное воедино, позволило человечеству создать новое, величайшее из искусств – театр, спектакли которого повторяются бесконечно. Это и было кино.
Фотографии мертвых теперь висят в домах живых, заменив собой привидения, взяв на себя функцию домашних духов и божков, защищающих нас от будущих напастей воспоминаниями о прошлом. Современные ясновидящие читают судьбу человека по его фотографии. В наши дни можно скорректировать уготованную человеку участь, показав ему тот или иной фильм, а можно вызвать духов из прошлого, посмотрев кадры с изображением умерших людей.
Наверное, не случайно это техническое новшество было создано сравнительно недавно, когда цивилизация уже пустила свои корни в душах и сознании людей. Увидев свое изображение, люди смогли оценить все преимущества, которые несет с собой это изобретение. Лишь дикари по-прежнему пугаются фотоаппаратов и кинокамер, будучи уверены, что каждое изображение похищает частицу их души. Бесполезно объяснять им, что съемка не несет в себе никакой опасности. Они не хотят этого знать, им важно, чтобы тайна оставалась нераскрытой.
Федерико прочитал статью, опубликованную в одном католическом журнале, где говорилось, что туринская плащаница представляет собой единственную фотографию, сделанную без фотоаппарата. Лик Иисуса был отпечатан на ткани при помощи света, что две тысячи лет назад предвосхитило появление еще одного способа непорочного воспроизведения образов. Таким образом фотография приравнивалась к чуду, причем чуду, не осуждаемому, а полностью принимаемому христианской религией.
В доме Винченцо, против ожидания, атмосфера была более чем дружеской, и старый актер вел себя, как подобает гостеприимному хозяину. Коломбина, в свою очередь, встретила Антонио слишком жаркими и чувственными объятиями. Но Федерико, к его удивлению, это нисколько не разозлило и не покоробило, а по-своему повеселило. Эта женщина по-прежнему была ему небезразлична. Он не мог бы сказать, что влюблен в нее, но и утверждать, что ему до нее нет никакого дела, было бы тоже неверно. Ее поступки вызывали сложную, неоднозначную реакцию, которую он, впрочем, давно перестал анализировать. Антонио, настоящий космополит, сразу стал в этом доме своим и вел себя за обедом как настоящий итальянец. Он громко говорил, много жестикулировал и выпил все вино, поставленное хозяевами на стол. Смерть англичанина была всеми забыта. В некотором роде это застолье стало поминками по нему. Федерико было немного не по себе от такого веселья, которое, на его взгляд, выходило за рамки приличий. В какой-то момент он не выдержал и вмешался в оживленный разговор:
– Я так понимаю, что нам предстоит приятная прогулка на кладбище. Похоже, это не может нас всех не радовать, и недавнее несчастье, по-видимому, касается только меня одного.
– Что это на тебя нашло? – спросила Коломбина таким тоном, словно ее действительно удивил упрек в словах Федерико. – Нет нужды преувеличивать значение темы смерти. Лишь люди, слабые духом и неразумные, придают ей сакральное значение и боятся ее больше всего на свете.
Оставшаяся часть обеда прошла в непринужденной беседе все на те же темы – кино, фотография, волшебный фонарь. В голове Федерико перемешались свои мысли и слова собеседников. Он то и дело посматривал на мексиканца, который вел себя куда более экспрессивно, чем во время их обычных дружеских встреч. В путешествиях Антонио всегда был главной движущей силой. Именно он выбирал маршруты поездок, в основном в такие места, куда нормальный человек ни за что бы по доброй воле не сунулся. Так, именно по его выбору в списке мест, где можно было занятно провести время, и оказался остров Гаити.
Когда друзья сидели за столиком ресторана где-нибудь на краю света, мексиканец привносил в обычный ужин какую-то особую атмосферу: ему ничего не стоило попросить приготовить блюдо, отсутствующее в меню, или же потребовать вино, которое хозяин заведения припрятывал для разных знаменитостей и почетных гостей. Именно так, ярко и эффектно, выглядел Антонио перед друзьями и посторонними, но лишь во время путешествий. Дома он жил совершенно иной жизнью. Возвращаясь в дом отца, он превращался в другого человека и воспринимал себя как безжизненный ледяной метеорит, который можно заметить лишь в самый мощный телескоп, и то на фоне сверкающей, привлекающей всеобщее внимание звезды.
Коломбина смеялась больше обычного и не забывала подливать вино в опустевшие бокалы. Старый Винченцо обошелся без экстравагантных выходок вроде тех, какие позволил себе накануне вечером. Говорил он взвешенно и тщательно подбирал слова, чтобы быть правильно понятым. Он напоминал старого профессора или коллекционера-нумизмата. Разговор перешел на тему древних мифов, лицо Антонио раскраснелось, глаза заблестели. Камера работала все быстрее, и актеры не успевали за задаваемым ею темпом. У Федерико закружилась голова, как если бы из камина вдруг повалил невидимый, но плотный и удушливый дым, словно в огонь бросили горсть сухих лепестков дурманящего цветка.
Судя по всему, Антонио захмелел больше обычного, и у него стал заплетаться язык. Федерико предложил прогуляться с ним до ванной комнаты, но предложение было отвергнуто мексиканцем с негодованием. Он гордо заверил, что чувствует себя великолепно и нет необходимости ломать комедию и делать вид, будто ему нужно выйти и привести себя в порядок. В свою очередь он выдвинул встречное обвинение, назвав Федерико святошей и попеняв ему за католическое воспитание, едва не сделавшее из нормального парня монаха.
– Ну уж извини, – обиженно возразил профессор Канали, – вы, мексиканцы, между прочим, тоже католики. Ты небось воспитывался не менее строго, чем я, а уж кто как сумел раскрепоститься – это личное дело каждого.
Антонио в ответ лишь усмехнулся и не стал вступать в дискуссию. У него было гораздо более важное дело – он пожирал глазами бледное напудренное лицо дочери Винченцо. Андреа закурила сигарету и выпустила колечко дыма. Мексиканец стал пытаться поймать его в воздухе руками. Федерико отказывался верить в происходящее. Всякий раз, входя в дом двух безумцев, он был уверен, что знает, кто он такой и чего хочет от других, но через некоторое время все обязательно вставало с ног на голову. И все же такого он даже представить себе не мог: Коломбина – всего лишь похотливая «садовница», а ее отец – старый сводник. Ничего себе спектакль, подумал он. От этих двух фигляров, конечно, можно было ждать чего угодно, но Антонио? Впрочем, сейчас его гораздо больше волновало, какая роль уготована в новом фарсе ему самому.
– Вдова Марка тоже актриса, как и ты. Так ты с ней знакома или нет? – Этот вопрос профессор задал девушке, не рассчитывая услышать честный или хотя бы вразумительный ответ. В этот момент ему просто хотелось сбить с толку разыгравшуюся Андреа и теряющего голову Антонио.
Не отвечая Федерико, Коломбина сбросила туфли и босиком прошла к камину, чтобы подкинуть дров в огонь. Затем села на одну из больших мягких подушек, лежавших на полу у камина. В эту минуту она выглядела просто роскошно. Было три часа дня, и она эффектно разыграла послеобеденную сонливость. Ей даже якобы стало душно, и она расстегнула несколько пуговиц на блузке. Антонио явно был готов наброситься на нее прямо здесь, в гостиной. Винченцо, сидевший в противоположном углу зала, тоже стал демонстративно позевывать и, чтобы не уснуть, время от времени зачитывал вслух какой-нибудь эпизод из последних дней Габриэле д'Аннунцио. Его никто не слушал. Федерико, вне себя от злости, не сводил взгляда с Коломбины, наслаждаясь при этом сознанием своего полного поражения перед лицом этого бычка-производителя, в жилах которого текла ацтекская кровь.
Андреа взяла мексиканца за руку и повела по длинному коридору с восьмью дверями. Антонио даже не пытался скрыть то желание, которое возбуждало в нем тело «садовницы», и готов был обхватить ее обеими руками, как цепляется черенком за ветку дерева только что распустившийся листок. Она погладила его по голове и игриво отодвинулась, соблюдая условности ритуала ухаживания и завоевания. Бог Чууэниль распахнул небесные врата, чтобы на землю обрушились ветры ярости и трусости.
Федерико, не зная, что делать, вскочил со стула и зачем-то подбежал к Винченцо, но тот лишь посмотрел на него и сказал:
– Не злись, у свободы есть свои издержки. В том числе возможность вносить в нашу жизнь самые неожиданные изменения.
«Старый идиот», – подумал Канали, только сейчас почувствовав, насколько глубокие раны нанесли ему пережитые в этот день предательства. Антонио, тот самый друг, за которого он так боялся, готов затащить в постель единственную женщину, совершившую настоящую гормональную революцию в теле Федерико. Похоже что ему в этой пьесе была уготована роль смирившегося со статусом рогоносца доктора Грациано. Что ж, оставалось лишь вытерпеть этот удар ножом в спину, сжать зубы и задушить в себе гордость и достоинство. Ничто в жизни уже не могло сравниться по ценности с возможностью продолжать поиски и обрести наконец этот проклятый череп, который однажды они купили в порыве безумства в жалкой лачуге старухи Лурдель.
Федерико не засекал время, которое Коломбина и Антонио провели вместе. Его мысли были заняты другим: он, свернувшись калачиком в кресле, представлял себе, какие именно радости могла доставить Андреа его пылкому другу. Она обычно красила губы помадой карминного цвета, который резко контрастировал с бледным напудренным лицом. Этот макияж создавал ощущение, что она постоянно носит на лице маску. Глаза у нее темные, большие, глубокие, но холодные, несмотря на всю чувственность; почему-то они напоминали Федерико заброшенные сады Питти. В них было какое-то странное сочетание чистоты, болезненности и порока. Когда он обладал ею, она всегда закрывала глаза, и он чувствовал на лице движение воздуха от каждого шевеления ее ресниц и легкую, едва уловимую дрожь бровей, которая ощущалась как трепетание крыльев пойманной бабочки.
Ему было нелегко смириться со своей новой ролью отвергнутого любовника, надоевшей игрушки, которую в один прекрасный день зашвырнули в угол чулана. Антонио, горячий, черноглазый, с чувственными губами и агрессивным темпераментом, мог, несомненно, лучше почувствовать желания «садовницы» и лучше удовлетворить их. «И все же, – подумал Федерико, – если Коломбина хотела таким образом унизить меня, чтобы сделать более податливым и вить из меня веревки, то она ошиблась. Секс – не та часть моей жизни, благодаря которой мною можно манипулировать…» Внезапно он вскочил с кресла с твердым намерением поучаствовать в продолжающемся спектакле, пусть даже в качестве зрителя. Комедия – такой жанр, участникам которого законы не писаны.
Винченцо тем временем взял в руки томик Катулла, и, прежде чем Федерико дошел до двери гостиной, его догнал голос старика, обрушившийся на него как пощечина: «За тобой идет дурная слава, люди говорят, что у тебя под мышками живет злой бодливый козел». После этого, видимо для большей убедительности, он гордо процитировал те же строки по латыни: «Laedit te quaedam mala fabula, qua tibi fertur ualle sub alarum trux habitare caper».
– Да чтоб тебя! Оставь меня в покое.
– Вот это другое дело, Карлино, бери маску и вперед – застукай этих любовничков!
Старый рубака, человек с деревянной саблей вызывал его на поединок. Федерико не задумываясь бросился к стеллажу и, выхватив из ящика маску Арлекина, водрузил ее себе на лицо. Винченцо яростно зааплодировал профессору Канали, когда тот стремительным шагом направился к двери, выходящей в коридор. Одна дверь, вторая, третья – он открывал их все по очереди, пока наконец не обнаружил комнату, где уединились Антонио и Коломбина.
Окна в комнате были закрыты, и мрак слегка рассеивала лишь полоска света, пробивавшегося сквозь крохотное слуховое окно под потолком. Федерико остановился на пороге, понимая, что ему придется подождать, пока глаза привыкнут к темноте. Комната была довольно просторная; его взгляд пробежал по мебели, драпировкам из одного угла в другой и вернулся в исходную точку, не отметив всех деталей обстановки. По левую руку он заметил большой стеклянный кувшин, в котором стоял букет цветов, набранных словно наугад. Цветочный аромат он почувствовал практически одновременно с донесшейся до него вибрацией сдвоенного учащенного пульса.
Белье Коломбины висело на красном бархате спинки кресла, стилизованного под старину. Чуть в стороне валялись ее туфли – вместе с мраморными четками и серебряным крестом. Увидев такое кощунственное сочетание, он едва не задохнулся от охватившего его ужаса и готов был выскочить обратно за дверь. Лишь любопытство, а вовсе не благочестие заставило его остаться на месте. Всю правую часть комнаты занимала большая деревянная кровать с резными спинками, накрытая легким балдахином. Там, за почти прозрачной тканью, находились Антонио и Андреа, тела которых ритмично и волнообразно двигались в безмолвном экстазе. Оставаться в комнате и дальше – в другое время Федерико стало бы плохо от одной мысли об этом. В конце концов, он не какой-нибудь обманутый муж, жаждущий мести. И все же, не уверенный в собственных выводах, он, прикрывая лицо маской, как щитом, заставил себя подойти ближе.
Любовники не замечали его присутствия, словно он был невидимым призраком, а может, они его просто не слышали, потому что двигался он тихо. У Федерико вспотели руки, а сердце билось все чаще и чаще. Ему не хватило смелости отбросить тонкую ткань балдахина и посмотреть в лицо тем двоим, которых он считал самыми близкими ему людьми. Так он простоял несколько минут, а затем медленным, едва уловимым движением стал поднимать руку. Все так же бесшумно он осторожно отодвинул прозрачную кисею, словно убрал паутину, закрывавшую доступ к пойманным пауком мухам. Постепенно его глаза привыкали к густому полумраку. Вот он уже смог разглядеть раскиданные на подушке вьющиеся волосы дочери Винченцо, вот увидел ее руки и ноги, скрещенные на спине его удачливого соперника. Вот он рассмотрел, что спина мужчины вовсе не была спиной Антонио. Кожа этого человека была совершенно другого цвета, так же как и волосы.
Глаза Коломбины были устремлены прямо на него. Трепещущие и отсутствующие, они смотрели на Федерико с нежностью, хотя ее тело было отдано другому. По этому взгляду можно было понять, какое желание сжигает изнутри незнакомца и с какой силой он вонзается в тело девушки в порыве страсти. Андреа занималась любовью с телом, не принадлежавшим Антонио.
Завороженный умоляющим взглядом, Федерико наклонился над кроватью и погладил девушку по голове. Она разжала руки, сжимавшие того, кто так жаждал ее, и крепко схватила ладонь Федерико. Он не чувствовал себя вправе отойти, освободиться от этого жаркого прикосновения. Сам не понимая, что происходит, он остался стоять у края кровати. Он не ощущал ни ненависти, ни угрызений совести, ни обиды. Взгляд Коломбины заставил замолчать все голоса, вплоть до этой секунды пытавшиеся докричаться до глубин его души и рассудка. Там, в этом саду чувств, цветы росли так же быстро, как множились могильные плиты. Он вдруг вспомнил о назначенной прогулке. Его ждали останки Джеппетто и, может быть, новый виток истории. Изогнув шею, Андреа отчаянно впилась губами в его руку. Уже решивший было уйти, он вдруг понял, что не может оставить соперника торжествовать. Коломбина умоляла его одним взглядом: «Не делай этого», но Федерико, как в бреду, приподнял незнакомца за плечи и резким движением развернул лицом к себе. Увидев это лицо, он почувствовал, что его сердце готово остановиться: любовником девушки был Марк. Федерико не смог сдержать отчаянного пронзительного крика.
Марк выглядел так же, как в тот день, когда утонул: все те же мешки под глазами, синяки и ссадины. На губах сверкала морская влага, и соленый запах морской воды донесся до Федерико. Коломбина раскрыла объятия, и он бросился к ней, стараясь скрыть лицо, прижавшись к ее белому телу. Он хотел спрятаться, скрыться, закопаться, сделать все, что угодно, лишь бы не видеть лица мертвого друга, разделившего ложе с его возлюбленной. Волна ужаса смяла, снесла, сломила его, и он потерял сознание – все ушло, все исчезло. Он погрузился в тяжелый сон, постепенно пожиравший все чувства и страх.
Очнувшись, он даже представить себе не мог, сколько времени провел в забытьи. Он понятия не имел, куда подевалась дочь Винченцо. Первым, кого он увидел рядом с собой, был взволнованный Антонио. Выразительно глядя на часы, он явно намекал, что им всем пора куда-то идти.
– Я его видел. Он был там, в постели, с ней, – были первые слова Федерико.
Мексиканец, не сдержавшись, рассмеялся, но в следующую секунду обратился к приятелю подчеркнуто примирительным тоном:
– Я очень сожалею, но сам понимаешь: как устоять перед такой женщиной? Надеюсь, это ничего не изменит в наших с тобой отношениях. Ведь у нас в жизни совсем другие приоритеты.
Было ясно, что Антонио не расслышал слов Федерико и пребывает в неведении относительно видения, от которого чуть не остановилось сердце итальянца.
Эспланада, протянувшаяся перед ними, заканчивалась на границе ботанического сада, как раз у решетки, отделявшей небольшой уголок, выделенный для представителей флоры Карибского региона. Почти всю дорогу оба актера молчали, а Федерико пытался прийти в себя, в чем ему отчасти помогла жевательная резинка, которую выдавали в самолетах, чтобы предотвратить приступы тошноты. Он мрачно жевал ее всю дорогу. За рулем сидел Винченцо. Прошло уже больше часа, как они выехали за городскую черту, оказавшись на незнакомом Федерико шоссе. На одной из развязок они свернули с автострады и поехали по какой-то второстепенной дороге. Неожиданно профессор Канали обратил внимание, что окружающий пейзаж резко отличается от типичного для сельской Тосканы. От лишних расспросов относительно особенностей ландшафта он решил воздержаться. Сидевшие сзади Антонио и Коломбина мило ворковали о чем-то, до слуха Федерико долетали лишь отдельные слова. День клонился к вечеру, до сумерек оставалась буквально пара часов. Ехали они все к той же обещанной могиле Джеппетто, обещанной Винченцо, которую тот вознамерился во что бы то ни стало показать друзьям.
Солнечные лучи тонули в плотном зеленом покрове крохотного уголка тропической сельвы. В тенистом полумраке воздух был настоян на аромате множества редких для этих мест цветов. Над вершинами деревьев виднелись крыши соседних вилл. Между клумбами и участками, целиком заросшими деревьями и лианами, оставались тропинки, кое-где перекрытые увитыми тропической зеленью арками. Границы «тропиков» были отмечены пунктирной линией росших по периметру ботанического сада огромных кипарисов.
Сад был заложен по приказу одного из местных аристократов еще в XVIII веке; своеобразный каприз предка продолжали холить и лелеять с завидным упорством все его потомки. Основатель же сада, человек весьма просвещенный, затеял такое нелегкое дело в память о неудачно закончившемся эксперименте одного исследователя, друга самого Линнея. Вплоть до начатого в XVIII веке обновления участка и проведения огромного количества земляных работ эта территория представляла собой заболоченный пруд; плодившиеся в нем комары разносили малярию по всей округе. Позднее сад стал местом создания одной из самых известных коллекций тропических растений, выращенных в неестественном для них климате. Сам ботанический сад, а следовательно, и окрестные деревушки привлекали не слишком многочисленных, но постоянно наезжающих специалистов-ботаников со всего мира.
Чуть в стороне от сада, за стеной из раскидистых дубов и увитых плющом беседок, виднелось величественное, но какое-то неприветливое и холодное здание. По словам Коломбины, там размещалась католическая школа-интернат для девочек. При этом Андреа обрушилась на учебное заведение с весьма резкой критикой. Она рассказала, что этот интернат, которым управляют действительно готовые отрешиться от всего мирского монашки, превратился не то в режимное учреждение, не то в своего рода убежище для непослушных девушек, так называемых трудных подростков, доставляющих много проблем своим семьям. И получилось так, что многие из этих семей в силу своего экономического положения, значительно превышающего средний уровень, могли себе позволить обеспечить своим непутевым дочерям весьма комфортабельное заточение с достаточно мягким внутренним режимом. Андреа де Лукка была в курсе некоторых историй, в результате которых в это закрытое заведение были помещены девушки из самых известных и влиятельных семей города. Ее пикантные рассказы помогли несколько снизить напряженную атмосферу, царившую в машине с самого отъезда. Кроме того, за разговорами остаток пути до могилы Джеппетто пролетел быстро и незаметно.
Федерико по-прежнему молчал и, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, пытался сосредоточиться на пейзаже за окнами машины. Кроме того, он уже подумывал о том, что ему, вполне возможно, придется возвращаться домой одному. Винченцо время от времени искоса посматривал на Федерико. Вскоре они свернули на совсем узенькую дорожку, которая вывела их к каменной арке, напоминающей искусственный грот. Вообще этот уголок больше всего походил на фрагмент какой-нибудь романтической картины, изображающей заброшенную старинную виллу. Антонио был просто в восторге. Коломбина тоже улыбалась, довольная тем, какое впечатление местные красоты произвели на мексиканца.
– Слушайте, все это чем-то похоже на дом моего отца. Занятное совпадение, ведь Пиноккио тоже был сыном Джеппетто.
Эти слова Антонио произнес по-испански, с привычным ему ярко выраженным мексиканским выговором. Федерико мысленно порадовался за него: с момента приезда в Италию он общался со всеми знакомыми только по-итальянски, а в испаноговорящем парне Федерико вновь узнал своего друга, куда более похожего на того Антонио, к общению с которым он уже давно привык. Услышав знакомые интонации, он почувствовал, что вновь по частицам восстанавливает в душе образ старого друга.
Дорожка становилась все уже и уже, а буйная растительность обступала ее все теснее. С правой стороны стена зелени была особенно плотной. Судя по всему, где-то там, вдоль дороги, тянулся оросительный канал или проходило русло небольшой речушки. Время от времени даже сквозь шум мотора и шелест набегающего потока встречного воздуха доносилось журчание воды. Вдоль обочины, почти на придорожных камнях, словно невысокая изгородь, поднимались плотные шеренги маков. Вскоре дорога уперлась в преграждавший ее большой крест из черного камня.
Наконец они оказались у того самого кладбища, путь к которому занял так много времени. Антонио вновь вспомнил о своем отце, которого похоронили на современном кладбище без всяких знаков религиозной принадлежности. Вся территория отцовского кладбища между могилами и дорожками была засажена яркими разноцветными цветами. Это буйство ароматов и красок не могло не привлекать внимания тех, кто приходил навестить усопших или же сопровождал траурные процессии. Любуясь пышными проявлениями жизни, человек волей-неволей участвовал в акте отрицания смерти, отказывался признавать ее торжество. Мексиканского актера, согласно его завещанию, похоронили в белом, сверкающем лаком гробу с золотой инкрустацией в виде его монограммы. Закатившаяся звезда кинонебосклона потребовала снимать ее на пленку и после смерти. Таким образом, помпезная траурная церемония осталась запечатленной навеки, как и лица людей, скорбевших по умершему. Естественно, организовал съемку не кто иной, как Хоакин, причем даже Антонио вынужден был признать, что сделано все было в высшей степени профессионально. Позднее на изображение наложили студийную запись музыки, которая – опять же по воле актера – сопровождала похоронные мероприятия. Теперь несколько песен Карлоса Гарделя и фрагменты из Героической симфонии Бетховена навсегда запечатлелись в слуховой памяти Антонио. Документальный фильм о похоронах актера стал свидетельством смерти, с одной стороны, наносящим болезненную рану жизни, а с другой – лекарством, помогающим противостоять всеразъедающей ржавчине забвения. Отец Антонио не собирался и не хотел умирать, но, как истинный актер, позаботился о том, чтобы в завещании, как в сценарии, были изложены все детали предстоящего спектакля под названием «Похороны звезды».
Винченцо заглушил мотор, остановив машину у высокой каменной ограды. Нигде вокруг не было видно больше ни единого автомобиля. Ощущение удаленности, изолированности от внешнего мира легко овладело сознанием профессора Канали. Они вышли из машины и прошли через узенькую калитку, открывавшую доступ на кладбище. За оградой центральная дорожка, уводившая вглубь участка, была достаточно широкой, чтобы четверо посетителей могли идти по ней в один ряд. Повсюду, и справа и слева, виднелись склепы и могильные плиты, увенчанные крестами, сделанными из разных материалов: кованое железо, старинное литье, уже тронутое ржавчиной, а кое-где и полированный белый мрамор, эффектно отражавший огоньки кладбищенских свечей, которые, несмотря на сильный ветер, горели у многих могил. Вдали над одним из холмов, за которым вот-вот должно было скрыться солнце, поднимался высокий столб черного густого дыма. «Кастаньоло, Джузеппе» – это имя было вырезано на первой расколотой мраморной плите, на которую упал взгляд Антонио. Чья-то заботливая рука соединила вместе осколки памятника и прислонила сломанную плиту к Дереву. Покойный, как гласила эпитафия, был портным, и его могильная плита была украшена изображением не то оскалившегося, не то улыбающегося черепа, перекрещенного двумя длинными портновскими иглами, чем-то напоминающими берцовые кости.
Кладбище казалось если не заброшенным, то по крайней мере редко посещаемым. Об этом красноречиво свидетельствовало состояние многих могил и склепов. Однако за отдельными захоронениями ухаживали тщательно и заботливо. Могильные плиты, кресты и памятники были очищены от мусора и отмыты. Лежали цветы, в основном желтые розы. Эти исключения одним своим существованием доказывали ошибочность постулата, согласно которому потомкам свойственно забывать ушедших в мир иной предков. Эпитафии – строгие, скорбные, иногда романтичные – будили воображение и лишь добавляли неуверенности и сомнений случайным прохожим: «Моей прекрасной супруге, которую в день ее девятнадцатилетия забрала у меня та, чье имя нельзя называть…» Коломбина как бабочка порхала между могилами и, прочитав очередную трогательную эпитафию, закатывала глаза, словно чувствуя себя виноватой за всех тех, кто покоился на кладбище.
– Да где же наконец эта проклятая могила, Винченцо? – нетерпеливо воскликнул Федерико.
– Я и сам не знаю. Мы должны найти ее. Мне известно только, что старик действительно похоронен где-то здесь. Зато когда мы ее найдем, само существование могилы станет доказательством для вас обоих. Надеюсь, после этого у вас не останется сомнений в реальности существования деревянного мальчика.
Коломбина скрылась за большим памятником, увенчанным статуей ангела, который, прижав палец к губам, призывал к молчанию. Рядом с ним на постаменте возвышался хрустальный куб с небольшим ковчегом внутри, на крышке которого значилось: «Здесь покоится человеческое сердце». На основании памятника была выбита краткая история двух людей, любивших друг друга при жизни. В самой могиле покоилась молодая женщина, а над ее останками в хрустальном кубе нашло упокоение сердце, учащенно бившееся при одном упоминании ее имени. На этом небольшом мавзолее не было указано никаких имен. По всей видимости, и мужчина, и женщина либо не захотели, либо не имели возможности даже после смерти открыть окружающим свои имена и признаться в связывавшем их чувстве. Теперь охрана тайны их трагической любви была поручена ангелу с прижатым к губам пальцем.
Антонио отошел чуть в сторону, за шеренгу цветущих кустов жасмина, посаженных так плотно, что они стали своего рода живой изгородью. Там, за этой зеленой стеной, находилась привилегированная часть кладбища. Памятники здесь были гораздо более помпезными – с коваными решетками и изразцовой отделкой. Даже после смерти богатые могли позволить себе выделиться, а их близкие – с особым шиком выразить свою скорбь. Федерико издали наблюдал за приятелем, чьи черные волосы были взъерошены ветром и небрежно убраны за уши. – Ты веришь в переселение душ? – спросила вдруг Андреа, угадавшая ход мыслей Федерико. – Думаю, что нет. Твоя индивидуалистская натура не позволит смириться с тем, что человеческая душа может принадлежать разным телам. По крайней мере уж свою-то душу ты точно никому не отдашь. Что ж, упаковка бывает разная, в том числе и одноразовая.
Не дав ему времени ответить, Коломбина отошла в сторону и, подойдя к Антонио, заговорила уже с ним. Только сейчас профессор Канали вновь вернулся к реальности и, оглядевшись, понял, что Винченцо куда-то исчез, а сумерки уже сгустились и вот-вот станет совсем темно. Он вновь почувствовал какую-то нереальность происходящего и в очередной раз задался вопросом, что он тут делает, – преподаватель университета помогает полусумасшедшим актерам найти нужное имя среди могильных плит на незнакомом кладбище.
Неожиданно послышался голос Винченцо де Лукки. Судя по интонациям, он все-таки нашел то, что им было нужно. Голос слышался отчетливо, но самого его нигде не было видно. Федерико жестом подозвал к себе Антонио и Андреа, и те лишь теперь обратили внимание, что голос Винченцо нарушает кладбищенскую тишину.
– Твой отец где-то тут рядом, но где именно – никак не пойму, – сказал Федерико, явно недовольный все новыми трудностями в их предприятии.
– Он в павильоне рядом с часовней, поэтому мы его и не видим, – суховато ответила Коломбина.
Они пошли в нужном направлении и, чтобы срезать угол, даже перешагнули через несколько мраморных могильных плит и headstones [28], не без удивления обнаружив, что на этом провинциальном кладбище покоятся представители самых разных народов и стран. Подойдя к павильону, они поняли, что им придется спускаться по уходящей от порога лестнице. Освещения в этом туннеле не было, и, по правде говоря, перспектива спускаться в подземелье не слишком вдохновляла обоих приятелей. Впрочем, отступать им было уже некуда.
– Прямо как ворота в Страну игрушек, куда навсегда отправляли слишком непослушных детей, – пошутила дочь Винченцо, слова которой, однако, не вызвали даже подобия улыбки на лицах Федерико и Антонио.
Спустившись по лестнице, они оказались в каменном коридоре, по стенам которого с обеих сторон тянулись ряды погребальных ниш. Откуда-то из темноты доносился голос старого де Лукки. Судя по звуку, пройти по коридору нужно было достаточно далеко. Прочитать эпитафии на плитах, закрывающих стенные ниши, в этой темноте было совершенно невозможно. Федерико испытывал одновременно страх и отвращение, Антонио же по-прежнему находился под впечатлением разницы между этим кладбищем и теми, к которым он привык в своей стране. Коломбина шла вперед уверенно и спокойно, будто бывала здесь уже не раз. Затхлый влажный воздух, насыщенный какой-то мелкой пылью, мог в любую минуту вызвать рвотный позыв. Наконец друзья разглядели в темноте почти распластавшегося вдоль стены Винченцо, похоже пытавшегося обнять одну из могильных плит. Надпись на плите он подсвечивал фонариком и знаками подзывал дочь и двоих друзей подойти поближе.
– Вот она, я ее нашел. Никаких сомнений.
Федерико и Антонио подошли вплотную, чтобы собственными глазами убедиться в правоте его слов. Федерико не без труда стал читать плохо различимую эпитафию: «Здесь покоится бедный старый Джеппетто, отец мальчика, порожденного лесом. Из дерева были его руки, из ствола дуба – его тело, и славился он своим особенным носом, который рос всякий раз, когда мальчик, по своему обыкновению, врал – изворотливо и бессовестно. 1877».
Если все это и было фальсификацией, то весьма убедительной: плита ничем не отличалась от остальных камней, прикрывавших могильные ниши в этом подземелье. Та же форма, тот же каллиграфический стиль надписи, та же отделка почерневшим со временем металлом по периметру. Федерико и Антонио посмотрели друг на друга, что, впрочем, не помогло им в этой темноте понять, какое впечатление произвела на каждого из них эта находка. Погребальная ниша не была похожа на очередную ложь о кукле, придуманной Коллоди. Коломбина торжествовала: молчание обоих друзей лишь подтверждало ее правоту. Каждый сейчас думал о своем, каждый корректировал свои представления обо всей этой истории и тайные надежды в соответствии с новой, только что полученной информацией.
Первым безмолвную гармонию, царившую в подземелье под часовней, нарушил Винченцо.
– Сила черепа – это и есть сила, дарованная ему ложью! – воскликнул он.
– В самом деле, так и есть, – подтвердила Коломбина. – и даже после смерти нос деревянной куклы продолжал расти, потому что смерть – это всего лишь очередная ложь, иллюзия.
Винченцо сделал шаг в сторону, намереваясь показать друзьям другие уголки подземелья.
– Посмотрите вот сюда, например, – любезным и в то же время почему-то угрожающим тоном проговорил он и направил луч фонарика на одну из ниш, соседствовавших с захоронением Джеппетто. – Профессор Канали, если вас не затруднит, прочтите, пожалуйста, что тут написано.
Федерико приблизил лицо к плохо освещенной плите и стал читать по слогам, словно подчиняясь ритму, навязываемому ему каким-то невидимым режиссером:
– «Винченцо де Лукка, актер, член просвещенного ордена Лесных братьев, Арлекин и офицер. Верный патриот города Флоренции. Тысяча восемьсот девяносто четыре».
От изумления Федерико прошиб холодный пот, но он сдержал готовый сорваться с губ крик. Он ни в коем случае не желал показывать свою слабость перед окружающими и тем более чувствовать себя рабом собственных эмоций.
– Что за странное совпадение! Читать эпитафию скончавшегося много лет назад человека, который стоит рядом и говорит со мной! Это почти то же самое, что взять утреннюю газету и увидеть в разделе некрологов объявление о собственной смерти.
Винченцо предложил прочитать надпись еще на одной плите, прикрывавшей очередную нишу в том же ряду. Федерико, подталкиваемый любопытством, не заставил себя упрашивать:
– «Андреа де Лукка, садовница и прима-балерина Национального театра. Родилась в Аусонии и погибла в борьбе за свободу. Тысяча восемьсот сорок восемь».
Судя по состоянию обеих плит и по качеству гравировки шрифта, надписи не трогали с тех пор, как они были впервые выполнены много лет назад. Получалось, что двое актеров просто-напросто присвоили себе имена и даже какие-то черты характера и биографии людей, живших в эпоху восстаний и борьбы за объединение страны. Оказавшиеся под подозрением и загнанные в угол, они были вынуждены присоединиться к обществу карбонариев. Покойные борцы за свободу вновь встретились в земном обличье во флорентийской ложе Бонапарта, а в силу своих актерских талантов сумели заново разыграть не то придуманные, не то присвоенные судьбы. Федерико давно понимал, что люди, сподвигнувшие его на вступление в братство, скорее всего не те, за кого себя выдают, и их более чем странное поведение обусловлено тем заданием, которое они выполняют по воле высших иерархов ордена добрых братьев.
Он решил уже было, что тайна могильных плит им раскрыта, но именно в этот момент Винченцо попросил его прочитать еще одну эпитафию на плите, с трудом угадывавшейся во мраке, дальше по туннелю. Деликатно положив руку на плечо профессора, он подвел его к нужной плите и направил на нее луч фонарика:
– Федерико, прочтите еще вот эту, последнюю, она будет для вас особенно интересна.
Федерико уже подался вперед, пытаясь разобрать с трудом читавшиеся буквы, как вдруг Антонио под влиянием какого-то внезапно вспыхнувшего в нем внутреннего порыва с ужасом закричал:
– Не надо! Мы не хотим больше ничего знать о ваших мертвецах. С нас довольно!
Однако Федерико, твердо решивший, что не даст себя запугать замогильными шуточками, приблизил лицо почти вплотную к плите и, чуть отодвинув державшую фонарик руку Винченцо, стал читать вслух освещенную желтоватым светом надпись:
– «Федерико Канали, преподаватель лингвистики и уполномоченный Итальянской Республики. Внес большой вклад в великое дело. Тысяча восемьсот девяносто».
Как ни пытался Федерико скрыть охватившее его изумление и испуг, ему это не вполне удалось. Сомнении не было: эта ниша была приготовлена именно для него и готова принять его останки в любую минуту. Указанный на плите год совпадал с годом смерти Карло Лоренцини; не хватало лишь точной даты перехода покойного в лучший мир. Кто-то, по всей видимости, решил, что он слишком много видел и знает. Может быть, ему суждено умереть прямо сейчас. Такая трактовка происходящего напрашивалась сама собой, но признать ее неизбежность у Федерико почему-то не получалось.
Он обернулся. Антонио, похоже, был напуган не меньше его, а Коломбина, холодная и бесстрастная, как игла, уколовшая палец швеи, смотрела на него молча, без тени сочувствия. В последней отчаянной надежде Федерико перевел взгляд на лицо Винченцо, мысленно умоляя старика проявить хотя бы намек на сострадание, а быть может, даже негодование по поводу вершившейся прямо у них на глазах необъяснимой несправедливости.
– Похоже что игра зашла слишком далеко, – печально сказал Федерико. – Последние часы, проведенные с вами, превратили мою жизнь в настоящий кошмар.
В этот момент Антонио словно очнулся. Глухим, почти замогильным голосом он заявил, что полностью присоединяется к словам своего друга и уже по горло сыт всякими дурацкими тайнами, а кроме того, устал от чужих амбиций и от желания малознакомых людей поживиться за его счет. Он только недавно пережил смерть отца и, еще не оправившись от горечи утраты, вдруг оказался в самом неприятном месте на свете – на кладбище, где ему, видите ли, оказали великую честь, позволив полюбоваться на могильные плиты с именами тех людей, с которыми он в данный момент разговаривает.
Винченцо слушал его гневную речь с неплохо разыгранным вниманием, а Коломбина откровенно поглядывала на часы. Она явно спешила, и ее бесстрастные, холодные глаза все время смотрели в сторону выхода. Снаружи, за стенами пристроенного к часовне павильона, было уже совсем темно. Редкие фонари освещали верхушки деревьев, а также кресты, памятники и плиты. Покрытая травой земля, дорожки, цветы, кусты – все это было погружено в темноту, а мрамор и кованое железо словно висели в черной пустоте.
Поднимаясь по лестнице бок о бок с Антонио, Коломбина взяла его за руку и что-то зашептала на ухо. Он так и не понял, чего было в ее словах больше – угрозы или предупреждения об опасности.
– Только присутствие черепа может продлить нашу жизнь и отсрочить назначенную дату нашего перехода в другой мир.
Три дня, предоставленные друзьям перед назначенной им встречей с Советом добрых братьев, были своего рода отсрочкой приговора, который, как они надеялись, все-таки не будет смертным. Федерико снял номер в той же гостинице, где остановился Антонио. Ни тот ни другой ни под каким предлогом не захотели принять приглашение комедиантов провести время в их доме. Ни Арлекин, ни Коломбина не были теми людьми, с которыми можно было бы обрести покой и сосредоточиться на выработке линии защиты в деле о пропавшем черепе, принимавшем для обоих друзей нежелательный оборот. По правде говоря, шансы оправдаться были у них невелики. Антонио не сберег череп в Мексике, а рассчитывать на то, что за оставшееся время удастся найти его здесь, можно было только как на чудо.
– Нам конец, – заявил Федерико, без особого аппетита ковыряясь вилкой в поданных на ужин макаронах. – Если ты не найдешь череп до собрания Совета, я даже не знаю, что с нами будет. Я вообще не понимаю, почему с нами до сих пор ничего не сделали, но уверяю тебя: если клятва, которую я произнес, хоть чего-нибудь стоит, то жить мне осталось недолго.
Антонио, казалось, его совсем не слушал. Перебив Федерико на полуслове, он вдруг стал задавать ему вопросы, касающиеся биографии автора «Пиноккио» и обстоятельств жизни самой марионетки. Федерико с удовлетворением отметил, что перед ним тот самый, хорошо знакомый ему Антонио – неунывающий, мыслящий парадоксально и в то же время предельно логично, дерзкий в суждениях и выводах, он всегда поражал Федерико умением вести спор совсем не так, как было принято в его университетском кругу. Происшедшая с мексиканцем метаморфоза не могла не порадовать Федерико, которому сейчас так не хватало мужества и уверенности в себе.
– Лоренцини ведь основал журнал «Иль Лампионе»,[29] правда? Цензура закрыла его после восстания тысяча восемьсот сорок восьмого года. Одиннадцать лет спустя он вновь стал издавать этот журнал в ознаменование объединения Тосканы и Пьемонта: в этом событии он узрел начало триумфального объединения всей Италии. На этом героический этап его биографии заканчивается, нить литературной деятельности обрывается, и мы вновь узнаем о его работе лишь в момент основания «Il giornale per i bambini»[30] – первого в итальянской истории периодического издания специально для детей.
– Все правильно! – подтвердил Федерико. – Возникает ощущение, что борец-патриот вдруг превратился в педагога, причем это превращение произошло внезапно, без всяких промежуточных стадий. Политика вновь привела его какими-то неисповедимыми путями к детству.
– А затем, – продолжал рассуждать уже совсем преобразившийся Антонио, – в первом же номере нового издания появляется глава из «Le aventure di Pinocchio»,[31] которые в то время выходили под названием «Storia di un burattino».[32] Похоже что нашу марионетку дергал за ниточки не сказочник или учитель, а самый настоящий политик, который детским языком представил читателям сюжет на тему жизни и поступков его соотечественников.
– До этого момента жизнь Пиноккио нам хорошо известна, но дальше, – Федерико вскинул брови, подчеркивая свое неведение, – все теряется в сплошном потоке догадок и предположений.
– Нет, нет. Нам известно, что Карло Лоренцини умер в тысяча восемьсот девяностом году, как и ты, – Антонио не смог удержаться от шутки на тему якобы заготовленной для Федерико ниши в склепе, – а похоронен он был на кладбище Сан-Миньято аль Монте, здесь же, во Флоренции. С тех пор история деревянной куклы буратино зажила своей самостоятельной жизнью, как сирота, оставшийся без родителей, но в то же время свободный от всяких ограничений, которые могли бы помешать ему добиться успеха. И спрашивается, кто мог прибрать к рукам несчастную куклу, как не братство? Кто превратил его в самую известную марионетку Италии, если не патриоты из ордена карбонариев? Вспомни! Вспомни, как говорит Пиноккио: «Pieta, signor Cavalieri! Pieta, signor Commendatore! Pieta, Eccellenzza!».[33] Получается, что когда наш деревянный мальчик умоляет сохранить ему жизнь, то он обращается к человеку, от которого зависит его судьба, называя его иерархическими титулами, принятыми в обращении братьев к магистру ложи.
Эти объяснения показались Федерико вполне убедительными. Тем не менее он никак не мог избавиться от сомнений по поводу истинных намерений мексиканца. Эта мысль не давала ему покоя. Ему время от времени начинало казаться, что Антонио приехал во Флоренцию специально для того, чтобы сдать его на суд братьев в качестве искупительной жертвы и таким образом обрести хотя бы временную свободу, чтобы спокойно заняться поисками черепа, а если повезет, то и стать его единоличным обладателем.
– Антонио, – без особого энтузиазма сказал он, – на это я расскажу тебе другую историю – об одном итальянском революционере по имени Джузеппе Мадзини, которого мы для краткости можем называть просто Джеппетто. Он автор книги, красиво и эффектно названной «Giovine Italia».[34] Она оказала большое влияние на молодых националистов, которые все поголовно прочли ее и, воодушевленные ее идеями, создали что-то вроде секты, которую назвали «Figliuoli dйlia Giovine Italia».[35] А не хочешь ли ты узнать, как звали основателя этой тайной организации? – В этом месте Федерико сделал паузу, желая поразить явно заинтригованного Антонио эффектным ответом. – Это был человек по имени Бенедетто Муссолино.
Мексиканец рассмеялся в полный голос. Он выглядел настолько довольным жизнью, что, казалось, совсем забыл о грозившей им обоим опасности.
– Вот тебе еще одно имя с могильной плиты, присвоив которое появился на свет другой знаменитый актер нашей новейшей истории: Бенито Муссолини.
– Вот именно, – подтвердил Федерико. – Все три этапа, изложенные в программе «Молодой Италии», предполагали радикальные и довольно-таки жесткие действия. На первой стадии было намечено изгнать из страны иностранцев и искоренить их влияние, полностью уничтожить абсолютизм, добиться национального единства и создать революционную диктатуру демократической партии.
– Фантастика! – зааплодировал Антонио, мало искушенный в политических лозунгах и программах. – По-моему, их намерения действительно были весьма радикальны.
– Второй этап, – продолжал Федерико, – заключался в воссоздании управляющего органа, основы которого были заложены еще в эпоху империи, под названием «Padres de la mision suprema».[36] Эта организация должна была преобразовать общество под неусыпным наблюдением некоего верховного руководителя, резиденцию которого следовало разместить в традиционном центре страны – Риме.
– То есть новый Папа? Или цезарь? И чего же все-таки добились эти младоитальянцы? – поинтересовался Антонио уже чуть более спокойным тоном.
– Можешь спросить об этом Пиноккио, нашего великого мастера лжи и обмана! – заключил Федерико, вставая из-за стола.
Высказав Антонио свои мысли, он вдруг понял, что до сих пор просто не имел возможности изложить их на бумаге или хотя бы четко сформулировать для себя; и вот сейчас, когда время, отмеренное ему для жизни на этом свете, подходило к концу, он внезапно понял, что именно здесь, в его древней и в то же время такой молодой стране, и был скрыт сакральный смысл этой сказки. Вновь обрести утраченную реликвию, по всей видимости не случайно оказавшуюся не в могиле, а в досягаемости тех, кто еще не перешагнул грань царства смерти, было для него своего рода патриотическим долгом, тем поступком, которым он мог сделать свой вклад в дело возвращения Аусонии великой мечты о подлинной свободе.
Профессора Канали сжигала жажда действия, причем действия единоличного и героического. Ближе к ночи он вышел из гостиницы, воспользовавшись тем, что его друг безмятежно уснул. Самому ему было совершенно не до сна. Гуляя по ночному городу, он вышел на набережную. Освещенные окна почти нависали над водой на противоположном, плотно застроенном берегу. Свет отражался в гладкой и словно неподвижной воде. Тени, казалось, соскальзывали с величественных куполов, и красота города скрывалась за черным бархатным занавесом. Все это было театром, той сценой, на которой ему, совершенно неопытному и, быть может, бесталанному актеру, предстояло сыграть самую важную в своей жизни роль. Федерико был здесь человеком новым и прекрасно понимал это. С тех пор как он сделал шаг за пределы профессиональной рутины и погрузился в изучение истории марионетки, его прошлое превратилось в практически несуществующие воспоминания. С другой стороны, новые чувства и впечатления вели его туда, где раньше ему бывать не доводилось, в такие места, о существовании которых он даже не подозревал. Здесь, в этом театре, Марк все еще был жив, о чем шептала струящаяся внизу вода. Точно так же дождь в Слэптоне подтвердил мелькнувшее у него в душе подозрение, что Ада Маргарет – не кто иная, как древняя Цирцея южных морей. На оборотной стороне крышки шкатулки, купленной им у старухи Лурдель, был выгравирован портрет изящной, аристократического вида молодой женщины, почему-то повернувшейся к художнику в профиль, отчего ее изображение стало похоже на монету, у которой нет оборотной стороны.
Коломбина освободила его от атавистического стыда; даже ради одного этого стоило познакомиться с ней. Женщина, которая общается с мертвыми и знает самые труднодоступные уголки кладбищ, где нет еще ни одной могилы. Джон Ди открыл окно западному ангелу и впустил в свой мир страдания католиков и кровь Гая Фокса, тайком, как пират, пробиравшегося к основанию стены вброд по пыльному морю пороха.
Ему срочно требовалось какое-то оправдание всему происходящему, что-то достойное внимания и уважения, иначе безумие могло оказаться сильнее его и он вполне мог свести счеты с жизнью, бросившись в воду самой милой его сердцу реки в Италии. Карло Лоренцини создал сказку, повествующую о старой педагогической традиции. Воспитание – это создание новой страны, рождение родины, подготовка детей к борьбе. Из этих детей должны были вырасти просвещенные юноши, такие как Мадзини, Бенедетто Муссолино или же его потомок Бенито, итальянский дуче, человек, говоривший на пяти языках. Он вдохновил своих учителей на то, чтобы они сформулировали для него окончательный, не подлежащий пересмотру не то приговор, не то диагноз: «Молодой человек, несовместимый с системой школьного образования». Именно ему, будущему дуче, как никому другому, потребовалась педагогическая система Карло Лоренцини. С ее помощью он стал великим актером, новым главным героем народного театра – «Комедии». Наполеоновская попытка нарушить внутреннюю субординацию ордена привела его на суд Великого фашистского совета, по приказу которого он и был казнен.
Музыка, доносившаяся из маленького кафе, открытого даже в такой поздний час, отвлекла профессора Канали от его мыслей. Кафе называлось «Гамберо Россо» – это была таверна Пиноккио. Осознав это, он ощутил, что у него вспотели ладони, а самого его начало трясти мелкой дрожью. Страх, который стал его верным спутником в последние дни, вновь обрушился на Федерико, как лавина. Да, он боялся, боялся всего, включая возможное предательство со стороны лучшего друга. Боялся сделать лишний шаг, чтобы не злить тех, кто за ним наблюдает, но при этом продолжал добиваться обладания той вещью, которая как раз и лишила его свободы действий. В этом новом, полном страха мире все происходило как в театре – даже умершие и похороненные герои вставали из могил и возвращались на сцену. В общем, у Федерико были веские причины, чтобы чувствовать себя слабым, беззащитным и постоянно испытывать чувство страха. И все же – зачем сдаваться раньше времени? Череп существует, причем эта костная ткань вовсе не мертва, а готова одарить мир новой формой жизни. «Может быть, я и Антонио сужу слишком строго, – убеждал себя Федерико. – Если бы он хотел владеть черепом единолично, он бы не стал делиться правом на эту тайну с друзьями. В конце концов, это он его купил, заплатил хорошие деньги, а все, что было потом, произошло лишь потому, что он решил разделить с друзьями возможности, которые открывала перед ними эта странная находка».
Смерть Марка смешала все карты и ускорила течение времени в спектакле. Антонио открыл в Мексике второй фронт поисков разгадки черепа, но в пылу борьбы не заметил, как драгоценную находку у него похитили, причем сделали это, судя по всему, самые близкие его семье люди. Федерико укорял себя за то, что не оценил по достоинству поступок мексиканца: тот ведь забросил все дела и попытки найти череп ради того, чтобы приехать сюда и увидеться с ним, чтобы предупредить его о грозящей опасности, чтобы, в конце концов, просто быть рядом с ним, облегчить горе, охватившее Федерико после самоубийства Марка. Об этом Федерико думал за бокалом темного, почти черного вина в кафе «Гамберо». Если новая для него театральная реальность развивается по сюжету сказки о деревянном мальчике, то здесь, в таверне Пиноккио, вот-вот должны появиться отрицательные персонажи – лиса и кот. Они, судя по всему, постараются убедить его в неоспоримых преимуществах какого-нибудь неведомого ему спасительного средства. Вдруг он вспомнил, что вышел из гостиницы уже за полночь. Антонио вполне мог проснуться и постучаться к нему в соседнюю комнату. «Не обнаружив меня посреди ночи, – подумал Федерико, – он наверняка сначала страшно испугается, а затем отправится на поиски. Это я как-то упустил из виду», – признался он самому себе, прикидывая, не пора ли возвращаться в гостиницу, чтобы по крайней мере предупредить Антонио.
Дверь в «Гамберо Россо» была деревянной, со множеством окошечек, интерьер выдержан в модернистском стиле, с большим количеством кованого железа в элементах обстановки и в декоре. Привлекли внимание Федерико и изящные керамические светильники. Столы здесь были круглые, столешницы из красного мрамора с белыми прожилками – очень похожего на тот, которым был вымощен пол во дворце Бонапарта. Размышления Федерико были прерваны появлением в кафе двух человек, в которых он без труда узнал старого Винченцо и его дочь, очаровательную Коломбину. Оба они явно нервничали. Федерико спрятался за одной из колонн, деливших зал таверны на несколько секторов. Ситуация складывалась совершенно непредсказуемо. Двое заговорщиков проследовали к барной стойке, где с ними приветливо, как старый знакомый, поздоровался молодой человек с набриолиненными, зачесанными назад волосами. Музыка в кафе звучала просто великолепная – «Гольдбергские вариации» Баха исполнял на оригинальных инструментах замечательный музыкант Тревор Пиннок. Англичанин при дворе итальянских фараонов. Винченцо заговорил с другим мужчиной, примерно одного с ним возраста. Федерико присмотрелся и понял, что это не кто иной, как тот самый библиотекарь-архивист из Национальной библиотеки, который, собственно говоря, и направил его к Винченцо. Человек, спасший рукописи Данте от потопа, считавшийся в своем кругу непререкаемым авторитетом во всех гуманитарных дисциплинах. Коломбина поискала глазами свободный столик и чуть не выбрала тот, что находился от Федерико буквально в шаге. Если бы не неверный свет, пробивавшийся сквозь разноцветные стекла модернистских фонарей, она, без сомнения, разглядела бы прижавшегося к колонне Федерико. Но везение не отвернулось от него окончательно: Андреа де Лукка увидела свободные стулья в дальнем от него углу. Профессор Канали вздохнул с облегчением.
Чуть позже к кружку присоединился еще один человек, которого Федерико не узнал. Он был седой и довольно высокий. Судя по манере держаться и по тонким рукам, он принадлежал к аристократии. Незнакомец подключился к разговору легко и непринужденно, как если бы общение было прервано всего пять минут назад.
Когда-то Пиноккио мечтал стать хорошим актером, теперь же все актеры мечтали стать Пиноккио или хотя бы получить роль в его сказке. В этом и заключалась единственная правда, на которую можно было опереться, чтобы не потеряться в будущем. В 1911 году итальянский граф Джулио Чезаре Антаморо впервые в истории кино создал экранизацию истории ожившей марионетки. Фильм был, естественно, немой, но его метраж был по меркам той эпохи просто огромным. Сам Антаморо вручную раскрасил пленку, а на главную роль был приглашен знаменитый в те годы актер варьете, выступавший под псевдонимом Полидор. Федерико сумел раздобыть сведения о недавней реставрации фильма. Судя по обрывочным сведениям, фильм был заново обработан в проявочной лаборатории, а затем восстановлен с помощью цифровых технологий. Чье-то щедрое пожертвование позволило не только восстановить основной вариант фильма, но и добавить ранее вырезанные фрагменты и считавшиеся утраченными кадры. Меценат, передавший деньги на этот проект, пожелал остаться неизвестным, но ему не удалось скрыть свою национальную принадлежность. В прессу просочилась информация, что некий мексиканец через Интернет заключил контракт со студией и лабораторией, которые разыскивали по всему миру любые фрагменты ленты и сведения, прямо или косвенно касающиеся первой известной экранизации сказки Коллоди. Узнав, откуда поступили деньги, Федерико сразу же подумал, что это дело рук Антонио. Но, рассудив здраво, он был вынужден признать, что это неверная мысль. В конце концов, сам Антонио рассказал ему, что в доме актера оставались и его бывшая жена, и Хоакин, в распоряжении которых было и достаточно средств, и возможность переводить их куда бы то ни было, пользуясь старыми электронными счетами, принадлежавшими скончавшемуся актеру. Судя по всему, клубок интриг и заговоров перекинулся уже на другую сторону Атлантики.
Мать Антонио в свое время была достаточно известной актрисой, отказавшейся от артистической карьеры ради брака с мексиканской звездой. Тот факт, что она просто-напросто бросила своего сына и отказалась от весьма завидного социального положения, был для профессора Канали вполне основательной причиной не доверять ей. Впрочем, вплоть до настоящего времени ему не удалось установить какую-либо связь между этой женщиной и пропажей черепа. Ада Маргарет Слиммернау вполне могла бы рассказать кое-что интересное о ней; женщины наверняка были знакомы лично, но расспрашивать Аду о чем бы то ни было Федерико считал пустой тратой времени. С другой стороны, мажордом виллы Сересас, взявший на себя слишком большие полномочия, которые ему, собственно говоря, никто не передавал, играл в этой истории явно не последнюю роль. Впрочем, его деятельность на посту управляющего поместьем после смерти владельца осуществлялась в полном соответствии с мексиканскими законами. До момента окончания судебного дела о наследстве умершего актера было бесполезно оспаривать право Хоакина находиться в поместье и держать под присмотром все имеющееся в роскошном особняке имущество. Сам актер очень усложнил ситуацию, оставив не просто завещание, а документ с десятками приложенных к нему позднее дополнений и распоряжений. Судя по всему, еще какие-то сюрпризы могли всплыть после вскрытия арендованных покойным сейфовых ячеек в некоторых швейцарских банках. Бедный Антонио вконец запутался и не понимал, откуда вдруг появилось столько претендентов на отцовское имущество и почему вокруг него самого закрутились столь странные события.
Согласно основному завещанию, единственный сын актера объявлялся и единственным его наследником, чье право на имущество умершего отца являлось преобладающим над любыми требованиями и претензиями других лиц. Но если все так ясно и однозначно сформулировано, то на что, спрашивается, рассчитывал Хоакин? Какие планы он строил, снимая на пленку панихиду и похороны? Почему он так держался за свое пребывание в Сересас и, самое главное, почему так настаивал, чтобы именно ему была передана на ответственное хранение самая большая в стране коллекция старых фильмов?
Федерико задавал себе все эти вопросы, наблюдая за сидевшими в дальнем конце зала Винченцо и Андреа де Лукка. Вскоре к их компании присоединились еще двое: высокая некрасивая женщина с каким-то неестественным цветом лица и дородный мужчина, чье лицо, напротив, было налито кровью. В данный момент они оживленно что-то обсуждали, и аристократу даже пришлось призывно поднять руки, чтобы высказать какое-то суждение, касавшееся, по его мнению, всех присутствовавших. Некрасивая женщина время от времени с презрением поглядывала на Коломбину, которая с олимпийским спокойствием этого не замечала. Винченцо наклонился к библиотекарю и что-то нашептывал ему на ухо. Все это представляло собой на редкость отталкивающее зрелище, и Федерико даже посмеялся сам над собой, над своими страхами и над тем самым временем, которое, как он полагал, работало против него.
Антонио проснулся и обнаружил, что его друга в гостинице нет. Это немало озадачило его и расстроило. В голове кружились невеселые мысли: Федерико ушел, бросил его одного в чужом городе, в чужой стране, где и говорить-то ему приходилось, коверкая язык настолько, что его речь превращалась в жалобный, униженный плач. В некотором роде такое жалкое существование его, конечно, устраивало: выброшенный из обычного окружения, он словно оказался вне привычного достатка и возможности покупать комфорт существования за деньги. Что ж, не зря он так усиленно бежал от своего богатства все последние годы, пытаясь стать кем-то вроде Пиноккио, который мог противопоставить злой воле окружающих лишь свою хитрость и накопленный за время нелегких приключений опыт. Ему не было дела ни до огромного состояния отца, ни до той славы, которую он, как единственный потомок, должен был унаследовать вне зависимости от того, как разделили бы в суде отцовское имущество. Нет, в жизни ему была теперь интересна лишь та судьба, которую он выбрал для себя сам – в тот вечер на Гаити в компании двух самых близких друзей. Но дружба дружбой, а он остался один – запутавшийся в простынях, в чужом городе, в какой-то странной гостинице более чем сомнительного уровня. Федерико бросил его, и, вполне вероятно, бросил навсегда. Да, итальянец действительно не доверяет ему. Нужно было предположить такой ход событий и постараться как-то развеять сомнения друга. Впрочем, как можно убедить взрослого человека в том, что ему нужно срочно уезжать из родной страны на другой конец света? Сам Антонио был уверен, что дома, в Мексике, он сумел бы защитить и себя, и Федерико. Никакие длинные руки карбонариев не дотянулись бы до них через океан, никакие запачканные кровью ногти не грозили бы разорвать их там, под защитой камня Солнца. А если бы даже и возникла какая-то опасность, у себя дома Антонио знал бы, что делать и к кому обратиться за помощью. Тот же Ласло смог бы спрятать их, пока не кончится эта черная полоса в их жизни. Не зря же адвокат сумел ускользнуть от нацистов и преодолеть все ловушки, расставленные после войны американцами для таких, как он. Ласло был необыкновенным человеком, уж он-то никогда бы не бросился в волны Слэптонского залива. В жилах этого венгра текла самая густая кровь в мире. Он, наверное, смог бы ужиться с кем угодно, даже с инопланетянами. После всего, что он пережил и видел, его не надо было убеждать в том, что жить нужно столько, сколько тебе отпущено, и цепляться за эту жизнь всеми силами. Ласло не только сумел выжить, но и просто потерял способность умирать. Антонио встал с кровати и дотянулся до телефона. Ему не пришло в голову прикинуть, который сейчас час в Мексике, а уж тем более подумать о том, насколько это время было подходящим для звонка. Набрав номер Ласло, он услышал в трубке длинные гудки. Когда Антонио уже был готов повесить трубку, на другом конце провода послышался голос секретарши. Узнав его, она сразу же переключила звонок на кабинет адвоката.
– Ты где? Куда ты, черт возьми, провалился? Мне уже давно нужно поговорить с тобой, – этими словами начал разговор адвокат.
– Я в Италии. Извини, что не предупредил, но откладывать поездку было нельзя. Мне, кстати, тоже нужно поговорить с тобой, и очень срочно.
– Ладно, давай ты первый, – не столько уступил, сколько распорядился Ласло, пребывавший явно не в лучшем настроении.
– Тут столько всего случилось, но сначала ты лучше скажи, не нашелся ли череп и не сумел ли ты получить в суде какое-нибудь постановление, благодаря которому мы могли бы попасть в дом отца.
– Ни того ни другого, – ответил адвокат скептическим тоном, – никаких заметных подвижек не произошло, но я тебе вот что скажу: тут у нас тоже странные вещи творятся. Хоакин пропал, и никто не знает, где он. Я хотел связаться с ним, чтобы попробовать решить конфликт между вами в досудебном порядке. Меня удивило, что к телефону на вилле никто не подходит. Устав от звонков, я снова поехал в поместье, но мне никто не открыл. В окнах было темно, все закрыто, занавешено и заперто. Увидев такое, я сумел добиться в суде разрешения войти в вашу виллу. Там все находится в полном порядке, никаких видимых перемен и пропаж я не обнаружил, но Хоакин как сквозь землю провалился. Он куда-то уехал, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. А поскольку от тебя я тоже новостей давно не получал, то уже начал беспокоиться. Если честно, у меня такое ощущение, что вы все с ума посходили!
По голосу Ласло было понятно, что он нервничает. Судя по всему, ему нелегко дались эти дни, когда и Хоакин, и Антонио внезапно пропали. Похоже было, что эта ситуация потребовала от адвоката такого напряжения, что теперь он находился на грани нервного срыва.
– Немедленно закажи два билета на самолет из Флоренции на ближайший рейс. Жизнь Федерико находится в опасности, как и моя. Уладь все с билетами и сообщи мне, когда вылет. Звони в любое время. Если же от тебя не будет новостей, я сам перезвоню тебе завтра.
Тем временем в «Гамберо Россо» продолжался веселый вечер. Посетители развлекались от души – по крайней мере так казалось Федерико с его стратегически верно выбранного наблюдательного пункта. Похоже, и Коломбина нашла чему порадоваться, сумев разозлить свою некрасивую собеседницу. Казалось, та была готова наброситься на девушку, которая на каждое ее слово вставляла какое-нибудь едкое замечание. Посетителей в таверне тем временем прибавилось, и помещение быстро затянула густая пелена табачного дыма. Бармен сменил музыку, и теперь по залу разносилась сбивчивая, но ритмичная дробь карибской перкуссии. По соседству слышались возгласы на французском языке. Пышнотелая, свирепого вида мулатка раздавала посетителям меню. За одним из столиков ее клиентами были трое мужчин, сплошь покрытые татуировками. Федерико решил, что настал самый подходящий момент, чтобы тихо исчезнуть.
Он подошел к барной стойке, стараясь не смотреть в сторону столика, за которым сидели карбонарии, по-детски наивно рассчитывая, что если он не будет на них глядеть, то и они его не увидят. Больше всего на свете ему сейчас хотелось обладать тем сверхъестественным даром, о котором рассказывали Пол и Ада, – той редчайшей способностью, какой обладали потомки Гая Фокса, заколдованного Джоном Ди. Сейчас Федерико очень бы не помешало умение находиться душой и телом в разных местах, а самое главное – быть нечувствительным к физической боли.
Он жестом подозвал официанта и рассчитался, не поднимая глаз. Забирая сдачу, он вдруг почувствовал чье-то прикосновение. Он решил, что его обнаружили, и попытался разыграть досаду по поводу столь некстати нарушенного уединения. Молча, стараясь придать лицу надменное и недовольное выражение, он повернул голову в ту сторону, откуда к нему прикоснулась чья-то рука. Все его актерские усилия мгновенно пошли прахом, когда вместо человеческой конечности он увидел гладящую его рубашку черную кошачью лапку. Вот он, тот самый зверь, который подкараулил Пиноккио, чтобы отобрать у него злосчастные монеты.
Федерико так и не узнал, сам ли он упал в обморок, или же его ударили сзади по голове. В любом случае он на какое-то время отключился и не помнил, что происходило вокруг и что делали с ним самим. Несколько часов спустя он очнулся повешенным на ветке огромного дуба и сразу же понял, что задыхается. Воздуха в легкие поступало все меньше, и было ясно, что если его в ближайшие минуты кто-нибудь не спасет, то смерть неизбежна. На шею была наброшена петля, узел которой медленно затягивался. Федерико даже вспомнил, что уже видел точь-в-точь такую же веревку, она украшала стены дворцового зала в тот самый день, когда он приносил клятву верности карбонариям. С его точки зрения, данной присяги он не нарушал, и, судя по всему, лишь желание найти череп и разгадать его тайну стало причиной столь печальной развязки. Он все еще отказывался верить, что столь преждевременный финал его жизни наступил по причине недопонимания, которое возникло в его отношениях с добрыми братьями. Федерико и сам не знал, почему мучается этим вопросом в последние мгновения жизни, когда сознание уже оставляло его, а близость смерти делала, как ни странно, более свободным. Он заметил, как какая-то теплая жидкость растеклась по его ногам и как в следующую секунду судороги заставили отчаянно дергаться и извиваться все его тело.
«Мы, фашисты, должны демонстрировать свое присутствие везде, где только можно; мы должны вырваться из безвестности и серости, которая нас окружает», – прокричал Муссолини на первом фашистском конгрессе, проводившемся во Флоренции 9 октября. Младший брат Габриэле д'Аннунцио и пройдоха-внук Джеппетто Мадзини, он хотел вырваться из мглы посредственности, которая превращает человека в частицу безликой толпы и подавляет невинные, не способные сопротивляться серой массе души. И все же его настоящей болезненной слабостью был меланхолический романтизм, свойственный людям, с которыми родители или окружающие плохо обращались в детстве. Именно из этого изощренного романтизма и выковывались те идеи, под знамена которых вставали шеренга за шеренгой все новые последователи, готовые поднять восстание против унылой окружающей реальности. Муссолини тоже читал историю деревянной куклы и вынес из этой сказки один важный для себя урок: хозяин театра Манджафуоко мог сжечь кого угодно, хоть всех своих актеров-марионеток, но никакое пламя не способно повредить нити, дергая за которые настоящий режиссер направляет ход всей комедии.
В глазах у Федерико потемнело, жар с математической неизбежностью сменился ознобом, удушье заставляло тело биться в конвульсиях, как затянувшийся оргазм. Не имея возможности опереться ногами о землю, он осознал легкость человеческой плоти. Раньше он даже представить себе не мог, насколько хрупка физическая жизнь человека. В эти трагические секунды лишь одно помогало ему вырваться за рамки столь ненавистной Муссолини серости и заурядности: даже не сама смерть, а то, каким образом его решили лишить жизни. Казалось бы, элементарное, даже пошлое событие, но в то же время не лишенное своеобразной эксклюзивности, которую фашисты, эти чудовища вечности, пытались нивелировать количеством смертных приговоров, приводившихся в исполнение именно через повешение. Сейчас, свисая с векового дуба, Федерико ощущал себя способным пронести свои идеи через века и эпохи, призывая народ к восстанию и возрождению и попутно огнем и мечом уничтожая целые поколения тех, с кем плохо обращались в детстве. Педагогическая система Коллоди была категорически против столь жестокого обращения с детьми. А Пиноккио, этот новый Адам, созданный из дерева, чуть было не обуглился, стараясь донести до окружающих великую ценность своего жизненного опыта.
Во всем этом бреду Федерико время от времени с сожалением вспоминал, что не успел попрощаться с Антонио. «Что он подумает, когда узнает о моей смерти? А Коломбина – заплачет ли она? И все же, если правда, что Марк не умер, а продолжает жить, только как-то иначе, то, наверное, и я не исчезну окончательно и смогу возвращаться сюда, чтобы продолжать начатое при жизни дело. Актеры замуруют мое мертвое тело в стенную нишу сурового подземелья на каком-то далеком провинциальном кладбище, но я не удовольствуюсь вечным покоем и приятным беззаботным времяпрепровождением». Чтобы умереть, тоже требуется сила воли – той самой воли, которой Федерико в себе не ощущал, так как полагал, что время исчезнуть навсегда еще не пришло.
Глава восьмая
Антонио проснулся с первыми лучами солнца и, увидев, что Федерико в номере все еще нет, не на шутку разволновался. Он стал собираться, готовый немедленно предпринять самые решительные действия, чтобы найти друга. Он был готов просить о помощи кого угодно, даже парочку актеров де Лукка, лишь бы его усилия не оказались напрасны. Примерно в это же время ему позвонил Ласло: два билета были заказаны, и друзья могли отправляться в аэропорт, чтобы улететь из Италии первым же трансатлантическим рейсом. Мексиканец поблагодарил адвоката за выполненную просьбу и пообещал больше не предпринимать никаких шагов, не посоветовавшись или, по крайней мере, не сообщив, куда собирается ехать. К сожалению, в данный момент неожиданное исчезновение Федерико потребовало новой корректировки планов, причем весьма и весьма серьезной.
Антонио спустился по лестнице и заказал себе кофе в гостиничном ресторане. Естественно, он поинтересовался у портье, не оставляли ли для него ночью какого-нибудь сообщения. Получив отрицательный ответ, он не сдался и стал расспрашивать администратора, не помнит ли тот, в котором часу вышел из гостиницы профессор Канали. Были опрошены все сотрудники отеля, дежурившие в ночную смену, и по их туманным ответам, напоминающим застиранные чернильные пятна на грязно-сером полотенце, получалось, что друг Антонио покинул отель незадолго до полуночи. То есть Федерико ушел почти сразу же после того, как мексиканец уснул. Обычно Антонио засыпал гораздо позже, уже под утро, но накануне вечером, перенервничавший и полный впечатлений от событий в доме де Лукки и на кладбище, уставший и измотанный из-за разницы часовых поясов, он заснул как убитый, едва они вернулись в гостиницу. Федерико же не только не лег спать, но почему-то ушел, не соизволив оставить хотя бы короткой записки, куда направляется и почему решил уйти один.
Прежде чем отправиться на поиски, Антонио провел разъяснительную работу с дежурным администратором: во-первых, он предупредил, что вернется к полудню, а во-вторых, настойчиво просил постараться задержать любого, кто будет интересоваться им самим или Федерико, вплоть до его, Антонио, возвращения. Он вышел из отеля, сам не зная, куда идти и где искать своего приятеля. Кварталы старого города были довольно далеко; еще дальше находился парадный туристский район. Над древней тосканской столицей занималось новое утро, ржавый свет которого чуть смягчала прозрачно-золотистая дымка, поднимавшаяся над рекой. Антонио не переставал думать о Федерико, об их дружбе и о том, как их характеры дополняли друг друга. Каждый из троих приятелей безотчетно пользовался всем тем, что бескорыстно давали ему двое других. Федерико был самым образованным, просвещенным, но при этом и самым наивным из них троих. Марк, в чем-то похожий на Антонио в отношении к жизни, не упускал возможности подшутить над простодушием итальянца. Сам же он был человеком меланхолического темперамента, но при этом, как ни парадоксально, увлекающимся и склонным к азарту самой высокой пробы: ему претило все, что было слишком банальным, знакомым и понятным. Тем не менее по натуре англичанин был довольно замкнутым и даже робким. Эти качества были сорваны с него, как маска, с появлением в его жизни той самой женщины, к которой Федерико относился с неприязнью, а Антонио еще не имел возможности с нею познакомиться. Ада Маргарет Слиммернау, судя по всему, чем-то походила на его мать: законченная фаталистка и оптимистка, считающая свою драгоценную персону центром если не всего мироздания, то по крайней мере какой-то весьма значительной сферы, которая вращается вокруг своей оси, не встраиваясь ни в какую более масштабную систему и не подчиняясь законам всеобщей небесной механики.
Приехав из Мексики, Антонио вдруг осознал, что к лучшему в его жизни ничего не изменилось. Наоборот, он лишь увидел, что самые близкие люди начали отдаляться. Со смертью отца в его жизни наступила череда потерь – не только уходящих навсегда друзей и родных, но и потери чувства настоящей человеческой близости. Конца этим неприятностям пока что не предвиделось. Раньше жизнь отца во многом определяла образ жизни самого Антонио – приезды и отъезды, путешествия и каникулы, проекты и планы, его амбиции, главной из которых было амбициозное желание не иметь никаких амбиций. «Я хочу стать никем», – заявил семилетний Антонио, стоя рядом с раздававшим автографы отцом на приеме в честь премьеры очередного фильма с его участием. «Но почему? – удивленно спросил отец. – Разве тебе не нравятся камеры, известность, внимание, улыбки и расположение множества людей?» Антонио, несмотря на испытываемое чувство неловкости, ответил отцу прямо и лаконично: «Нет, мне все это не нравится. И ты мне не нравишься, когда ты с ними». Все слышавшие эти слова были растроганы такой детской откровенностью. Конечно, большая часть присутствующих решила, что причиной столь странного отношения мальчика к отцовской славе была обычная детская ревность. Актер, струны тщеславия в душе которого были приятно тронуты таким толкованием слов сына, также убедил себя в том, что таким образом ребенок просто оспаривает свое право на его общество, не без основания считая, что имеет некоторые привилегии по сравнению со зрителями и коллегами отца по работе. Антонио и подумать тогда не мог, что спустя много лет вспомнит этот эпизод во всех подробностях и будет испытывать те же самые чувства. Теперь он прекрасно понимал, что речь шла вовсе не о детской ревности, а о страшной опасности, которую душа ребенка ощутила в славе и в лести окружающих, обрушивавшихся на его отца. На мгновение перед его мысленным взором словно замер стоп-кадр, где была запечатлена сцена восхождения на трон нового короля, которому в следующем эпизоде предстояло заплатить за право на царствование непомерно высокую, кровавую цену.
Прямо на его глазах в тосканском небе таяло облако, принявшее форму огромного крылатого змея – символа страны тысячелетних ритуалов. Здесь, во Флоренции, золото ацтеков, все сокровища разрушенных, затерянных в джунглях городов и стертых с лица земли царств не значило ровно ничего. Гораздо большее значение обретала способность Антонио говорить с каменными богами голода, войны, сексуальной силы и разума, осознающего течение времени. Того самого времени, что никак не позволяло ему стать взрослым и одного за другим вырывало из жизни самых дорогих ему людей. Погребальная ниша с именем Федерико, наверное, уже не пуста. Какие-то люди скорее всего уже замуровали в ней тело его друга. Отчаянным усилием воли Антонио гнал от себя эти кошмарные мысли.
Небо опускалось все ниже и ниже. По мере того как Антонио удалялся от исторического центра города, пространство вокруг него словно заполнялось какой-то серой мрачной дымкой. Средиземноморская погода менялась по прихоти богов. Судя по всему, тольтекские богини огня решили ни в чем не ограничивать свою жажду разрушения и тираническую власть. Антонио забрел в новый, ничем не примечательный в своей вульгарности городской район. Все свободные плоскости стен здесь были разрисованы разнообразными граффити, в основном с непристойными выражениями и рисунками. Эта универсальная безликость современного города позволяла Антонио без особого труда представить себя где-нибудь в Берлине, в новых районах Лондона или же в пригородах Амстердама. Серая обыденность улиц, помноженная на сверхутилитарность, свойственную западным городам, напоминала декорации к какому-нибудь фильму со скромным бюджетом. Это мог быть «фильм нуар», насыщенный сценами насилия, снятыми, правда, без лишней натуралистичности. Иногда в таких картинах играл и его отец, который умел наполнять свои роли в них каким-то особым внутренним комизмом. Сегодня же Антонио чувствовал, что ему не до шуток и его чувство юмора останется, по всей видимости, невостребованным. Время от времени ему навстречу попадались какие-то люди, шедшие куда-то, как ему казалось, совершенно бесцельно. Где-то вдали тучи сгустились настолько, что из них пошел дождь и, словно змеи из головы горгоны Медузы, вылетали молнии. Неожиданно спина идущего впереди человека показалась ему знакомой. Антонио подбежал к нему и положил руку на плечо: «Федерико, это ты?» Человек оглянулся, и, увидев его лицо, Антонио понял, что ошибся. Незнакомец совсем не походил на Федерико. Что это было: видение, галлюцинация, явление с того света? – на этот вопрос ответа у Антонио не было. Он пошел дальше. На очередном углу увидел бритоголовых юнцов, лениво переругивавшихся из-за очереди припасть к уже наполовину опустошенной бутылке. Они курили и смеялись. Больше всего, кажется, их веселили те оскорбления, которыми они беспрестанно осыпали друг друга. Несмотря на ранний час, они были не то уже, не то еще пьяны, и жажда продолжать веселье и оттянуть неминуемые муки похмелья явно подталкивала их к активным действиям. Антонио счел за благо поскорее пройти мимо и свернуть за угол.
Вскоре он наткнулся на человека, лежавшего прямо на земле рядом с мусорными контейнерами. На незнакомце был тот же плащ, что на профессоре Канали, такие же ботинки и, как показалось Антонио, на его руке сверкнули золотом часы – те самые, которые он подарил другу по случаю юбилея. Мучимый страшными предчувствиями, Антонио подбежал к лежавшему на земле человеку. Он боялся, что Федерико ранен или же отравился чем-то из выпитого накануне вечером. Перевернув распростертое на грязном асфальте тело, Антонио ужаснулся: перед ним был нищий слепец и к тому же эпилептик, прикусивший себе язык в припадке судорог. Изо рта текла кровь, но никто не помог бедняге. Антонио бросился бежать прочь, свернув в первый же попавшийся узкий переулок. Он с ужасом осознавал, что опять принял за Федерико кого-то другого, и боялся, что, даже встретив друга, не узнает его. Изо всех сил напрягая память, он старался вспомнить лицо Федерико, и не мог. «Так я его никогда не найду, – признался себе Антонио, – а в конце концов заблужусь в городе и опоздаю на самолет».
Гроза тем временем приближалась. Казалось, она могла обернуться тем потопом, который когда-то смыл все зерно с полей, затопил стоявший посреди великого озера храм и чуть не погубил жрецов золотого кинжала. Лишь бог Нануатцин, раненый и больной, спас род человеческий, бросившись в бездонную пучину и обернувшись Солнцем. Антонио блуждал по улицам Флоренции и с ужасом понимал, что каждый встречный кажется ему похожим на Федерико. Его итальянский друг превратился во всех людей сразу, но никто из них не был им. Устав от бесплодного кружения по улицам, Антонио решил, что настало время обратиться за помощью к двум актерам – отцу и дочери. Они могли знать хоть что-то о судьбе профессора. Антонио прекрасно понимал, что, обращаясь к ним, подвергает себя опасности, но не менее ясно ему было и то, что другого выхода нет. Остановив такси, он поехал в гостиницу.
На стойке портье его ждала записка, в которой сообщалось, что еще утром к нему заходил какой-то человек, сказавший, что не сможет его подождать. На улице тем временем начался дождь. По асфальту и по остаткам старинной булыжной мостовой застучали первые капли. Выяснилось, что незнакомец, уходя, оставил для Антонио закрытый и неподписанный конверт. Антонио сразу же вскрыл его и обнаружил внутри листок бумаги с несколькими напечатанными на принтере линиями и одной-единственной тревожной фразой: «Череп здесь». Больше в послании ничего не было. Судя по всему, его целью было психологическое давление на Антонио.
Потными от волнения руками он разорвал записку в клочья. Именно на этом проклятом черепе сходились все вопросы и сложности, возникавшие перед ним и его друзьями. Именно он стал центром мира – когда-то такого открытого и ясного со своими пятью континентами, а теперь сжавшегося до размеров костяной сферы с непонятным отростком вместо провала. Именно этот череп стал той голгофой, на которую уже взошли два его пропавших друга – одновременно мертвые и живые. Таким же – мертвым и живым – был и череп, не желавший оставаться навеки частицей отполированной временем костной ткани. В последний раз, когда Антонио видел его, в глазницах черепа мелькнуло что-то похожее на взгляд, на то, что может быть свойственно только живой материи. В тот же день он заметил и странное потемнение на макушке, как будто бы там, в сросшихся на темени костях, зарождалась новая жизнь. Именно в тот миг отец Антонио, поймав исходивший от черепа сигнал, предупредил сына: «Держись подальше от этих костей. Запомни: природа его нам неизвестна, ибо пришел он в этот мир из бездонного моря, с другого, неведомого берега».
В тот день Антонио не понял, что имел в виду отец, говоря про «море и другой берег». Поначалу он не подумал ни про океан, разделяющий Старый и Новый Свет, ни про какое-то иное бескрайнее море, а почему-то представил себе достаточно небольшую по мировым меркам лагуну, окруженную со всех сторон сушей, наподобие тех, по которым совершали свои великие плавания такие легендарные путешественники, как Одиссей или Ясон; благословленные богами или же, наоборот, бегущие от Божьей кары, они были совсем не похожи на тех покойников, чьи тела выкапывали из могил и пожирали в ходе ритуального празднества Дня усопших далекие предки Антонио. Каким же безумно диким и омерзительным должен был казаться европейцам, впервые увидевшим такое святотатство, этот каннибальский ритуал, равно как и молитвы и заговоры, произносимые с целью воскрешения зомби. Для Антонио, матерью которого была англичанка, холодность, скрытность и прилизанное благочестие Европы ассоциировались с чисто женским началом, встроенным и в его душу, находящуюся в хрупком равновесии.
Эта проекция внутреннего «я», ускользающая от любого контроля со стороны разума, была создана из той же ткани, что и деревянная кукла, и неуловимое тело Гая Фокса, того ненавистного предателя, которого презирающие языческие обряды англичане должны были сжигать каждый год на гигантских кострах, чтобы не дать ему воскреснуть.
Небеса разверзлись, и ливень обрушился на город в полную силу. Антонио чувствовал, как мгновенно намокли его черные волосы и вода стала стекать за воротник. Сквозь завесу ливня он с трудом разглядел старинную стену, к которой был пристроен огромный особняк Винченцо де Лукки и его похотливой дочери. Прежде чем сдаться на милость этой парочки, мексиканец решил если не подстраховаться, то хотя бы проинформировать своего адвоката о том, что он собирается сделать. Свернув с нужной ему улицы, он заглянул в какое-то грязноватое кафе. Заказав бренди и попросив принести полотенце, вытер мобильник и набрал знакомый номер. У адвоката был включен автоответчик.
– Ласло, – вялым, апатичным голосом проговорил Антонио, – я опоздал на самолет и вообще не знаю, смогу ли попасть в аэропорт. Уехать сейчас я не могу. Мой друг, профессор Канали, пропал. Ты делай то, что считаешь нужным, и защищай меня до победного конца. Веди дело вне зависимости от того, что со мной случится. Я почему-то уверен, что ты так и поступишь, хотя бы из чувства профессиональной чести, которую я всегда так ценил в тебе. Если мне удастся сделать то, что я задумал, я сразу же позвоню, если нет – делай все, что сочтешь нужным. Мой мобильник будет включен – как знать, может быть, мне еще придется обратиться к тебе за помощью.
Записывая это сообщение, Антонио внутренне надеялся, что Ласло услышит его раньше, чем случится непоправимое, и его слова не будут посланием с того света. Впрочем, полной уверенности в этом у него, конечно, не было. Выпив одним глотком поданный ему бренди, он решил, что будет гнать от себя неприятные мысли, по крайней мере касающиеся его самого. Выйдя из кафе, перешел улицу и все под тем же непрерывным ливнем направился к дому де Лукки.
Холодные руки Коломбины открыли ему дверь и помогли снять мокрую одежду. Все повторилось точь-в-точь как в тот день, когда Федерико впервые переступил порог этого дома и был таким же трогательно промокшим, каким сегодня предстал мексиканец. Точно так же Андреа проводила его в ванную комнату и вынула стопку полотенец со своими вышитыми инициалами. Издалека, из большой гостиной, доносилась музыка Пьетро Антонио Локателли – «Кончерти гросси». Там у камина о чем-то беседовали Винченцо де Лукка и его друг, библиотекарь из Национальной библиотеки. Оба только что перечитали интереснейшую книгу Джоаккино Вольпе, изданную в 1940 году и посвященную истории фашистского движения. Библиотекарь рассказал актеру, что эта книга, сохранившаяся буквально в считанных экземплярах, в свое время была распространена по всем итальянским консульствам. Было это незадолго до Второй мировой войны. На довольно дешевой бумаге мелким слепым шрифтом объяснялась роль фашизма в мировой политике и его великое предназначение в истории. Фашизм, согласно утверждению автора, был «первой искренней и подлинно жизнеспособной политической доктриной, рожденной при этом в рядах наших врагов»; эту цитату автор приводил, ссылаясь на статью Энрико Коррадини, опубликованную в 1909 году на страницах националистической газеты «Триколор». Уже тогда идеологи фашизма мечтали «освободить рабочий мир от демагогической тирании демократов и социалистов, чтобы привлечь его к великому делу создания империалистического государства».
– Если это истоки фашизма, то я, без сомнения, новое земное воплощение Савонаролы, – с усмешкой заявил старый Арлекин, красуясь перед снисходительно улыбающимся библиотекарем.
Антонио тем временем стоял под горячим душем, наслаждаясь тем, как уже не дождевая, а водопроводная нагретая вода стекает по его усталому телу. Коломбина же подсматривала за ним в замочную скважину, как маленькая, плохо воспитанная девочка, которая подглядывает и шпионит за друзьями, чтобы потом в ходе игры выложить в качестве главного козыря ставшую ей известной сокровенную тайну кого-нибудь из мальчишек.
Пол договорился встретиться с Адой Маргарет Слиммернау на одном из углов площади Пикадилли. Под предлогом необходимости хоть немного отвлечь столь рано овдовевшую молодую женщину он хотел завести разговор на интересовавшую его тему и прояснить кое-какие непонятные ему моменты, тревожившие его всякий раз, когда он вспоминал своего племянника, чьи родители, кстати, также не оставили надежды выпытать у Пола какие-то новые подробности, касающиеся обстоятельств смерти молодого человека.
Этот район Лондона всегда многолюден и на первый взгляд производит впечатление места, где постоянно царит праздник – вне зависимости от даты, дня недели и времени суток. Лишь присмотревшись, можно понять, какое одиночество и какая тревога накатывают на человека, погруженного в этот кипящий котел, наполненный жаждущими развлечения душами. Карманники, любители азартных игр, завсегдатаи модных кафе, всевозможные параноики приходили сюда, чтобы насладиться ощущением причастности к источнику порочных удовольствий. Те же, кто появлялся здесь вечерами или по выходным, сменив офисный костюм на менее официальный наряд, считали своим долгом подчеркнуть, что приходят в эти злачные места лишь для того, чтобы проявить свой демократизм и космополитизм, свойственные подлинному джентльмену еще со времен Британской империи.
Со дня смерти племянника Пол так и не смог восстановить былой ритм и эффективность своей научной работы. Ему никак не удавалось по-настоящему сосредоточиться на брачном роении зеленых мух или на смертоносных хоботках привезенных из Африки москитов, пребывавших в полуличиночном состоянии в подвале, где постоянная высокая температура поддерживалась благодаря теплу, выделяемому проезжающими совсем близко поездами подземки. Полу все не удавалось заняться вплотную этой колонией, которая могла стать настоящим бедствием для ничего не подозревающего города, согревающего личинки африканских убийц своим теплом. Впрочем, все это в последнее время мало занимало ученого, который непроизвольно сосредоточился не на наблюдениях за подопытными насекомыми и не на анализе полученных фактов, а на тайнах и загадках, связанных с исчезновением и смертью его племянника. В мире, где внимание привлекает лишь массовая гибель людей, будь то в результате стихийных бедствий или военных конфликтов, смерть одного-единственного человека не могла иметь никакого значения, пусть даже сам факт его гибели отмечен в колонках местных новостей провинциальной прессы. Смерть индивидуума перестала быть важным событием, превратившись в ничтожное звено огромной цепи событий, приводящих к гибели массовой и, главное, внешне эффектной. Кроме того, важнейшим фактором, влиявшим на значимость очередной трагедии, становился факт присутствия при этом печальном событии достаточного количества телекамер и журналистских фотоаппаратов. Смерть становилась всеобщим достоянием только в форме видеоклипа или фоторепортажа. Лишь подлинно массовые трагедии могли быть удостоены развернутого десятиминутного сюжета в аналитической программе, следующей сразу же за главным выпуском новостей. В любом случае важнейшей задачей для тех, кто дозировал информацию, было не перекормить массового зрителя печальными известиями. Соотношение хороших и плохих новостей должно было соблюдаться неукоснительно. Вот почему одна-единственная частная трагедия, затерявшаяся на фоне массовых смертей, перестала иметь хоть какую-то ценность для тех, кто информировал общество о подобных событиях. «Это же страшная опасность для всех нас, для всего общества! – размышлял Пол, выходя из метро и направляясь к условленному месту встречи. – С нами могут делать все, что угодно, и никто, ни один человек ни в одной стране мира, не обратит внимания на то, что с нами творится. Да что там, никто просто не заметит, живы мы или уже покинули этот мир».
Воспоминания о Федерико преследовали Пола со дня их расставания в аэропорту. Внутренняя неудовлетворенность теми сведениями, которые им с итальянцем удалось узнать от вдовы, не давала энтомологу покоя и превратила его занятия в лаборатории из творческого научного поиска в рутинное отбывание положенных рабочих часов и выполнение самых необходимых обязанностей. Из неутомимого исследователя Пол, сам того не ожидая, превратился в унылого безутешного родственника, который никак не может избавиться от преследующего его наваждения – навязчивых воспоминаний об умершем племяннике. Нет, Ада Маргарет не была роковой женщиной, портрет которой нарисовал для себя профессор Канали. Племянник Пола женился на ней без всякого внешнего давления. Не была молодая женщина ни соблазнительницей, ни фривольной особой, как представлял ее себе итальянец. Тем не менее в одном Федерико был прав: Марк скончался при весьма странных, не поддающихся логическому объяснению обстоятельствах. Единственным человеком, который мог пролить свет на это событие, естественно, была вдова покойного. И никто, кроме самого Пола, не мог даже попытаться разговорить эту женщину, разворошить покрытые пеплом, но еще жарко тлеющие уголья недавнего прошлого.
Как всегда, Ада при встрече поцеловала его в обе щеки. Некоторое время они просто гуляли по улицам, выбирая кафе. Им хотелось найти место тихое, спокойное, где посетители не пытаются поразить друг друга экстравагантным поведением и какими-то немыслимыми нарядами, а колонки, висящие по углам, не стонут от разрывающей динамики эклектичной музыки. Наконец они нашли то, что искали, – в узком переулке по соседству с домом иммигрантов, живущих в Лондоне уже в пятом поколении. Паб был маленький и не слишком броско оформленный. Скромность обстановки умело маскировалась царившим в помещении полумраком. Небольшие деревянные столики стояли довольно далеко друг от друга, что добавляло этому заведению привлекательности в глазах всех желающих беседовать о чем-то, не предназначенном для посторонних ушей, или же просто посидеть спокойно, не привлекая к себе лишнего внимания. Пол и Ада заказали себе пиво.
– Ну, как жизнь в Лондоне? Ты уже вышла на работу? – спросил Пол, чтобы завязать разговор.
– Да, и здесь все пошло лучше, чем я ожидала. А о прошлом я стараюсь вспоминать пореже.
Ада была настолько бледна, что человек, не знавший ее так хорошо, как Пол, мог бы подумать, будто она давно и тяжело больна. Грустное выражение не сходило с ее лица, создавая вместе с бледностью гармоничный образ охваченной печалью молодой вдовы. Выделялись на лице лишь глаза, устремлявшие на мир горящий проницательный взгляд.
– Профессор Канали меня ненавидит. Что ж, это логично. Он считает меня виновной в смерти Марка.
– Да, ты права; я лишь надеюсь, что со временем он придет в себя, успокоится и изменит свое мнение. Все мы отлично знаем, что Марк не отличался могучим здоровьем.
Эти слова Пол произнес не слишком уверенным тоном, словно какие-то сомнения не позволяли ему расценить их как непреложную истину. Почувствовав это, вдова Марка решила немедленно прояснить ситуацию и перешла в контрнаступление:
– Ты, судя по всему, тоже считаешь, что я что-то упустила, не все сделала, чтобы уберечь Марка. Хорошо еще, что ты вменяешь мне в вину лишь небрежность, а не подозреваешь, что я как-либо подтолкнула его к трагическому финалу.
– О чем ты говоришь, я совсем не имел этого в виду. – Пол уже был не рад, что завел этот разговор. – Никто тебя ни в чем не винит. Смерть – штука такая, порой она настигает человека там, где он ее совсем не ждет. И все же…
Он не стал завершать начатую фразу, заметив, как смотрит на него Ада, как в ее глазах мелькает страх – страх услышать обидные обвинительные слова в свой адрес.
– Давай лучше поговорим о другом. Помнишь, я был у вас в гостях в тот вечер, когда Марк очнулся, словно проснулся после долгого сна, полного кошмаров. Мне бы хотелось знать, – сказал он полушепотом, – о чем он рассказал тебе, когда вы остались одни. Пока я сидел рядом с ним, он говорил о каких-то путешествиях во времени и пространстве. Мне хочется узнать, что же на самом деле происходило у него в голове, когда он был без сознания.
Ада некоторое время сидела молча. Ощущение было такое, что она прекрасно помнит все, что рассказал ей муж, очнувшись после многодневного бессознательного состояния. Она не была уверена, что об этом стоит рассказывать Полу. Она смотрела то ему в глаза, то на свои руки, словно боялась начать говорить, словно опасалась, что он усомнится в искренности ее слов. Чтобы успокоить ее, Пол в знак доверия положил ладонь на ее руку.
– Прежде всего я хочу сказать, что мне до сих пор не по себе от всего, что он тогда рассказал. Впрочем, теперь это уже не так важно. Ему хуже уже не будет, а нам его видения вряд ли могут чем-то повредить. – Ада вздохнула и вдруг одним глотком выпила чуть ли не половину большого бокала стоявшего перед ней пива. – Первым делом он сказал, что почувствовал какой-то зов, причем взывали к нему как к призраку покойника. Он не смог сопротивляться этому колдовскому заклинанию и ощутил, что идет на зов, подчиняясь непреодолимой силе, неподвластной его воле. Пытаясь вырваться, освободиться от этих чар, он увидел звавшую его старуху Лурдель, произносившую заклинания в своей хижине на Гаити. Она собрала в металлическую чашу какие-то разноцветные лоскутки ткани и то поджигала их, то гасила. Вся ее лачуга была заполнена густым дымом, едким и дурно пахнущим. В какой-то момент Марк понял, что бессилен противостоять зову, и почувствовал, как его душевное «я» унеслось куда-то прочь из тела, как уносится лист, сорванный с ветки порывом ветра. Полет был долгим, стремительным и очень болезненным. Марк чувствовал, как падает по какому-то склону или желобу, и всякий раз, когда он пытался оглядеться и понять, что происходит, тотчас получал болезненный удар по лицу. В конце концов он ощутил, что оказался где-то – не в бескрайнем пространстве, а в каком-то определенном месте.
Пол не хотел перебивать Аду, но, слушая полную, с его точки зрения, анимистическую галиматью про какое-то колдовство, он вдруг вспомнил, что Ада всегда увлекалась мистикой, была связана наследственными узами с Гаем Фоксом и испытывала страсть к театральной сцене, отравлявшую уже много поколений ее семьи.
– Ты уверена, что все было именно так? – спросил он с долей скептицизма в голосе.
– Я могу только просить тебя отнестись к моим словам серьезно, но заставить тебя поверить – выше моих сил. Если хочешь, можем закончить разговор.
– Нет, пожалуйста, – проговорил Пол, не ожидавший такой реакции со стороны молодой женщины, – не воспринимай меня как неблагодарного слушателя. Пойми и меня: ты рассказываешь о том, с существованием чего трудно смириться, особенно такому человеку, как я, привыкшему познавать мир эмпирическим научным методом.
Она совершенно неожиданно рассмеялась. Смех ее показался на удивление беззаботным и искренним. Фактически она рассмеялась впервые с тех пор, как они встретились после долгого перерыва. Пол вздохнул с облегчением и стал ждать продолжения рассказа.
– По словам Марка, он быстро понял, что оказался в каком-то доме, непохожем на лачугу Лурдель. Осмотревшись, он увидел, что сидит перед камином в старом, очень пыльном доме, в котором он сразу же узнал Сатис-хаус – тот самый дом, описанный Диккенсом, который он так часто вспоминал и даже видел во сне. У него не было сомнений, что ему уже доводилось бывать в этом доме, и у него в памяти сразу же стали всплывать воспоминания, связанные с этим местом. В камине горел огонь, и по комнате распространялось приятное тепло. Но больше в этом мертвом доме не было ничего теплого или живого. Марк почувствовал страшную боль, от которой у него даже пошла горлом кровь. Его бабушка, умершая уже много лет назад, стояла у него за спиной и гладила по голове своими сухими старческими руками, словно хотела успокоить его и облегчить его страдания. Какая-то женщина в маскарадном костюме из ткани в шахматную клетку издали наблюдала за ним.
Ада на некоторое время замолчала, явно пытаясь угадать, какое впечатление произвели на Пола ее слова. Он же твердо решил для себя, что не будет выражать своего мнения по поводу услышанного и тем более не станет перебивать собеседницу. При этом сейчас он чувствовал себя гораздо менее уверенно, чем в начале разговора. Больше всего его беспокоило, что очередное воспроизведение вслух печальной истории скорее всего причиняет боль самой Аде.
– Эта странно одетая женщина повела Марка в помещение, напоминавшее большой игорный зал. Там было много незнакомых людей, причем, судя по всему, люди были разных национальностей, приехавшие со всех концов света. Ему показалось, что он узнал в одном из игравших отца Антонио. Мексиканский актер держал в левой руке колоду черных карт, а правой обнимал какую-то рыжеволосую женщину. Он сидел за столом и играл с другими гостями; они выглядели так странно, что даже об их возрасте можно было только догадываться. Марку было не по себе, и он совершенно не понимал, зачем его привели в этот зал. Кто-то прикоснулся к его спине, он оглянулся, и незнакомец в маске подвел его к одному из столов, за которым сидели две пары, готовые начать игру. Он решил не отказываться и стал спокойно смотреть, как крупье раздает карты. В открытом покере шулерство практически исключено, и Марк сосредоточился на игре, даже не спросив, какова ставка и не проиграет ли он в случае неудачи что-то важное и ценное. В какой-то момент мужчина из более старшей по возрасту пары попросил себе карту, и Марк обратил внимание на его итальянский акцент. Та самая карта, которой ему не хватало, позволила завершить великолепную комбинацию из карт одной масти. Сидевшие за столом не смогли скрыть своего изумления при виде такой удачи. Марку же крыть было нечем: у него на руках не было ничего, даже простейшей симметричной комбинации.
Голос Ады стал заметно слабее и тише. Было видно, что пересказывать слова Марка ей нелегко. Кроме того, судя по всему, по ходу рассказа она вспоминала то, что уже стерлось из ее памяти, а может быть, и то, чего раньше она и не знала. Пол попросил ее рассказать именно об этом необычном феномене.
– Странное дело: действительно, всякий раз, как я рассказываю эту историю, я вспоминаю то, что вроде бы уже забыла или на что раньше не обращала внимания. Например, я помнила, что Марк говорил о каком-то женском голосе, в течение всей игры звучавшем у него за спиной, но только сейчас я вспомнила, что речь шла о его бабушке. Марк проиграл партию, и ему тотчас же сообщили, что больше в игорном зале ему делать нечего. Затем настойчиво предложили выйти в сад, где кто-то ожидал с ним встречи. Рядом с пересохшим пустым фонтаном, дно которого было устлано старыми сухими листьями, он встретился со смуглым человеком с татуировкой на руке и свежим шрамом от едва затянувшейся раны, нанесенной холодным оружием. Шрам виднелся в расстегнутом вороте рубахи незнакомца. Человек явно потерял много крови и с трудом держался на ногах. «Я Хоакин», – сказал он по-испански, протягивая Марку руку. Марк не смог ответить на это мертвенное рукопожатие и в качестве приветствия лишь кивнул. «Похоже, кроме меня, здесь никто не понимает, что ты в пути, – настойчиво проговорил мужчина, явно стремясь дать понять Марку, что им двоим лучше держаться вместе. – Здесь никто не переживает по поводу таких, как мы. Наша боль, наши страдания – до этого никому нет дела. Нас просто не замечают, но мы-то с тобой знаем, что ищем и зачем пришли сюда. Нам нужна кукла, марионетка, простая деревяшка, но ожившая, наделенная душой». Такой прозрачный намек на Пиноккио заставил Марка забыть об осторожности. Ему вдруг страшно захотелось поговорить на эту тему. Он почувствовал, что его голос возникает не в гортани и легких, а где-то дальше или глубже, в каком-то уголке его несуществующего тела. «Кто вы такой? Я вас не знаю, но раз вы встретили меня в этом кошмаре, то, значит, кто-то уже рассказал вам обо мне». Мужчина засмеялся и предложил ему прогуляться по извилистым дорожкам заросшего сада, окружающего Сатис-хаус. Марк безвольно последовал за ним, не в силах что-нибудь возразить. Палая листва завалила сад чуть ли не по колено, кое-где из старых клумб поверх вороха листьев торчали какие-то диковинные растения, названий которых Марк не знал. Эти странные цветы не были ни зелеными, ни серыми, ни белыми, не имели никакого обычного для цветов оттенка, а походили скорее на пепел и остатки лавы после извержения вулкана. Сад украшали источенные дождями и временем скульптуры; многие статуи прикрывали свою наготу плотным покрывалом мха и лишайников. Несколько минут Хоакин молчал, только жестами призывая Марка следовать за собой. Несмотря на странный, почти лунный ландшафт сада, воздух здесь был насыщен запахом шалфея и ароматических трав. Но казалось, что и эти запахи ощущаются тут не совсем обычно: так пахнут не живые цветы и травы, а их блеклые сухие останки на раскрытых страницах гербария. «Там дальше есть оранжерея, – пояснил Хоакин. – Нужно прогуляться и посмотреть, в каком она состоянии. И там, помнится, есть несколько скамеек, которые, несмотря на всеобщее запустение, еще не настолько сгнили, чтобы на них нельзя было присесть и спокойно поговорить». Марк шел, преодолевая навалившуюся на него усталость. Каждый шаг давался ему все труднее. Но он снова заговорил с незнакомцем: «Вы мне так и не ответили. Вы меня знаете, и я хочу вас спросить, кто вам рассказал обо мне». В конце концов настойчивость Марка привела к тому, что мужчина открыл Марку свою истинную сущность: «Да. Кое-кто рассказал мне про тебя перед смертью. Это один твой дружок, с которым ты так любишь вместе путешествовать. Человек, который тебе так дорог, нанес мне смертельную рану. Он вонзил в меня нож, и я истек кровью. Это Антонио, сын актера, он зарезал меня ночью на вилле своего отца в Сересас. В ту же ночь он закопал меня под кустами бугенвиллии, посаженными его матерью. Он хотел украсть у меня фильм, единственный фильм из коллекции его отца, который тот сам не покупал. Эта лента принадлежала мне. Помнишь сцену кораблекрушения, которую ты увидел в зеркале в день своей свадьбы?»
Чтобы дать Полу время переварить услышанную историю и свыкнуться с ней, Ада на некоторое время замолчала и заказала еще пива. Сам энтомолог никак не мог поверить в то, что мексиканский друг Марка оказался убийцей. Кроме того, он стал подозревать, что этот сон, бред или же действительно происшедшее внетелесное путешествие племянника способно пролить свет на истинные причины его смерти. Ада могла говорить все, что угодно, ведь Марка рядом не было и возразить ей или уличить ее во лжи было некому. По крайней мере это Пол понимал со всей отчетливостью.
– А почему он заговорил о Пиноккио? – спросил Пол, пристально глядя в глаза вдове. – Откуда он знал про череп?
– А вот на этот вопрос я бы хотела услышать ответ от тебя, – не задумываясь ответила Ада, совершенно сбив с толку Пола, который тотчас же почувствовал неловкость.
Ада Маргарет Слиммернау просто сверлила его взглядом. Ощущение было такое, что по густым зарослям самых дальних уголков его памяти прошлась безжалостная косилка, срезающая все на своем пути. Чтобы избавиться от гнетущего ощущения, Пол огляделся в надежде увидеть рядом других людей и почувствовать атмосферу самого веселого и неунывающего района города, который он неспроста выбрал для встречи. С удивлением он обнаружил, что вокруг них нет никого, – паб был абсолютно пуст, и даже музыка звучала все тише и тише, словно ее источник неспешно, но неумолимо отдалялся от них. Одновременно в помещении становилось все темнее. Поняв, что с трудом видит соседние столики и стены, и осознав, что уже не может полностью контролировать свои мысли и чувства, Пол попытался встать из-за стола.
– Что случилось? – удивленно спросила Ада. – Хочешь уйти? Если честно, мне здесь тоже не очень нравится – душно, накурено.
Пол слушал ее, но почти не слышал. Ему скорее приходилось читать по губам, чтобы понять, о чем она говорит. Он не понимал, что происходит, но какое-то нехорошее предчувствие словно парализовало его, лишив возможности сделать хотя бы шаг, чтобы вырваться из удушающего пространства.
Через несколько секунд Пол безжизненно повалился со стула на пол. В полуобморочном состоянии он чувствовал, как чьи-то незнакомые руки расстегивают воротник его рубашки, как кто-то приподнимает его и сажает спиной к стене. Все это время Ада сидела на месте как вкопанная и даже не повернулась в его сторону. В ее глазах стояли слезы, а на лице застыло выражение ужаса. Ощущение было такое, будто она уже видит нависшую над Полом опасность, которую он лишь смутно предчувствовал. Вскоре он увидел, как она закрывает голову руками, словно пытаясь защититься от готового обрушиться на нее страшного удара.
– Все, стоп, это никуда не годится! – услышал Пол незнакомый голос, прорвавшийся сквозь сковавшую его неподвижность. – Нужная атмосфера не воссоздана, необходимой напряженности нет и в помине, ни один из актеров не уловил сверхзадачу роли. В общем, ничего не остается, как идти искать Глухого. Кроме него, никто с этим сценарием не справится, – на повышенных тонах отчитывал незнакомый мужской голос не то съемочную группу, не то работников театральной сцены.
Вскоре откуда-то из темноты появились одетые в униформу люди, судя по всему, озабоченные поисками некоего Глухого, чьего присутствия на съемочной площадке режиссер требовал все более настойчиво. Люди то появлялись, то исчезали из поля зрения Пола, который все так же полулежал на полу, не в силах пошевелиться. Ада тем временем куда-то исчезла, так и не закончив свой рассказ о странной болезни и чудесном исцелении Марка. С точки зрения Пола, разыгранная сцена была поставлена просто великолепно, если, конечно, считать ее главной целью то, чтобы молодая вдова ни в коем случае не рассказала ему ничего нового, проливающего свет на последние дни жизни и смерть его племянника. Неверие в подлинный талант режиссера возникало в душе Пола только в связи с тем, что тому пришлось прибегнуть к столь радикальным мерам, как обездвиживание одного из главных не то зрителей, не то исполнителей, который теперь был вынужден лежать на полу, телом изображая покойника, но при этом оставаясь вполне живым душой и разумом.
Впервые в жизни ученый усомнился в собственной человеческой природе и в полноценности собственной личности. Еще никогда он не оказывался в подобной ситуации – ему не приходилось терпеть боль и страдания, не предпринимая никаких усилий, чтобы избежать их, будь то страдания телесные или душевные. В общем, роль безмолвного пациента, уготованная ему в этом фильме, его никак не устраивала. В конце концов, даже с актерами согласовывают, кого именно они будут играть в фильме или спектакле, а он вообще не давал согласия быть актером. Единственное, что примиряло его с происходящим, – надежда, что именно в этой пьесе скрыта подлинная история всех приключений и несчастий Марка и его друзей. Произнося, как заклинание, имя Пиноккио, невидимые сценаристы и режиссеры создавали совершенно. особую реальность, существующую параллельно привычному миру, в котором живет большинство нормальных людей. В этой реальности прошлое комбинировалось с настоящим и будущим в любых пропорциях и соотношениях, а все шаги и поступки героев подчинялись непреодолимой силе, прикладываемой к ним посредством тонких, почти невидимых, но очень прочных нитей, вырваться из паутины которых у актеров не было возможности. У Пола было ощущение, что он попал в Платонов чертог, населенный неисчислимым сонмом актеров, выступавших на театральных подмостках на протяжении всей истории человечества. Бесчисленные герои-любовники, вечные старухи, которые, казалось, никогда не были молодыми и красивыми, баловни судьбы – наследники отцовского богатства, пресытившиеся удовольствиями, даруемыми жизнью, и присматривавшиеся к запретным плодам, которые можно вкусить, лишь играя в опасные игры со смертью. Реальные исторические персонажи словно поглощались мучившей актеров извечной жаждой игры. Аристократы, военачальники, судьи, заговорщики, политики, принадлежащие к самым невероятным идеологиям, – все они были лишь частными вариантами одной великой роли, которую каждое новое поколение актеров оттачивало и отшлифовывало, стремясь приблизиться к идеалу абсолютного совершенства.
Положение Ады в мозаике актерских ролей наверняка было предопределено веками принадлежности ее семьи к миру сцены и кулис. Переданный ей по наследству талант начал оттачиваться с того дня, когда западное окно было открыто навстречу звездам и ангелам, когда Джон Ди впервые обратился на давно забытом языке к тем таинственным существам, которым ведома другая сторона времени. Даже сами ангелы – всего лишь актеры, исполняющие свои роли в великой пьесе, где всем смертным уготованы лишь мимолетные эпизоды в бесчисленных массовых сценах.
Вплоть до этого момента Пол был уверен, что рассуждает абсолютно логично и мысленно описывает разворачивающиеся события с предельной четкостью. И все же кое-что ускользало от него, не поддаваясь логическому объяснению. Он ощущал это, но поделать ничего не мог: как его тело было сковано ледяной неподвижностью, так и его разум мог лишь метаться в узком, оставленном ему для функционирования пространстве, не в силах вырваться за незримые, но непреодолимые границы. Постепенно ему все же удалось понять суть противоречия: актеры – не те, за кого себя выдают, и не те, кем хотят быть. Вот почему они так близки с мечущимися в космосе или загробном мире душами людей, которые уже умерли, еще не родились или которым жизнь земная не уготована. Той далекой ночью на кладбище, накануне раскрытия порохового заговора и страшной смерти, предначертанной заговорщикам в соответствии с законами Короны, Джон Ди сказал Гаю Фоксу: «Ты не будешь страдать и не умрешь. Ты станешь актером, что позволит тебе избежать участи, уготованной всем остальным людям. В отличие от других, ты не будешь воспринимать игру и вымысел как отрицание реального мира. Реальный и придуманный миры станут для тебя единым пространством. Каждый человек сбрасывает кожу, как змея, но – лишь однажды, в следующий миг после перехода в иной мир. Ты же сможешь менять кожу, когда захочешь. Эта сменная кожа станет твоей маской и навсегда останется с тобой, определяя самую суть твоего существования в реальном и придуманном мире».
Но кто же диктовал ему эти слова? Кто посвящал его в секрет, который веками ревностно хранили потомки Фокса? По телу Пола пробежала болезненная судорога. В ту же секунду всю поверхность его кожи словно обожгло ударом кнута. Но эта боль вернула ему способность двигаться. Он осторожно встал и вдруг понял, что снова может ходить. Ноги, легкие, как никогда раньше, понесли его прочь, и через несколько мгновений он уже оказался в каком-то заросшем плющом саду со множеством пустых, заваленных листьями фонтанов и полувысохших прудов. Откуда-то, словно из вихря поднятых ветром листьев, навстречу ему вышла женщина с темными волосами и застывшей на губах иронической улыбкой.
– Я ждала тебя и хочу помочь. Здесь ты сможешь поговорить с Марком, но сначала тебе предстоит встретиться с другим человеком.
От мысли, что Марк может быть жив, у Пола учащенно забилось сердце. Он глубоко вдохнул, но воздуха ему все равно не хватало. Ощущение было такое, словно кислород потерял свою живительную силу и перестал в должной мере питать клетки жизненной энергией. Пол, даже в своем новом, странном состоянии остававшийся ученым до мозга костей, предположил, что оказался в таком месте, где кислорода, может быть, и достаточно, но в силу постоянно царящего здесь сумрака окружающим растениям не удается выделять его в чистом виде в силу слабого процесса фотосинтеза в столь неблагоприятных условиях.
Женщина, пригласившая его следовать за собой, почему-то показалась Полу знакомой. У него было ощущение, что он видит ее не впервые. Она была бледная, стройная, а ее легкие движения напоминали трепетание листьев от дуновения ветра. Он почувствовал непреодолимую тягу к ней и, не отдавая отчета в своих действиях, прикоснулся к ней рукой. Она остановилась и, обернувшись, посмотрела ему прямо в глаза, словно пытаясь проникнуть в самую глубину его мыслей и чувств. Вот уже много лет Пол не играл в эти игры соблазнения и ухаживания, но сейчас будто перенесся в далекие годы студенческой юности, когда ему, несмотря на всю занятость в лабораториях и необходимость постоянно подавать научные отчеты для ежегодного продления стипендии, на которую он жил, все же пришлось осваивать этот сладостный язык, что он проделал легко и с величайшим наслаждением. Больше всего его поражало даже не то, каких целей можно добиться, используя этот восхитительный язык, а то, с какой потрясающей экспрессивностью человеку дано выражать свои чувства и намерения. В общем, тогда он взялся за это дело с присущим ему прилежанием примерного ученика и быстро добился успехов в новом для себя предмете.
Женщина вновь обернулась, призывая следовать за ней. Ее легкий итальянский акцент напомнил Полу о Федерико. «Как знать, – подумал он, – может быть, они знакомы и здесь, в этом саду, мне удастся встретиться с профессором Канали».
Наконец садовая дорожка привела их к большому зданию – не то особняку, не то даже дворцу, который, похоже, знавал в своей истории и лучшие времена. Атмосфера запустения, царившая в саду, гармонировала с общим впечатлением от обшарпанного, покрытого трещинами и пятнами обвалившейся штукатурки фасада и окон, стекла в которых, судя по всему, не мылись уже много лет. Вдоль дома выстроились шеренгой высокие кипарисы, отделявшие запущенный сад от дикого, почти непроходимого леса, уходившего вдаль к поднимавшимся на горизонте холмам.
– Мы с тобой не знакомы, но я знаю, кто ты. Меня зовут Андреа де Лукка, Федерико Канали рассказывал мне о тебе.
В этих словах, произнесенных ласковым трепещущим голосом, Пол услышал журчание подземной реки, что несла свои воды в его мыслях и памяти. Эта девушка, встретившая его в темном саду, была невероятно очаровательна. Нет, в ней не было какой-то особой красоты, однако некая невидимая, но вполне осязаемая, свойственная ей чувственность напрягала его нервы, как струны арфы. На какое-то время он даже забыл, что все происходящее с ним – это тяжелый кошмарный сон, который он видит благодаря какому-то внешнему воздействию на его рассудок. Избавиться от этого воздействия у него не было ни сил, ни возможности. Вдова его племянника привела его сюда – в это странное место, где он стал всего лишь одной из фигур, участвующих ъ игре, одним из персонажей, которому была предназначена некая роль в пьесе. Похоже, режиссер сумел найти своего Глухого и теперь мог продолжать съемку в соответствии с заранее написанным сценарием, не меняя в нем ничего – ни единого эпизода, ни единой декорации.
В эти минуты ему казалось, что он вполне может войти в старый запущенный дом и там, в одной из бесчисленных комнат Сатис-хауса, встретиться с Марком и поговорить с ним спокойно и, главное, искренне, не прибегая к помощи литературы, так обостряющей чувства и восприятие реальности.
Андреа де Лукка провела его по коридору, стены которого украшали бесчисленные зеркала. Пол так и не отважился заглянуть ни в одно из них. Он прекрасно знал о способности сверкающих поверхностей похищать душу и переносить ее в неведомое время и пространство. Вот почему, несмотря на сжигавшее его любопытство, он не попался в ловушку и не стал смотреть в зеркала, не обеспечив себе надежной защиты от их колдовских свойств. Андреа все улыбалась и улыбалась как заведенная. Она, несомненно, принадлежала к тому типу женщин, которые способны если не возбудить, то по крайней мере заинтересовать кого угодно. Пол не имел ничего против того, чтобы попасть под ее чары, в которых он не чувствовал для себя никакой опасности. Наоборот, Андреа забавляла его: ее молодость, дерзкое поведение, противоречие между ее невыразимой нежностью и явной порочностью – все это представляло собой яркий контраст с рахитичной повседневной жизнью ученого, заживо похороненного в своем микромире. «О чем это я? – изумленно подумал Пол. – Что занимает мои мысли в такую минуту?» Он уже был там, рядом с открытым окном, за которым его ждала встреча с умершим племянником либо же очередная, но на этот раз смертельная иллюзия.
Андреа оставила его одного – абсолютно неудовлетворенного. Пребывая в одиночестве, он не удержался от искушения заглянуть хотя бы на секунду в небольшое зеркало в позолоченной раме, которое просто выпирало из стены, притягивая к себе взгляд, как магнит. «Похоже, я обугливаюсь прямо на глазах, – подумал он, критически осматривая в зеркале свое постаревшее лицо. – Пожалуй, обнажаться перед этой женщиной мне уже не стоило бы».
Тем временем дверь в соседнюю комнату стала медленно открываться. Пол рассчитывал, что на пороге должна появиться юная Андреа, и тем сильнее было его изумление, когда навстречу ему шагнул Марк. Пол даже попятился – не то от страха, не то чтобы лучше рассмотреть племянника. Марк был все в тех же лохмотьях, в которые превратилась его одежда после отчаянного сражения со скалами у слэптонского пляжа. Он медленно поднял руку в знак приветствия.
– Нет, это невозможно, я болен! Меня отравили! – Эти слова Пол произносил машинально, они лились, рожденные изумлением и неверием в возможность такой встречи. – Нет, с меня хватит! Я знаю, что все это иллюзия, нет никакого сада, никакого дома, и все, что я вижу, – сон или спектакль.
Марк аккуратно закрыл дверь и поискал взглядом стул, на который можно было бы сесть. Он казался очень усталым и явно не имел ни малейшего желания спорить с дядей. Судя по всему, такая реакция Пола его ничуть не удивила, и, не обращая внимания на изумленные возгласы, он сосредоточил внимание на том, что именно привело его дядю в сие унылое место.
– Послушай, у меня мало времени, хватит только на то, чтобы рассказать тебе самое главное: да, я умер и останусь мертвым навеки, по крайней мере для того мира, в котором пока живешь ты. Но знай: я не один, со вчерашнего дня здесь со мной Федерико. Наша смерть, как и все предсмертные метания и страдания, станет бессмысленной жертвой, если ты не найдешь череп и не вернешь его туда, где ему надлежит оставаться вовеки.
Пол внимательно слушал Марка и в то же время рассматривал его лицо – бледное, почти прозрачное, словно трепещущее в каком-то неясном, исходящем из-под кожи сиянии. Слезы душили его, не позволяя произнести слова, готовые сорваться с губ.
Пол прекрасно понимал, что все происходящее ему только снится, но, увидев племянника, не смог оставаться просто сторонним наблюдателем. Его чувства переплелись с эмоциями Марка, и Пол понял, что не принадлежит себе: новая цель определяла теперь его будущее. Против своей воли он оказался втянут в безумную погоню за химерой – носатым черепом.
– Твоя жена обманула нас. Она ведет какую-то нечестную, двойную игру, манипулирует людьми, извращает чужие слова и поступки. Ей и актерам, которые идут за ней по пятам, нужно только одно: они хотят заполучить череп деревянной куклы.
Этими словами Пол нарушил свое долгое молчание. Судя по всему, они не понравились Марку, он покачал головой и негромко, но четко произнес:
– Ада – только инструмент в чужих руках, колесико в огромном механизме, который вращается, смазываемый, как маслом, вселенской движущей силой. Мой тебе совет: найди итальянку, займись с ней любовью. Это она – наша «садовница». Когда ты возьмешь ее, она предстанет перед тобой совсем другой, не такой, как при первой встрече. Но заклинаю тебя: держись подальше от ее отца. Прости, Пол, больше я ничего сказать тебе не могу.
Марк встал со стула и, повернувшись спиной к дяде, пошел к выходу. Пол увидел, что со спины его тело не прикрыто даже лохмотьями одежды. По всей спине – открытые незаживающие раны, настолько глубокие, что в некоторых виднелись осколки сломанных костей. Пол снова остался один в этом странном доме. Он высунулся в окно и увидел, что сад вокруг особняка простирается гораздо дальше, чем он предположил поначалу. За стеной кипарисов разглядел тихую лагуну, на дальнем берегу которой между деревьями виднелись какие-то руины. Что ж, ему удалось встретиться с погибшим племянником, и в некотором роде это успокоило Пола. В то же время он не мог не чувствовать тревоги из-за того, что явившийся с того света Марк фактически обязал его принять участие в каких-то безумных поисках, в той погоне, которая уже привела к смерти самого Марка.
Пол обернулся, не без труда высмотрел в полумраке дверь в коридор, перешагнул через порог и в последний раз взглянул на себя в зеркало.
«Трудно видеть во сне собственное изображение, трудно представить самого себя в таком состоянии, – думал Пол, глядя на свое отражение, сухое и бесцветное, как куколка, из которой вот-вот должна вылупиться уже набравшаяся сил бабочка. – Нет, если бы я на самом деле спал, то увидел бы себя другим – не унылым, не задумчивым и не впившимся отчаянным взглядом в собственное отражение. Похоже, то состояние, в котором я пребываю, имеет лишь косвенное отношение ко сну. Видимо, я действительно нахожусь на границе двух миров – мира мертвых и мира живых, вот только сумею ли я найти путь обратно, не приведет ли меня выбранная тропа в тот мир, в который не хотелось бы попасть раньше времени?»
Он толкнул очередную полузакрытую дверь и, пройдя еще по одному коридору, оказался во внутреннем, дворе особняка. Сухой, ограниченный бордюром из серого безжизненного камня фонтан обозначал центр симметрично организованного пространства, с убийственной четкостью продуманного и сконструированного для того, чтобы наводить тоску и уныние. Колонны, выстроившиеся по периметру двора и поддерживавшие над собой галерею, придавали зданию вид монастыря, причем непокинутого, но неухоженного и очень запущенного. По углам двора пыльными земляными кучами громоздились некогда эффектно разбитые клумбы. Даже трава на газончиках между колоннами и та давно поникла и высохла. Серая крыша, поддерживаемая длинными балками, почти перекрывала небо над двором, не давая возможности определить время по солнцу. Впрочем, солнца здесь, похоже, вообще никогда не бывало, как не бывало ни туч, ни ясного неба, ни звезд на нем. Ни единый порыв ветра не проникал в это почти замкнутое пространство, и когда-то занесенные сюда сухие листья лежали вдоль колоннады огромным ковром. Ощущение неизбывного одиночества пронизывало все вокруг, впивалось в душу попавшего в этот мрачный двор человека, как стрела, которая со свистом несется сквозь воздух, мечтая найти в теле жертвы еще не нанесенную рану.
«Я одинок, как никогда в жизни, – грустно сказал себе Пол. – Я не знаю, удастся ли мне вновь проснуться, или я уже мертв, как мертво все, что окружает меня здесь».
Из выходивших во внутренний двор окон второго этажа, где, судя по всему, находились комнаты женщин, доносилась музыка – какая-то незнакомая мелодия. Он и сам не знал, почему решил, что в этом доме обитают одни женщины. Скорее всего молодые, дававшие здесь, в этом замкнутом пространстве, волю своим инстинктам и повернувшиеся спиной к внешнему миру, требовавшему их присутствия в обществе и в то же время настаивавшему на соблюдении правил, установленных этим обществом. Из-за старинных плюшевых гардин, прикрывавших окна, исходило какое-то невидимое излучение, порожденное незримым женским присутствием.
Пол поднялся по лестнице, не зная, что его ждет наверху. Перила сделаны из красного дерева – полированного, покрытого лаком и словно горевшего изнутри. Ощущение было такое, будто во всем доме именно балюстраду только что отмыли и отчистили до блеска. Музыка тем временем звучала все ближе и четче. Теплое желтоватое свечение вырывалось из-под двери третьей по коридору комнаты. Оттуда же доносились голоса – с такими интонациями близкие люди обычно делают друг другу самые важные признания. Словно в какой-нибудь любовной сцене, мужской и женский голоса нежно переплетались, не замечая нежданно появившегося соглядатая. Пола потянуло назад, он не хотел ни заходить в эту комнату, ни смотреть. Но другого пути у него не было. Оглянувшись, он даже не увидел за спиной лестницы, по которой только что поднялся. Оставалось идти лишь вперед, стараясь не думать о том, что эта дорога, быть может, приведет его прямо к смерти. В любом случае от него требовалось одно – принимать решения, вписывающиеся в местную систему координат. Если бы он попытался вырваться из этого странного мира, наверняка заблудился бы окончательно, так и не найдя дороги обратно.
Он толкнул дверь и сразу же понял, что комната освещена чуть лучше, чем погруженный почти в полную темноту дом. Как он и предполагал, в этой комнате юноша и девушка предавались любовным играм. Их сплетенные тела освещали почти два десятка свечей, вставленных в огромный ветвистый канделябр ростом с человека. Крохотные огоньки колыхались в такт дыханию влюбленных. Ласковые руки скользили по телам, словно подгоняя их реализовать сжигающее желание, которое все никак не могло разрядиться последней безумной вспышкой. Влюбленные находились довольно далеко от двери, и их лица не были видны Полу, однако он сразу же, буквально по вибрации воздуха почувствовал, что эти люди должны быть ему знакомы.
Он подошел ближе, почему-то уверенный, что они не смогут увидеть его. Женщина, бледная и округлая, словно полная луна, была той самой «садовницей», чей голос Пол слышал с тех пор, как провалился в этот тяжелый сон. Ее тело было воплощением желанной женственности, хотя ее формы в полумраке четко не прорисовывались. Она не была ни худой, ни полной, ни молодой, ни старой, ни высокой, ни маленькой. Вся обстановка лишь подчеркивала ее абсолютную женственность, желанность и в то же время – ее особую власть, наподобие той, какой обладали жрицы в храмах древних религий. Мужчина, навалившийся, набросившийся на нее, оседлавший свою возлюбленную, боролся не с ней, а с собственным бессилием. Почему-то он показался Полу иностранцем: у него были темные, слегка вьющиеся волосы, а во взгляде черных глаз угадывалась проницательность и настойчивость.
Сам того не зная, Пол оказался свидетелем сцены любви, разыгрывавшейся в тот миг за много километров от него – во Флоренции, между Коломбиной и Антонио. В тот день мексиканец, наговорив сообщение на автоответчик адвоката, прямиком отправился в дом двух актеров и вскоре оказался в сладостном плену надушенных простыней Коломбины, которую ему все не удавалось ни взять, ни подчинить своей силе, как он ни старался. В сексуальном отношении она была на голову выше его: умелая, чувственная, она могла воспроизвести в своих стонах и дыхании любую страсть, любые оттенки эмоций. Антонио же не мог притвориться, что забыл о Федерико, и эти воспоминания, болезненные и тревожные, не давали ему полностью сосредоточиться на любви, без чего обладание страстной «садовницей» не могло быть полным.
Убедившись в своей невидимости, Пол решил прикоснуться к Коломбине, но его рука прошла сквозь ее тело, как сквозь воздух. Ощущение было такое, словно он пытался прикоснуться к изображению на экране или к отражению в зеркале, в то время как сама любовная сцена разворачивалась не у него перед глазами и под руками, а в другой, далекой от него точке пространства и времени. Боль от осознания невозможности не только обладать этой женщиной, но даже коснуться ее, была столь острой, что Пол рухнул на пол и горько заплакал. Сколько времени он так пролежал, обливаясь слезами, он и сам сказать не мог, потому что в его распоряжении не было никаких инструментов для измерения в этом странном мире. Это кончилось лишь после того, как были выплаканы все слезы, заставившие Пола вспомнить о далеких временах подростковых обид и трагедий. «Мужчина на пороге старости не имеет права так реветь, но я чувствую себя здесь таким несчастным, таким одиноким и забытым».
В его голове металась и стучала изнутри по черепу, как молотком, одна и та же мысль: «Больше так продолжаться не может. Нужно признаться в поражении и сдаться». Неожиданно сквозь пелену одиночества в нем вспыхнуло желание ответить, отреагировать на происходящее. Он встал на ноги и, сосредоточившись на любовных играх, которые он мог лишь созерцать, но не участвовать в них, вдруг закричал во всю мочь:
– Пиноккио! Пиноккио!
Сознание покинуло его в ту же секунду, когда образы Антонио и Коломбины растворились в воздухе, испарились, словно капли воды, прямо перед его воспаленными глазами. Впрочем, часть осколков этих образов обрела вдруг острые грани и углы, как кусочки разлетевшегося вдребезги большого зеркала. Частицы тела Коломбины беспорядочно слились с атомами, только что составлявшими тело Антонио. Эти крохотные острые осколки хлестнули по лицу и телу Пола, как огненный всепрожигающий дождь. Помещение наполнилось жидкими, перетекающими друг в друга образами, которые обрушивались на него сверху, с боков, со всех сторон. Дождь из раскрошенных в мелкий фарш тел наполнял пространство ароматом чувственности, нежности и ласки. Пол всем телом впитывал в себя эти запахи.
Он полностью погрузился в полубезумное блаженное состояние и пребывал в нем до тех пор, пока по его телу не пробежала искра ужаса. Очнувшись, он понял, что проваливается в какую-то бездонную пропасть вместе с жидкими и в то же время острыми, ранящими его со всех сторон частицами тел двух влюбленных, вместе со свечами, горевшими в комнате, вместе со всей комнатой и со всем домом.
Пол пришел в себя на куче мусора в одном из темных переулков еврейского квартала – там, за невидимой, практически не существующей границей тихого, молчаливого Лондона, и главное – далеко от того места, где он встречался с Адой Маргарет Слиммернау.
Подступы к Сохо охраняли полицейские с автоматами. По всей улочке распространялся запах какого-то пряного супа. Двери в небольшую синагогу были распахнуты настежь. «Сегодня Шаббат, а я как раз вернулся из царства мертвых». Он встал и тотчас же почувствовал, что его ноги снова стали теми же скованными в движениях ногами пожилого человека, передвигая которые он пришел на встречу со вдовой Марка. Холод и сырость пробрали его до костей, напоив все тело той болью, от которой шаги становятся медленными и осторожными, а взгляды – долгими и пронзительными. Пол пошел прямо в синагогу – ему хотелось где-то присесть и подумать над тем, что с ним произошло. От усталости дрожали руки и подкашивались ноги. Что ж, теперь он знал, что Марк уже обосновался в Доме мертвых и Федерико Канали, возможно, тоже перешагнул порог, отделяющий жизнь от царства вечности. В живых оставался лишь Антонио, одежду и тело которого трепали время и непогода. Глядя на эти три черепа, на головы троих друзей, преследуемая, но ловко ускользающая от погони кукла-марионетка злорадно улыбалась, чувствуя, как на глазах растет ее дерзкий, с острым кончиком нос.
Пол взял со стеллажа у лестницы кипу и вошел внутрь синагоги. Раввин как раз погасил лишние лампы и собирался выслушать просьбу какого-то толстого мужчины, дожидавшегося встречи с ним. Пол не был иудеем, но в тот момент готов был почувствовать себя представителем этого вечно гонимого народа и приверженцем хранившей его тысячелетиями религии. Да и как ему было не почувствовать себя наследником одного из колен Израилевых, Вечным жидом, странником, потерявшим не только родину, но и чувство времени и возраста? Пройдя дальше в главный зал, он сел на место, зарезервированное Шломо Абнером, как гласила табличка, привинченная к спинке стула. «Что же это за человек, который платит за то, чтобы сидеть во время проповеди на персональном стуле?» В синагоге было тепло, и Пол начал постепенно приходить в себя.
Пережитый катарсис оставил в его душе глубокий след. Увидев, как разбивается на мелкие осколки образ Коломбины, он словно родился заново. Биологическая составляющая его личности оживала на глазах, подпитываемая новым, словно неведомым прежде желанием. Следом за девушкой оживал и начинал жить полной жизнью в сознании Пола и ее верный спутник – деревянный мальчик, о котором сам Пол, наверное, не вспоминал с далекого детства. Теперь ожившая кукла набросилась на остатки его воображения, как недобрый лесной дух на припозднившегося путника. Пол настолько погрузился в свои размышления, что даже не заметил, как к нему сзади подошел раввин.
– Добрый вечер, я что-то вас не припоминаю. Вы недавно переехали в наш район?
Голос раввина звучал не то чтобы грубо, но как-то шершаво и жестко, в нем явственно слышался иностранный акцент, скорее всего немецкий; об этом Пол успел подумать до того, как сформулировал ответ:
– Прошу меня простить, я не иудей, мне просто нужно было немного отдохнуть.
Он прекрасно понимал, что окажись сейчас на месте раввина священник англиканской церкви – и непрошеного посетителя выставили бы из храма без малейшего сожаления. Но, по всей видимости, способность к состраданию развита гораздо больше у представителей тех религий, которые веками испытывали суровые гонения.
Раввин внимательно посмотрел на него. От его взгляда не ускользнули ни перепачканные ботинки, ни развязанные шнурки, ни грязные руки, ни пропотевшая рубашка… Пол и сам понимал, во что превратилась его прическа и как выглядит его лицо – серое, осунувшееся, с красными воспаленными глазами. Впрочем, похоже было, что раввина этим не испугаешь. Едва ли не заговорщически подмигнув, он улыбнулся и как бы невзначай осведомился:
– Ты откуда – из дома свиданий или же из ада?
Пол засмеялся, преисполненный радости оттого, что его самого еще не покинуло чувство юмора, и благодарный за благосклонность, проявленную представителем чужой веры.
– Ни то ни другое. Я только что поднялся из могилы, восстав из мертвых.
Раввин поднял руку и почесал в затылке, взъерошив пышные черные волосы.
– Судя по выражению твоего лица, в это можно поверить. Но выглядишь ты не как покойник, а как человек, которому еще суждено узнать в жизни новые чувства.
Такое предсказание не могло не подлить масла в сжигающий Пола огонь любви, горевший с того мгновения, как он впервые увидел Коломбину. Раввин на некоторое время задумался, а затем, внимательно посмотрев на Пола, сказал:
– Я расскажу тебе одну притчу из Талмуда, но после этого ты встанешь и уйдешь. – Раввин опять замолчал и, не увидев в глазах Пола протеста или несогласия, продолжал: – Как-то раз ребе Гиллел увидел череп, плывущий по волнам. Он остановился и внимательно посмотрел на мертвую голову. Наконец он решился спросить: «Почему ты утонул?» Череп же не мог ему ответить. Ребе продолжал наблюдать, как мертвая голова пляшет в волнах, подчиняясь враждебному ей ритму морского прибоя. Тогда ребе Гиллел изрек пророческие слова: «Тебя утопили, но рано или поздно виновные в твоей смерти тоже умрут, и смерть их будет не менее страшной».
Раввин проводил Пола до дверей, не сказав больше ни слова. Покопавшись в бумажнике, энтомолог достал несколько купюр и вложил их в узловатую руку раввина, который принял лепту, не поблагодарив щедрого гостя.
Глава девятая
Антонио мысленно примерил к себе благородные гербы, которые, как феодальные украшения, были развешены по стенам комнаты Коломбины. Позволив вытереть себя мягкими махровыми полотенцами «садовницы», он соизволил принять предложение сопроводить ее на ложе. Два тела ищут встречи друг с другом, думал он в предвкушении наслаждения. Андреа тем временем расстегивала одну за другой пуговицы в форме звездочек, украшавшие ее блузку. Нет, конечно, Антонио с большим удовольствием овладел бы ею где-нибудь в лифте в мексиканской столице или же занялся бы с ней любовью на рабочем столе какого-нибудь продюсера, пока его отец обсуждает возможность подобрать такой ракурс съемки, с которого ацтекские черты лица смотрелись бы наиболее выигрышно. Впрочем, выбирать ему сейчас не приходилось, и под грохотание грома и сверкание молний в раме окна, напоминающей экран, ожила та любовь, которая уносила Антонио прочь от первородных истоков, от его собственной природы, вечно жаждущей перемен и потрясений. Нет, в конце концов стоило отправиться в погоню за черепом, чтобы оказаться здесь, – спрятаться между подушками и закрыться от мира прекрасным телом, созданным, чтобы волновать, чтобы пробуждать самые яркие эмоции.
Он вспомнил о Федерико: итальянец наверняка тоже бывал здесь, но Антонио был уверен, что тот не мог заниматься любовью с такой страстью и так самозабвенно. Профессор Канали был человек строгий и не слишком эмоциональный, а кроме того, относился к сексу высокомерно и с некоторым предубеждением – как к татуировкам на теле. Сам же Антонио, в противоположность Федерико, представлял себя в образе змеи, свивающейся в плотную спираль, которая не душит жертву, а только выдавливает из нее лишний воздух, чтобы экстаз их единства был еще более полным, чтобы не потратить впустую ни единого движения, ни единого касания. Коломбина улыбалась и во все глаза наблюдала, как Антонио осваивает новые дороги, ведущие к великому удовольствию, описанному во фресках и рельефах, украшающих внутренние помещения любой индейской пирамиды. «Вот это и есть истинное искусство земледельца, – подумал он, когда очередная молния на миг озарила его разум, вернув способность мыслить, – обрабатывать один и тот же участок земли всякий раз по-разному, чтобы земля давала все новые и новые плоды».
Какая мысль, какой разум трепетал в тот миг, когда тело Антонио предавалось управляемому и направляемому сексу, превращавшему каждое движение в невероятное наслаждение? Он весь превратился в ритм; в этом едином ритме двигались его ноги, тело, каждый мускул, вся покрытая потом кожа. Его полные страсти глаза неотрывно смотрели в черные зрачки «садовницы», в которых рождался божественный нектар. «Это итальянский язык, та самая тосканская музыка, которой воспользовался Данте, чтобы спуститься в глубины ада».
– Что ты говоришь, любимый? – спросила Андреа, словно выпав на миг из процесса сосредоточенного получения удовольствия. – По-моему, литература – не то, что нам сейчас нужно.
Он был с ней согласен, но никакое удовольствие не было для него полным, если он не мог связать его с какой-нибудь литературной цитатой или с хрестоматийно знакомым кадром из фильма. Слепок, подобно видеоклипу запечатленный в памяти, был для него той жемчужиной, что украшает корону восторга и удовольствия, воспринимаемых всеми пятью чувствами.
– Жизнь – она как кино, жизнь – это борьба за освобождение от тех условностей, которые делают нас людьми. Ты мне так нравишься, что я согласен по твоему приказу превратиться во все, что угодно, во все, что ты захочешь.
Это признание было абсолютно искренним. Антонио не продумывал свои слова – они сорвались с его губ сами, вырвавшись из глубин подсознания единственного сына богатого отца, баловавшего и пестовавшего его, как любимую куклу.
– Наверное, я бы мог превратиться даже в Пиноккио, – сказал он, злорадно улыбаясь.
В ответ Коломбина рассмеялась и воскликнула:
– Да, пусть будет так! Я этого хочу! – Она перевернула Антонио на спину и села на него верхом. – Ты вновь превратишься в деревянного мальчика и станешь совершенным. Путь назад будет пройден, и твоя человеческая природа станет бессмертной и вечной.
Она целовала его, гладила его тело, отравляя странными, незнакомыми ароматами разум мексиканца.
«Бедный Федерико, – даже не подумал, а почувствовал Антонио, пытаясь вернуться в сознание после нескольких секунд обморока. – Я ведь пришел сюда, чтобы узнать, где ты, чтобы найти тебя и освободить от твоих страстей и навязчивых мыслей. Но эта женщина может уничтожить любого из нас, она способна растворить и тебя, и меня в пучине счастья, и то, что от нас останется, будет поглощено ею, как крохотный кусочек кожи, смываемый с ванны струей воды и уплывающий в отверстие стока».
Ее поцелуи сладко душили его. «Корабль тонет, – с трудом пробормотал Антонио, задыхаясь между подушками и покрывалами. – Но волны ласково обнимают меня». Она закрывала его глаза своими длинными темными волосами: так закрывают небо плотные облака. Ее горячая грудь запирала его уста, заливая их сургучом страсти и желания. Антонио не хватало времени, чтобы прочувствовать каждую частицу тела «садовницы», он пытался охватить ее всю разом, слиться с ней воедино, как сливаются две капли ртути из разбитого градусника – сливаются и становятся неразличимы, вновь обретая вечное единство. И все же слияние невозможно без движения навстречу друг другу, без энергии взрыва, без жажды встречи двух тел или частиц. Эти обрывки атомной метафизики всплыли в памяти Антонио – однажды Марк устроил для него небольшую лекцию по основам ядерной физики. Встречаясь с друзьями, Антонио всегда вел себя как человек, пораженный амнезией. Он словно забывал все, чему его учили, все уроки из школьной программы. Эта черта его характера изрядно веселила как Федерико, так и Марка, которые методично пытались восстановить хоть какие-то обрывки воспоминаний в его чистой, как белый лист, памяти. Порой они делали это с таким же упорством, с каким убежденный в своей правоте врач-психиатр пытается успокоить электрическим разрядом чересчур возбудившийся, с его точки зрения, мозг. Да, без опеки двух своих ангелов-хранителей мексиканец шел на поводу у инстинкта, который неминуемо должен был превратить его в единственного наследника и последователя Пиноккио.
Физическое обладание Коломбиной сошло на нет, за жаром наступил холод, за движением – покой. Ничто, никакие попытки встряхнуть усталую природу уже не могли возыметь действия на два обнаженных тела, раскинувшихся на кровати. Но Антонио не чувствовал удовлетворения. Поддавшись страху, он вдруг представил, что больше у него не будет возможности испытать такое абсолютное наслаждение. С этим он никак не мог согласиться. Его мятежная душа восстала против очередного ограничения, которое налагала на него жизнь в своих самых глубинных, интимных, скрытых от посторонних взглядов проявлениях. «Вот опять я останусь один, у меня были и мать, и отец, но семьи не было никогда». Он снова и снова всматривался в затуманившиеся глаза итальянки. Становилось понятно, что игры для «садовницы» кончились.
Именно в этот момент Пол и появился на сцене. Он перешагнул порог, словно сойдя с другой стороны монеты. Он будто вышел из-за еще не открытого занавеса и стал свидетелем последнего акта любовной пьесы, в которой он, Пол Харпер, хотел бы сыграть главную роль. Шагнув в спальню Коломбины из Дома мертвых, он дрожащими руками попытался обнять ее. Увы – его руки ничего не почувствовали, пройдя сквозь тело девушки, как сквозь луч, несущийся от проекционного аппарата к экрану. Чувствуя, что тонет в этом безумии, Пол закричал во весь голос. Ощущение было такое, что именно голос стал его единственным доступным оружием. Именно голосом, произнесшим имя Пиноккио, он как клинком разрушил видение двух влюбленных, рассыпавшееся перед ним на мелкие осколки. Антонио почувствовал порыв ветра и услышал шум дождя. Оглянувшись, он увидел распахнутое окно. Оттуда, снаружи, с той стороны, где гремела гроза, за ним и его возлюбленной подсматривал человек, чьи смутно обрисованные черты показались ему знакомыми.
– Федерико! – воскликнул он, привставая на кровати. – Это ты?
Коломбина прикрыла его своим телом, обхватив руками голову мексиканца и опутав ногами его бедра.
– Забудешь ты его наконец? Наш друг вернулся к себе, он больше не хочет быть с нами. Мы с тобой свободны, и, чтобы ощутить независимость в полной мере, нам не хватает лишь одного – черепа.
Антонио все же встал и закрыл окно. С этого мгновения Пол перестал видеть, что происходит в комнате. Коломбина тяжело вздохнула, и ее дыхание, словно колдовское заклинание, открыло новые силы в змеиных объятиях. «Велики и могущественны наши боги», – подумал мексиканец, все крепче обнимая девушку и все теснее впечатывая ее тело в свое, словно пытаясь покрыть своими объятиями сразу всю ее кожу.
Пол вел машину всю ночь. До этого он созвонился с коллегами и договорился о том, кто заменит его на время отсутствия в университетских аудиториях. Кроме того, он отложил на неопределенный срок некоторые эксперименты, приготовления к которым были уже в самом разгape. Речь шла о разработке нового инсектицида, действующего на личинки мухи Батлера – насекомого весьма вредного и прожорливого, опустошающего свежие ростки плодовых растений. Эта муха, кстати говоря, была открыта самим Полом Харпером, и он же по праву первооткрывателя дал новому виду название. По его распоряжению на время отсутствия руководителя эксперимента подготовленный препарат – жидкость кровянистого цвета – поместили в холодильную камеру. У Пола было две недели, за которые он либо должен был освободиться от своего наваждения, либо погибнуть.
Вернувшись из Дома мертвых, Пол первым делом напомнил вдове Марка о своей давней просьбе – передать ему всю корреспонденцию, приходившую на имя племянника. Судя по письмам, которые Марк получал из Мексики, можно было догадаться, с какой нежностью он относился к своей жене и с какой жадностью ловил те короткие мгновения счастья, которые выпали ему во время столь недолгого брака. Вчитываясь в письма и перебирая конверты, Пол представлял себе картину жизни Марка – бесчисленных родственников жены, театр и даже что-то вроде гордости за родственные отношения с кастой тех, кто веками хранил верность сцене и нес в себе тайные сверхъестественные способности.
Бедный Марк отправился в свое первое и оказавшееся единственным путешествие в иное пространство, подстрекаемый ведьмой, которую подослал к нему не кто иной, как его собственный дядя, – той самой рыжеволосой бестией, которую встретил молодой человек в читальном зале. Кто бы мог подумать, что все знания Ады о народной литературе Тосканы послужат лишь одной цели – запутать Марка в сетях опасных книг и мыслей, подавить его волю к сопротивлению и усугубить его природную склонность к депрессии и меланхолии, что в конце концов приведет молодого человека к болезни с трагическим исходом.
Пол все еще не вычислил, что именно послужило непосредственным толчком к самоубийству Марка. Он был уверен в том, что рано или поздно таинственная черная сила обрушит и на него свои чары и скорее всего вестница смерти явится к нему в образе той девушки, что встретила его там, в Доме мертвых. Сможет ли он противостоять силе этого видения, Пол и сам не знал. В течение двух недель взятого за свой счет отпуска ему предстояло разобраться в себе и проанализировать, просчитать и выстроить собственное будущее.
Получив после долгих яростных споров со вдовой ворох писем, адресованных Марку, Пол обрушил на эту корреспонденцию всю мощь своего мыслительного аппарата, на время освобожденного от необходимости вникать в проблемы микромира насекомых. Микроскоп аналитического мышления нацелился на толкование содержания писем, которые Марк получал из-за границы в течение последних месяцев жизни. Естественно, большая часть корреспонденции поступала из Мексики и была подписана Антонио. При этом Пол был невероятно удивлен, обнаружив целую пачку писем, так и не полученных Марком при жизни, а следовательно, и не прочитанных им. Ада с оскорбительной уверенностью и невероятным пылом утверждала, что вся эта корреспонденция была получена ею разом, причем буквально на следующий день после смерти мужа. Естественно, в те дни ей было не до выяснения причин столь странной задержки писем. Разобравшись в пачке конвертов, Пол увидел, что не пришедшие вовремя письма, судя по почтовым штемпелям, отправлялись из Мексики с завидной регулярностью: Антонио методично писал по письму в неделю. Разумеется, время от времени почта дает сбои, но систематическая задержка писем от одного и того же отправителя одному и тому же адресату не могла не вызвать удивления Пола. Никакого логического объяснения этому странному феномену он не находил.
Пол Харпер, естественно, потребовал как устных, так и письменных объяснений, но столкнулся с какими-то отговорками, умалчиваниями и обтекаемыми, лишенными смысла формулировками, в которых, как в болоте, увяз его благородный порыв. Он сдался и решил сосредоточиться на самих письмах. Запершись у себя в квартире, он решил не выходить из дому до тех пор, пока не разберется в том, что содержат эти письма и каким образом они связаны с трагически закончившейся жизнью его племянника. Вот с таким мрачным, но решительным настроением он взялся за непростое дело – внимательное прочтение запоздавшей корреспонденции, адресованной уже умершему человеку.
Письма были написаны от руки, четким почерком с аккуратным наклоном вправо. Латинские строчные s и заглавные L извивались, как змеи, да и остальные буквы были выписаны не менее затейливо. Чернила тоже были занятные: ни черные, ни синие, ни фиолетовые. Их цвет вообще с трудом поддавался какому-либо определению. Коричнево-серый, чуть блестящий, этот оттенок больше всего напоминал пятно, оставшееся от пролитого бензина, высохшего на летнем солнце. К удивлению Пола, большая часть писем начиналась одними и теми же словами: «Дорогой друг, у меня по-прежнему нет от тебя никаких вестей. Долгое ожидание тревожит меня, и я начинаю думать, что твои трудности и страдания, которые ты, возможно, испытываешь, каким-то образом связаны со мной…» Судя по тону писем, можно было предположить, что отношения между друзьями в последнее время если и не стали натянутыми, то по крайней мере значительно сократились во внешних проявлениях. Это оказалось для Пола совершенно неожиданным открытием. В то же время Ада рассказала, что, пока они с Марком жили в Слэптоне, она каждое утро уходила из дому по делам, а потом в библиотеку и в общей сложности ее не было дома практически всю первую половину дня. Логично было предположить, что в эти часы Марк мог бы связываться со своим мексиканским другом по телефону или по электронной почте. С точки зрения вдовы, именно эти контакты и сыграли роковую роль, став своего рода детонатором, взорвавшим более чем хрупкое равновесие, установившееся в душе Марка после выздоровления. Пол не стал опровергать столь категоричное и не подтвержденное доказательствами утверждение, но был вынужден признаться себе, что и сам не все понимает в том, как развивались отношения между приятелями. К тому времени Антонио уже пережил смерть отца, и было бы логично предположить, что ему приходилось нелегко и он станет искать поддержки у друзей. Тем не менее в письмах мексиканца Пол не обнаружил ни единого упоминания об этом трагическом событии. В итоге он отложил пять писем, показавшихся ему самыми важными и значимыми для его расследования. Эти пять конвертов он разложил в хронологическом порядке в соответствии с датами отправки. В письмах, так или иначе, говорилось о контактах Антонио с Федерико, о которых итальянец во время последней встречи с Полом даже не упомянул. В основном же письма были посвящены описанию новой сущности куклы, рожденной талантом Коллоди, и в немалой степени проливали свет на подлинную, до сих пор незнакомую Полу сущность Антонио. Первое же письмо из этой серии пробудило воображение Пола и заставило учащенно биться его сердце.
Дорогой друг, я по-прежнему плутаю в потемках: от тебя нет никаких вестей, ты как будто умер, и у меня ощущение, что я говорю со стенкой. Может быть, ты просто не хочешь ничего знать о том, как идут дела у меня, может быть, мы тебе надоели. Я понимаю, что этот череп вполне мог показаться неподъемной ношей, слишком дорогим развлечением, но поначалу мне показалось, что твой интерес был абсолютно искренним. Особенно ясно я это почувствовал, когда ты позволил этой старой лисе Лурдель пригреть тебя на ее пышной груди. Может быть, ты этого и не помнишь, – как-никак мы к тому времени уже приняли не по одной рюмке ее чудовищного стоградусного рома. Да, старик, ты тогда просто воспарил, никогда я еще не видел тебя в таком возвышенном настроении!
Мы с Федерико все время говорим о тебе – как только нам удается связаться. Если бывает трудно дозвониться, то общаемся через Интернет, а время от времени и посылаем друг другу письма, открытки и телеграммы. В любом случае ему удается подогреть мой интерес, мою страсть к нашей общей истории. Ты же знаешь, что я привык чувствовать себя божком – изнеженным, избалованным и почитаемым. А в качестве подношения я больше всего люблю новости и открытия, какими бы незначительными на первый взгляд они ни казались.
Так вот, поделюсь с тобой тем, что нам удалось узнать: Федерико выяснил, что Карло Коллоди, сын Лоренцини, написал и вторую часть истории Пиноккио, но она не была опубликована. Чертов архивариус из Флоренции нашел ее рукопись, когда копался в подвале библиотеки, затопленном во время наводнения 1966 года. Естественно, первым делом он подумал, что эта рукопись – не что иное, как мистификация или же просто продолжение, написанное кем-то из последователей Коллоди, решившим дополнить историю, показавшуюся ему незавершенной. Собственно говоря, продолжение как раз и начинается с того момента, как деревянный Пиноккио превращается в живого человека.
Я прекрасно понимаю, что ты, прочитав эти строчки, разволновался и хочешь знать, что еще нам удалось выяснить. Так вот, именно поэтому я и не буду сейчас продолжать. Хочу пощекотать тебе нервы и, быть может, заставить тебя связаться со мной. На этом все; на сегодня я хотел бы добавить только одно: насколько я знаю, Федерико обзавелся новой подругой и занимается с ней любовью не просто каждый день, а даже несколько чаще. Не могу не признать, что это пошло ему на пользу; по крайней мере характер у него стал более сносный, чем раньше. Ты еще не понял, к чему я клоню? Мой тебе совет: последуй его примеру.
Марк, дружище, я с тобой, а тебе нет прощения за столь долгое молчание, заставляющее меня нервничать.
Пол попытался связать прочитанное с тем, что ему было известно ранее. Больше всего его насторожил странный тон письма: Антонио как будто проявлял излишнюю нервозность. Ощущение было такое, что письмо он писал не то под воздействием какого-нибудь экзотического пьянящего или дурманящего напитка, не то даже в полубреду, вызванном неким синтетическим наркотиком. Пол давно понял, что мексиканец в своей жизни не может обойтись без регулярного получения какой-то дозы – дозы дружбы, дозы нежности, дозы насилия. В неменьшей степени он зависел и от малых, но постоянно получаемых доз азарта новых открытий. В общем, ему требовалось получать от жизни нечто нематериальное и вроде бы не имеющее денежного выражения. Вот только почему-то он получал свой допинг всегда за счет окружающих. Щедрость, которая была его вкладом в дружеские отношения с Марком и Федерико, бескорыстие и великодушие – все это лишь прикрывало некий тайный интерес, удовлетворяя который мексиканец хотя бы отчасти снижал избыточное внутреннее давление, распиравшее его. Второе письмо во многом подтверждало правоту этого мнения.
Марк, я прекрасно понимаю, что со вчерашнего дня ты пускаешь слюнки. Что ж, поделом тебе – в будущем станешь отвечать на письма и звонки друзей. Ладно, слушай дальше: вторая часть сказки о Пиноккио написана гораздо хуже первой. Тем не менее нам она в любом случае интересна, ибо в ней описывается жизнь куклы, превратившейся в человека. Мальчишка вырос и стал думать, как зарабатывать на жизнь. Бедный Джеппетто сумел-таки заставить его учиться. Ты представляешь себе – это же просто чудо! По крайней мере моему отцу так и не удалось этого добиться.
Джеппетто отправил его в университет, а дело было в эпоху всеобщего педагогического безумия. Ты и сам прекрасно знаешь, что Коллоди тоже был педагогом-самозванцем. Так вот, мальчишка прилежно учился и вырос в юношу-всезнайку, усидчивого, приятного и любезного в общении и привлекательного, как сам Джакомо Казанова. Обучение в университете он закончил, получив диплом по химическим наукам – точь-в-точь как твой дядя, – и из деревянной куклы мы за короткое время получили итальянского лиценциата эпохи, предшествовавшей великому потопу. Ты понимаешь, что я хочу этим сказать: фашизм и стал той самой эпохой потопа, когда дождь шел даже не сорок дней и сорок ночей, а гораздо дольше. Вскоре наш приятель похоронил отца на немноголюдном провинциальном кладбище и стал жить самостоятельно, стараясь вести себя примерно и поражая окружающих почти недостижимой степенью приближения к идеалу. В общем, несущая Божью благодать звезда, спустившаяся на землю.
Пиноккио с толком использовал свою привлекательность и снискал неслыханный успех у женщин. Они слетались как мухи на мед, как птицы на места гнездовья. Они осаждали его без устали – романтически настроенные и просто жаждавшие удовольствий. Сам же он не упускал случая воспользоваться их благосклонностью, а мысленно все пытался решить, чему посвятить себя: писательскому ремеслу или же героической армейской службе. Обе эти профессии влекли его с равной силой – как некогда манил к себе деревянную куклу огонь, поражавший длинноносого мальчика своей разрушительной колдовской силой.
Да, Марк, этот человечек хотел успеть добиться в жизни очень многого. Он буквально разрывался между множеством дел и занятий. По утрам запирался в лаборатории, где проводил долгие часы со всякими колбами, реактивами и приборами. По вечерам ходил в театр, в оперу и в кафе. Несколько раз он даже участвовал в экзальтированных собраниях патриотов-националистов и спел с ними не одну патриотическую песню. Его чистый, почти мальчишеский голос приводил в восторг мужественных офицеров, героических защитников родины. В общем, наш знакомый был просто образцом привлекательности и воплощением всех доступных простому смертному человеческих добродетелей. Он тебе, случайно, никого не напоминает? По мне, так это просто вылитый я.
Ладно, на сегодня хватит. Если я не получу от тебя ответа, то ты не узнаешь, чем закончилась вся эта история. Честно говоря, я уже устал писать в пустоту.
Пол интерпретировал довольно резкую заключительную часть письма как следствие компульсивной нервозности его автора. Антонио сгорал от нетерпения, не понимая, почему Марк не отвечает на его письма. Тем не менее, прочитай адресат эти послания, и его хрупкое психологическое равновесие было бы нарушено еще раньше, а последствия этого были бы столь же трагичными. Пол все больше убеждался в том, что эти письма были написаны с одной лишь целью – убить адресата, то есть заставить его сделать непоправимый шаг. Никакого другого объяснения столь странному и специфическому изменению интонации писем Пол не находил. Их неплохо просчитанное, нервирующее воздействие не могло не отразиться на Марке, человеке в общем-то нездоровом, самым неблагоприятным образом.
Третье письмо отличалось еще большей злобой и едкостью стиля. Судя по почерку, автор послания изливал свои ядовитые мысли на бумаге с еще большим рвением, чем прежде.
Ты, значит, все молчишь, разыгрываешь из себя глухонемого или вовсе покойника, ну и что – ты своего не добьешься. Мне на твои игры в молчанку наплевать. Я прекрасно знаю, что ты вовсе не хочешь, чтобы я замолчал именно сейчас, когда тебе предстоит узнать самое главное в истории ожившей деревянной куклы. Нет, я, конечно, мог бы прервать свой рассказ на этом месте, но ты меня никогда не простишь. Тебе эта история интересна не меньше, чем мне, а может быть, даже больше. Ты наверняка так же, как и я, хотел бы поцеловать этот череп и заставить его самого рассказать нам о тех успехах, которых он добился в жизни, о пережитых им приключениях, о женщинах, которыми он обладал, когда его кости были покрыты мягкой плотью, а плутоватая улыбка на губах сводила с ума множество представительниц женского пола, вплоть до старух. Нет, ничто из того, что происходит с нами, не сможет изменить его поступков. Жизнь, прожитая нашим знакомым, останется его жизнью. Мы ничего не можем ни изменить, ни даже представить себе, какие именно события были в этой жизни самыми главными.
Синьор Пиноккио, выпускник университета, доктор химических наук, тайно мечтал выступать на сцене. Обретенная им смертность истребила в нем изначальную актерскую сущность. Сухое дерево его души вспыхнуло как спичка в отражениях зеркал гримерных самых известных актрис. Именно туда устремлял он свой взгляд охотника и победителя. Именно благодаря своим актерским способностям он узнавал величайшие секреты современной ему политики. В постели ему не было равных, и он, как принц эпохи Возрождения, врывался в спальни жен всех каудильо своей эпохи. Женщины говорили с ним о жизни, о смерти, о тех, кто должен был прийти, и о тех, кто уже был осужден и приговорен. Шпионы, герои, воры и бродяги обнажались под балдахинами кроватей актрис – повелительниц сцены, которые сами подчинялись лишь воле своего единственного короля.
Наш друг никогда не упускал возможности воспользоваться преимуществами обретенной им человеческой привлекательности. Даже став человеком из плоти и крови, он по-прежнему был лишен великого дара испытывать усталость и сомневаться в себе. Очаровывая женщин, он открывал свой собственный путь к расположению со стороны мужчин, которые в те годы правили страной, готовившейся стать еще одним сухим поленом, брошенным в пекло огромного европейского пожара. Все удовольствия жизни он постигал лишь для того, чтобы быть настоящим сыном театра. Его путь к сцене не был ни легким, ни беспорядочным. По этой дороге его вела путеводная звезда, которую он сам зажег своим мрачным желанием побеждать и подчинять себе других.
Он казался триумфатором, звездой, спустившейся на землю, живым свидетельством Божественной природы человека, но именно эта уверенность в себе его в конце концов и погубила. Но, друг мой, как это произошло, ты сегодня не узнаешь. Я каждый день что-то рассказываю тебе, а взамен не получаю ничего. Я делюсь с тобой самыми сокровенными секретами, а в ответ – одно молчание!.. Марк, скажи честно: у тебя что, очень некрасивая жена? Вот взять, например, Федерико: девушка из шкатулки, которую он купил на Гаити, материализовалась в его жизни, и он с восторгом обладает теперь не только ее портретом, но и ее живым телом. Их отношения – я имею в виду те самые, которые касаются только их двоих, – их безудержный секс присутствует теперь во всем, что делает Федерико. Этот роман накладывает отпечаток буквально на каждый его поступок, причем воздействие его весьма благотворно. Так что подумай об этом на досуге, а заодно постарайся найти время и ответить на мои письма.
Пол Харпер чуть не покраснел, прочитав письмо, тон которого свидетельствовал, что человек, его написавший, отлично знал Марка и умело играл на самых чувствительных струнах его характера. Не слишком любезные, на грани приличия, намеки в адрес Ады Маргарет совсем сбили Пола с толку. Соучастие Федерико в травле Марка тоже становилось все менее очевидным; впрочем, Пол понимал, что ему следовало оставаться начеку, ибо все, что было написано в этих письмах, вполне могло оказаться ложью, не имеющей никакого отношения к реальным событиям.
Непрочитанными остались еще два письма, и Пол решил отложить их на некоторое время. Он почувствовал, что ему просто необходимо выйти на свежий воздух, чтобы отдышаться и прийти в себя. Письма, словно пропитанные ядом, отравляли его, дурманили голову. Он переобулся и набросил на плечи свое неизменное пальто – серое, прямое, с крохотной бабочкой на уголке воротника. На улице шел дождь, но в доме оставаться было невозможно. Письма Антонио просто душили Пола. Зонтик стоял на привычном месте в углу перед входной дверью. Пол выключил свет и вышел из квартиры. Буквально на лестнице он уже вздохнул свободно. Итак, из разговоров с Адой и на основании прочитанных писем он пришел к выводу, что страшная смерть Марка не была случайностью и кто-то приложил немало усилий, чтобы подтолкнуть молодого человека к непоправимому шагу. Складывалось впечатление, что самоубийство было задумано кем-то заранее и вставлено в сценарий, снимаясь в котором актеры по прихоти режиссера узнают свои роли прямо по ходу работы.
В четыре часа дня на улицах было не слишком многолюдно. Между тучами время от времени показывалось прохладное анемичное солнце. Воздух был чист и если не холоден, то по крайней мере свеж. Пол уже много часов ничего не ел, но, поглощенный чтением писем и размышлениями над своим не то обмороком, не то путешествием в иной мир, почти не чувствовал голода. Даже сейчас, зайдя по пути в первое попавшееся кафе, он лишь подошел к стойке и, не садясь за столик, просто заказал себе пиво. Покопавшись в записной книжке, он нашел координаты Федерико Канали. Звонок по домашнему телефону ничего не дал – на том конце провода никто не ответил. Немного подумав, Пол набрал рабочий телефон итальянца. На филологическом факультете университета ему сообщили, что преподаватель Канали уже три дня не появляется на кафедре, его коллеги и сами хотели бы получить какое-то объяснение этой странной ситуации. Синьор Канали не появлялся ни на занятиях, ни в фонетической лаборатории. Не видели его и в том кафе, где традиционно собирались после работы его друзья и коллеги. Федерико искали где только могли и попросили Пола сообщить в университет любую информацию, которая могла бы помочь в обнаружении пропавшего преподавателя. Пол даже не удивился. Повесив трубку, он подумал и решил, что настал и его черед связаться с флорентийскими актерами, хотя доверия к ним у него не было. Впрочем, после всего, что произошло с ним за последние дни, он не доверял в полной мере даже самому себе и своей памяти.
Он решил прогуляться по парку. Там по мокрым после дождя веткам весело прыгали дрозды, и стряхиваемые ими с листьев капли легко и изящно, как ножки танцовщицы, ударялись о влажный газон. Надо было набраться духу и поговорить наконец с отцом и дочерью де Лукка. Пол говорил себе, что одного телефонного разговора ему хватит, чтобы убедиться в правоте своих неприятных предположений или же опровергнуть их. Еще раз хорошо все продумав, он решительным шагом направился к кабине телефона-автомата, стоявшей на углу аллеи рядом со скульптурой Генри Мура.
Ему ответил женский голос. Пол представился.
– Сожалею, но ничем не могу вам помочь. Профессора Канали здесь нет. Вот уже несколько дней мы лишены удовольствия видеть его в нашем доме. Будьте любезны, если у вас появится возможность связаться с ним, передайте, что мы его ждем и двери нашего дома открыты для него. Мы с отцом всегда рады его видеть.
Этот переливчатый музыкальный голосок словно пришпорил память Пола. «Где-то я уже слышал его. Но в последнее время память и чувства нередко подводят меня». Исчезновение Федерико беспокоило его все больше. Вполне могло оказаться, что профессор Канали уже мертв, и никто, кроме него, Пола Харпера, не знает об этом. Последней ниточкой в клубке, за которую Пол еще не пытался уцепиться, был Антонио. Где сейчас мексиканец? На этот вопрос ответа у Пола не было. Нужный номер был записан в его телефонной книжке, но Пол всегда с большой неохотой звонил в Мексику и вообще через океан: разница во времени, совершенно иные нормы этикета – все это превращало любой звонок на другой берег Атлантики в целую проблему. Кроме того, он не слишком доверял сыну знаменитого комика, и это недоверие лишь окрепло после прочтения писем, адресованных мексиканцем его племяннику. И даже если ему удастся застать Антонио дома, что он скажет? О чем спросит? Они ведь никогда раньше не общались друг с другом.
Пол машинально пнул подвернувшуюся ему под ногу пивную банку. На скамейках, стоявших по берегам пруда Серпентайн, сидели обнявшиеся парочки, напоминавшие со спины ожившие скульптуры. Энтомолог натянул шляпу поглубже, чтобы ее поля прикрывали лицо. Краем глаза он заметил двух женщин в традиционных мусульманских одеждах – в черном с ног до головы они становились почти невидимыми. Он вдруг подумал, что, наверное, в таком плаще-невидимке лучше всего гулять по улицам, когда не хочешь, чтобы на тебя обращали внимание. Он прекрасно понимал, что в своем неизменном пальто, шляпе и с зонтиком выглядит как шарж, если не карикатура на себя самого. Ему не хватало только таблички, которая кратко, как в музее, описывала бы отличительные признаки очередного экземпляра коллекции: «Англичанин, профессор университета, консерватор». Впрочем, он прекрасно понимал, что в его годы менять стиль как одежды, так и жизни было уже поздно. Существовать по-другому его не научили, и он не был уверен, что сумел бы с достоинством преодолеть трудности, неизбежно возникающие в жизни человека при резкой смене имиджа. И потом, было ясно, что в университете далеко не все коллеги адекватно восприняли бы его появление, например, с окладистой бородой и в одежде от какого-нибудь современного дизайнера, вознамерившегося спасти европейскую цивилизацию, придав новые краски и формы уже стершимся, полинявшим образам исконных обитателей континента.
Пол поймал себя на том, что думает обо всякой ерунде, пытаясь уйти от более грустных мыслей и отвлечься хотя бы на некоторое время от необходимости сделать следующий шаг в своем расследовании. Логика подсказывала ему, что деваться некуда и действовать придется в любом случае, причем в самое ближайшее время. Увидев за огромным вековым дубом очередную телефонную будку, Пол направился к ней с весьма решительным видом. По его приблизительным подсчетам получалось, что в Мехико сейчас не то полночь, не то час ночи. Что ж, самое время рискнуть. В такой час Антонио вполне может быть дома, но скорее всего еще не спит.
На другом конце линии трубку взял незнакомый мужчина. Судя по голосу, он не был удивлен столь поздним звонком. Кроме того, голос незнакомца звучал бодро, и чувствовалось, что звонок вовсе не вырвал его из сладких сновидений. Заговорил он, естественно, по-испански, причем с таким непривычным акцентом, что Пол едва разобрал, о чем идет речь.
– Кто это? Говорите. Мы ждали вашего звонка.
Пол несколько замешкался, а затем назвал имя Антонио. Судя по всему, абонент мгновенно узнал акцент и тотчас же перешел на родной для Пола язык.
– Антонио сейчас нет дома. Я его адвокат и сам уже несколько дней хочу поговорить с ним. Я был бы вам очень признателен, если бы вы сообщили мне хоть какую-нибудь информацию о том, где он сейчас может находиться. В последний раз мы с ним говорили, когда он звонил мне из Флоренции. Затем я лишь получил на свой автоответчик сообщение, что Антонио собирается разыскать одного своего друга.
Пол не на шутку разволновался: оказывается, Антонио тоже пропал. Становилось очевидным, что трое друзей действительно ввязались в очень неприятную историю. Судя по тому, что произошло с Марком, двум его приятелям следовало всерьез опасаться за свою жизнь. Кто его знает, может, мексиканца уже нет в живых и проклятый череп все-таки попал в руки охотившегося за ним человека – хитрого, умного и безжалостного.
– Большое спасибо, я обязательно перезвоню, если у меня появится какая-нибудь информация о том, где может находиться ваш клиент. Мне стало известно, что профессор Канали тоже пропал. Я сам – дядя Марка Харпера, который утонул три недели назад в Слэптонском заливе. – Пол решил не скрывать причин, побудивших его сделать этот звонок.
Ласло любезно и даже церемонно поблагодарил Пола за участие, но едва телефонная трубка была повешена на рычаг, как он позволил себе от души выругаться. В этой эмоциональной тираде смешались непристойные слова и магические заклинания – как венгерские, так и мексиканские. Хоакин, мажордом виллы в Сересас, тоже пропал, и теперь здесь жила вдова актера, выписавшая к себе из Англии целую толпу слуг и служанок.
– Сеньора, – обратился к ней Ласло, пытаясь по возможности скрыть свое беспокойство, – от вашего сына уже несколько дней нет никаких известий, а сейчас я узнал, что его друг, итальянский профессор, тоже исчез. По-моему, нам давно пора обратиться в полицию. Забудьте обо всем остальном: сейчас самое главное – найти Антонио.
Женщина не торопилась с ответом; впрочем, это Ласло не удивило – он уже давно привык к эксцентричности ее поступков и не слишком дружелюбному характеру. Мать Антонио воспринимала сына так же, как когда-то мужа, и не пыталась оказывать никакого воздействия на принимаемые ими сколько-нибудь важные решения. С ее точки зрения, оба они были людьми умными, здравомыслящими и независимыми, а потому не нуждались ни в ее советах, ни в заботе. Узнав об исчезновении Антонио, англичанка повела себя как обычно: она сочла это очередным капризом избалованного молодого человека, еще одним приключением, которым он решил привлечь внимание окружающих к своей персоне. Волноваться не стоит, а уж тем более привлекать общественное внимание, обращаясь в полицию. «Он вернется, он всегда возвращается. И Хоакин тоже объявится. Он столько лет прожил с нами, что стал одним из нас, так что нечего беспокоиться. А сейчас, с твоего позволения…» Вдова закашлялась и была вынуждена прервать начатую фразу; впрочем, когда приступ кашля прошел, она так и не закончила предложение.
Ласло не стал настаивать. По крайней мере теперь ему стало понятно, что рассчитывать он может лишь на свои силы, в частности на силу воли, которая понадобится ему в ближайшие часы. Начиная с этого момента все его действия должны быть направлены лишь на то, чтобы спасти ту часть наследства, которая была обещана ему в качестве гонорара за ведение дела. Ласло позвонил в аэропорт и заказал себе билет на ближайший самолет в Европу. Одновременно он попросил оформить ему перелет во Флоренцию – тот самый рай, который до сего дня был ему известен лишь в связи с болезнью Стендаля.
Пол вернулся домой после долгой прогулки, которую позволил себе, чтобы хорошенько подумать над ситуацией и оценить то состояние полной растерянности, в котором он оказался в результате своих поисков. Поговорив с Ласло, он подумал, что, наверное, было бы правильно и ему поехать во Флоренцию. В конце концов, сидя в Лондоне, он ничего не сможет сделать, а кроме того, ему хотелось посмотреть в глаза человеку, который своими письмами запугивал его племянника. Впрочем, первым делом следовало дочитать еще не прочитанные письма. Если их автор был человеком последовательным, то скорее всего именно в двух последних и должна быть раскрыта тайна ожившей марионетки.
В глубине души Пол считал все это выдумкой, родившейся в воспаленном воображении человека, решившего поиграть в писателя, ничего при этом не написав. Капризный, избалованный и склонный к фантазиям сын миллионера, скорее всего, долго копил в себе энергию, которую потом выплеснул в нескольких письмах, как кальмар выбрасывает из своего тела чернильное облако. Вот только чернила оказались ядовитыми для рассудка ближайшего друга Антонио. Знакомство с миром кино помогло Антонио придумать и свой собственный мир, где даже покойники могли оживать и играть уготованные им роли, возвращаясь на время с того света. Впрочем, такое толкование последних событий было далеко не исчерпывающим: по крайней мере таким образом никак нельзя было объяснить все, что происходило с самим Полом, в особенности то странное видение, которое посетило его в ходе разговора с Адой Маргарет Слиммернау. Нет, скорее всего в эту игру вовлечены и другие люди, решил он, а раз речь идет об игре, то, значит, в ней должны быть выигравшие и проигравшие – иначе она теряет всякий смысл.
Он поднялся по ступенькам, отделявшим сад от просторного вестибюля его дома. Дождь шел по-прежнему. Пол обернулся и посмотрел на освещенные окна в соседних домах. Отсюда, с высоты крыльца, он видел скаты крыш и открытые окна на верхних этажах – не только освещенные изнутри, но и словно согретые особым человеческим теплом. Раньше такие мысли никогда его не посещали, но теперь, познав леденящее одиночество пустого дома, он словно прозрел, научившись ценить тепло домашнего очага и атмосферу обитаемого жилища. Кроме того, он понял, насколько его собственный дом отличается от этих домов, согретых теплом семейного уюта, домов, где люди смеются и плачут, где нет неизбывного одиночества и где не звучат надрывные крики восставших против воли неба покойников. В квартире Пола жил даже не он, а его сосредоточенное на самом себе «эго», враждебное ко всему окружающему миру. В таком доме легко запутаться и перестать понимать, жив ты или уже нет. Лишь в общении с другими людьми можно удостовериться, что ты еще существуешь на этом свете. Уходить же в мир иной Пол считал для себя преждевременным. Ему еще предстояло встретиться с прекрасной «садовницей», попытаться подчинить себе ее волю, пусть ненадолго, на какие-то несколько часов, которые никогда не будут отмечены ни в одном календаре. Кроме того, ему нужно было возложить на могилу племянника новую плиту с подробным описанием его смерти, ее причин, с анализом всего происходившего до и после этого страшного дня. Сделать это Пол собирался вне зависимости от того, будет ему помогать вдова Марка или же встанет у него на пути, как давшая обет молчания храмовая проститутка, жрица какого-то древнего мрачного культа.
Поев, он налил себе итальянского вина, которое хранил на кухне для особых случаев. Сейчас ему было нужно как-то взбодриться, чтобы продолжить читать письма, которые, скорее всего, принесут новые сюрпризы и поводы для беспокойства. Четвертый конверт он вскрыл через силу. Внутри был лист бумаги, исписанный тем же самым почерком, с тем же наклоном заглавных букв. О скрытом неврозе, которым страдал автор письма, свидетельствовали жирные точки, от которых на соседние буквы разлетались крохотные, едва заметные брызги чернил.
Марк, дружище, твое молчание меня просто достает. Как можно быть таким тупым и не отвечать на письма, когда с тобой делятся все новыми подробностями о судьбе Пиноккио! Может, тебе это не интересно? А может – я даже подумать об этом боюсь, – твой мексиканский друг уже не в состоянии привнести что-то новенькое и интересное в твою захватывающую и полную открытий жизнь женатого мужчины? Обидно, если так, но все равно сегодня я поделюсь с тобой кое-чем любопытным.
Пол заметил, что после столь эмоционального начала почерк письма резко изменился: буквы стали гораздо мельче и через несколько строк дошли до размера булавочной головки. Читать становилось все труднее. Энтомолог почувствовал, что очки уже не позволяют ему справиться с задачей, и решил воспользоваться другим привычным инструментом – лупой, при помощи которой он обычно рассматривал насекомых. Он медленно встал из-за стола, ссутулившись и втянув голову в плечи, словно ожидая, что в любую минуту в него может угодить камень, брошенный чьей-то меткой рукой; подошел к ящику, где лежала лупа, и так же медленно вернулся к письменному столу.
В моем последнем письме тебе был представлен Пиноккио-дуче, плывущий по бурным водам зарождающегося национализма. Сменив деревянное тело на плоть и кровь, он почувствовал, как в его душе кристаллизуется жажда власти. Схожая мечта о власти над зрителем возникает и у актера на съемочной площадке, перед объективом камеры. Поясню: рождение кино в XIX веке совпало с созданием дешевых и вроде бы безобидных легких наркотиков, таких как кока-кола, а также с появлением заменителей нормальной еды, например «Магги». Как раз в это время наш друг взрастил в себе – в тесном кружке своих неудовлетворенных амбиций – некий субститут Императора, главную карту Таро, управляющую судьбами людей, которых мы сами знаем лишь с одной стороны, словно видим только в профиль.
Моего отца, кстати, поначалу снимали тоже в основном в профиль, и этот прием способствовал его первым успехам. Он словно отдавал зрителям лишь половину самого себя. Дружище, ты меня хоть слушаешь? Твое молчание порой наводит меня на мысль, что я общаюсь не с живым человеком, а с каменной плитой на его могиле.
Читая эти строки, Пол почувствовал, как у него пробежали мурашки: похоже, мексиканец не то предчувствовал скорую смерть Марка, не то намекал на нее.
Наш великий актер, а в недавнем прошлом марионетка, блестяще исполнял свои короткие, но эффектные пьесы в утонченной атмосфере общества, внутренне готовившегося к неизбежной войне. Чтобы выделиться среди окружающих, он предпочитал вызывающе одеваться: например, носил черный плащ с красной шелковой подкладкой. Во время римских карнавалов возглавлял процессию, сидя на колеснице, которую тянули лошади славянских пород. На лицо он в таких случаях надевал маску Императора, покрытую тонким слоем алмазной пыли. Во время балов и карнавалов на это лицо, сверкающее в свете свечей и театральных ламп, было больно смотреть – так ослепительно оно сияло. Став из куклы человеком, Пиноккио вытянулся в высоту раза в три, и теперь внушительный рост придавал ему особую притягательную силу. Он, как магнит, как небесное светило, притягивал людей, заставляя их вращаться вокруг себя. Судьба нашего друга изменилась резко и бесповоротно: из послушной игрушки он стал властителем, повелевающим судьбами других людей, из объекта приложения чьей-то воли стал субъектом, заставляющим других подчиняться себе.
Это письмо было намного длиннее предыдущих, и Пол почувствовал усталость в глазах. Почерк становился все мельче. По мере того как автор углублялся в описание деталей общественной жизни Пиноккио, его каллиграфические навыки утрачивались и буквы все больше походили на какие-то плохо различимые закорючки.
Дорогой Марк, ты, наверное, уже живешь жизнью нашего деревянного мальчика, восторгаешься его неземной красотой, но помни: финал близок. Единственное, чего я сейчас хочу, друг мой, это поделиться с тобой той частью нашей общей тайны, которую пока что знаю только я. Поиски разгадки уже привели Федерико к личному счастью; ты бы тоже мог стать счастливым, но, судя по твоему молчанию, не хочешь сделать даже небольшого усилия.
Должен тебе сказать, что за нашим Пиноккио кто-то следил – кто-то серый, безымянный и гениальный в своей посредственности. Это безликое ничтожество хотело воспользоваться жизнью одушевленной маски и явить миру новую грань личности великого героя, словно сделав его портрет в профиль с другой, неизвестной стороны. Прекрасно понимая, что, сорвав маску, он погубит звезду, этот человек из тени копил силы, записывал за Пиноккио каждый шаг и день за днем готовился к великому событию – смерти и пышным похоронам героя.
Должен тебе сказать, дружище, что наша марионетка была человеком неполноценным. Ахиллесовой пятой была та сторона его души и тела, которую он никому не показывал и даже не скрывал – просто потому, что ее не существовало. Тот, кто за ним наблюдал, прекрасно знал об этом и разрабатывал план медленного, но верного порабощения не только явленного стране героя, но и самой молодой, еще недостроенной страны и ее народа. Как в заливе под Слэптоном, мертвые здесь старались казаться живыми и ради этого были готовы умирать вновь и вновь. За чередой бесконечных праздников, организуемых для поднятия национального духа, никто не замечал, как к берегам страны подходили один за другим корабли, трюмы и палубы которых были завалены мертвецами в одинаковой форме. Генералы запирались в актерских гримерках и красились, как пожилые оперные певицы, а старый Арлекин в. костюме, превратившемся в лохмотья, пытался совершить героический побег из этого безумного мира.
Пиноккио наслаждался тем патриотизмом, который пробуждал его образ в народе. Красивый, красноречивый, величественный и самодовольный герой. Фигура эпического масштаба в серой однообразной толпе. Эта роль наполняла душу ожившей куклы гордостью и восторгом. Он чувствовал себя всесильным и непобедимым, никакой огонь не мог сжечь его, ни клинок, ни молния не могли поразить его, наоборот, любая энергия – человеческая или природная – лишь подпитывала тщеславие и самоуверенность кукольной души, скрывавшейся под героической маской. Тот же, кто наблюдал за ним из темноты, прекрасно знал, как пользоваться этой тайной силой, заставлявшей Пиноккио забывать об осторожности и совершать все более опрометчивые поступки.
На этом месте ссылки на биографию Пиноккио заканчивались. Последние строчки письма не касались описания жизни марионетки; в них содержались лишь какие-то пошлые намеки, свидетельствовавшие о дурном вкусе и нарциссизме Антонио. Пол пробежал глазами конец письма и в очередной раз удивился, как много скрытой злобы и агрессии вложил Антонио в слова, обращенные к человеку, который, по его мнению, просто не проявил должного усердия в попытках разгадать тайну черепа.
Чтобы подготовиться морально к прочтению последнего письма, Пол налил себе немного виски с содовой. Подумав, он решил, что алкоголь на пустой желудок может сыграть с ним злую шутку, достал банку каких-то консервов и, не разогревая, машинально съел все ее содержимое. Он понимал, что ему рано отдаваться на волю эмоций и еще очень потребуется способность трезво мыслить и рассуждать. Его дух должен был оставаться крепким, как камень, как мраморная плита, от которой бессильно отражаются все лучи видимого и невидимого света.
Почерк Антонио стал настолько мелким, что разобрать его было теперь почти невозможно даже через лупу. Порой Пол уже не читал, а интуитивно догадывался, что именно могла означать та или иная комбинация закорючек, почти не отличающихся друг от друга. И все же сдаваться он не собирался. Как Пол и предполагал, последнее письмо Антонио начал с очередного оскорбления.
Дорогой мой тупой друг, похоже, я пишу тебе в последний раз. Более того, я уверен, что мы больше не увидимся. Ты не заслуживаешь ни дружбы, ни даже простой вежливости с моей стороны. Твоя жена – настоящая ведьма, гнусная колдунья, она лезет в мои дела и надеется при помощи моей матери заполучить череп, который должен принадлежать только нам. Знаешь, зачем ей это надо?
Конечно, ты не в курсе, да и не желаешь знать, что происходит. И все же я расскажу тебе, что мне стало известно. В глубине души я по-прежнему считаю тебя своим другом и очень за тебя переживаю. Так вот, эта ведьма и моя мать знакомы уже много лет, обе они актрисы, хотя я назвал бы их другим словом. Они встречаются в Доме игры, делятся друг с другом секретами и ничего не знающими об их тайнах мужчинами, вроде моего простодушного отца. Они играют в тайный заговор, делают вид, что живут в особом мире, не зависящем от окружающей реальности, который использует политику для того, чтобы воскресить некие ценности, более древние, чем египетские иероглифы.
Твоя жена присутствует на всех этих сборищах и всякий раз развлекает своих товарищей по заговору рассказами об очередных пройденных ею мужчинах. Да, да, она проходит их, как спортсмен проходит километры длинной дистанции. Не знаю, поймешь ли ты меня, но она пытается превратить свою жизнь в калейдоскоп ярких эпизодов, вроде бы не связанных друг с другом, но подчиняющихся логике скрытого от посторонних глаз и предельно реалистичного сценария.
Она требует называть ее садовницей, членом ордена карбонариев, огненной сестрой и претендует на свою долю колдовского наследия многовековой традиции рода Гая Фокса, облагодетельствованного Джоном Ди. Моя мать, как ни печально признаться, также посещает эти балы и тоже жаждет похитить у нас череп. Для чего? Очень просто: чтобы продолжать свою чудовищную игру. Этот череп триумфатора был кем-то украден из Дома игры, и с тех пор все их сообщество трясет как в лихорадке. Они верят в колдовскую силу талисманов и амулетов и поэтому опасаются, что, утратив такую реликвию, их орден распадется, а после этого навсегда опустится занавес над сценой, где они так долго играли свой нескончаемый спектакль. Но со мной они просчитались. Я им ничего не отдам. Очень жаль, но ты клюнул на блестящую наживку и, одурманенный, забыл, что такое дружба. Твоя главная ошибка в твоей жизни, а женщина Федерико… пока что я не хочу говорить о ней, но похоже, что бездонная пропасть ее тела способна поглотить все, чем мы так дорожили, – весь наш мир, наши обязательства друг перед другом и даже наши сны и мечты.
Читая эти безумные признания, Пол никак не мог поверить, что их написал человек, считавшийся лучшим другом его племянника. Сам он был уже слишком стар, чтобы признаться себе, что все это не только пугает, но и завораживает его, что каждая бредовая фраза Антонио вонзается в его чувства, как раскаленный гвоздь, который невозможно вытащить из раны, не разбередив ее еще больше. Да, Ада Маргарет и ему показалась женщиной, мягко говоря, не совсем адекватной. Он понимал, что это определение слишком слабо, но называть ее как-то иначе не хотел, потому что боялся вслед за Антонио опуститься до оскорблений. И все же, неужели она совершила все свои преступления сознательно и теперь заслуживает сурового наказания без скидок на неведение? На этот вопрос Полу предстояло ответить чуть позже, после того как будет дочитано это последнее письмо, словно оскалившееся на него челюстями строк с мелкими, но острыми, как иглы, зубами.
Ты спросишь: «Что же стало с нашим триумфатором?» Я сейчас вижу, как ты сидишь у камина, расслабленный, не желая лишний раз напрягаться и даже шевелиться, но все же обеспокоенный и жаждущий услышать правдивую историю. Что ж, слушай, друг мой, слушай и верь!
Тот, кто давно наблюдал за Пиноккио, нашел удачный момент, чтобы нанести решительный удар. Простейшая разыгранная комбинация – и вот наш Пиноккио уже загорелся новой идеей и готов, следуя моде, плыть в Америку. В те годы Новый Свет для многих по вашу сторону Атлантики был еще чем-то полумифическим, его существование словно не было доказано наукой. Это была некая Страна игрушек, в которой Пиноккио побывал еще в свою бытность деревянной куклой. Еще не до конца покоренный, полуцивилизованный континент будоражил его воображение, когда он стал человеком, причем человеком амбициозным и честолюбивым. Впрочем, как и раньше, он легко верил в любые сказки и небылицы. Как-то раз, поздно вечером, после скучного и бестолкового дня, он, пребывая в унынии, встретился с одним человеком – среднего возраста, некрасивым, робким и бесцветным, как услужливый лакей. Именно этот серенький человечек и был тем злым гением, который наблюдал за Пиноккио на протяжении всей его блестящей карьеры. Несколько фраз, осторожно вставленных в разговор, помогли ему настроить собеседника на нужный лад. Пиноккио не почувствовал подвоха и, развесив уши, слушал про какой-то корабль, про груз, который предстояло перевезти через океан, и про то, что отправляться в путь нужно буквально завтра, чтобы не задерживать доставку военного снаряжения для воевавших в колониях европейских армий.
Пиноккио старательно делал вид, что рассказ собеседника его мало интересует, но душой уже был там, на этом корабле, отправлявшемся к далеким берегам. Во время разговора выяснилось, что он говорит с хозяином того самого судна. Поддавшись порыву, тот чуть не со слезами на глазах стал жаловаться, что ему некому доверить столь ценный груз, что он не может поручить руководство важной экспедицией человеку ненадежному и непроверенному.
Нет, нашу марионетку никто не тянул за язык. Как-то так само получилось, что кровь в жилах Пиноккио закипела, и эти огненные пузырьки ударили ему в голову, как спиртное. Не отдавая себе отчета, он вдруг решил круто изменить всю свою жизнь: «Я готов плыть куда угодно – хоть на край света. Здесь меня ничто не держит, а те, кому я нужен, пусть подождут. Ведь это всего на пару месяцев».
Довольная улыбка судовладельца могла бы насторожить любого здравомыслящего человека. Увы, Пиноккио ничего не заметил и ничего не заподозрил. В этот момент он уже подсчитывал прибыль от своего нового предприятия и строил планы на дальнейшую жизнь в соответствии с тем богатством, которое за короткое время должно было свалиться ему прямо в руки. «Больше я не буду прятаться за юбками богатых женщин и выпрашивать милости у влиятельных военных, – думал он. – Богатство принесет мне настоящий успех и позволит самому решать, кто должен играть главные роли на сцене театра национального возрождения».
Пол даже уронил письмо, не в силах продолжать читать его. С каждой строчкой оно все ближе подводило его к теме моря и утопленников. Судя по всему, жизнь Пиноккио закончилась столь же трагически, как и жизнь Марка. Сжав зубы и решив как можно скорее покончить с этим безумным письмом, Пол вновь взял в руки лупу и навел ее на микроскопически мелкие буквы.
Декорации были построены. Медленно, но верно все шло к сцене морских похорон точь-в-точь как в том старом фильме, который мой отец хранил в своей коллекции. Ты, конечно, спросишь, почему жизнь нового Адама современной эпохи должна была закончиться именно так, а не иначе? Может быть, ответ покажется тебе смешным, но уверяю тебя, я не шучу. Все произошло именно так, потому что так было написано в сценарии этой странной комедии. Мир кино, выковывавшийся в кузнице двух великих мировых войн, создавал для себя новое поколение актеров.
Все кончено, друг мой. Моя мать и твоя жена перероют наши дома от крыши до подвала и не успокоятся, пока не найдут череп. Без него они, по-моему, просто не представляют себе жизни. Твоя роль во всем этом деле оказалась не главной, но сыгранный тобой эпизод не был малозначительным. Вот только что же это была за роль?
Так, без лишних объяснений, совершенно неожиданно заканчивалось письмо. Сомнений у Пола не оставалось: именно Антонио, с его точки зрения, был прямо повинен в смерти Марка и в исчезновении профессора Канали.
Путь до Рима не занял много времени. За несколько часов полета Пол успел немного отдохнуть и составить план своих дальнейших действий. Добравшись до Флоренции, он решил первым делом нанести визит актерам де Лукка. Именно они были ключом ко всем событиям последнего времени, и, поскольку Пол не был знаком с отцом и дочерью лично, он понимал, что в разговоре с ними придется вести себя крайне осторожно, чтобы не захлопнуть раз и навсегда эту единственную дверь, ведущую к разгадке тайны. Он надеялся, что адвокат Антонио также окажется во Флоренции. Присутствие еще одного заинтересованного человека давало хотя бы психологическую поддержку Полу, который чувствовал бы себя не таким одиноким.
Ласло казался ему человеком практичным, рассудительным и готовым на многое, чтобы защитить своего клиента. Хотя интересы мексиканца не могли совпадать с его собственными, Пол должен был признаться себе в том, что присутствие человека, вроде бы стоящего в стороне от странных махинаций сына знаменитого актера, было бы своего рода глотком свежего воздуха в удушливой атмосфере лжи и страха. Перед тем как ехать в аэропорт, Пол написал длинное письмо, где изложил причины своей неожиданной поездки в Италию, а также свое понимание последних событий, включая описание роли всех участников: Ады Маргарет Слиммернау, Винченцо и Андреа де Лукка и, наконец, Антонио, наследника самого известного мексиканского актера. Письмо было своего рода страховкой на случай, если с ним что-то произойдет, а также неким внутренним стимулом: материал, изложенный в письменном виде, мог помочь вновь собраться с мыслями, если он совсем падет духом. Кроме того, Пол на всякий случай оставил копию письма в специальном файле в компьютере. Если он не вернется и не отключит эту программу, то в назначенный момент компьютер сам должен будет начать рассылать письмо по электронным адресам как коллег и знакомых, так и официальных организаций, включая правоохранительные органы. Таким образом, оставался шанс, что дело будет расследовано и виновные понесут наказание. Составив это своего рода деловое завещание, в котором, как казалось Полу, были просчитаны все возможные последствия его действий, он отправился в путь.
В Риме он некоторое время был вынужден ходить по улицам, прикрыв глаза, непривычные к такому яркому солнечному свету. Мелькавшие в толпе священники в сутанах, скульптуры ангелов на мосту Сант-Анджело – все они в равной мере казались Полу почти неземными существами. Он с большим удовольствием прогулялся бы в Ватикан и посвятил несколько часов безобидному научному эксперименту: наблюдению за католиками, молящимися у своего главного алтаря. Но времени у него не было, и он стал прикидывать, как быстрее добраться до Тосканы. Вырванный из привычной среды родного города, он чувствовал себя здесь скорее насекомым, а не полноценным человеком, приехавшим из другой страны. Этот комплекс, подсознательно унаследованный им, проявлялся тем сильнее, чем интереснее и величественнее был тот город, куда на время забрасывала его судьба. Римская история, архитектура и культурное наследие подавляли его настолько, что он ощущал себя гусеницей, свернувшейся кольцом и выставившей во все стороны, как шипы, свои бесчисленные ножки. Вот в таком виде – взъерошенный, ощетинившийся, ссутулившийся, держа руки в карманах, – он даже не шел, а почти катился по улицам Вечного города.
В доме де Лукки свет горел во всех окнах. Это было видно прямо с улицы. Время от времени за легкими тюлевыми занавесками мелькали какие-то тени. Ощущение было такое, что в доме – большой праздник. Ласло долго смотрел на дом, прежде чем перейти улицу. Он приехал несколько часов назад и все это время потратил на попытки найти Антонио. В гостинице ему сказали, что молодой иностранец вот уже трое суток не приходил ночевать и вообще не появлялся. Никаких указаний о том, что съезжает из отеля, он не оставлял, а поскольку он оплатил номер на несколько дней вперед, тот оставался по-прежнему за мексиканцем. Кроме того, сотрудники гостиницы готовы были принять любое адресованное Антонио сообщение или письмо. Ласло как бы невзначай поинтересовался, много ли людей спрашивало в последние дни о пропавшем постояльце. Ответ администратора ясности не внес: да, какие-то люди интересовались им и даже оставляли записки, но никто не появлялся в отеле больше одного раза. В ячейке с запасным ключом виднелось несколько фирменных гостиничных конвертов, о содержании которых Ласло оставалось только гадать.
Опытный адвокат, он не стал расспрашивать администратора излишне настойчиво. Ласло прекрасно знал, что чем больше интереса к этому делу проявит перед окружающими, тем меньше сведений получит. У Антонио был свой круг знакомых, совершенно неизвестных адвокату. Он общался со многими людьми, дружившими с его отцом и готовыми, без сомнения, помочь, если бы он попал в неприятную ситуацию. Кроме того, Ласло никогда не забывал, что его внешность, к сожалению, никогда не внушает доверия малознакомым людям. Бледная, совершенно белая кожа лица и светлые волосы производили такое впечатление, будто этот человек вообще никогда не выходит на улицу и не знает, что такое солнечный свет. Более или менее естественный оттенок его лицо приобретало только в тех случаях, когда он по-настоящему злился.
Ласло позвонил в дверь. Ему очень долго не открывали. Ощущение было такое, что в доме просто не услышали звонка. Он позвонил еще раз, и ему снова пришлось ждать. Он даже успел протереть бумажным платком свои слегка запылившиеся ботинки. Наконец дверь открылась, и на пороге появился пожилой мужчина.
– Вы кто такой? – спросил он не слишком любезно.
– Я хотел бы поговорить с синьором де Луккой, – произнес Ласло, не посчитав нужным представиться.
Пожилой человек жестом предложил ему войти и тотчас же скрылся за витражной дверью, отделявшей прихожую от остальной части дома. Оставшись один, Ласло услышал, что в глубине дома кто-то исполняет – причем отлично – арию из оперы Пуччини. Это не могло не заинтересовать адвоката, тайной страстью которого была опера. Он старался не афишировать эту свою слабость, считая, что она может запятнать его репутацию человека рационального и скептически настроенного. Заслушавшись, он даже не обратил внимания, как приоткрылась другая дверь в прихожую и высунувшийся из-за нее человек внешне любезно, но холодным тоном проговорил:
– Сделайте одолжение, следуйте за мной.
Ласло не стал дожидаться повторного приглашения и проследовал за незнакомцем в длинный коридор. Ряд дверей, выходивших туда с одной стороны, напомнил ему не то корабельные каюты, не то гостиничные номера. «Какая странная планировка», – подумал венгр, идя за своим невысоким и упитанным провожатым.
– Заходи, Меццетино. Что ты там говорил про нашего гостя?
– Ничего я не говорил, доктор, я только сказал, что к вам гость и что это мужчина.
Человек, которого назвали доктором, был одет как член какой-нибудь старинной академии – строго и даже мрачно. Немного оживляла его облик лишь весьма заметная выпуклость животика, свидетельствовавшая о том, что суровый жрец науки не дурак хорошо поесть и выпить. Он одарил вошедшего глубоким церемонным поклоном, что заставило Ласло ответить в том же духе.
– Итак, я вас слушаю. Синьор де Лукка сейчас очень занят. Он попросил меня внимательно выслушать вас и…
– Я все понимаю, – перебил Ласло, не дав собеседнику договорить, – но мне нужно поговорить именно с ним. Речь идет об одном молодом человеке, с которым он знаком лично. К сожалению, этот молодой человек исчез и его близкие ничего о нем не знают. Я бы не стал вас беспокоить, если бы ситуация не была тревожной.
– Понимаю, – сказал доктор, согласно кивая. – По-видимому, речь идет о жизни и смерти? – не столько спросил, сколько уточнил он. – В таком случае подождите немного. Я уверен, что вас с удовольствием примут. Меццетино, – крикнул он, выходя из комнаты, – подай нашему гостю хорошего вина.
Ласло вновь остался один; ария закончилась, и праздничный шум в доме сменился напряженной тишиной. Из-за одной двери, выходившей в зал, на миг показалась молодая женщина с лицом, прикрытым маской. «Сумасшедший дом, да и только. Теперь понятно, почему Антонио связался с этой компанией», – размышлял Ласло в ожидании обещанного вина.
Вскоре в комнату вошел очередной незнакомец, одетый в элегантный смокинг. Он молча проводил Ласло в кинозал, где довольно многочисленная группа гостей смотрела фильм. Пленка была черно-белая. Судя по оттенку сепии, а также по неестественным движениям мелькавших на экране персонажей, снималось это кино в начале века. Фильм был документальный: в нем было запечатлено шумное собрание, проводившееся в большом театральном зале. К собравшимся со сцены обращался с эмоциональной речью худой мужчина с крупной головой и подвижным лицом. Он вещал:
«Футуристический кинематограф, рожденный нами в творческих муках, совершит светлый переворот в нашем мире, став логически завершенным синтезом всей мировой культуры. Он станет лучшей школой для молодежи: школой радости, силы, стремительности, дерзости и героизма. Футуристический кинематограф обострит и разовьет чувственность человека, будет толчком к дальнейшему развитию творческого воображения… Таким образом, футуристическое кино внесет свой вклад в обновление мира, заменит собой как театральную комедию (вечно повторяющуюся), так и драму (вечно предсказуемую), а также похоронит книгу (неизменно скучную и дидактичную)».
Время от времени слова оратора заглушали взрывы аплодисментов. То и дело кто-то на экране вскакивал и начинал восторженно кричать: «Bravo, bravissimo…»
На время аплодисменты стихли, и в зале вновь стал слышен голос оратора:
«Кино – это искусство, которое существует само в себе. Вот почему оно не может копировать театр. Кино в высшей степени визуально, и ему предстоит пройти ту же эволюцию, что в свое время прошла живопись: оно будет все дальше уходить от реализма, от фотографичности, от театрального комизма, от торжественности. Оно должно превратиться в антикомедию, стать разрушителем привычных жанров, достичь высот импрессионизма, быть синтетическим, динамичным и свободным от лишних слов».
В какой-то момент Ласло вдруг понял, что эта речь пробудили в нем уже почти забытые воспоминания: когда-то он был вынужден посещать митинги и собрания национал-социалистов, терзавших в те годы его родную страну. Этот выплеск адреналина, эта концентрация мужских гормонов перенесли его в эпоху предвоенного радикализма, которым дышала Европа, погрязшая в дискуссиях и дебатах.
Бесноватый пророк, обращавшийся к зрителям с экрана, был не кем иным, как Филиппо Томмазо Маринетти, которого в свое время называли Римским Папой футуризма. Он сравнивал искусство со взрывом изношенного, работающего из последних сил механизма, с революционной пульсацией в недрах земли, заканчивающейся выбросом энергии, сопоставимым с извержением Везувия. Бедняга Ласло слушал и не мог поверить в то, что вновь слышит уже почти забытые заклинания безумных поэтов-иконоборцев:
«Горы, море, леса, города, люди, армии, флот, аэропланы – все это скоро превратится в наши новые слова, наши средства самовыражения: сама Вселенная станет нашим словарем».
Ласло встал с намерением выйти из зала, заполненного ностальгирующими фанатиками революции, которые то и дело бурно аплодировали звучавшим с экрана речам лидера футуристов. В ту же секунду сидевший рядом с ним молодой человек потянул его за руку и почти насильно усадил на место:
– Пожалуйста, не ходите туда-сюда, люди ведь слушают.
– А что еще им остается делать, – саркастически ответил Ласло, – ведь этот оживший мертвец даже не говорит, а орет.
И действительно, голос Маринетти, разносившийся под сводами театрального зала, заполненного восторженной молодежью, напоминал поток какой-то дурманящей жидкости, заражавшей собой всю аудиторию. Сидевшие перед экраном принадлежали в основном к более старшему поколению, но и на их лицах застыло восторженное выражение сектантов, припадающих к божественному нектару тайного знания, льющемуся из уст их обожаемого гуру. «Не надо забывать, – мысленно упрекнул себя Ласло, – что еще до нацизма Италия окунулась в пену имперской идеологии. Господи, насколько лучше было бы для них и для всех нас, если бы этот народ продолжал поклоняться Венере или же слепо верить своим римским кардиналам».
Тем временем Маринетти продолжал буйствовать на экране:
«Мы разберем этот мир на атомы и сложим его заново, причем сложим в соответствии с нашими божественными капризами. Мы стократно приумножим силу творческого гения итальянского народа и добьемся его абсолютного господства во всем мире».
Наконец оратор соизволил замолчать. Реакция на его речь, запечатленная на пленке, могла быть смело названа аллегорическим изображением славы. В следующем кадре из-за занавеса на сцену вышли соратники знаменитого патриота: Корра, Сеттимелли, Джинна, Балла, Чити – это были самые известные члены президиума столь блестящего собрания. Затем появилась целая когорта женщин, облаченных в футуристические наряды и насквозь пропитанных чувственностью. Они походили на весталок, готовых отдаться мужественной экзальтированности легионов интеллектуалов. Одетые в белое, они демонстрировали свой энтузиазм ослепительными улыбками, неуловимо напоминающими выстрелы в упор.
Какое же пламя сумел раздуть в аудитории этот молодой поэт! Ему восторженно внимали не только его собратья по перу, но и вполне серьезные молодые люди, изучающие экономику, – даже они попали под обаяние оратора, и их сердца бились в такт безумной оргии, устроенной Маринетти. Сила новой объединенной Италии росла прямо на глазах – точь-в-точь как рос Пиноккио, и казалось, ничто не могло подавить безбрежный энтузиазм одурманенных молодых людей.
К счастью, атмосфера в кинозале не успела накалиться до такой же степени, как на экране, а фильм уже кончился. Зажегся свет. Присутствующие мгновенно вспомнили о своем почтенном возрасте и хороших манерах. Ласло глазам своим не верил: судя по всему, это сообщество безумцев сумело каким-то образом прибрать к рукам Антонио, скорее всего чтобы сделать из него нового каудильо, который с другого континента направлял бы деятельность организации, стремящейся установить во всем мире «дольче стиль нуово» – вслед за теми, кто уже пытался когда-то установить новый мировой порядок. Это предположение не на шутку испугало Ласло. Безусловно, он не принимал всерьез угрозу, исходившую от горстки безумцев. Испугался он лишь за Антонио. Сын актера никак не подходил на роль главного действующего лица в этом спектакле. Он просто не мог стать той спичкой, которая разожгла бы новый страшный пожар. Ласло не мог представить себе его совершающим государственный переворот, убивающим старух и детей; в общем, роль героического дикаря ему никак не соответствовала. У него просто иначе была устроена голова, и модель поведения преступника никоим образом не вписывалась в сознание этого парня. Ласло прекрасно знал, что выковать из него жестокое чудовище не получится при всем желании.
Венгр вышел из зала в подавленном настроении. Политические перемены пугали его гораздо больше природных катаклизмов и эпидемий. Обвинять же Антонио в участии в деятельности этих не то сумасшедших, не то заговорщиков-радикалов было пока что преждевременно. Человек, представившийся доктором, проводил Ласло в большой зал, где в кресле у камина их уже ждал старый Винченцо.
– Я вас слушаю, друг мой, надеюсь, вы простите меня за некоторую фамильярность в обращении, – с самым любезным видом приветствовал гостя синьор де Лукка, с большим удовольствием и естественностью разыгрывавший роль элегантного аристократа.
– В первую очередь я хотел бы принести извинения за вторжение, но мне нужно объясниться: я проделал долгий путь и у меня просто не оставалось иного выбора, кроме как постучаться в вашу дверь. – Пока Ласло говорил, старик по имени Меццетино налил ему рюмку какого-то тягучего напитка вроде портвейна. – Дело в том, что я ищу своего клиента, Антонио, сына самого знаменитого мексиканского актера. Вот уже три дня он не появляется в гостинице. В последний раз, когда мы с ним говорили по телефону, он сказал, что собирается нанести вам визит. Я пришел, чтобы узнать, появлялся ли он у вас в тот день.
Лицо Винченцо оставалось абсолютно непроницаемым; он жестом предложил Ласло сесть в соседнее кресло. Огонь в камине сверкал разноцветными языками, принимавшими причудливые формы, будто в топке лежали дрова из разных пород дерева. По залу распространялся приятный аромат – смесь дерева живого и горелого. Такой запах иногда стоит в лесу, подсушенном низовым пожаром.
– Да, ваш клиент был у нас, – сказал актер после некоторой паузы, старательно делая вид, что ему стоят больших усилий попытки вспомнить. – Он состоит в дружеских отношениях с моей дочерью Андреа. Он симпатичный молодой человек, хорошо воспитанный и при этом обладает подлинно латинским темпераментом. В общем, почти один из нас.
Лестные отзывы об Антонио не произвели на Ласло большого впечатления. Он лишь молча кивнул, ожидая, что пожилой актер продолжит говорить. Сам же он намеревался присмотреться к собеседнику, чтобы понять, чего еще можно ждать от этого экстравагантного, несколько зловещего и циничного персонажа. Пауза затянулась, и адвокату все же пришлось нарушить молчание:
– И все же, синьор, вы не могли бы сказать, где я могу его найти? Мне очень важно поговорить с ним, так как я располагаю сведениями, касающимися его лично.
Лицо Винченцо вытянулось, брови приподнялись, а в глазах даже мелькнуло некоторое любопытство. Актер отлично скрывал желание узнать, что же за важные новости привели в его дом этого человека. Похоже было, что он старается потянуть время, рассчитывая придумать нечто такое, что помогло бы ему реализовать его тайные помыслы.
– Моя дочь будет вам в этом более полезна, чем я. Именно с ней у вашего клиента установились довольно близкие отношения. Ну, вы меня понимаете: они молоды, у них общие интересы, им есть о чем поговорить. Больше ни о чем меня не спрашивайте, – с усмешкой проговорил актер, – я сейчас ее позову.
Ласло продолжал пристально смотреть в белесые, почти прозрачные глаза старого комика, но тот и не думал идти на попятную. Судя по всему, он принял вызов адвоката и теперь готов был помериться с ним силой воли и твердостью характера. Ласло допил портвейн и остался сидеть в кресле у камина. Винченцо вызвал доктора и, заставив того нагнуться к креслу, сказал ему что-то на ухо, сохраняя величественное и даже царственное выражение лица.
– Она скоро придет. Моя дочь очень хорошо поет, и сейчас она как раз заканчивает выступление перед гостями. Ласло предположил, что сопрано, которое он услышал еще в прихожей, как раз и принадлежит дочери этого высокомерного любителя поиграть в аристократа. Он уже определил для себя Винченцо как профессионала недоговоренностей и полуправды, большого специалиста по всякого рода домашним интригам, любителя сладкой жизни в потемках, стремящегося иметь как можно меньше общего и с дневным светом, и с современной жизнью. В итоге сложившийся образ никак нельзя было назвать положительным, и адвокат готов был противостоять этому человеку буквально во всем. Вот только чудесный голос женщины, которой он до сих пор даже не видел, волновал его, заставлял надеяться на встречу и в конечном счете делал весьма уязвимым.
Стоило Коломбине войти в зал, как острая неприязнь и недоверие, которые Ласло испытывал к Винченцо, словно испарились. Адвокат почувствовал себя так, будто в одну секунду его раздели донага, будто не только его тело, но и все мысли и чувства, включая и восхищение вошедшей женщиной, стали доступны любому взгляду. Коломбина была той самой женщиной, чей голос так очаровал его, – в этом не могло быть никаких сомнений. Черное платье не столько прикрывало ее тело, сколько подчеркивало ее формы и утонченную бледность. Иссиня-черные волосы обрамляли лицо, на котором то и дело появлялась загадочная полуулыбка. Губы, несомненно, скрывали ровные красивые зубы, готовые вонзиться в любую плоть – если не в буквальном смысле, то хотя бы словами.
От Винченцо не ускользнуло, какое впечатление произвела Коломбина на иностранца. Сославшись на неотложные дела, он оставил их поговорить наедине. Ласло уже оправился от эмоционального шока и внутренне постарался привести себя в порядок. Он даже заставил себя помолчать, предоставив девушке заговорить первой. Андреа села в кресло перед ним, элегантно положив ногу на ногу. Черные чулки подчеркивали крепость этих стройных колонн, поддерживавших ее тело, безразличное к пожирающим взглядам адвоката.
Пол приехал в полдень. Он не испытывал особых иллюзий по поводу возможности получить ответы на все загадки и больше рассчитывал, что ему все же удастся поговорить начистоту с мексиканцем и со всей сворой хищников, действовавших с ним заодно. Ада Маргарет швырнула ему ключ, но не сказала, где искать замок, к которому он подходит. Странное путешествие в Дом мертвых определяло условия поисков, начатых им во вневременном Лондоне – городе снов и воспоминаний о том, чего не было. Вот и сейчас ослепительная Флоренция не смогла сбить его с толку и заставить забыть то, что он считал для себя главным: ни в коем случае не терять голову и сохранять спокойствие. Войдя в дом двух актеров, он тотчас же узнал в Андреа ту самую женщину, которая сопровождала его в путешествии по ирреальному миру. Естественно, он попытался скрыть неприятное впечатление, которое оставила в его памяти та встреча. Коломбина вела себя предельно любезно – как обычно с незнакомыми посетителями. Она не пыталась подшутить над гостем, не задавала язвительных вопросов, не старалась втянуть его в интеллектуальный спор. Нет, она вела себя как положено самой обыкновенной женщине, что неплохо удавалось ей, когда того требовали обстоятельства.
Пол снял плащ и подсел к камину. Старый Винченцо предложил ему вина и завел ничего не значащий разговор о погоде. Все шло как нельзя более спокойно, в рамках отработанной актерами роли гостеприимных хозяев. Энтомолог, благодарный за столь любезный прием, постепенно избавился от страха и недоверия по отношению к отцу и дочери де Лукка и перевел разговор на интересовавшую его тему. Он рассказал о своем племяннике, утонувшем в Слэптонском заливе, о неожиданном исчезновении профессора Канали и странном бегстве Антонио как раз в тот момент, когда ему следовало бы прилагать усилия, чтобы вступить во владение отцовским наследством. Собеседники внимательно слушали и время от времени задавали вопросы, умело направляя его рассказ таким образом, чтобы Пол выложил им все, что знал. В итоге, когда повествование гостя было завершено, старый актер и его дочь высказали горячее желание помочь в начатых поисках.
Пол не мог отвести глаз от Коломбины. Она прекрасно видела это и приступила к обычному приворотному ритуалу. Старый Винченцо, как всегда, сослался на какие-то неотложные дела, требовавшие его присутствия в другой части дома, и оставил гостя наедине с дочерью в уютном зале с камином. Они продолжали начатый разговор – вроде бы ничего не значащий и ни к чему не обязывающий.
Как только они остались одни, Коломбина подбросила в камин два полена какого-то странного, очень насыщенного оттенка. Пламя, исходившее от них, было окрашено во все цвета радуги. В глазах девушки отражался огонь, игравший в камине, и временами они казались двумя искрами, зависшими в полумраке зала. Пол все говорил и говорил, не всегда отдавая себе отчет в том, что именно и зачем он рассказывает. Он поведал и о странных ранах и отметинах на коже утонувшего Марка, и о далеких голосах, которые он слышал в заброшенном саду, окружавшем Сатис-хаус. Коломбина в свою очередь рассказала гостю о профессоре Канали, к которому – по ее словам – она испытывала почти детскую привязанность. Такой умный, такой образованный человек, такой тонкий знаток литературы – он произвел на нее неизгладимое впечатление, и как жалко, что он совсем про нее забыл и больше не приезжает в гости, хотя раньше наведывался к ним довольно часто. Пол не поверил ни единому слову из этого восторженного рассказа, – напротив, он тотчас же высказал несколько соображений, противоречивших изложенной версии. Федерико исчез бесследно, и подобное поведение нельзя было объяснить невоспитанностью или невниманием к старым знакомым. Скорее такое молчание было следствием каких-то неприятных событий, случившихся с профессором. По всей видимости, исчез он не по своей воле и теперь не имел возможности связаться ни с кем из друзей и знакомых. Спустя еще какое-то время Пол осмелился высказать вслух предположение, что причиной исчезновения профессора могла быть его смерть. При этих словах на глазах Коломбины выступили слезы, что служило показателем высокого уровня ее актерского мастерства.
При мысли о том, что Федерико может быть мертв, Коломбина свернулась в кресле калачиком, сбросила туфли и обхватила колени руками. Первым порывом Пола было подойти к ней и ласково обнять, чтобы утешить и успокоить. Однако он сдержался и продолжал смотреть на нее, сидя неподвижно в своем кресле. Выждав немного, она вновь выпрямилась и вытерла слезы. Энтомолог, довольный одержанной пирровой победой, снова стал задавать ей неприятные вопросы и высказывать не менее дикие предположения. Его племянник умер, будучи одурманен отравленным подарком, полученным из Мексики. Следы самого Антонио терялись во Флоренции, и лишь поэтому Пол отправился в эту поездку и нанес семейству де Лукка визит, в ходе которого был столь любезно принят очаровательной хозяйкой дома.
Коломбина сделала протестующий жест и изобразила на лице недовольное выражение. Судя по всему, она была несколько разочарована тем, что Пол не стал упоминать об их странной встрече в параллельной реальности. Англичанин оказался нелегкой добычей, и к тому же он был слишком стар для того, чтобы сдаться под натиском нахлынувших воспоминаний.
– Ну хорошо, – осторожно спросила Коломбина, – что я могу для вас сделать? Я ведь уже сказала: я не знаю, где профессор Канали, а с Марком и вовсе не знакома, хотя Федерико много раз упоминал его по разным поводам.
Пол, спокойный как овощ, позволил себе очередной выпад и спросил напрямик:
– Я хочу, чтобы вы сказали мне, где я могу найти мексиканца. По моему глубокому убеждению, вы единственный человек, способный объяснить все эти загадочные исчезновения.
Коломбина возвела глаза к потолку зала, словно ожидала какой-то подсказки или даже прямого указания оттуда – сверху. Пол внимательно следил за ней.
– Антонио ездил с нами на кладбище. Больше я его не видела.
Андреа замолчала и отвернулась, надеясь, что Полу все это наскучит и он уйдет. Но поняв, что он готов сидеть в своем кресле и дальше, невзирая на неловкость повисшего в зале молчания, она встала, вышла за дверь и вскоре вернулась уже вместе с отцом.
– Друг мой, мы рассказали вам все, что нам известно. Больше нам сказать нечего. Если Антонио нет здесь, во Флоренции, скорее всего можно предположить, что он вернулся в Мексику. Насколько я знаю, страна эта большая, а ее столица – и вовсе гигантский город. Потеряться там или спрятаться от тех, кто тебя ищет, – проще простого.
Заявление старого де Лукки прозвучало как приговор. Пол вдруг обратил внимание на небольшие декоративные скульптуры, занимавшие почетное место на полках стеллажей, лишь наполовину занятых книгами. Эти фигурки изображали персонажей традиционной «Комедии», среди которых выделялся худощавый, на редкость наглого вида Арлекин, невероятно похожий на Винченцо.
Радушие и гостеприимство в один миг, без всяких интерлюдий, сменились холодностью, граничащей с хамством. Лицо старика стало подчеркнуто мрачным, в глазах засверкала откровенная неприязнь к гостю. Желание поскорее избавиться от непрошеного посетителя просто физически ощутимо исходило как от отца, так и от дочери. Англичанин же, к их удивлению, ничуть не испугался и даже не смутился. Более того, он позволил себе замечание, в котором почти в открытую прозвучали ноты угрозы:
– Я проделал долгий путь не для того, чтобы уйти, не получив ответа на свои вопросы. Не стану больше утомлять вас своим присутствием, но уверяю: так легко я не сдамся.
– Синьор, – с трудом сохраняя подобие формальной вежливости, произнес актер, указывая на дверь, – наша беседа окончена.
Оставшись наедине с дочерью, Винченцо обратился к ней так же сухо и сурово, как только что говорил с Полом:
– Все, хватит. Мы больше не должны скитаться как бродяги. Пора с этим покончить. Череп снова находится в Италии, покидать которую ему и не следовало ни при каких обстоятельствах. Наш дуче покоится в часовне и готовится повести за собой новую армию. Голова и тело должны в очередной раз воссоединиться.
Коломбина выслушала отца и молча, кивком головы выразила свое согласие.
Европа, судя по всему, оказалась во власти эпидемии опасной болезни, последствия которой Пол имел возможность наблюдать в странностях поведения многих окружающих. Кроме того, он даже использовал результаты своих наблюдений, чтобы, как и подобает ученому, сделать из них надлежащие выводы и построить новую гипотезу. Если бы Марк не утонул, Пол никогда не заинтересовался бы обстоятельствами одной неудачной тренировочной высадки военного десанта, ставшей крушением судеб множества ныне забытых людей.
Нормандия была не местом вторжения, а свидетельством падения и разложения. Почему эта война была выиграна силой оружия, а не стала полем битвы великих идей за умы людей и народов? Попытки придать бойне идеологическую окраску были похоронены навеки под горами трупов. Европейский континент упустил не одну возможность стать оплотом свободы, отказавшись раз и навсегда от всего, что не вписывалось в жесткие рамки рационализма. Гигантская тень анонимного, безликого избирателя нависла над всеми прогрессивными идеями, решение судеб стран и народов было доверено серости. Интеллектуальные элиты оказались повержены под нажимом мнений и требований, высказываемых его величеством большинством, представленным всеобщей посредственностью. Конфедерации, союзы, основанные на взаимном согласии, – все это требовало жертв. Первой из них стала стертая историческая память.
Лежа на кровати в гостиничном номере, Пол продолжал не то размышлять, не то бредить. Эти самовлюбленные актеры, как ни странно, сделали одно очень полезное дело: их дерзость сумела заново пробудить память Пола, заставить его вспомнить о том, что происходило в общем-то совсем недавно, но было полностью забыто. Считать он умел и прекрасно понимал, что череп Пиноккио был одним из слагаемых в продуманной арифметической операции, результатом которой должно было стать то… о чем Пол не знал и мог лишь догадываться.
Зазвонил телефон. В трубке Пол услышал голос Ласло. Тот просто огорошил его сообщением о еще одном неприятном и необъяснимом происшествии. Под бугенвиллиями в саду поместья Сересас найден труп мужчины. Покойником оказался Хоакин, а закопали его под кустами уже примерно месяц назад. Ласло явно нервничал. Голос у него был сбивчивый, и английские слова он произносил так, словно в этот момент жевал проволоку. От волнения он то и дело заикался и даже вставлял в речь венгерские слова и фразы. Ласло попросил Пола о встрече, и тот согласился, хотя ему очень не хотелось вылезать из постели и идти куда-то по узким улочкам ночной Флоренции. Ласло предложил встретиться в центре города, у палаццо Питти, в кафе, которое, по словам венгра, было открыто для туристов круглосуточно.
На лице Ласло застыл неизбывный страх, свойственный людям, ставшим когда-то жертвами войны. Бледный, осунувшийся, с воспаленными глазами, он представлял собой жалкое зрелище. Незнание и неизвестность довели его до полного нервного истощения.
– Ну, как у вас дела, мистер Харпер? – поинтересовался он, присаживаясь за столик. – Успели сходить в гости к нашим актерам?
– Боюсь, такая формулировка была бы некоторым преувеличением, – чуть растерянно ответил Пол, протягивая адвокату руку. – Мне не ответили ни на один вопрос и практически выставили меня из дома. А как продвигаются ваши поиски? Узнали что-нибудь о своем клиенте?
Ласло заказал кофе и как бы невзначай оглядел небольшое кафе. Он явно боялся говорить и еще больше боялся быть кем-то услышанным.
– Смерть Хоакина поставила меня в тупик. Я-то предполагал, что он просто затаился и выжидает удобного момента, чтобы открыто вступить в борьбу за свою долю в наследстве. Предположить такой финал я просто не мог. В такие минуты не знаешь, что и думать. Сначала умер актер – мой давний клиент, за ним – его дворецкий, да к тому же разыскать Антонио мне пока тоже не удается. Его мать приказала мне искать молодого человека, не жалея ни сил, ни денег. Это она отправила меня сюда, в Италию, сказав, чтобы я не возвращался без Антонио. До сего дня ей дела не было до сына, а теперь можно подумать, что в нем весь смысл ее жизни… Официальные власти тоже возбудили дело по факту исчезновения Антонио, а весьма влиятельные люди в аппарате правительства прилагают все усилия, чтобы дело о спорном наследстве было закончено как можно скорее и без лишнего шума. Кстати, в конце концов выяснилось, что денег актер оставил не так уж и много. Зато число наследников растет на глазах. Появляются все новые и новые внебрачные дети, родственники и прочие самозванцы. Впрочем, главная борьба идет не за банковские счета, а за коллекцию фильмов, хранящуюся в поместье покойного актера. Многие из этих лент считались навсегда утраченными. Людей, которые могли видеть их сразу после съемок, уже почти не осталось в живых. Фильмы же эти, хотя и не являются известными, рисуют довольно целостную картину эпохи. На пленках запечатлены великие люди, покинувшие наш мир, давно ушедшие в прошлое события… Ну, я думаю, вы меня понимаете.
Ласло замолчал, чтобы перевести дух, и внимательно вгляделся в бесстрастное лицо Пола. Англичанину стоило немалых усилий сохранять внешнее спокойствие: имя Хоакина было ему знакомо, и он мгновенно понял, что убитый дворецкий и есть тот человек с ножевой раной, с которым он познакомился в заброшенном саду во время странного путешествия за грань реального мира.
– Ваш клиент – человек, по всей видимости, очень импульсивный и не склонный рационально мыслить, – уверенно заявил Пол. – В самый ответственный момент он бросил все: и друзей, и отцовское наследство. Такие поступки просто так не совершаются. Что-то, без сомнения, подтолкнуло его к этому. Скорее всего, в роли детонатора столь странного поведения выступила эта абсурдная история с каким-то черепом, якобы обладающим сверхъестественными способностями. Ни дать ни взять вновь обретенные мощи неизвестного доселе святого.
Слова Пола упали на благодатную почву. Он хотел осторожно подвести венгра к разговору о черепе, но опасался, что адвокат – человек сугубо рационального склада ума – поднимет его на смех и не станет принимать всерьез рассуждения об особой значимости какой-то диковины неизвестного происхождения. К его удивлению, Ласло с готовностью заговорил на предложенную тему и без наводящих вопросов выложил все, что ему было известно об этой истории, продемонстрировав попутно свою обеспокоенность происходящим.
– Вы абсолютно правы, мистер Харпер. Вот уже несколько месяцев меня серьезно тревожит душевное состояние и здоровье Антонио. Начались все эти проблемы после его поездки на Гаити. Его поведение резко изменилось, он казался взволнованным, словно был чем-то сильно обеспокоен. Судя по всему, он переживал какой-то внутренний кризис. Я в то время нечасто с ним виделся, но покойный актер рассказывал мне о странностях в поведении сына, списывая их на воздействие неких наркотиков, которые тот, кстати, вполне мог попробовать именно во время этой поездки. Всерьез актер встревожился, когда Антонио ни с того ни с сего заявил ему, что хочет пожить на вилле в семейном поместье. Естественно, отец не стал отказывать ему, но попросил своего верного слугу и в каком-то смысле единственного друга, Хоакина, присмотреть за молодым человеком, склонным к экстравагантным выходкам. Короче говоря, Хоакину было велено глаз не спускать с Антонио. Как вскоре стало ясно, меры предосторожности не были лишними. Из поместья приходили довольно странные новости, касавшиеся поведения Антонио. Все началось с того, что он заперся в отцовской фильмотеке и целыми днями и, разумеется, ночами отсматривал один за другим фильмы, стоявшие на полках. Дело дошло до того, что он стал смотреть ленты с участием отца, хотя раньше ему не было никакого дела до его творческой карьеры. Добрался он и до самых ценных фильмов коллекции. Впрочем, все это было еще не столь опасно. Куда больше мой клиент забеспокоился, когда Хоакин позвонил ему и срывающимся от волнения голосом сообщил, что только что вытащил Антонио из бассейна, где тот уже захлебнулся и потерял сознание. Актер тотчас же договорился, чтобы сына привезли в столицу и поместили в лучшую клинику, специализирующуюся на лечении от наркозависимости. Однако Антонио провел в больнице всего пару недель. Как только он пришел в себя и понял, что может обходиться без постоянного наблюдения врачей, он тотчас же ушел из клиники и вернулся в свою квартиру.
Ласло подробно рассказал о странном поведении Антонио, но стал сбиваться, когда речь зашла о смерти актера, обстоятельства которой так и остались до конца невыясненными. Пол слушал его внимательно, пытаясь одновременно анализировать полученную информацию. Он полагал, что, разложив по полочкам последние события в жизни Антонио и сопоставив их с соответствующим периодом жизни Марка и Федерико, сможет получить в конце концов достаточно четкую и полную картину всей этой запутанной истории.
Ласло назвал день смерти старого актера одним из самых странных в своей жизни. Виделись они в тот день утром в квартире на проспекте Либертад. Актер попросил адвоката принести ему некоторые документы, на основании которых хотел составить новую редакцию своего завещания. Как только Ласло появился в его кабинете, то сразу обратил внимание на нервозность актера, совершенно не свойственную этому человеку – уверенному в себе и относившемуся ко всем жизненным проблемам с изрядной долей юмора. Актер, против обыкновения, вышел к Ласло в пижаме и небритым. Даже не поздоровавшись, он попросил адвоката дать ему принесенные бумаги и стал просматривать их. По ходу дела он как-то неуверенно попросил Ласло не волноваться и сказал, что в самое ближайшее время тот получит все необходимые пояснения.
На этом месте венгр сделал паузу, мысленно выстраивая цепочку воспоминаний. Полу казалось, что говорит он честно, не пытаясь что-либо утаить. Судя по всему, надеяться адвокату было уже особо не на что, и он пошел на раскрытие профессиональной тайны, полагая, что в данном случае этот поступок вряд ли может хоть как-то повредить его клиенту. Тем не менее Пол старался держаться настороже и не поддаваться обаянию собеседника. В конце концов, все это также могло быть очередным спектаклем, тактическим приемом, нацеленным на то, чтобы выяснить нечто важное уже у него лично.
– Актер был абсолютно трезв, – продолжал говорить Ласло, еще более бледный, чем обычно, – но у него сильно дрожали руки. Он явно хотел и в то же время опасался сказать мне что-то важное. Наконец он собрался с силами и прямо, без обиняков заявил: «Я завещаю все Хоакину. Мой сын не готов стать наследником моего имущества. Он человек безответственный и инфантильный. Хоакин позаботится о нем, это будет одним из условий, указанных в завещании. Антонио же будет жить и дальше, как жил до сих пор, ни в чем себе не отказывая. Но полноценным собственником ему не бывать. Все, Ласло, я так решил и по-другому поступать не собираюсь. У меня на это есть свои причины, и достаточно веские, можешь мне поверить». Эти слова актера просто ошеломили меня. Нет, я, конечно, знал, что у них с сыном достаточно сложные отношения и что эмоционально они вообще никогда не были особенно близки, но в прочности их родственных уз я никогда не сомневался! Эта связь отца и сына была в них сильнее, чем любая дистанция, обусловленная несходством характеров. Такое решение актера показалось мне не то что неразумным или нелогичным, но в некотором роде не совсем законным. Если бы Антонио стал оспаривать такое завещание, я бы ничуть не удивился, да по правде говоря, поддержал бы его доступными мне профессиональными методами. В общем, мысленно я уже стал готовиться к тому, что такой иск со стороны Антонио неизбежен.
Пол прервал адвоката, задав вопрос, от которого глаза венгра стали еще печальнее:
– Но, как я понимаю, актер не успел изменить завещание. Вы принесли ему документы, но, как вы сказали, в тот же день он умер.
Ласло поднял руки и пригладил длинные седые волосы тонкими и бледными, почти прозрачными пальцами.
– Вы правы. Он скончался в тот самый день, и Антонио даже не узнал, что отец собирался оставить его без наследства. Однако я всегда полагал, что Хоакину было известно о намерениях актера, и именно поэтому он отказывался покидать виллу, где вел себя уже почти как полновластный хозяин. Антонио давно недолюбливал мажордома, но в последнее время эта антипатия перешла просто в неприкрытую ненависть. Доверие, которое его отец испытывал к дворецкому, уверенность Хоакина в своем праве распоряжаться поместьем и, главное, отцовской коллекцией приводили Антонио в бешенство. Вот почему мне придется признаться вам в том, что я убежден: именно Антонио убил Хоакина и похоронил его под бугенвиллиями, посаженными в саду его матерью. Ненавистные ему растения он решил подкормить удобрением, полученным из трупа не менее ненавистного человека. Антонио всегда любил эффектные метафоры, и этот поступок был бы, с его точки зрения, прекрасным способом посмеяться над последней волей отца.
Обвинения адвоката ничуть не удивили Пола. После тех писем, которые Антонио писал Марку, он воспринимал мексиканца как человека, способного на все.
– И где же он теперь? – воскликнул энтомолог, прекрасно понимая, что его вопрос так и повиснет в воздухе. – Мы должны найти его и остановить, прежде чем он совершит новые преступления.
По глазам Ласло было понятно, что ответа на этот вопрос добиваться бесполезно. Пол быстро сменил тему разговора:
– Вы ведь читали ту знаменитую книгу?
– Конечно, я перечитал сказку, как только узнал о существовании черепа, – ответил венгр.
– И что вы скажете? – поинтересовался Пол, допивая кофе.
– По-моему, это всего лишь история трансвестита – вы уж простите мой невзыскательный литературный вкус.
– Да, возможно, вы правы. Мне просто не приходило в голову посмотреть на это с такой точки зрения, – оживился Пол.
– Когда бедняга Пиноккио превращается в осла, мы можем заметить существенные изменения в повествовании, которые трудно объяснить просто желанием автора ввести в историю очередной сюжетный поворот. Я попробую объяснить свой взгляд на эту вставную новеллу в сказке и надеюсь, вы меня поймете.
У Ласло также были свои теории относительно сказки Коллоди, и теперь он готов был поделиться ими с Полом, который с искренним интересом попросил:
– Пожалуйста, продолжайте, я внимательно вас слушаю.
– Ну так вот: как вы помните, деревянный мальчик, превратившись в ослика, был вынужден работать в цирке. Хозяин представлял его как звезду танца, которой приходилось выступать перед Императором при главных королевских дворах.
– Вы хотите сказать, что Пиноккио в облике осла танцевал перед самим Бонапартом? – с недоверием в голосе уточнил Харпер.
– А перед кем же еще?! – горячо и убежденно воскликнул Ласло. – Коллоди наверняка прекрасно знал о том, как карбонарии зло подшучивали над Императором.
– Бог ты мой! Но это же просто абсурд, – заявил англичанин, хотя и не слишком уверенно.
– Вовсе нет. Позвольте, я продолжу. По ходу сказки директор цирка рассказывает о своем чудесном осле, как человек, облеченный властью, мог бы рассказывать о политическом узнике. Вспомните, как он описывает трудности, которые ему пришлось преодолеть, чтобы приручить упрямое животное – зверя, которого он отловил где-то не то в горах, не то в полях. Он обращает внимание публики на дикий взгляд непокорного животного, на его стремление к свободе, на его неспособность подчиняться. В конце концов хозяин цирка признается публике в том, что единственным методом дрессировки, действительно возымевшим действие на зверя, был элементарный кнут. Впрочем, даже бесчисленными побоями достичь полного успеха в приручении вольнолюбивого осла ему не удалось. Свою речь горе-дрессировщик заканчивает научным пассажем о найденной им причине столь упрямого поведения танцующего ослика; его аргументация страдает непоследовательностью и на первый взгляд не заслуживает сколько-нибудь серьезного отношения. Но для нас с вами она все же представляет определенный интерес. Директор цирка утверждает, что, проведя некоторые научные исследования, он заметил на черепе своего четвероногого подопытного некий небольшой костный отросток, который, по заверению медицинского факультета Парижского университета, являлся генератором жизненной силы, ответственным за рост волос, а в случае осла – шерсти, а также за способность к зажигательному танцу. В общем, речь идет о черепе Пиноккио, который даже в ослином обличье был генератором жизненной энергии.
– Я что-то не понимаю, – перебил Пол, стараясь как можно скорее узнать хоть какой-то практический вывод, – к чему вы клоните?
– Я просто уверен, что именно эти особенные, почти сверхъестественные свойства не то костного, не то хрящевого отростка являются истинной причиной, по которой за черепом охотится такое количество людей. Отец Антонио, по-моему, заметил это раньше многих. Я знаю это, потому что сам актер рассказывал мне о своем открытии, полный эмоций и впечатлений от увиденного. Перед тем как вызвать меня с документами, необходимыми для изменения завещания, он заглянул в сейф, где хранился череп, и обратил внимание на происшедшие с ним изменения: на теменной части черепа появились маленькие бугорки. Ощущение было такое, что вскоре из них должны начать расти волосы. Кроме того, заглянув в глазницы, актер увидел в них какое-то свечение, благодаря которому эти дыры в лицевых костях становились похожи на живые глаза. Я, конечно, в ответ на этот рассказ отшутился, признавая за каждым человеком право на веру в нечто сверхъестественное, и все же предложил актеру не обращать внимания на то, что ему привиделось, и заниматься более актуальными, земными делами. Мой ироничный тон, по-моему, произвел на него сильное впечатление. Он словно стряхнул с себя наваждение и, смутившись, перевел разговор на другую тему. Лишь после его смерти, восстанавливая в памяти события последних месяцев, я понял, что его внутренние страдания и метания начались примерно в то самое время, когда Антонио привез череп в квартиру на проспекте Либертад.
– Актер Пиноккио, убитый актерами! – воскликнул Пол, в душе которого словно рухнула крепостная стена, выстроенная разумом ученого-естествоиспытателя и позволявшая ему держать на расстоянии болезненные воспоминания о кошмарном путешествии в мир мертвецов и о гриве рыжих волос Ады Маргарет Слиммернау.
Вернувшись в гостиницу, Пол разделся и, против своего обыкновения, бросил одежду прямо на пол. Допустив такую вольность, не свойственную всегда аккуратному ученому, он и в ванну лег, держа в руке стакан с хорошей порцией виски.
День выдался на редкость тяжелый. Чего стоил только визит в дом де Лукки, да и последующая встреча с Ласло не настроила на оптимистический лад. Пол был вынужден признаться себе: он не знает, что делать дальше. Время шло, а он так ничего толком и не выяснил.
С адвокатом они договорились встретиться на следующий день. С точки зрения Пола, Ласло был человеком если не абсолютно, то по крайней мере почти честным; кроме того, он успел отметить в венгре особое, присущее уроженцам Центральной Европы чувство юмора, которое они умеют прятать за внешне серьезным видом. Помимо этого, отношение Ласло к жизни во многом определялось теми трагическими событиями, свидетелем которых он стал в детстве и юности. Во время войны ему пришлось своими глазами видеть покрасневший от крови Дунай, по которому плыли бесчисленные трупы солдат с искаженными от ужаса и боли лицами. После этого уже никакие исторические события не задевали душу Ласло. За политикой и за всем, что происходило в мире после войны, он следил несколько отстраненно, как спортивный болельщик. Полу почему-то показалось, что, не будь венгр убежденным агностиком, он вполне мог бы превратиться если не в святого, то по крайней мере в проповедника, который в конце войны пришел бы из руин какого-нибудь оккупированного города к стенам ватиканских соборов.
И все же не жизнь Ласло беспокоила Пола в тот вечер. Гораздо больше его занимало другое: судя по всему, Антонио слепо верил в пророческую силу сказки Коллоди и пытался найти в ней, как в Библии, ответы на все свои вопросы. Именно на основании этого литературного произведения, ставшего для него сводом законов мироздания, он и пытался строить свой собственный мир. Череп давал ему особые силы, а строки из сказки о Пиноккио становились инструментами для создания обреченного на успех сценария. Педагогическая система Лоренцини не без труда складывалась в цельную картину, как какая-нибудь детская мозаика. По всему выходило, что совпадение реальных событий с тем, о чем было написано в сказке, было не случайно.
Нельзя было объяснить случайностью и многие другие совпадения: например, в год первого издания «Пиноккио» супруга анархиста Алессандро Муссолини произвела на свет мальчика, названного Бенито, – будущего итальянского дуче. Именно он сумел наполеоновски властным жестом и стальным голосом повести за собой народ не то возрождавшейся, не то саморазрушавшейся страны. Именно его гордый профиль напомнил Европе о, казалось, давно ушедших в историю временах могущественных империй. В те годы никому и в голову не приходило задуматься о цикличной повторяемости мифа и о слабостях правителя, которые он, как всегда в истории, тщательно скрывал от своих подданных. Носы у лжецов растут лишь в сказках. В реальной жизни людям приходится прилагать немало усилий, чтобы понять, обманывают ли их правители или нет.
Убаюканный теплой водой в ванне, Пол даже задремал. В какой-то момент он вдруг вспомнил о Сенеке, перерезавшем себе вены, не в силах продолжать противостояние с Нероном – поэтом, склонным к болезненному нарциссизму. «Ну уж нет, – подумал Пол, – от меня этого не дождутся, я не буду сводить счеты с жизнью хотя бы потому, что теперь на собственном опыте знаю, что смертью дело не кончится. Смерть – это продолжение жизни, непознанное и в общем-то не слишком приятное». Согласно новой, созданной Полом концепции мира, в нем были как живые существа, не знавшие смерти, так и мертвые, не ведавшие, что такое жизнь. И те и другие, догадываясь о существовании друг друга или пребывая в слепом неведении, милейшим образом копошились в одной большой луже мироздания. Пол еще не решил, к какому классу отнести себя и является ли он в полном смысле слова живым существом, или же его земное существование имеет своим главным предназначением подготовку к бесконечной смерти. Раньше он привычно относил себя к классу людей, привыкших жить, не слишком выделяясь среди себе подобных, не имеющих особых амбиций и предпочитающих плыть по течению. Он полагал, что жизнь закончится после достаточно продолжительной старости и его похоронят где-нибудь на тихом английском кладбище. Впрочем, как ученый, он считал, что после этого ему суждено возродиться уже в виде биомассы, которая станет источником питания для тысяч и тысяч иных живых существ – тех самых, изучению которых он посвятил всю свою жизнь. Такое самовоспроизводство живой материи вполне заменяло ему, человеку науки, свойственное верующим представление о загробной жизни.
Впрочем, сколько ни думай о будущем, признался себе Пол, а уйти от мыслей о настоящем не получается. Тяжкие мгновения настоящего терзали его гораздо сильнее, чем не знающая времени вечность.
У Ласло сложилось вполне целостное представление об англичанине Поле Харпере: человек образованный, осторожный, не склонный соваться в чужие дела. Если уж он решился приехать во Флоренцию, то наверняка считал эту поездку чем-то очень важным. А впрочем, кто еще несколько месяцев назад мог бы подумать, что сам Ласло бросит свой уютный кабинет в центре Мехико и поедет в Европу, толком даже не понимая, зачем ему это нужно? Когда-то, в том прошлом, о котором он не хотел вспоминать, он дал клятву никогда больше не возвращаться на континент, где ему довелось пережить столько страданий и видеть столько горя и ужасов. От Европы его отделял не только океан, но и стена, выстроенная им в памяти и разделявшая воспоминания на «до» и «после». То, что происходило «до» и было связано с жизнью в Европе, он старался вспоминать как можно реже. И вот этот десятилетиями установленный порядок рухнул в один миг. Антонио оказался способен швырнуть его в кипящий котел воспоминаний, причем сделал это походя, не задумываясь над тем, что доставляет кому-то страдания.
Профессор Харпер, знаменитый энтомолог, пережил потерю очень близкого ему человека. Не желая задавать этот вопрос вслух ему самому, а скорее всего, и не стремясь узнать истинный ответ, Ласло время от времени спрашивал сам себя: способен ли был Антонио подтолкнуть к самоубийству племянника мистера Харпера, или толчком к потере молодым человеком хрупкого душевного равновесия стала его женитьба на эффектной рыжеволосой женщине? Откуда же тянется эта череда рыжих женщин с прозрачной кожей, через которую, как реки на географической карте, просвечивают сетки вен, спрашивал себя адвокат, несколько удивленный открывшейся в нем способностью к образным сравнениям. Естественно, он не мог не вспомнить и вдову мексиканского актера. В ее зеленых глазах всегда горел какой-то нездоровый огонь, словно в ее теле догорала брошенная в невидимый костер ее душа. Кстати, эта женщина постарела довольно рано, и лишь рыжие волосы сохраняли намек на горячечную красоту ее молодости. Сам Ласло впервые встретился со вдовой своего клиента на похоронах. От его внимания не ускользнули слезы, стоявшие в глазах актрисы и показавшиеся ему не чем иным, как профессиональным приемом, с успехом примененным женщиной, снявшейся во множестве киномелодрам. В этом, пожалуй, и заключалось одно из важнейших различий между нею и ее покойным мужем. Он был рожден для того, чтобы смешить, она – для того, чтобы заставлять плакать. Они говорили на разных языках, но прекрасно понимали друг друга в ночи полнолуния, когда купались обнаженными в том самом бассейне, где впоследствии чуть было не оборвалась жизнь их единственного сына.
Почему же они расстались, если были едины в своей непохожести? Ведь актер и его жена были как две стороны одной монеты. На мысли о некоторых причинах развода его навел Хоакин, человек весьма – если не сказать, слишком – наблюдательный. Ласло был убежден, что именно мажордом, и только он один, мог объяснить, по каким законам развивался сюжет этой трагической пьесы, в которой постороннему не было известно ровным счетом ничего, даже точное количество главных действующих лиц.
Антонио был человеком, наслаждавшимся собственной ложью и утопавшим в ней чуть ли не со дня рождения, но, несмотря на все это, адвокат готов был встать на его сторону. Конечно, рассуждал венгр, обладание черепом совсем свело с ума этого парня, но не только он был действующей силой данной пьесы и не он один действовал в своих интересах, калеча жизни других людей. Кто-то помогал ему в этом кошмаре, советовал ему стать предателем, разбить чужую семью, нарушить клятву, данную в самые светлые мгновения жизни. Кто и зачем? Что было платой за эти чудовищные поступки? Какие жалкие крохи удовольствия? Не было ли обещано Антонио какое-то чудесное превращение, которое якобы должно было искупить все грехи, совершенные им в его нынешнем обличье? Ласло сомневался, не чувствовал себя вправе судить Антонио с позиции морального превосходства. Кроме того, он прекрасно сознавал, что искушение властью может быть непреодолимым для беспокойного, мечущегося в поисках смысла жизни ума. Антонио, быть может, просто не смог противостоять той темной силе, которая избрала его своим орудием.
Приехав в столицу Тосканы, Пол взял себе за правило каждый день звонить в Англию около шести вечера. С одной стороны, он не терял контакта с близкими, с другой – был в курсе событий, так или иначе имевших отношение к его поискам. После того что он пережил по вине Ады Маргарет, время обрело для него совершенно иную ценность. Там, в Англии, он оставил семью, друзей и коллег по университету. По совету своей сестры Хелен, матери Марка, он заказал одному частному детективному агентству сбор всей информации об Аде Маргарет Слиммернау. Получив заказ и аванс, сыщики рьяно взялись за дело, пообещав вскрыть любую тайну ее жизни, если, конечно, такие тайны в ее биографии имеются. По правде говоря, Пол не слишком верил в успех этого предприятия и обратился к частным детективам не столько по своему внутреннему убеждению, сколько для спокойствия сестры.
– Сейчас я прочитаю тебе их отчет. Он передо мной, в запечатанном конверте. Его сегодня прислали на твое имя. Если позволишь, я прямо сейчас его вскрою и прочту самое важное. По крайней мере так мы узнаем все, что им удалось выяснить, одновременно. Может быть, это станет для нас в какой-то мере утешением.
Полу не по душе был телефонный способ передачи столь важных сведений, но выбора не было, и он решил уступить сестре. Судя по ее голосу, Хелен просто сгорала от нетерпения и ждала лишь его согласия, чтобы открыть конверт.
Пока она вскрывала конверт и разворачивала листы, Пол машинально играл лежавшим на гостиничном столике карандашом с обломанным грифелем – из тех, которыми не запишешь даже номер телефона. Вскоре снова раздался голос Хелен, зачитывавшей основную часть отчета детективов. Общую сумму их гонорара и расшифровку с указанием количества сыщиков, участвовавших в расследовании, и затраченного ими времени она пропустила. Судя по отчету, Ада Маргарет Слиммернау действительно происходила из старинной, чисто английской семьи, и в ее жилах не текло ни капли иностранной крови. Многие поколения ее предков, как она и рассказывала, посвятили свою жизнь театру, в основном как актеры, а в некоторых случаях как драматурги и постановщики. Архивные расследования позволяли проследить ее генеалогию вплоть до времен Марло и Шекспира. Ничто в расследовании не указывало на ее родство с Гаем Фоксом, а также на какую-либо связь с Эдвардом Келли или с его другом и покровителем Джоном Ди. Генеалогическое древо не было запятнано связями ни с предателями, ни с иностранцами, ни с колдунами.
По всему выходило, что Ада из каких-то своих соображений сочинила историю своего родства с Гаем Фоксом, которую и изложила бедняге Марку, чтобы произвести на него впечатление. Впрочем, далеко не все в ее рассказах о предках было неправдой. В отчете детективного агентства содержалась информация о месте жительства ее предков и их переездах. Судя по всему, они не любили засиживаться на одном месте: они разъезжали по всей стране, а многие даже уезжали за границу, где, как правило, добивались успеха, организовывая театральные труппы и исполняя главные роли в спектаклях по самым известным пьесам мировой драматургии. Они не ограничивались постановками и ролями в пьесах, представляющих собой национальную гордость Британии: с той же отвагой они брались за произведения таких гениев драматургии, как Мольер, Кальдерон и Лопе де Вега. Им не были чужды ни испанская драма чести, ни французская сентиментальная драма, ими были покорены даже вершины романтической драмы, включая «Le Roi s'amuse»,[37] созданную вдохновенным гением Виктора Гюго. В общем, ни одна заслуживающая внимания пьеса мировой драматургии не осталась вне поля зрения актеров из этого рода.
Несмотря на отсутствие упоминания в отчете имени Фокса, Пол не спешил сбрасывать со счетов возможность наличия дальних родственных связей Ады Маргарет с человеком, чье имя стало синонимом предательства, а кроме того, полагал вполне вероятным обретение предками девушки особого таланта к перевоплощению именно благодаря благословению их казненного родственника. В конце концов, детективы могли и не докопаться до всех событий и документов столь давней эпохи. Их задачу осложняло и то, что после казни Гая Фокса его родные первым делом наверняка сменили фамилию и место жительства, да и потом не спешили афишировать свое родство с этим человеком. Вполне вероятно, что его потомки даже временно покинули территорию Англии, перебравшись на континент. Вернулись же они или даже их дети уже с другими именами и с чистой, незапятнанной биографией. При подобных обстоятельствах так на их месте поступил бы любой нормальный человек.
Пол слушал сестру и пытался осмыслить услышанное. Хелен читала отчет детективного агентства, как читают священную книгу, в надежде найти в ней разгадки самых сокровенных тайн. Из отчета следовало, что родной отец Ады погиб в результате несчастного случая на охоте, а мать выходила замуж не один раз. Вникая в перипетии судеб родственников Ады, Пол больше всего заинтересовался жизнью ее матери. В отчете сообщалось, что эта женщина довольно долго прожила за границей, но в какой стране и с кем именно – тайна, покрытая мраком. В Англии ее не было много лет, и никто, даже ближайшие родственники ни разу не слышали ни единого упоминания о том, где она провела все это время. Домой она вернулась в тот момент, когда ее артистическая карьера подошла к концу и приближение старости стало очевидным. При этом, как утверждали информаторы, по матери Ады не было заметно, чтобы она сильно переживала по данному поводу, а кроме того, уход со съемочной площадки, по-видимому, не оказал серьезного влияния на ее материальное положение. Она уединенно жила в загородном особняке, почти не принимая гостей и не выезжая за пределы своей усадьбы. Вплоть до самого последнего времени родственники считали большой удачей, если им удавалось вытащить ее из дому на какое-нибудь семейное торжество.
Отношения между Адой и ее матерью не были ни хорошими, ни плохими; собственно говоря, этих отношений как таковых не было вообще. Мать и дочь виделись чрезвычайно редко, и Аду фактически вырастили три ее пожилые тетушки – те самые, которые произвели такое неизгладимое впечатление на Марка в день свадьбы. Пол стал вспоминать этот день: ничто, ни одна деталь не показалась ему подозрительной или заслуживающей особого внимания. Мать Ады вела себя как совершенно нормальная женщина. Пол знал, что на свадьбу она приехала с одним из своих бывших мужей, которого он тогда посчитал отцом Ады Маргарет. Впрочем, все это могло оказаться одним большим обманом. Все, включая свадьбу, семью и дом в Ковент-Гардене… Даже не спектаклем, а одним незначительным эпизодом в бесконечной, еще не дописанной и не до конца сыгранной пьесе.
– А сколько детей было у этой женщины? – спросил Пол, перебивая продолжавшую читать отчет сестру.
– Не знаю, здесь даже не написано, сколько раз она была замужем, – сказала Хелен не без беспокойства в голосе. – Мы ведь заказывали расследование по поводу дочери, а не матери.
Ночь компенсировала день: размышления питали накопленные в памяти образы, наполняя их смыслом. Холод в Европе не похож на холод в любой другой части света: здесь грустнее, темнее и страшнее. Ночь и холод запутывают человека, сбивают с толку. В тот вечер Ласло перешел с пива на более крепкий алкоголь. Для него ситуация была похожа на элементарное арифметическое уравнение: сейчас он больше всего боялся столкнуться со своими же собственными мыслями, которые могли в любой момент вернуться к нему из прошлого. Оставаться одному в такой ситуации было нельзя. Расставшись с профессором Харпером, Ласло задержался у газетного киоска и присмотрел себе пару журналов, чтобы убить время в гостинице. Вскоре он понял, что читать все равно не сможет. Свернув за угол, зашел в первый же попавшийся бар, где поджидали клиентов скучающие вечерние посетительницы. Ласло попросил бармена подать что-нибудь на его вкус, лишь бы покрепче. К нему подошла молодая блондинка – жилистая и высокая, она чем-то даже напоминала мужчину. Ласло жестом дал понять, что не желает с ней знакомиться, и проворчал ей в спину: «Я люблю тех, кто постарше, чтобы совсем зрелая женщина была, и с лицом, как из двадцатых годов».
Столь неожиданные и вместе с тем четко сформулированные требования венгра немало позабавили услышавших его слова конкуренток блондинки. Впрочем, Ласло сейчас было не до шуток, и он сосредоточился на запотевшем бокале, чем-то походившем на мексиканского священника, потеющего в редкостно жаркий и душный день. Буквально через несколько минут к нему подошла другая женщина, по крайней мере формально вполне отвечавшая изложенным им критериям. Она была невысокая, довольно упитанная, но каким-то образом сумела сохранить невинное лицо – ни дать ни взять ангелочек с раскрашенной открытки. «Вы мне нравитесь. Я готов пойти за вами куда угодно, хоть в вертеп порока, но при одном условии – плата должна быть разумной. Не рассчитывайте, что вам удастся обобрать меня как липку лишь потому, что я иностранец». Такая грубость была заранее просчитана и взвешена Ласло, который вовсе не желал усложнять себе жизнь лишней игрой и натужной вежливостью по отношению к продажным женщинам.
Они поднимались по лестнице, где пахло свежеприготовленной, еще не обожженной фарфоровой массой. Ковровая ткань под ногами совокуплялась с мрамором лестницы флорентийского дворца, превращенного в бордель. Женщина из аристократического рода, сама родившаяся в этом же доме, превратила колыбель благородного семейства в дом свиданий. Это было сделано из чувства мести – мести за унылое детство и за образование, иссушившее ей душу, сжавшуюся до размеров крохотного комочка. Кроме того, женщина ненавидела всех своих предков и родственников за то, что они не оставили ей ничего, кроме этого роскошного особняка, требовавшего огромных денег на его содержание. Она поклялась, что не будет жить одна в огромном доме, составлявшем все ее наследство, но, наоборот, наполнит его страстями и, более того, сумеет превратить древние камни и балки в источник звонкой монеты. Эту клятву она произнесла при выбранном ею самой женихе в день помолвки, состоявшейся здесь же, между огромными, до самого потолка, зеркалами и в присутствии подружек невесты, сплошь представительниц знатных родов и семейств. Ласло знал эту женщину: она была старой подругой его недавно скончавшегося клиента – знаменитого актера. Тот познакомился с хозяйкой дворца, когда подыскивал себе партнершу для некоего подобия порнофильма, который так в итоге и не был снят.
Кем же был на самом деле покойный актер? Разумеется, назвать его посредственностью не посмел бы никто. Он был талантлив, обаятелен, обольстителен и великодушен. Его присутствие на бесчисленных благотворительных балах и вечерах наверняка помогло скрасить жизнь многим и многим сиротам, в пользу которых передавались сборы от подобных мероприятий. Он всегда выступал на стороне обездоленных и был при этом меценатом, коллекционером живописи и рьяным сторонником исторического наследия республики. Последователь Сапаты, боец левацких отрядов, миллионер, католик, поклоняющийся Деве Марии Гваделупской, и, ко всему прочему, неутомимый мечтатель. Актер был настоящим народным королем – наподобие генерала песчаных карьеров. Как у такого человека мог родиться сын, подобный Антонио? Ласло полагал, что это произошло по необходимости. Тень двойника актера просочилась в капле семенной жидкости в красный дом англичанки… и вот – чудовище появилось на свет и теперь было готово отнять у мира череп, рожденный мечтой: череп Пиноккио, самого трогательного и непоседливого итальянца со времен другого любителя путешествий – спустившегося в ад Вергилия.
Зрелая женщина с лицом, будто сошедшим с фотографии начала века, расстегнула ему рубашку и начала целовать шею. Венгр, словно очнувшись, отстранил ее и сказал: «Не трогай меня, не трогай». Она повиновалась, хотя и с явной неохотой. Женщина не привыкла исполнять роль пассивного субъекта в деле, в котором она считала себя настоящей профессионалкой. Ей куда больше нравилось проявлять инициативу, самой отмерять дозволенную дозу удовольствия и изображать оргазм с подлинно театральным вдохновением Мессалины.
Венгр, в свою очередь, слишком хорошо знал законы жанра сексуальной комедии и не мог допустить, чтобы какая-то продажная женщина, пусть и обладающая неплохим вкусом и собственным стилем, позволила себе лезть ему в душу и пыталась расшевелить все то, что томило его изнутри. Для Ласло эякуляция не была ни спонтанным актом, ни даже биологической необходимостью: в первую очередь она выражала некое внутреннее смятение, которое сопровождало его еще с юности. Он никогда не влюблялся. Война навеки кастрировала в нем способность чувствовать любовь, которая выражается телесным, плотским влечением к человеку противоположного пола. Единственное, что ему удалось, – это создать в своей душе некий идеальный прототип, который он искал во всех женщинах, какие только были ему доступны. Ему всегда была нужна одна и та же модель, одна и та же фотография, одна и та же копия образа, увиденного им в одном из подростковых снов. Женщина со старой афиши, фотография крупного плана из старого фильма, немого и походящего на самодеятельный спектакль. Такая женщина могла существовать только тогда, в безвозвратно ушедшие времена начала века. Колдунья Мельеса или Кабирия Пастроне, но в любом случае – лицо, снятое на черно-белую пленку.
Любовью он занимался самозабвенно, но физическая близость была для него не чувственным удовольствием, а актом насилия. Вот и сейчас он набросился на женщину всем телом, сухим и легким, как скелет, обтянутый почти прозрачной кожей. Ласло прекрасно понимал, что как мужчина он гораздо ближе к трупу, чем к живому человеку. Наверное, поэтому его всегда тянуло к женщинам полным, не стремящимся следовать всеобщей моде на худобу, больше напоминающую истощение. Да и в этих женщинах его привлекали не столько достоинства и возможность получить удовольствие, сколько недостатки. Он закрывал глаза и, мечтая, начинал чувствовать запах гари – такой, какой стоит над полем проигранной битвы. Он видел Дунай, проштопанный пулеметными очередями, видел блеск металла, вмерзшего в лед. «Все кончилось, все кончилось». Он повторял эту фразу, пытаясь вслепую нащупать сухие объятия женщины со старой афиши. Голубые глаза, бледное лицо и волнистые волосы – точь-в-точь как след, оставленный катером на воде в гавани. «Я уезжаю, уезжаю навсегда». Эти слова он повторял раз за разом – слова эмигранта, слова прощания с той страной, где было потеряно все: от самой обыкновенной семьи, в которой он вырос, у него не осталось ничего – даже ни единой фотографии родителей.
Раздетый донага, он в изнеможении лежал на кровати. Женщина смотрела на него нежно, но при этом с беспокойством. Что-то в нем было ей любопытно, что-то пугало. «Ну что, тебе хватит?» – спросила она с водевильной интонацией, замечательно подходившей к его настроению. Ласло не ответил. Едва заметным движением головы он дал ей понять, что полностью удовлетворен. Он не торопился вставать с кровати. Ему некуда было спешить. Гостиница открыта для него днем и ночью, но Ласло прекрасно понимал, что, вернувшись в свой номер, он не сможет сразу уснуть и будет вновь сражаться с являющимися к нему призраками печального прошлого. Как знать, может быть, эта поездка была его большой ошибкой. Может быть, он и не найдет Антонио, но зато разбередит едва затянувшиеся раны, нанесенные ему кровавым и жестоким прошлым. Венгрия была совсем близко, ему казалось: он видит ее через распахнутое окно дворца. Видит горы, зеленые холмы и пронзающие небо шпили старинных соборов. Неожиданно вспыхнувшее днем страстное желание вернуться на родину пробудило сексуальное влечение и заставило почувствовать себя вновь молодым и полным сил, но с другой стороны – глубоко несчастным. «Если это дело у 'меня выгорит, то полученные деньги навсегда отмоют память от лишних воспоминаний». Через секунду он зачем-то повторил эти слова вслух. Наверное, ему просто захотелось, чтобы его голос услышала лежавшая рядом женщина. Она ничего не ответила и лишь улыбнулась ему загадочной и в то же время ничего незначащей равнодушной улыбкой профессионалки.
Он встал с постели и попросил, чтобы женщина оставила его одного – на то время, пока он будет одеваться. Одевался он, стоя спиной к окну.
Рождавшийся день был сырым и мрачным, солнце словно нашло какой-то благовидный предлог, чтобы воздержаться от исполнения своих ежедневных обязанностей. Полу удалось поспать, причем достаточно спокойно. Отдых и сон помогают увидеть мир по-новому. Страх отступает, а настроение улучшается. Приободренный, он спустился в кафе при гостинице, чтобы позавтракать на английский манер – яичница с беконом, апельсиновый сок и любой джем, который только будет предложен в гостиничном буфете.
Неподалеку, в другом отеле, скромном на вид, но очень дорогом, в это же время просыпался Ласло. Чтобы окончательно прийти в себя и прогнать остатки сна, он привычно встал под холодный душ и теперь постанывал не то от холода, не то от удовольствия. Спал он плохо, а выпитое накануне спиртное продолжало и спустя несколько часов после последней рюмки оказывать свое разрушающее действие на мозг и нервную систему. Похмелье заставляло Ласло видеть буквально в каждой мелочи дурное предзнаменование и наполняло сознание полным равнодушием ко всему тому, что предстояло сделать после завтрака. Выйдя из душа, он оделся и надел черные, безупречно начищенные ботинки – хорошая и абсолютно чистая обувь была одной из его навязчивых идей. Он постоял перед зеркалом и даже показал сам себе язык. Судя по всему, именно по ложбинке на языке в его желудок и стекали омерзительно кислые соки, смешанные с невкусной, на редкость соленой слюной. Отдохнуть Ласло так и не удалось. Те немногие часы, которые он провел в постели в своем номере, оказались на редкость безрадостными, а сон был наполнен оставившими самое неприятное впечатление кошмарами. «Надо же было вернуться сюда именно так, – повторял он про себя. – Бежать из Европы и вернуться, чтобы попытать счастья в абсолютно безнадежном деле». Оставалось лишь надеяться, что мрачное настроение отступит при виде чашки итальянского кофе – ароматного и черного, как беспорядочные чувства, проносившиеся у него в душе. Маска, а скорее даже приросшая к коже личина адвоката требовала от него быть выше любых психосоматических соображений. За беспокойную ночь, последовавшую вслед за долгим и по-своему веселым вечером, приходилось расплачиваться серым днем, который Ласло собирался провести в поисках Антонио, объединив свои усилия с английским профессором.
Пол и Ласло встретились под аркой в саду Бигалло – одном из основных нервных узлов туристической схемы города. Времени у них было предостаточно, поскольку дом актеров де Лукка находился недалеко, почти в самом центре. Дойти до него можно было буквально за несколько минут. Они подали друг другу руки и искренне порадовались встрече. Так встречаются старые друзья, а не только что познакомившиеся люди. Судя по всему, именно испытываемое обоими чувство собственной слабости и уязвимости помогло мгновенно преодолеть разделявшую их дистанцию. Мрачное выражение лица Ласло не ускользнуло от внимательного взгляда англичанина, который поинтересовался, хорошо ли спал собеседник. «Да не очень, меня что-то все время беспокоило», – коротко ответил адвокат, вздрагивая от клацанья затворов фотоаппаратов бесконечно снимающих все туристов.
Двойник – это порождение фотоаппарата, возможность быть другим, оставаясь самим собой. Как знать, может быть, Антонио обладал способностью создавать себе двойников и пользовался этой способностью во вред окружающим. Сын актера и человек, прекрасно знакомый с фокусами театрального искусства, вполне мог освоить искусство создания двойников. Ну а культура, к которой он принадлежал по рождению, культура жреческих империй и анимистических верований, лишь слегка прикрытых обрядами, привнесенными западной цивилизацией, – эта культура могла довершить все остальное. Если на свете существуют карбонарии, почему бы не существовать в нашем мире и двойникам, которым суждено когтями ягуара вырывать души из врагов, а затем улетать на черных крыльях в непроглядную тьму ночи? В конце концов, все это было лишь вопросом веры, и группа каких-нибудь сектантов, усиленно работающих над развитием заложенных в них способностей, вполне могла добиться того, что большинству обычных людей показалось бы чем-то сверхъестественным, если не самым настоящим чудом.
Они выбрали путь в обход, в стороне от площади Синьория, чтобы не проталкиваться сквозь толпы туристов и не видеть бесчисленных фотовспышек. Туристы, приехавшие со всех концов света, настойчиво пытались пригвоздить воспоминания к своей памяти при помощи кусочка фотобумаги, которой суждено со временем побледнеть, помутнеть и даже потерять форму. Ласло терпеть не мог повального увлечения фотографией, у него складывалось ощущение, что люди хотят научиться хранить не в памяти, а в архивных альбомах неповторимые мгновения восхищения чем-то необычным или неожиданным. «Пребывая в восторге, ничего не запомнишь, и фотография тебе не поможет», – мрачно сказал венгр Полу, который в ответ лишь пожал плечами. «А почему бы в конечном счете не помочь себе, используя современную технику», – подумал он. Если во всем опираться только на то, что уже известно и подкреплено теоретическими выкладками, то никогда не сделаешь и шага вперед. А ведь территория неизведанного, никому не принадлежащего еще так велика. Другое дело, что оставаться в мире непознанного продолжительное время слишком страшно, и не каждый решится на такую экскурсию. Гораздо приятнее и безопаснее съездить туда, куда есть доступ любому желающему. Ласло улыбнулся. С его точки зрения, англичанин в чем-то был прав. «В конце концов, – подумал он, – правы те, кто считает меня слишком ворчливым и непримиримым ко всему, что мне не по душе».
Дверь в дом де Лукки была заперта. Ни в одном из окон не горел свет. Гости нажали на кнопку звонка и стали ждать. Вскоре в динамике домофона послышался голос Андреа – более сухой и официальный, чем обычно. «Судя по всему, нас здесь не слишком-то хотят видеть», – вынуждены были признаться друг другу посетители; впрочем, они приехали так далеко не ради собственного удовольствия и были намерены нанести визит актерам, даже если те в открытую дали бы им понять, что не желают их видеть.
Лишь поднимаясь по лестнице, они вдруг осознали, что не разработали никакой стратегии поведения. Им оставалось лишь идти в лобовую атаку и прямо попытаться выяснить, где можно найти Антонио. Ласло, как профессионал в выяснении того, что люди обычно стараются скрыть, начал разговор первым:
– Синьорина де Лукка, мы приехали из разных уголков мира и проделали этот путь не для того, чтобы уйти с пустыми руками. Надеюсь, вы понимаете, что мы понятия не имеем, куда нам еще обратиться, и рассчитываем на объяснения с вашей стороны, которые позволят нам успокоиться и, быть может, прекратить бесполезные поиски.
Коломбина одарила их обоих тщательно подобранной улыбкой. Она словно ждала именно такого объяснения вполне ожидаемому визиту двух иностранцев. Как обычно, она проводила их в зал, где столь же неизменно горел огонь в камине и сейчас пахло кокосовыми пирожными.
– Да что вы такое здесь жжете? – нетерпеливо спросил Пол. – Всякий раз, когда я оказываюсь в этом доме, здесь пахнет не так, как раньше, причем всегда приятно и ненавязчиво.
– Благодарю за комплимент, – ответила Коломбина. – Этот дом – он как живой и меняется, как меняемся мы, как меняетесь и вы сами.
Ласло сел в кресло без всякого приглашения и расстегнул пуговицы на пальто. Пол, не снимая плаща, подошел к камину. Венгр впился глазами в Андреа и спросил:
– Раз уж вы такая бойкая и ушлая, то не соизволите ли подсказать, где находится Антонио, единственный сын моего клиента и наследник более чем значительного состояния. Все, кто с ним знаком, подтвердят, что речь идет о человеке с не совсем здоровой психикой, который легко мог стать жертвой злонамеренных действий людей, не обремененных моральными нормами.
На Коломбину вульгарный тон венгра не произвел, казалось, никакого впечатления. Ласло внутренне и сам удивлялся, как ему, адвокату из почтеннейшего бюро, удалось подобрать тон, присущий скорее не слишком разборчивому в методах дознания следователю. Пол, в свою очередь, не сводил глаз с Андреа; он вдруг со всей отчетливостью понял, что она и есть та самая женщина из потустороннего мира. Именно с нею он говорил, с нею – сожительницей мертвецов, на которую его несчастный племянник указал как на единственную возможную собеседницу в том унылом мире.
– Вы же знакомы с Марком, с моим племянником. Вы с ним общались – не знаю уж, в какой форме, и, быть может, продолжаете общаться до сих пор. Вы ведь и меня знаете, или скажете – не помните?
Ласло посмотрел на него удивленно и несколько раздосадованно. Слова Пола шли вразрез с тем, что вплоть до этого момента говорил ему англичанин. Лишь удрученное выражение на лице Пола заставило адвоката удержаться от язвительных замечаний. Коломбина ничего не ответила, но посмотрела на Пола совсем не так, как раньше: в ее глазах мелькнуло что-то похожее на заговорщические искорки.
– Я не знаю, знакомы вы были до нашей общей встречи или нет, да мне это, по правде говоря, и неинтересно, – заявил Ласло, явно раздраженный тем, что пребывал в неведении относительно прежнего знакомства своих собеседников. – Я прошу вас лишь об одном: скажите мне, где Антонио. Молодых мексиканцев здесь не так много, и я уверен, что они не пропадают незамеченными. Если вы не скажете мне этого добровольно, я сумею найти способ заставить вас говорить.
Угрозы Ласло не произвели на хозяйку дома никакого впечатления. Юная Андреа невозмутимо посмотрела на адвоката, а затем, повернувшись к нему спиной, стала поправлять лежавшие в камине поленья, от которых по всему залу распространялся сладкий аромат пригоревшего кокоса. Глаза Пола загорелись, и он, словно нажимая на курок, выпалил:
– Может быть, вы и не знаете, где находится молодой человек, я готов это допустить. Но тогда вы наверняка могли бы сказать нам, где находится череп. Если не ошибаюсь, эта реликвия должна быть где-то здесь, неподалеку, не правда ли?
Слова Пола, произнесенные скорее наудачу, как ни странно, попали в цель. По крайней мере, лицо Коломбины, вплоть до этого момента бесстрастное, дрогнуло и на нем промелькнуло озабоченное выражение. Ласло понял, что череп действительно где-то поблизости, может быть, в этом самом доме. Размышляя над этим, он непроизвольно смотрел в огонь, и ему становилось все труднее оторвать взгляд от пляшущих языков пламени.
– Пол, вы абсолютно правы, череп действительно здесь, рядом, но теперь вы должны меня выслушать и отнестись к моим словам со всей серьезностью. Как совершенно справедливо сказал вам Марк, я единственный человек, который может помочь вам выйти из сложившейся неприятной ситуации, хотя боюсь, сделать это будет нелегко. Что же касается вас, синьор Ласло, то могу вас заверить: Антонио не нуждается ни в ваших адвокатских услугах, ни тем более в том, чтобы встретиться с вами.
Оба иностранца переглянулись. Слова Андреа выводили разговор на тот уровень, к которому они не были готовы. Да, вполне возможно, что Антонио не хочет встречаться ни с кем из знакомых, но, мысленно спросил себя Пол, неужели и профессора Канали одновременно с мексиканцем поразила та же напасть?
– Синьорина, – обратился он к Коломбине, продолжая внимательно смотреть ей в лицо, – а как же Федерико Канали? Он тоже не желает встречаться с друзьями и знакомыми? Вам не кажется странным последовательное исчезновение троих друзей, которые всегда проводили вместе отпуск, всегда интересовались одними и теми же книгами, мечтали об одном и том же, а в последнее время все вместе увлеклись поисками разгадки жизни и смерти одного придуманного существа, череп которого был не так давно найден на пляже в Гаити?
Андреа покачала головой; в волнах ее черных волос отразились разноцветные языки пламени, плясавшие в камине. Судя по всему, у этой девушки был готов ответ на любой вопрос. Ничто не могло вывести ее из себя. Однако, заговорив о черепе, Пол, который постепенно стал узнавать и понимать Коломбину, заметил, что она на миг прикусила губу мелкими острыми зубками, не менее настырными, чем взгляд самого Пола.
– Мистер Харпер, лично я всегда считала, что старуха Лурдель могла просто-напросто подстроить все это и обманом завлечь в свои сети трех богатых и доверчивых иностранцев. Вот скажите, вы сами-то верите, что этот череп – настоящий? Неужели человек с таким, как у вас, образованием может допустить, что в знаменитой итальянской сказке действовал хоть один невымышленный персонаж?
Увидев, что Пол стушевался, Ласло поспешил ему на выручку:
– А почему бы и нет, синьорина? Разве Казанова или Муссолини не были реальными? Больше того, – продолжал он, вставая со стула, – последствия этих сказок, этих снов и мечтаний о величии принесли в реальный мир немало горя и грязи. Именно такие люди, как вы, создавали персонажей, которые впоследствии паразитировали на мечтах людей и целых народов. Лично мне гораздо больше по душе американские комики. Пиноккио – он ведь не клоун, а политик. Он… как бы это сказать… излишне возрожденческий персонаж.
Пол воспользовался передышкой, чтобы привести в порядок свои мысли, собраться с силами и перевести разговор в другое русло. При этом он мысленно отметил определенную правоту в словах адвоката: все упомянутые личности и персонажи, реальные и вымышленные, живые и мертвые, были чем-то похожи: в каждом из них билось сердце театрального актера. Эта страсть к клоунаде порой перевешивала способность вести себя в соответствии с требованиями общества.
– Видите ли, мне кажется, что мы с другом уже наговорили много лишнего, – вновь вступил он в разговор, стараясь снять возникшее напряжение. – Я прошу вас об одном одолжении, даже не прошу, а умоляю: речь не идет ни об угрозах, ни о желании навлечь на кого-либо неприятности. Нам просто очень нужно узнать, все ли в порядке с близким нам обоим человеком.
Едва энтомолог успел договорить, как в зале внезапно послышалась музыка, а затем зазвучал голос певицы, исполняющей какую-то оперную арию. Музыка звучала со всех сторон, и все помещение оказалось словно обнаженным перед этими всепроникающими звуками.
Коломбина немного помолчала, словно дожидаясь, пока сентиментальные аккорды пропитают все ее тело. При этом она явно что-то подсчитывала в уме, прикидывая, стоит ли уступить смиренной просьбе Пола и, сжалившись, рассказать ему о том, что он хочет узнать.
– Что ж, сделайте одолжение, пойдемте со мной. Надеюсь, когда вы узнаете то, что невозможно описать словами, вы вернетесь к себе домой и навсегда забудете то, что увидели.
Ласло и Пол были рады следовать за девушкой куда угодно. Они направились вслед за ней к дверям, но Андреа, остановившись на пороге, попросила подождать в зале.
– Я все-таки склонен доверять этой женщине, – воодушевленно заявил Пол.
– А нам ничего другого и не остается, – скептически ответил Ласло, – но кто его знает, может, она и приведет нас к черепу, к тому острову, где живут теперь наши близкие – те, кто исчез.
Ждать Коломбину им пришлось целый час. За это время Ласло и Пол успели основательно изучить лица друг друга и подумать о том, какой была жизнь каждого из них до знакомства. Глядя на адвоката, Пол вдруг машинально отметил про себя, что тот, судя по всему, чего-то боится. Через несколько минут его осенило: венгр еще не бывал в том мире, где соседствуют мертвые и живые, и ему теперь страшно встретиться с теми, кто уже перешагнул этот порог навсегда. Адвокат, конечно, старался не показывать свой страх, но глаза его выдавали: глаза вечного эмигранта казались двумя окнами, распахнутыми навстречу всем ветрам и бурям жизни. Смерчи и грозы врывались в эти окна и рвали в клочья то, что еще оставалось неразрушенным в его душе. Ласло на всю жизнь так и остался беженцем из воюющей страны, главной заповедью которого стали слова, сказанные кем-то из взрослых ему – бледному, изможденному военными лишениями подростку: работать, работать, работать до тех пор, пока хватает сил, а потом – работать даже тогда, когда их не останется. Он всю жизнь был бледным и худым, словно голодным. Ни деньги, ни хорошая еда не сумели изменить его комплекцию, а жаркое мексиканское солнце не покрыло загаром ни единого миллиметра его почти прозрачной кожи.
Но что же видел Ласло в пытливых глазах Пола? Скорее всего, энтомолог стал для него ожившим символом настоящего англичанина, не менявшегося уже на протяжении нескольких веков. Стать в глазах Ласло просто картинкой, страницей из гербария Полу мешало участие в том самом деле, в котором оказались замешаны они оба. Венгр прекрасно понимал, что, в отличие от него, Пол отправился на поиски друзей погибшего племянника не из-за денег, а повинуясь какому-то внутреннему эмоциональному порыву. А впрочем, подумал адвокат, может быть, здесь речь идет и не об эмоциях, а о гораздо более важном, почти святом для этого человека понятии – о принципах.
Ласло было интересно сравнить Пола с Антонио. Как оказалось, в сыне мексиканского актера и англичанки не было ровным счетом ничего английского: он на все сто процентов в своих лучших и худших качествах был продуктом Мексики и сыном своего отца, мексиканца по рождению и по духу. Вот только почему-то отец в последнее время стал побаиваться собственного сына, а может быть, не его самого, а черепа, который сын принес в его дом. Мертвая голова принадлежала Пиноккио – в этом не было никаких сомнений, но тело со всеми его мышцами и кровеносными сосудами было телом Антонио.
От тягостных мыслей и созерцания горевших в камине дров их отвлекла Коломбина. Она появилась в зале, одетая в черное и явно готовая к тому, чтобы выйти на улицу.
– Господа, если вы готовы, мы можем отправляться в путь. Надеюсь, после этого мы с вами больше никогда не встретимся. То, что вам предстоит увидеть, убедит вас в ошибочности ваших предположений и сделанных на их основе выводов.
Мужчины не решились ничего ответить на столь дерзкое заявление. Пола сейчас гораздо больше занимало другое: он сам удивился, какой болью отозвалось в его сердце то неизбежное прощание, которое было обещано им прекрасной садовницей. Он отказывался верить, что больше никогда не увидит эту женщину. Она тем временем взяла сумочку с комода, стоявшего в прихожей, и направилась к входной двери. Уже на пороге Ласло вдруг спросил:
– А ваш отец? Мне хотелось бы поприветствовать его в последний раз.
Пол в очередной раз удивился, насколько избирательно он видит окружающий мир: вплоть до этого момента он и не замечал отсутствия старого де Лукки.
– Отца сейчас нет. Он ушел по делам. Он ведь бывший военный и считает своим долгом всегда вовремя выполнять обязательства перед другими.
Такое объяснение не удовлетворило ни одного из мужчин. Пол переживал все больше, чувствуя полное безразличие к себе со стороны юной синьорины де Лукки. Он проклинал свою молодость, потраченную не на чувства, а на бесконечные наблюдения за миллионами совокупляющихся насекомых в лаборатории. «Ничего, когда вернусь домой, наша британская сырость и знакомые книги успокоят меня. Во Флоренцию я ведь не вернусь никогда. Мне здесь больше нечего делать».
– Профессор, – очаровательно улыбаясь, обратилась к нему Коломбина, – не стойте как вкопанный на пороге. Садитесь в машину. Нам далеко ехать.
Эти слова вернули Полу утраченное чувство реальности. Ласло уже сидел в машине на заднем сиденье, позади Андреа де Лукки.
– Вся моя жизнь – сплошная поездка, – с иронией заметил Пол, не ожидая ответа.
Мотор зарычал, и уже через несколько минут город остался позади. Они оставили за собой реку, набережные, расплавленное золото куполов, запах масляных ламп, горящих в уличных кафе, и толпу туристов у входа в галерею Уффици.
Шоссе, размягченное под солнцем чуть ли не как воск, все растягивалось и растягивалось в новые километры; за окнами машины проносились идиллические сельские пейзажи. Тени от столбов, домов и деревьев становились все длиннее. «Если стемнеет, – подумал Ласло, – эта бестия привезет нас прямо к вратам ада, а мы даже не заметим». При этом венгр не переставал удивляться самому себе, а именно собственному спокойствию, с которым относился ко всему, что могло произойти; единственное, что его сейчас интересовало, – это сможет ли он найти Антонио и получить самое главное – согласие мексиканца на одну юридически оформленную финансовую операцию, в результате которой он, Ласло, получит столько денег, что станет раз и навсегда свободным человеком.
Пола Харпера в эти минуты занимали совсем другие чувства и мысли: поводом для них была невозможность хоть как-то расположить к себе девушку. Он помнил произнесенные там, во сне, слова племянника: только с ней можно говорить о самом сокровенном. «Вот только о ком, о чем?» – смущенно спрашивал сам себя Пол и не находил ответа. Ада Маргарет Слиммернау обманула его, и ее ничуть не беспокоила его дальнейшая судьба. Она просто использовала его, чтобы познакомиться с Марком. Да, конечно, потом они влюбились друг в друга, но ведь в их годы влюбиться проще простого… Любовь вообще очень простое чувство. Любить очень легко: это как соединить лед с огнем и получить воду. Эти простые действия, это элементарное чувство доступно всем – всем, кроме него. Какая жизнь ждет его после этой поездки? Даже если удастся выяснить, что именно стало причиной смерти бедного Марка, – какой толк будет ему, Полу, от этих знаний? Марк навеки перенесся в какой-то другой мир и живет теперь в доме, похожем на Сатис-хаус. Его уже ничто не тревожит, ничто не может изменить состояние, в котором он пребывает. Вряд ли его самого так сильно интересуют события и чьи-то действия, что привели к его смерти. На лестнице бытия Марк теперь стоял на ступеньку выше всех живых. Впрочем, он все еще сохранял в себе остатки того, земного, Марка. Эта еще живая часть его души, как и души утонувших под Слэптоном солдат, время от времени пыталась ворваться обратно в мир живых. Нелегко перестать существовать, нелегко оказаться в новом мире: кому, как не Полу, проводившему бесчисленные часы за микроскопом, под которым бились в конвульсиях умиравшие насекомые, было знать об этом.
– Пол, о чем вы думаете? – спросила Коломбина, чуть повернув голову в его сторону. – Не волнуйтесь, у вас нет причин чего-либо опасаться.
Ласло, сидевший позади и смотревший в окно на сгущавшиеся в горах сумерки, ответил быстрее, чем успел среагировать энтомолог:
– Приятно слышать такие успокоительные слова, но поймите: мы имеем полное право на некоторое беспокойство. Мы ведь даже не знаем, куда вы нас везете.
Коломбина ничего не ответила и даже не попыталась скрыть то отвращение, которое внушал ей венгр. «Человек низшего сорта», – решила она про себя. Все ее поведение, ее бесстыдно подчеркнутое равнодушие к адвокату должны были дать ему понять, какого она о нем мнения. Ласло же ни в коей мере не чувствовал себя оскорбленным. Более того, он даже порадовался за свою интуицию – за то, что сумел понять язык этой флорентийской Цирцеи. Сексуальность – не то оружие, которым можно было победить немолодого адвоката. Об этом прекрасно знал он сам, но понимала это и она. «Пола же остается только пожалеть, – усмехнулся про себя Ласло. – Бедный романтический англичанин, верный союзник всех империй прошлого, падет к ее ногам при первой же ее атаке». Сидя на заднем сиденье, Ласло даже позволил себе улыбнуться: сочувствие к Полу боролось в его душе с иронией и чувством собственного превосходства.
Еще часа через два они наконец подъехали к высокой стене из белого камня. До темноты оставалось не более получаса. Площадку перед стеной освещали старинные, скорее всего прошлого века, кованые железные фонари. Судя по неяркому голубоватому свету, источником энергии было не электричество, а горючий газ. За стеной шелестели на ветру кроны высоких деревьев. Поначалу Полу показалось, что их привезли к какому-то старинному заброшенному саду. Коломбина остановила машину.
– Приехали. Идите за мной.
Пол обернулся и посмотрел на Ласло. Тот в ответ ободряюще подмигнул. Он увидел, что англичанин дрожит. Полумрак и вся цветовая гамма окружающего их пространства напомнили Полу о том, что он пережил недавно.
– Это же кладбище! – воскликнул он, не пытаясь скрыть испуг.
– Вы правы. Но это и есть то самое место, куда вы так хотели попасть, – ответила Андреа де Лукка, причем в голосе ее прозвучали новые, незнакомые интонации, что не прибавило Полу уверенности.
Девушка достала из сумки большой железный ключ и открыла замок, запиравший калитку в кованых воротах. За кладбищенской оградой даже воздух был другой – не теплее и не холоднее, он просто обволакивал и проникал в легкие. Кипарисы казались мазками черной краски, нанесенной на чуть более светлый фон затянутого тучами неба. Прямо перед вошедшими угадывался в полумраке силуэт колумбария, пустующие ниши которого, оставленные для будущих поселенцев, придавали этому сооружению вид вскрытого пчелиного улья. За спиной Ласло возвышался потемневший от времени крест, судя по всему, еще времен эпидемии чумы. От креста на землю падала огромная тень, перекрывавшая собой небольшой газон, засаженный розмарином.
– Друг мой, по-моему, нет ничего удивительного, что, разыскивая череп, мы рано или поздно должны были оказаться на кладбище, – саркастически прокомментировал венгр. – Не волнуйтесь, у меня есть предчувствие, что сегодня наши поиски наконец будут завершены.
Ласло действительно верил в то, что говорил. В отличие от Пола, он чувствовал себя здесь, в кладбищенском полумраке, довольно спокойно. Его скептический настрой и выработавшееся за годы адвокатской практики циничное отношение к самым разным ситуациям и страданиям людей привили ему иммунитет против душевных переживаний, причем сам он склонен был считать этот защитный барьер непреодолимой преградой против любой эмоциональной напасти.
Коломбина уверенно направилась к большому склепу. От его дверей уходили вниз, в подземелье, широкие ступени. Пол не столько разумом, сколько сердцем почувствовал, что там, внизу, его ждут опасности и испытания. Вскоре он разглядел впереди, в глубине коридора, несколько неясных силуэтов. Эти люди явно их ждали.
– Кто это? – спросил Ласло, уверенно шедший за девушкой.
– Это добрые братья, желающие дать нам мудрый совет, – ответила Коломбина.
Их действительно ждали трое мужчин, одетых старомодно; головы их украшали шляпы с высоченными тульями. Чем-то они напоминали актеров второго плана из какой-нибудь театральной труппы, вот только о пьесе, в которой они играли, гостям оставалось лишь догадываться. Пол понял, что чувствует себя примерно так же, как тогда – во время первого путешествия за грань пространства и времени. Ласло продолжал успокаивать себя тем, что он во всей этой истории человек посторонний и вряд ли его скромная персона заинтересует каких-нибудь сектантов, желающих исполнить очередной кровавый ритуал. И все же в глубине души нарастало беспокойство. Совсем не по себе ему стало, когда венгр разглядел впереди, в дальнем конце темного коридора, узкие полоски мерцающего света. Ощущение было такое, словно там, в кладбищенском подземелье, показывали кино и луч от проектора пересекал узкий коридор склепа. Поначалу Ласло постарался отбросить этот пришедший ему на ум образ как абсурдный, но постепенно он все больше убеждался, что ему предстоит увидеть фильм, причем имеющий к нему самое непосредственное отношение. Еще несколько шагов – и он оказался в луче киноаппарата и, невольно повернув голову в сторону экрана, стал свидетелем сцены, показавшейся ему до боли знакомой.
– Это же фильм обо мне! – воскликнул он с ужасом. Голос обезумевшего от страха Ласло метался между каменными плитами, которыми были выложены стены подземелья.
– О чем вы? – не на шутку испугавшись, спросил Пол.
Коломбина не дала ему продолжить. Ее палец прижался к губам англичанина, запечатав их не хуже кляпа.
– Наш друг стал свидетелем истории собственной жизни. Мы не имеем права вмешиваться.
Ласло дрожал, циничное выражение его лица сменилось маской боли и тоски. Он то начинал плакать, то бормотал какие-то слова на непонятном языке – своем родном, как понял Пол. Иногда невнятная, но все же человеческая речь сменялась вообще какими-то странными звуками, больше всего походившими на голоса животных. «Да он с ума сошел», – повторял сам себе Пол, не ожидая ни подтверждения, ни опровержения этого. Коломбина, казалось, вообще не замечала, что происходит вокруг, и продолжала идти вдоль коридора.
Венгр закрыл голову руками, словно желая отгородиться от всего происходящего, но сопротивляться воздействию нахлынувших образов из прошлого не было сил. Через несколько секунд он остановился и рухнул на пол, извиваясь, как разрубленный на части червяк. Пол подбежал к нему, чтобы помочь встать, но венгр, с трудом размыкая искаженные от боли губы, прошептал:
– Не жди меня. Я не могу… не могу ничего, пока не кончится фильм. Здесь меня поджидала вся прожитая жизнь. Может быть, мне действительно суждено умереть здесь и сейчас, только я не думал, что смерть будет такой болезненной. Иди за ней, – он мотнул головой в сторону Коломбины, – делай то, что тебе покажется правильным, а если сможешь, постарайся остановить фильм до того, как он закончится.
Ласло изо всех сил старался выглядеть менее жалким, чем был на самом деле. Его слабый, как дрожащее на ветру пламя свечи, голос подействовал на Пола сильнее любой громогласной команды. Он встал и решительно пошел вслед за «садовницей». Андреа невозмутимо двигалась в сторону поджидавших ее мужчин. Полу было так страшно, что он не мог даже думать. Слова венгра его словно пришпорили, и он, не понимая, что происходит с ним и вокруг него, упорно следовал за женщиной, которая влекла его к себе столь же сильно, как пугала. Конец коридора был уже близко. Трое незнакомцев, чьи лица скрывали поля шляп, все так же молча ждали гостей, спустившихся по ступеням склепа.
Отступать, возвращаться было уже поздно – нужно было идти до конца. Уверенность в необратимости и неизбежности происходящего помогла Полу преодолеть страх. Он машинально осматривал помещение вокруг себя, стараясь заглянуть в каждый угол, в каждую щель между камнями и могильными плитами.
– Пол, эти люди расскажут тебе о том, что ты хотел узнать. Больше нет препятствий для того, чтобы ты узнал правду.
Эти слова Коломбина произнесла таким голосом, что энтомологу и в голову не пришло усомниться в ее искренности.
– Адвокат остался там, позади. Я думаю, нам стоит подождать его. Он имеет такое же право услышать, что расскажут эти люди.
– Ты слишком много думаешь о других, – с улыбкой сказала Коломбина и даже не оглянулась туда, где Ласло, мучимый судорогами, не то шел, не то полз в их сторону.
– По-моему, так будет правильно, – настаивал Пол. – Он приехал из Мексики, чтобы разыскать своего клиента. Как знать, может быть, этот человек как раз и находится здесь, среди этих троих, чьи лица скрыты масками и мраком.
Не успел он договорить, как один из трех незнакомцев шагнул вперед и сорвал с себя шляпу. Церемонно поклонившись, он сказал:
– Вы правы, я один из них. Быть может, я древнее, чем они, но присоединился я к ним совсем недавно.
Пол предвидел присутствие мексиканца в подземелье, опираясь не на логические умозаключения, а на какой-то внутренний импульс. Теперь его сердце наполнило отчаяние, уничтожив безвозвратно все надежды и воспоминания о добрых предзнаменованиях, которые грели его душу еще несколько секунд назад.
– Я нутром почувствовал, что если нам суждено увидеть этот череп, то вы непременно окажетесь рядом. Вот только мне до сих непонятно, зачем вам это нужно и что вы хотите получить, когда все закончится.
Антонио положил шляпу на пол и стал медленно снимать белые перчатки.
– Что мне нужно? Представление… Не думаю, что вы меня поймете.
Голос его прокатился под сводами подземелья, а затем он обернулся к своим спутникам. Тот, что стоял по правую руку от него, был библиотекарем, направившим Федерико в дом де Лукки, тем самым архивистом, который спасал книги во время наводнения. Этот человек знал Пиноккио и его историю лучше, чем кто бы то ни было. Он едва не сошел с ума в бесконечных поисках по всем библиотекам города, отчаянно надеясь найти свидетельства последних дней жизни марионетки, придуманной Коллоди. Он готов был отдать всю свою кровь за одну щепку – за щепку от того самого полена, из которого когда-то была вырезана ожившая кукла, – а душу он был готов продать за любую из ниток, приводивших в движение деревянную марионетку. Будь на то его власть, он спокойно предал бы весь город огню и разрушению, если бы это помогло вернуть из небытия деревянного человечка.
Там он и стоял – в дальнем конце коридора, одетый в смешной театральный костюм, не забывая ни на миг о данной когда-то клятве ордену карбонариев. Он всегда числился одним из самых радикальных членов ордена-секты, он верил в воскрешение дерева и в тайное бессмертие тех, кто умел призывать мертвых и поднимать их из могил. В молодости, уже далекой, он застал последние отголоски фашизма самого элитарного толка, утонченные революционные идеи на всю жизнь сохранились в памяти библиотекаря. Впрочем, никто и никогда не видел и не слышал, чтобы он выкрикивал фашистские лозунги или вскидывал руку в ритуальном приветствии. Сам он гордился тем, что никогда не надевал черную рубашку. Несмотря на это, его голос мог вогнать в страх любого не слишком сильного и волевого человека; от такого голоса звенели стекла в окнах и рассыпались на мелкие осколки хрустальные бокалы.
В руках библиотекарь бережно держал какую-то сумку; он явно ожидал указаний от Антонио, который, похоже, наслаждался самим фактом своего участия в этом безумно талантливом, с его точки зрения, спектакле.
– Ну что, Пол? Вы все еще думаете, что нам следует подождать моего адвоката? – спросил мексиканец театральным тоном. – Он вечно опаздывает. По-моему, настало время отказаться от его услуг. Что вы на это скажете?
Пол Харпер обернулся. Ласло ползком продолжал двигаться в их сторону. Время от времени он делал отчаянные попытки встать и приблизиться к своему мучителю с подобающим достоинством. Смех Антонио заставил Пола вздрогнуть. От этого смеха у него застыла кровь в жилах. Он не верил своим глазам: Антонио действительно забавлялся, видя, как страдает его давний знакомый. Образы, терзавшие память Ласло, казались всем присутствующим какой-то выдумкой, а его судороги – кривляньем, не заслуживающим сострадания. Так думали все, кроме Пола, которому уже довелось пережить нечто подобное.
– Это ничтожество с рабской душой не соизволило умереть, когда ему представилась прекрасная возможность закончить свою жизнь на героической ноте, и вот теперь, мистер Харпер, угрызения если не совести, то памяти заставляют его вести себя, как и подобает жалкому трусу.
– Вы просто чудовище, – заявил Пол, смело глядя в глаза Антонио. – Вы не имеете никакого права так обращаться с этим человеком.
Огонь, мелькнувший в глазах, скрытых за полумаской, заставил его замолчать. Ни один из персонажей «Комедии», пародии, сатиры или же карикатуры – всех жанров старинного итальянского искусства – не мог сравниться по жестокости и хладнокровному презрению с тем человеком, который стоял сейчас перед ним. Хотя одет Антонио был в костюм Арлекина, его ярость коренилась в какой-то древней культуре, атавизмы которой разбивали на мелкие кусочки копившуюся веками взвешенную мудрость театра. Он не был настоящим актером, ему доверили лишь одну роль – роль чудовища в человеческом обличье, в сердце которого живет жестокий, ненасытный, не ведающий жалости зверь.
Коломбина стояла неподвижно; похоже, ей эта ситуация была по меньшей мере не по душе. Никому и в голову не приходило прекратить мучения Ласло, прервав демонстрацию так садистски терзавшего его фильма.
– Зачем вы затащили нас сюда? Вы предали своих друзей. Я уверен, что вы несете всю ответственность за их исчезновение. Федерико и Марк помогали вам, чем могли, и, если в вашем сердце осталась хоть капля совести или здравого смысла, вы должны мне ответить на вопрос, почему вы с ними так поступили.
Пол молил об ответе, как умирающий от жажды умоляет дать ему глоток воды. Не гнев, но любопытство иссушало его изнутри. Ласло тем временем перестал шевелиться, не то потеряв сознание, не то окончательно впав в состояние, близкое к коме. Его глаза были неподвижно устремлены в какую-то далекую точку в пространстве.
Второй мужчина, стоявший по левую сторону от Антонио, взял из рук библиотекаря сумку и открыл ее. Запустив руку в перчатке внутрь, он одним движением достал оттуда тот самый череп, чем немало удивил Пола, скорее считавшего эту находку чьей-то не слишком удачной выдумкой.
И вот череп оказался перед его глазами, освещенный падавшим откуда-то со свода подземелья тонким лучом света. В этом свете было видно, что костная ткань во многих местах потемнела, но сквозь темные пятна пробивается едва заметное свечение. У Пола сразу же возникло ощущение, что мягкие ткани, некогда прикрывавшие эти кости, непостижимым образом должны появиться вновь. Ему захотелось посмотреть на это чудо природы вблизи, и он сделал два шага вперед. Никто не мешал ему. Пол протянул руку и прикоснулся к кончику носа, словно желая на ощупь удостовериться в том, что видели его глаза. Нос показался ему похожим на костяной нож, а его кончик – на лезвие хирургического скальпеля. Кроме того, Пол имел возможность убедиться в том, что этот костный отросток не был каким-то образом прикреплен к обыкновенному черепу, а являлся продолжением основных лобных и лицевых костей. Не меньше, чем нос, поразили англичанина глазницы черепа, в которых он разглядел едва заметный огонек. Так, наверное, должны выглядеть в ночи сказочные домики, в окнах которых горит свет, приглашая заблудившегося путника скоротать ночь в тепле и уюте.
– Я вас пригласил, чтобы вы посмотрели на этот череп и раз и навсегда отказались от его поисков. Он находится в руках тех людей, которые имеют полное право обладать им. Я сам купил эту реликвию, а Федерико и Марк заплатили своими жизнями за то, чтобы подтвердить, что это не игрушка и не подделка. Сегодня мы уже можем с уверенностью сказать, что череп принадлежал человеку, описанному Коллоди в его сказке. Пиноккио существовал, как любой другой человек, отличала его лишь одна редкая особенность: он не мог врать. Каждая его ложь немедленно выражалась в видимых изменениях, происходивших с его телом.
Антонио рассказывал все это спокойно и с явным удовольствием. Двое его спутников стояли рядом с ним, как преторианские гвардейцы, наблюдая за реакцией Пола. Коломбина слушала рассказ Антонио молча и неподвижно, будто оцепенев от волнения.
– Хорошо, я признаю вашу правоту и не буду оспаривать подлинность этого природного феномена. Но скажите, помимо чисто антропологического интереса, что еще так привлекает вас в этом черепе? Неужели ради того, чтобы подтвердить его подлинность, стоило жертвовать жизнями Федерико и Марка? – С точки зрения Пола, представленные аргументы никак не могли служить оправданием гибели двоих друзей.
– А вы, оказывается, кое-чего так до сих пор и не поняли, – сказал Антонио, изобразив на лице подобие улыбки. – Нос куклы продолжал расти и после ее смерти. Знаете почему? Да все потому, что смерть и есть еще одна ложь. На самом деле смерть – это обратимое состояние, из которого есть путь назад, нужно только знать те вехи, по которым его следует пройти. Среди нас есть люди, которым доводилось проходить этот путь, и не однажды. Могу представить в этом качестве сопровождающую вас даму. – Он кивнул в сторону Коломбины, которая лишь смиренно опустила голову в знак согласия. – Так почему, спрашивается, я должен бояться смерти моих лучших друзей, если в любой момент могу вернуть их в реальный мир в привычном для меня обличье?
Пол не знал, что ответить. Все, что он слышал до сих пор, не вызывало у него ощущения абсурда; более того, во многое он готов был поверить, но то, что сейчас слетело с губ этого самодеятельного актера, переодетого Арлекином, с точки зрения ученого, было просто бредом сумасшедшего. Если Коломбина – покойница, то зачем, спрашивается, сопротивляться тому влечению, которое она будила в нем? «Она же старше меня, – подумал Пол, – и ее предыдущее воплощение на земле случилось гораздо раньше, чем пришел в этот мир я». Пол вдруг отчетливо вспомнил свою мрачную прогулку по саду, окружавшему Сатис-хаус. И все же он словно встряхнулся, заставив себя сбросить наваждение: необратимость смерти – это аксиома, а все, что ему говорил Антонио, – действительно ложь, причем ложь, основанная на суевериях и предрассудках. Когда живое существо умирает, в его теле начинают образовываться сильные органические кислоты, которые, в свою очередь, разлагают остальные ткани и уничтожают привычное обличье человека, превращая его в лужу перегноя, постепенно просачивающегося в землю. Вот почему древние представляли себе ад в глубине земли: все, что остается от мертвых, рано или поздно стекает туда, вглубь земной тверди, подчиняясь универсальному закону всемирного тяготения.
– А как умер Пиноккио? – сам не ожидая от себя такого вопроса, обратился Пол к мексиканцу.
– Он утонул, захлебнулся, упав с корабля, как утонули солдаты под Слэптоном, – невозмутимо ответил Антонио. – А затем его тело было перемолото между обломками мачт, рей и другого снаряжения. Для моря, готового поглотить все, что угодно, он и был не чем иным, как очередной деталью корабельной деревянной оснастки.
Похоже было, что Антонио вполне контролирует нить разговора и у него есть наготове ответы на все вопросы Пола, который в этот момент снова вспомнил о Ласло.
– Но если череп был у вас, зачем тогда было провоцировать других на его поиски? Вот этот человек, – он показал пальцем в сторону Ласло, – приехал из Мексики, надеясь найти данную редкостную диковину.
Руки Пола были влажными от пота. Венгр тем временем оставался без сознания, а его взгляд был все так же устремлен куда-то вдаль, в другую, страшно далекую от нас Вселенную.
– Он всегда был догадлив. Сообразил, что череп уже здесь. Хоакин украл у меня череп после смерти отца, который приказал уничтожить эту бесценную реликвию. Хорошо, что я обо всем догадался и сумел вернуть свое сокровище.
Антонио говорил о мажордоме, который тоже занял место в череде покойников, покинувших этот мир по его прихоти. Никаких доказательств Антонио не представил, да в этом и не было необходимости: Хоакин заплатил жизнью за неосторожно проявленное вольнодумство, попытку противостоять наследнику своего бывшего покровителя. Единственное, что оставалось Полу непонятным, – зачем было нужно разыгрывать ту часть спектакля, которая побудила Ласло ехать в Италию. Это было нечто большее, чем простое совпадение, как и списки имен на могильных плитах, прикрывающих ниши в стенах подземелья.
– Ласло приехал сюда, чтобы исполнить свой последний долг, – суровым голосом объявил Антонио. – Он прямо сейчас подпишет все бумаги, которые потребуются, чтобы тело моего отца было перевезено в Италию и захоронено на этом кладбище.
Слова мексиканца пробудили в душе Пола Харпера его самые сокровенные страхи: оказывается, Антонио решил провести какой-то зловещий, чудовищный эксперимент с телом своего покойного отца и черепом деревянной куклы. Судя по всему, он собирался вернуть отца к жизни при помощи живительной энергии, излучаемой черепом. Если бы его опыт удался, он, несомненно, постарался бы вызвать из царства мертвых тени Федерико и Марка. Для осуществления этого поистине некрофильского обряда он мог располагать знаниями и опытом, накопленными в подобных делах всем старинным орденом добрых братьев. Ложа карбонариев в полном составе была готова участвовать в намеченном мероприятии: вот для чего на сцене вместе с Антонио находились еще два актера – библиотекарь из Национальной библиотеки и Винченцо де Лукка собственной персоной. Пол давно узнал его в человеке, который стоял рядом с Антонио. Бывший военный и актер, он не раз исполнял роль отца Коломбины, но на самом деле уже многие годы был мертвецом, которого вызывали из могилы в случае необходимости. Старого дуэлянта и забияку, его вполне устраивала роль уже мертвого и потому бессмертного соперника остальных персонажей этого бесконечного спектакля. Вместо отставного офицера и актера-любителя перед глазами Пола предстал итальянский вампир, персонаж зловещей пляски смерти, исполняемой на тайных собраниях ордена карбонариев. С этого момента маски были больше не нужны. Каждый из трех стоявших перед Полом персонажей представил ему – единственному находящемуся в сознании зрителю – свои верительные грамоты. Энтомолог понимал, что долго не продержится, – его сердце и нервы могли не выдержать подобного напряжения.
Полу пришлось присутствовать при том, как Антонио, с молчаливого согласия и одобрения окружающих, заставил Ласло подписать документ, дающий ему возможность беспрепятственно вывезти в Италию тело покойного отца. Ни мексиканское правительство, ни родственники актера, ни даже его вдова никогда не узнали бы о том, что тело знаменитой звезды вывезено за границу, чтобы стать объектом чудовищных экспериментов.
За несколько дней до этих событий экзальтированный Винченцо безуспешно пытался убедить руководство ложи попробовать оживить останки дуче, соединив голову Пиноккио с сохранившимися фрагментами костей фашистского лидера. Внимательно рассмотрев это предложение, высшие иерархи ложи отклонили его. Над телом Муссолини надругались его противники, и его останки были разбросаны по всей стране. Вероятно, кто-то из победителей предчувствовал возможность проведения нездоровых, противоестественных обрядов и сделал все для того, чтобы собрать воедино останки диктатора было невозможно.
Вплоть до этого дня Пол не придавал большого значения тому факту, что многие люди еще при жизни стараются отдать недвусмысленно читаемые распоряжения по поводу того, как следует распорядиться их телом после смерти. Теперь же он впал в своего рода паранойю и решил при первой же возможности составить и нотариально заверить завещание, в котором бы однозначно указывалось, что его тело не может быть передано никому ни полностью, ни частично, а должно быть как можно скорее кремировано.
В тот день, когда он в первый и последний раз в жизни увидел череп Пиноккио, ему пришлось встать на колени перед Антонио и поклясться, что он постарается как можно скорее стереть из памяти все воспоминания о столь неприглядной истории, в которой ему пришлось сыграть одну из главных ролей. Пол пошел на такое унижение, чтобы спасти жизнь Ласло.
Среди прочих условий капитуляции Пол обязался хранить в тайне от всех, даже самых близких ему людей, то, что произошло с ним здесь, на кладбище, а кроме того, поклялся не беспокоить больше никого разговорами о каком-то загадочном носатом черепе. По словам Антонио, Пол брал на себя эти обязательства для своего же блага. Это позволяло ему сбросить давивший на него груз ответственности за все то, что ему довелось увидеть и в чем он был вынужден принять непосредственное участие. С этого дня Полу надлежало не оспаривать факт самоубийства Марка, равно как и добровольного ухода из жизни преподавателя лингвистики Федерико Канали, который скорее всего утонул в реке Арно, что, впрочем, не могло быть подтверждено со стопроцентной уверенностью, потому что тело его так и не было найдено. Пол обязан был забыть о многолетней дружбе, связывавшей троих молодых людей, которые, кстати, как он должен был зарубить себе на носу, никогда не ездили на Гаити, ни вместе, ни поодиночке.
Пол уезжал из Флоренции с чистой совестью. Перед отъездом он проводил в аэропорт Ласло, который заказал себе билет на рейс в Будапешт. Таким образом Ласло выполнял навязанное ему Антонио условие никогда больше не появляться в столице Мексики. Горькую пилюлю запрета Антонио подсластил весьма значительной суммой денег, которых, по его мнению, адвокату должно было хватить до конца его дней, причем хватить на безбедную жизнь, включая удовлетворение самых порочных прихотей, свойственных, как заявил молодой человек, извращенной натуре адвоката. Выбравшись из подземелья и покинув кладбище, Ласло постепенно пришел в себя, и это наполнило душу Пола надеждой, что со временем венгр полностью поправится и будет жить нормальной полноценной жизнью.
Ни о какой близости с Коломбиной не могло быть и речи. Прощаясь, она ясно дала понять англичанину, что больше они никогда не увидятся. Тот, к своему удивлению, почти не расстроился: ему не то чтобы не было жаль прощаться с девушкой, но он просто был уверен, что теперь ему не составит особого труда вновь встретиться с нею, совершив путешествие за край реальности, не выходя из собственного дома. Он понимал, что с этого дня мертвецы станут неотъемлемыми спутниками его жизни, как в том, уже далеком, видении.
К тому времени, как под крыльями самолета замелькали бетонные плиты взлетно-посадочной полосы лондонского аэропорта Лутон, Пол твердо решил для себя никогда больше не иметь ничего общего с кем бы то ни было из семьи Слиммернау. В первую очередь это касалось Ады Маргарет. От этой женщины он хотел держаться подальше. Полу было ясно, что под маской актрисы в ней скрыта жрица какого-то чудовищного, кровожадного культа. Носатый череп питал ее особой силой и продлевал до бесконечности ее вечно юное существование на земле. Люди, подобные ей, не могут жить без сцены: обычная жизнь без игры и лжи невыносима для них. Лишенные возможности принимать участие в спектакле, имя которому – жизнь, они быстро покидают список действующих лиц, уходя в другой мир. Актеры, потомки Гая Фокса, из века в век несли семейное проклятие: каждый год им приходилось сжигать символическое изображение одного из далеких предков. Этот обряд, ставший со временем общенациональной традицией, питал всепожирающим огнем ту самую адскую бездну, которой так боятся обычные люди. При этом, за исключением немногих потомков человека, имя которого стало символом предательства, никто из участвующих в празднике всесожжения даже не подозревал, какие черные силы обретают новую энергию во время огненного праздника.
В хижину старухи Лурдель входит китаец Андре, сопровождая нового посетителя. Вполне возможно, покупателя, который заплатит дорого и не будет долго торговаться. Китаец по-восточному непроницаемо улыбается и причесывается, глядя в висящее на двери зеркало. Посетитель – богатый мужчина с другого берега моря. Он ищет что-то новое и необычное, какой-нибудь фетиш или иллюзию, которая сможет оживить его скучное существование. Он ничего не боится, он смело шел по темным портовым переулкам; его уже трижды вырвало, но он все еще требует подать рому. Он много читал о пиратах и авантюристах, которые пускались в опасные путешествия по еще не покоренным морям и океанам к неведомым землям.
Лурдель приглашает его войти и предлагает покурить сушеные банановые листья. Тем временем она раскладывает на кухонном столе свои сокровища. Сегодня на прилавке выложены четыре человеческие кости, разбитые очки, нож моряка и акулий зуб с пятнами креольской крови. Турист просто бредит мулатками, и Лурдель, женщина далеко не старая, наклоняется к столу и как бы невзначай проносит свою еще пышную и крепкую грудь перед глазами покупателя.