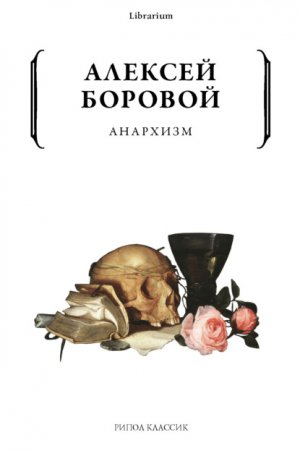
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022
Моя свобода – в свободе и радости других.
А. Боровой
Петру Алексеевичу Кропоткину с чувством уважения.
Автор
Предисловие
Многим анархистам эта книга покажется еретической. Особенно потому, что она принадлежит испытанному и убежденному анархисту.
Быть может, в глазах некоторых еретический дух автора будет наоборот лучшим свидетельством подлинности его анархизма.
Современный анархизм все еще являет собой, по верному выражению Грава, «хаос идей».
И этот хаос питается не случайными разногласиями отдельных утверждений. В анархизме сливаются самые разнообразные, самые противоречивые и даже враждебные упования.
Какое возможно примирение между коммунизмом Кропоткина и мютуализмом Прудона? Между Тэкером и Гравом? Мостом и Бруно Вилле? И разве не называют анархистами Штирнера и Ницше, Гюйо, Толстого?
Разве мы не знаем той глубоко пренебрежительной ноты, которая всегда звучит в отношении «коммунистического» анархизма к анархизму «индивидуалистическому» или «аморфному»? Разве мы не знаем, наоборот, что индивидуалисты отказываются даже называть анархизмом коммунизм, видя в нем лишь своеобразную разновидность социализма?
Эта книга посвящена по преимуществу общей характеристике и пересмотру основных положений «традиционного анархизма». Под последним я склонен разуметь то господствующее в современном анархизме коммунистическое течение, которое представлено именами Бакунина, Кропоткина, Грава, Малатесты и других.
Правда, и в этом «традиционном анархизме» наметились как будто два самостоятельных потока.
Наряду со старым анархизмом бакунинской складки, упрямо верившим в свою анархистскую «догму», видевшим в анархизме лишь стихию разрушения и пренебрежительно отмахивавшимся от организации и организационной дисциплины, народился новый, который некоторые зовут «ревизионистским» и который на первое место в революционном творчестве выдвигает сознание масс, зовет к организации «низов», умеряет былую стихийность планомерной деятельностью класса.
Однако обособление между обоими потоками еще неполно и случайно. Старый анархизм – особенно в лице Бакунина – также любил говорить о творчестве «масс». В свою очередь, новый анархизм не отказывается и не может отказаться от роли инициативного меньшинства. Притом эти различия коренятся по преимуществу в плоскости методов анархизма.
Основные же проблемы анархизма – отношение его к личности и творческой силе разума, к принуждению и праву, идеалу и компромиссу, – трактуются и здесь и там совершенно одинаково.
Есть уже определенная «традиционная» догма анархизма, как будто обязательная для «анархиста», не допускающая критики.
Эта безжизненная догма есть самый страшный враг анархизма, разъедающий его изнутри, толкающий его к противоречиям, склоняющий его к сомнительным союзам.
В отрицании этой догмы в ее основных социально-философских истоках – внутренний пафос этой книги.
Когда-то в другом месте я писал: критическая работа, исполненная анархизмом, колоссальна. Он перевернул все точки отправления и официальных и непризнанных общественных философий. Впервые в ослепительно-яркой картине развернул он мощь и богатство человеческой природы. Безграничное развитие человеческого духа, нестесняемое никакими внешними преградами и условиями, такова была социально-философская программа, которую он начертал на своем знамени. Но рядом с этой грандиозно поставленной задачей еще более бросается в глаза убогое нищенство тех средств, которыми пытался провести он свою программу в жизнь. Называя себя эволюционистами, анархисты мечтают о совершенном анархическом строе, который может прийти завтра. А экономические их построения, несмотря на кажущуюся серьезность, постоянно сбиваются на старый утопический лад.
Эта характеристика в ее общих основаниях и сейчас мне представляется правильной.
И анархизм должен найти в себе мужество пред лицом своих друзей и своих врагов признать свои слабые стороны.
Анархизм – мировоззрение, исполненное такой силы и жизни, которое устоит перед любой критикой, которому нечего страшиться.
Автору дороги многие иллюзии. И когда-то он им щедро отдал дань.
Но… как ни сладостна иллюзия, когда сознан ее обман, хотя бы «возвышающий», она теряет если не прелесть, то силу убедительности. И если мы почувствовали, что иллюзии, одаривая нас на мгновения призраком свободы, ведут нас к рабству, мы – мы, анархисты – должны иметь мужество отбросить их. Пусть будет это новая иллюзия! Мы переживем ее в себе как крик жизни, как зов свободы.
Настоящая книга, написанная в исключительно неблагоприятных для автора условиях, есть вступление к другой – более углубленной и отвлеченной работе.
Она – попытка изложить в популярной форме долголетние размышления над природой анархизма.
Моя дорога не была простой и ровной. Я шел одиноко и своим путем. У меня не было союзников – я боялся их. Есть искания слишком интимные, в которых необходимо остаться одному. И это, вероятно, обусловило многие ошибки. Но любовь к анархизму – для меня выше ложного самолюбия.
Первоначальным пунктом моих анархистических исканий было утверждение «абсолютного индивидуализма» («Общественные идеалы современного человечества»). Это – полоса гимнов «самодовлеющему человеку» и отрицания «социального». Но скоро я почувствовал тщету – подвести социологический фундамент там, где упразднялось «социальное», воздвигнуть штирнерианский купол на марксистской базе.
В органической связи с этим мировоззрением находился и следующий этап моего анархистского «развития» – апофеоза «дерзания» и «революционаризма» как абсолютной самоцели («Революционное миросозерцание»).
Позже, как и для многих, началась эра преодоления марксизма. Знакомство сперва с теоретиками революционного синдикализма, а позже – непосредственно с самим движением во время эмиграции (1911–1913) поколебало для меня «марксизм», несмотря на все усилия «неомарксистов» спасать все еще «священные» в глазах их позиции исторического материализма.
Увлечение Бергсоном и занятия над разнообразными практическими формами движения, разлагающего рационализм, движения, которое с такой остротой дало себя чувствовать в начале XX столетия, привели меня к окончательному утверждению того анархистского миросозерцания, беглый очерк которого дан в этой книге. (Сюда же относятся «Революционное творчество и парламент», мои публичные лекции: в Париже – «Разложение рационализма во Франции. Революционный синдикализм и философия Бергсона», в России – «Революционный синдикализм», «Класс и партия», «Анархизм как свободное творчество».)
Эта книга стремится быть свободной от фетишизма.
Автору одинаково далеки: и те, кто клянется Евангелием Христа, и те, кто клянется на «Капитале» Маркса. Ему равно чужды и марксистское обожествление прогресса производительных сил, и сладкие леденцы народничества.
Ни «массы», ни «народ», ни «пролетариат», ни «класс» не являются для него абсолютами. Это – формы, в которых могут жить разные степени нравственного самосознания. В них может так же говорить дух анархизма, как и дух погрома. Какие бы лики ни принимал деспотизм – лик абсолютного самодержавия или пролетарской диктатуры, как и где бы ни судил он своих врагов – в военно-окружных застенках или революционном трибунале, кто бы ни учинял во имя его и именем его насилия – наемные жандармы или наемная гвардия – анархизм будет и должен биться с ним, ибо они непримиримы.
В основу анархического мировоззрения может быть положен лишь один принцип – безграничного развития человека и безграничного расширения его идеала.
Анархизм не знает и не может знать того последнего, «совершенного» строя, успокаивающего все человеческие запросы, отвечающего на все его искания, о котором грезили и грезят утописты.
Сущность анархизма – в вечном беспокойстве, вечном отрицании, вечном искании. Ибо в них – свобода и правда. Успокоение – есть смерть анархизма, возведение временного и относительного на степень абсолюта.
Наконец для анархизма никогда и ни при каких условиях не наступит полная гармония между началом личным и общественным. Их антиномия неизбежна. Но она – стимул непрерывного развития и совершенствования личности, отрицания всех конечных общественных идеалов.
Настоящая книга есть попытка порвать с рационализмом «традиционного анархизма».
Последний, в лице лучших представителей его, оставляя в стороне частные противоречия, – есть рационалистически построенное учение (теория анархизма), из которого делаются романтические выводы (его тактика).
По моему убеждению, анархизм есть романтическое учение, враждебное «науке» и «классицизму», но тактика его должна быть реалистической. Под романтизмом я разумею торжество воли и чувства над «разумом», над отвлеченными «понятиями» с их убийственным автоматизмом, триумф живой, конкретной, своеобразной личности.
Непримиримое отношение к закоченевшей догме, не знающая граней смелость творческого взлета и мудрое – полное любви к свободе других – самообладание в выборе средств – таковы принципы, светящие моему анархизму.
А теперь…
А. Б.
Москва
Январь 1918 г.
Введение
Есть ли в области наших современных социально-политических представлений другое понятие столь неопределенное, противоречивое и вместе волнующее всех, как анархизм?
То исполненный неодолимого соблазна, то полный ужаса и отвращения, синоним совершенной гармонии и братского единения, символ погрома и братоубийственной борьбы, торжество свободы и справедливости, разгул разнузданных страстей и произвола стоит анархизм великой волнующей загадкой и именем его равно зовут величайшие подвиги человеколюбия и взрывы темных низменных страстей.
И анархизм, утверждающий свободу, бьющийся против любой формы деспотизма, какой личиной бы он ни прикрывался, не может не встать против чудовищных искажений его, против смешения революционного творчества с погромом, анархического бунтарства с разнузданной пляской дикарей.
В чем источник этих произвольных, противоречивых толкований анархизма?
1. Прежде всего, всякая социально-политическая мысль не укладывается целиком, без остатка в готовые, законченные формулы.
Жизнь так полна, гибка, разностороння, что никакие догматические путы не могут сковать надолго свободы ее устремлений. Стихийно перерастает она самые смелые измышления отдельных мудрецов, отметает изжитое, старое, хоронит законы и теории, не считаясь с логической их стройностью и совершенством их конструкций.
2. Вопреки еще всеобщим убеждениям, социально-политическое мировоззрение есть не столько плод отвлеченных спекуляций, истина, добытая «разумом», сколько предмет веры, обусловливаемой глубоким своеобразием личности.
В каждом человеческом существе – и чем богаче индивидуальность, тем с большей силой сказывается это, – живет всегда предрасположение к восприятию и усвоению известных истин. Оно может быть модифицируемо временем и местом, средой, модой, но психофизическое своеобразие индивидуальности – главный его источник. Не выражаемое в понятиях логики, оно стоит за внешней аргументацией и оно решает дело.
Гражданин современного культурного общества может свободно черпать полными руками из богатейших сокровищниц человеческой мысли. Разнообразные мировоззрения, близкие и враждебные друг другу, равно представлены с великим блеском и талантом и, тем не менее, помимо внешних, очевидных всем причин, есть внутренние, не поддающиеся учету, властно влекущие нас к принятию и исповеданию одной истины и столь же страстному отрицанию другой. Никогда еще ни один религиозный толк, ни одно философское учение, ни одно социально-политическое учреждение не соединяли всех людей. Это невозможно и не нужно. Именно это отсутствие одной веры в человечестве есть лучшее свидетельство многогранности человеческой природы и вместе безнадежности претензий со стороны лица, партии, класса, государства, народа сказать всю истину.
3. Анархизм не имел еще исторического опыта. Можно говорить об истории анархической мысли, об истории анархистских групп, колоний, отдельных начинаний, но о социальном опыте анархизма говорить еще преждевременно.
Консерватизм и либерализм как формы социально-политического мышления имеют глубокие жизненные корни. Не келейные размышления ученых, не диспуты передовых кружков их породили, но реальные жизненные интересы. Из стадии отдельных дерзаний давно перешли они в форму практического опыта, определили политику классов, не раз в свои руки брали решение судеб целых народов; словом, имели долгую и сложную историю.
Со второй половины XIX столетия мы можем говорить уже не только о социалистическом мировоззрении, но и о социалистической практике. Теоретические постулаты социализма стали воплощаться в реальной политике пролетариата. И ныне мы имеем уже обширный социалистический опыт, ибо под флагом социализма складывается целый ряд современных рабочих партий.
Анархизм реальной политикой еще не был. Отдельные страницы Интернационала, кружки, интеллигентские колонии, да кое-какие факты в истории рабочего и особенно крестьянского движения, – вот все, что может быть названо собственно анархическим опытом. Традиционное отвращение к «организованности» и «коллективной дисциплине» мешали анархизму играть в развитии рабочего движения хоть сколько-нибудь заметную роль. Анархо-синдикализм – явление последних лет, и в истории анархизма он открыл совершенно новую страницу.
4. Необходимо наконец еще иметь в виду специфическую анормативность как самого анархистского мышления, так и анархистского поведения.
Социально-политическая философия либерализма и социализма строится на признании определенных закономерностей. Рождение и развитие классового самосознания являются для них продуктом определенных исторических предпосылок.
Наоборот, анархизм, даже вопреки заявлениям его вождей – Бакунина, Кропоткина и др. – был всегда вне историзма, являясь в своих социологических концепциях методологическим наследником рационалистических учений об «естественном состоянии», «естественном человеке», «естественном праве». В его утверждениях общество не имело самостоятельного существования; оно механический агрегат свободных самоопределяющихся «индивидов».
Анархизм не был и до последнего времени не претендовал быть философией класса. Он был философией творчески самоопределяющейся личности. Он не знал обязывающих личность формул, признавая за каждой ничем не ограниченное право критики.
Отсюда та безграничная пестрота заявлений отдельных направлений, течений в анархизме или даже отдельных анархистов, которая с трудом позволяет установить хотя бы основные линии общего им всем миросозерцания.
Что же касается «правил» поведения, то фактически доныне таковых не было и нет.
Таковы общие причины, препятствовавшие и продолжающие еще препятствовать уяснению природы анархизма, установлению его конститутивных признаков.
Сознавая трудности взятой на себя задачи, мы тем не менее попробуем в дальнейшем изложении охарактеризовать все основные элементы, слагающие анархистское мировоззрение.
Глава I. Анархизм и абсолютный индивидуализм
Анархизм есть апофеоз личного начала. Анархизм говорит о конечном освобождении личности. Анархизм отрицает все формы власти, все формы принуждения, все формы внешнего обязывания личности. Анархизм не знает долга, ответственности, коллективной дисциплины.
Все эти и подобные им формулы достаточно ярко говорят об индивидуалистическом характере анархизма, о примате начала личного перед началом социальным, и тем не менее было бы огромным заблуждением полагать, что анархизм есть абсолютный индивидуализм, что анархизм есть принесение общественности в жертву личному началу.
Абсолютный индивидуализм есть вера, философское умозрение, личное настроение, исповедующие культ неограниченного господства конкретного, эмпирического «я».
«Я» существую только для себя и все существует только для «меня». Никто не может управлять «мною», «я» могу пользоваться и управлять всем.
«Я» – перл мироздания, драгоценный сосуд единственных в своем роде устремлений, и их необходимо оберечь от грубых поползновений соседа и общественности. «Я» – целый, в себе замкнутый океан неповторимых стремлений и возможностей, никому ничем не обязанных, ни от кого ничем не зависящих. Все, что пытается обусловить мое «я», посягает на «мою» свободу, мешает «моему» полному господству над вещами и людьми. Ограничение себя «долгом» или «убеждением» есть уже рабство.
Красноречивейшим образцом подобного индивидуализма является философия Штирнера.
По справедливому замечанию Штаммлера, его книга – «Единственный и его достояние» (1845) – представляет собой самую смелую попытку, которая когда-либо была предпринята – сбросить с себя всякий авторитет.
Для «Единственного» Штирнера нет долга, нет морального закона. Признание какой-либо истины для него невыносимо – оно уже налагает оковы. «До тех пор, пока ты веришь в истину, – говорит Штирнер, – ты не веришь в себя! Ты – раб, ты – религиозный человек. Но ты один – истина… Ты – больше истины, она перед тобой – ничто».
Идея личного блага есть центральная идея, проникающая философию Штирнера.
«Я» – эмпирически – конкретная личность, единственная и неповторимая – властелин, пред которым все должно склониться… Нет ничего реального вне личности с ее потребностями, стремлениями и волей. Вне моего «я» и за моим «я» нет ничего, что бы могло ограничить мою волю и подчинить мои желания.
«Не все ли мне равно, – утверждает Штирнер, – как я поступаю? Человечно ли, либерально, гуманно или наоборот?.. Только бы это служило моим целям, только бы это меня удовлетворяло, а там называйте это как хотите: мне решительно все равно… Я не делаю ничего „ради человека“, но все, что я делаю, я делаю „ради себя самого“… Я поглощаю мир, чтобы утолить голод моего эгоизма. Ты для меня не более чем пища, так же, как я для тебя…»
Что после этих утверждений для «Единственного» право, государство?
Они мираж пред властью моего «я»! Права как права, стоящего вне меня или надо мной, нет. Мое право – в моей власти. «…Я имею право на все, что могу осилить. Я имею право свергнуть Зевса, Иегову, Бога и т. д., если в силах это сделать… Я есмь, как и Бог, отрицание всего другого, ибо я есмь мое все, я есмь единственный!»
Но огромная внешняя мощь штирнеровских утверждений тем решительнее свидетельствует об их внутреннем бессилии. Во имя чего слагает Штирнер свое безбрежное отрицание? Какие побуждения жить могут быть у «Единственного» Штирнера? Те как будто социальные инстинкты, демократические элементы, которые проскальзывают в проектируемых им «союзах эгоистов», растворяются в общей его концепции, отказывающейся дать какое-либо реальное содержание его неограниченному индивидуализму. «Единственный» – это форма без содержания, это вечная жажда свободы «от чего», но не «для чего». Это – самодовлеющее бездельное отрицание, отрицание не только мира, не только любого утверждения во имя последующих отрицаний – это было бы только актом творческого вдохновения – но отрицание своей «святыни» как «узды и оковы», и в конечном счете отрицание самого себя, своего «я», поскольку может идти речь о реальном содержании его, а не о бесплотной фикции, выполняющей свое единственное назначение «разлагать, уничтожать, потреблять» мир.
Бездельное и безотчетное потребление мира, людей, жизни и есть жизнь «наслаждающегося» ею «я».
И хотя Штирнер не только утверждает для других, но пытается заверить и себя, что он, в противоположность «религиозному миру», не приходит «к себе» путем исканий, а исходит «от себя», но за утверждениями его для каждого живого человеческого сознания стоит страшная пустота, холод могилы, игра бесплотных призраков. И когда Штирнер говорит о своем наслаждении жизнью, он находит для него определение, убийственное своим внутренним трагизмом и скрытым за ним сарказмом: «Я не тоскую более по жизни, я „проматываю“ ee» («Ich bange nicht mehr ums Leben, sondern „verthue“ es»).
Эта формула пригодна или богам, или человеческим отрепьям. Человеку, ищущему свободы, в ней места нет.
И нет более трагического выражения нигилизма, как философии и как настроения, чем штирнерианская «бесцельная» свобода[1].
Таким же непримиримым отношением к современному «религиозному» человеку и беспощадным отрицанием всего «человеческого» напитана и другая система абсолютного индивидуализма – система Ницше[2].
«Человек, это многообразное, лживое, искусственное и непроницаемое животное, страшное другим животным больше хитростью и благоразумием, чем силой, изобрел чистую совесть для того, чтобы наслаждаться своей душой как чем-то простым; и вся мораль есть не что иное, как сильная и продолжительная фальсификация, благодаря которой вообще возможно наслаждаться созерцанием души…» («Ienseits von Gut und Вöse», § 291).
Истинным и единственным критерием нравственности является сама жизнь, жизнь как стихийный биологический процесс с торжеством разрушительных инстинктов, беспощадным пожиранием слабых сильными, с категорическим отрицанием общественности.
Все стадное, социальное – продукт слабости. «Больные, болезненные инстинктивно стремятся к стадной организации… Аскетический жрец угадывает этот инстинкт и стремится удовлетворить ему. Всюду, где стадность, требовал ее инстинкт слабости, организовала ее мудрость жреца» («Генезис морали», § 18).
И в противовес рабам, «морали рабов» – Ницше творит свое учение о «сверхчеловеке», в котором кипит самый верующий пафос.
Из созданных доселе концепций сверхчеловека следует отметить две, полярные одна другой: Ренана и Ницше.
Первый хотел создать сверхчеловека – «intelligence supèrieure» – истреблением в человеке зверя, выявлением в нем до апофеоза всех его чисто «человеческих» свойств. Идеал Ренана – чисто рационалистический: убить инстинкты для торжества рассудка. Ренановский сверхчеловек – гипертрофия мозга, гипертрофия рассудочного начала, апофеоза учености.
Сверхчеловек Ницше – его противоположность. Ницше стремится убить в сверхчеловеке все «человеческое» – упразднить в нем проблемы религии, морали, общественности, выявить «зверя», побить рассудок инстинктами, вернуть человеку здоровье и силы, потерянные в рационалистических туманах. «Мы утомлены человеком», – говорит он (Там же, § 12).
И он поет гимны – силе, насилию, власти.
«Властвующий – высший тип!» («Посмертные афоризмы», § 651.) Он приветствует «хищное животное пышной светло-русой расы, с наслаждением блуждающее за добычей и победой» («Генезис морали», § 11), «самодержавную личность, тожественную самой себе… независимую сверхнравственную личность… свободного человека, который действительно может обещать, господина свободной воли, повелителя…» (Там же, отд. 11, § 2). «Могущественными, беззаботными, насмешливыми, способными к насилию – таковыми хочет нас мудрость: она – женщина, и всегда любит лишь воина!» («Так говорил Заратустра».)
Ницше не боится рабства. «Эвдемонистически-социальные идеалы ведут человечество назад. Впрочем, они… изобретают идеального раба будущего, низшую касту. В ней не должно быть недостатка» (Приложение к «Заратустре», § 671).
Но стоит сопоставить гордые формулы самоутверждения с их подлинно реальным содержанием и мы перед зияющим противоречием.
Вместо сильного, этически безразличного «белокурого зверя» мы видим тоскливо мечущееся обреченное человеческое существо, готовое на жертвы, мечтающее о смерти – победе, как желанном конце.
«Велико то в человеке, что он – мост, а не цель… Что можно любить в нем, это то, что он – переход и падение…»
«Выше, нежели любовь к ближнему, стоит любовь к дальнему и будущему: еще выше, чем любовь к людям, ценю я любовь к вещам и призракам», – вдохновенно учил Заратустра.
В этих словах – основы революционного миросозерцания. Любовь к дальнему и будущему, любовь к «вещам» – высшая мораль творца, перерастающая желания сегодняшних людей, отвергающая уступки времени и исторической обстановке.
«Не человеколюбие, – восклицает Ницше, – а бессилие человеколюбия препятствует миролюбцам нашего времени сжечь нас» («По ту сторону добра и зла», § 104).
Так спасение духа становится выше спасения плоти. Нет жертв достаточных, которых нельзя было бы принести за него, и нет для спасения духа бесплодных жертв. Они не бесплодны, если гибнут во имя своего идеала. Бесплодные сейчас – они не бесплодны для будущего. На них строится будущее счастье, будущие моральные ценности. Эти жертвы – жертвы любви к дальнему, любви к своему идеалу, и в их трагической гибели – залог грядущего высшего освобождения человеческого духа.
«Я люблю тех, – говорил Заратустра, – кто не умеет жить, их гибель – переход к высшему». «Я люблю того, у кого свободен дух и свободно сердце; его голова – лишь содержимое его сердца, а сердце влечет его к гибели». «Я люблю того, кто хочет созидать дальше себя и так погибает». «Своей победоносной смертью умирает созидающий, окруженный надеющимися и благословляющими… Так надо учиться умирать… Так умирать – лучше всего, второе же – умереть в борьбе и расточить великую душу…» («Так говорил Заратустра»).
В этом трагическом стремлении к гибели заключен высший возможный для человека нравственный подвиг; это не штирнеровское «проматывание» жизни! Но как согласить это вдохновенное ученье со стремлением вымести из человека все «человеческое»!
Не прав ли Фуллье, что «пламенное прославление страдания, как бы прекрасно оно ни было в смысле морального вдохновения, малопонятно в доктрине, не признающей никакого реального добра, никакой истинной цели, по отношению к которым страдание могло бы служить средством».
И другое неизбежное противоречие – между отвращением к стадности и жаждой быть учителем и пророком – раздирает учение философа.
Пусть говорит он о «пустыне», пусть агитатора называет он «пустой головой», «глиняным горшком», пусть заявляет он, что «философ познается бегством от трех блестящих и громких вещей: славы, царей и женщин…», но разве не зовет к себе всех «пресыщенный мудростью» Заратустра, чтобы оделить своими дарами?
И подлинный ужас встает, когда проповедник сверхчеловечества признается в интимнейших своих чувствах, которые не суждено слушать «толпе»: «Мысль о самоубийстве – сильное утешительное средство: с ней благополучно переживаются иные мрачные ночи» («По ту сторону добра и зла», § 157).
Это – гибель всего мировоззрения!
Начать с гордых утверждений полного самоудовлетворения в одиночестве и кончить школой, любовным подвигом, трагической гибелью и трусливым бегством из жизни. Разве это не целая последовательная гамма разочарований…
Штирнерианство – бесплодное блуждание в дебрях опустошенной личности, ницшеанство – скорбный клик героического пессимизма.
Последовательный индивидуализм неизбежно приводит к солипсизму, то есть к признанию конкретным «я» реальности только своего существования, к утверждению всего существующего только как своего личного опыта. «Я» – Абсолют, Творец всего; остальной мир – фантом, продукт моего воображения.
Солипсизм есть категорическое упразднение всего социального.
Анархизм и абсолютный индивидуализм могут быть названы антиподами.
Анархизм есть также культ человека, культ личного начала, но анархизм не делает из эмпирического «я» центра Вселенной.
Анархизм обращается ко всем, к каждому человеку, к каждому «я». И если не каждое «я» равно драгоценно для анархизма, ибо и анархизм не может не делать различий между подлинно свободным человеком и насильником, пытающимся строить свою свободу на порабощении другого, то каждое «я» – и малое, и большое – должно быть для анархизма предметом равного внимания, каждое «я» имеет равное право для выявления своей индивидуальности, каждое «я» должно быть обеспечено защитой от посягательств другого «я».
И если абсолютный индивидуализм стремится утвердить свободу только данного конкретного «я», анархизму дорога свобода всех «я», дорога свобода человека вообще. Абсолютный индивидуализм не только мирится с рабством других, но или относится к нему безразлично или даже ставит его в угол своего благополучия. Анархизм и рабство – непримиримы. Общество, построенное на привилегиях и ограничениях – несвободно. Там, где есть рабы, нет места свободным людям.
«Я истинно свободен, – писал Бакунин, – если все человеческие существа, окружающие меня, мужчины и женщины, точно также свободны. Свобода других не только не является ограничением, отрицанием моей свободы, но есть, напротив, ее необходимое условие и подтверждение. Я становлюсь истинно свободен только через свободу других… Напротив того, рабство людей ставит границу моей свободе…» («Бог и Государство»).
Анархизм поэтому чужд солипсизму. Для него равно реальны все люди, для него, наоборот, ирреален тот эгоцентризм, то выделение и чудовищная гипертрофия личного «я», личного начала, которые порождает абсолютный индивидуализм.
Также различны они – анархизм и последовательный индивидуализм – и в области практической деятельности.
Абсолютный индивидуализм не знает методов социального действия. Он не имеет социально-политических программ, не собирает партий, не образует союзов.
Чистый индивидуализм, который во всем окружающем, не исключая людей и разнообразных форм человеческого общения, видит только средство удовлетворения своих эгоцентрических стремлений, относится с полным безразличием к отдельным типам организованной общественности, к отдельным политическим формам.
Социально-политический прогресс для него не существует, ибо общественные симпатии его к тому или другому бытовому укладу обусловливаются не соображениями общего блага, обеспечения справедливости, утверждения свободы и т. п., но исключительно личными вкусами. И в этом смысле античное государство с институтом рабства, феодализм и крепостничество, вольный город и цеховая регламентация, буржуазное правовое государство, социалистический строй, анархистическая община – для него совершенно равноценны.
Требуя неограниченной свободы для себя, он отдает свои симпатии Платоновскому «Государству мудрых», мандаринату, диктатуре, – аморфному, ничем не связанному «союзу эгоистов». Его не смущают одиозные привилегии или моральные несовершенства излюбленного им строя. Насилие, хищничество, закабаление – все средства хороши для достижения главной цели: утверждения своего неограниченного господства, торжества своей воли. Слабому, темному, погибающему – противопоставляются «Я», герой, великий человек, сверхчеловек. «Целые расы могут послужить навозом для великих», – писал Стриндберг. «Весь мир, – говорит философ Эмерсон, – должен стать питомником великих людей».
Анархизм есть не только социальная теория. Он также социальная практика. Анархизм утверждает и ищет практические методы социального действия.
Несмотря на непримиримые противоречия между отдельными течениями анархистской мысли, есть своеобразная программа-minimum, объединяющая все оттенки анархизма. И эти принципы обусловливают и его тактику.
В ряду этих принципов, прежде всего, отрицание – отрицание власти, принудительной санкции во всех ее формах, а следовательно, всякой организации, построенной на началах централизации и представительства. Отсюда отрицание права и государства со всеми его органами.
В области собственно политической – отрицание политических форм борьбы, демократии и парламентаризма.
В области экономической – отрицание капитализма и всякого общественного режима, построенного на эксплуатации наемного труда.
Наконец анархизм в новейших стадиях его развития приходит к убеждению, что революция вообще и анархическая в частности не декретируется «верхами», революционным правительством и не срывается «сознательным инициативным меньшинством» или случайной кучкой «заговорщиков», не совершается «низами», являясь творческим выражением «бунта», идущего непосредственно из «массы». Но дух «созидающий», в отличие от духа «погромного», может найти себе выражение не в случайных и «бесцельных» взрывах толпы, но в свободной ассоциации, поставившей сознательно определенные цели в духе анархического мировоззрения. Отсюда анархизм понимает социальное творчество как самодеятельность заинтересованного класса.
Классовая аполитическая организация является поэтому не только лучшей, но и единственно моральной и технически целесообразной формой анархического выступления. Акты «одиночек» и «кучек» могут в известных случаях иметь педагогическое значение и могут быть нравственно оправданы, но к ним сводить всю анархистическую тактику – значило бы обречь ее на полное бесплодие.
Так анархизм из бунтарского настроения личности преобразуется постепенно в организованный революционаризм масс.
Теперь должно быть ясно коренное различие между абсолютным индивидуализмом и анархизмом.
Первый – есть настроение свободолюбивой личности, ни к чему ее не обязывающее и потому, по существу, безответственное. Второй – социальная деятельность, строящаяся на исповедывании определенных принципов и влекущая для каждого деятеля моральную ответственность.
Первый ведет к установлению власти, усилению гнета, второй несет в себе подлинно освобождающий смысл. Первый предполагает освобождение единиц за счет общественности, второй освобождает личность через свободную общественность[3].
Наконец чистый индивидуализм, как на это неоднократно указывалось, антиномичен, т. е. внутренне противоречив и неизбежно ведет к самоотрицанию.
У сильной индивидуальности безграничная свобода, бесспорно, является стимулом к чрезвычайному развитию личной мощи за счет слабых индивидуальностей. Это неизбежно должно повести к своеобразному «аристократическому» отбору, который для обеспечения своей свободы и безопасности порабощает все окружающее. Но, с одной стороны, устранение борьбы и мирное пользование неограниченной властью ведет неизбежно к вырождению избранных и преобразует в последующих поколениях силу в слабость, с другой, вызывает в порабощенных дух протеста против ослабевшего властителя и зовет их к борьбе, неизбежно кончающейся поражением поработителя. Эту мысль прекрасно выразил Зикмель: «…аристократы, выделившиеся из общего уровня, на некоторое время создают для себя особый высший уровень жизни. В новой обстановке они, однако, постепенно утрачивают жизнеспособность, между тем как масса, пользуясь выгодами большого числа, ее сохраняет».
Так неограниченный индивидуализм, отрицающий свободную общественность, неизбежно приходит к вырождению и самоотрицанию.
Глава II. Анархизм и общественность
Личность есть центр анархического мировоззрения. Полное самоопределение личности, неограниченное выявление ею своих индивидуальных особенностей – таково содержание анархистского идеала.
Но личность немыслима вне общества. И анархизму приходится решать проблему – возможно ли как возможность такое общество, которое бы цели личности сделало своими целями, которое утвердило бы полную гармонию между индивидуальными устремлениями личности и задачами общественного союза и тем самым осуществило бы наконец мечты хилиазма.
Анархизм может решить эту проблему только в смысле отрицательном.
Такое общество невозможно.
Исторически и логически антиномия личности и общества неустранима. Никогда, ни при каких условиях не может быть достигнута между ними полная гармония. Как бы ни был совершенен и податлив общественный строй – всегда и неизбежно вступит он в противоречие с тем, что остается в личности неразложимым ни на какие проявления общественных чувств – ее своеобразием, неделимостью, неповторимостью.
Никогда личность не уступит обществу этого последнего своего «одиночества», общество никогда не сможет «простить» его личности.
Стремление всегда вперед и всегда дальше есть удел личности, и представление о такой общественной организации, которая видимым своим совершенством могла бы убаюкать это стремление – было бы вместе убеждением в возможности духовной смерти личности.
Для анархиста подобное представление невозможно. Постоянное, непрерывное, ни извне, ни изнутри не ограничиваемое устремление личности к самоосвобождению есть основной постулат анархизма.
Именно здесь – на пути к свободному творчеству личности – и встают те мощные препоны, которые создает организация общественности, порождаемой бессознательно стихийно инстинктом самосохранения.
И принадлежа общественности одними сторонами своего существования, личность освобождает другие, которые служат только индивидуальным ее запросам.
Бросим беглый взгляд на характер соотношений между личностью и обществом.
В известном, занимающем нас смысле, можно утверждать, что вся человеческая история – есть история великой тяжбы между личностью и обществом, история систематического закрепощения личности, извращения ее оригинальных задач, подчинения ее интересов и нравственных запросов интересам и нормам общественности.
И потому – в античном, феодальном и современном буржуазном строе личность и общество всегда – то открыто, то замаскированно – вели беспощадную борьбу.
И в этом неравном единоборстве доселе жертвой была личность.
Как будто с этими утверждениями не вяжутся ее триумфы, поднятие вождей на щиты, реформирующее влияние «избранников» на общественные нравы? Эти успехи были призраком, обманом…
Организатор – вождь, даже с неограниченными полномочиями в руках, был всегда «слугой» возглавляемой иди группы; он был вождем лишь до тех пор, пока хотел или умел следовать инстинктам и вожделениям руководимой им среды. Когда вождь становился слишком «индивидуален» для толпы, для многоголового суфлера, назревал конфликт. И падал вождь!
Так было на всех ступенях развития человеческого общества. И чем более усложняется человеческий механизм, тем более как будто растет зависимость отдельной личности от общества. Тысячи цепей – семейных, служебных, профессиональных, союзных, государственных, опутали ее. Тысячи паразитов стоят на дороге ее творческим устремлениям. И кажется, никогда еще антагонизм между личностью и обществом не достигал такой остроты, как в наше время.
И тем не менее анархизм не только не есть отрицание общественности, как полагают многие, но, наоборот, самая пламенная ее защита.
Пересмотрим хотя бы бегло аргументы против общественности и за нее.
1. Наиболее распространенным и веским соображением против общественности было указание, что все известные нам доселе исторические формы общественности ограничивали личность, не давая полного простора ее устремлениям.
Организованное общежитие есть всегда некоторый компромисс разнородных индивидуальных воль. Личность должна, вынуждена поступиться чем-то «своим», чтобы послужить «общему благу». Каждый жертвует частью своей личной свободы, чтобы обеспечить свободу общественную.
Общество неизбежно вырабатывает свою волю, не совпадающую с волей отдельных индивидуальностей, ставит цели, далекие, быть может, целям, принадлежащим личности, избирает средства к осуществлению целей, отвергаемых индивидуальностью.
И вот открывается мучительный процесс приспособления, когда индивидуальность бывает вынуждена поступиться самым дорогим для нее, единственно важным и святым, затаить свою правду, чтобы не породить диссонанса «средней», которую властно диктует общественный союз, стоящий над личностью.
Правда, «общий уровень» масс повышается с чрезвычайной быстротой, но все же, по наблюдению социологов, его рост относительно отстает от роста индивидуальности.
В современных условиях общественности личность развивается, усложняется, дифференцируется несравненно быстрее, чем дифференцируется целое общество, масса, народ. Пропасть, делившая некогда господ и рабов, уже той пропасти, которая разделяет современную, утонченную в интеллектуально-моральном смысле индивидуальность от массы, несмотря на огромный бесспорный прогресс также в социально-экономической области, как и в области просвещения.
Вожди и народ стояли прежде психически ближе друг к другу, чем ныне. И это справедливо не только в применении к вождям, но и к целым классам современности. Не говоря о первобытной общине, феодал Средневековья был ближе по кругозору, настроениям и вкусам к крепостному, чем современный банкир к рабочему, мелкому конторщику, или своему лакею.
И современное общество, невзирая на все его социально-политические, экономические, технические завоевания, является более тяжкой формой гнета для отдельной личности, чем какое-либо из ранее существовавших обществ.
Оно торжество «золотой средины». Деспотически подчиняет оно своим велениям даже выдающуюся индивидуальность.
2. Помимо того, что подобное систематическое давление общественности на личность выражается в неизбежном понижении интеллектуального уровня членов общественного союза, ибо высочайшие духовные запросы индивидуальности могут остаться без удовлетворения, раз они идут вразрез с более властными запросами середины, необходимо еще иметь в виду, что самые общественные цели примитивнее, проще целей индивидуальных.
Личность бесконечно более сложна в ее оригинальных устремлениях, чем общество, неизбежно ставящее себе ближайшие, более грубые, более доступные цели. Общественные цели могут легко стать целями даже и выдающейся личности. Но скольким целям последней не суждено долго, а может быть, и никогда стать целями общественными.