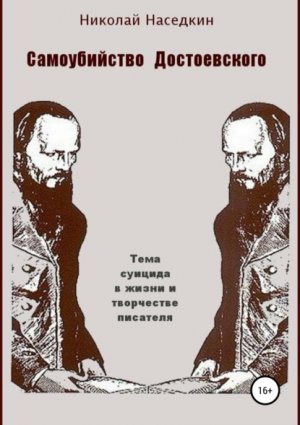
От автора
Итак – Достоевский…
Казалось бы – сколько ж можно!
В 2001 году мир отмечает 180-летие со дня его рождения и 120-летие со дня смерти. За полтора века творчество его, на первый взгляд, изучено вдоль и поперёк – добавить просто нечего. Действительно, раздел «Достоевсковедение» в мировой литературе содержит тысячи и тысячи названий – их количество не поддаётся учёту.
Но творчество Достоевского, как и любого гения, неисчерпаемо. Неисчерпаемо, как, допустим, тема любви в поэзии или как жанр романа в прозе. Да и у каждого из нас, читателей и исследователей, – свой Достоевский. За тридцать лет боления Достоевским автор, как ему кажется, обнаружил в литературе о нём и его наследии значительные лакуны. По крайней мере, тема «Суицид в жизни и творчестве писателя» ранее в такой полноте не освещалась.
Портрет, личность, биографию писателя необходимо искать, в первую очередь, в его творчестве. Этот принцип и лёг в основу данной книги. Отсюда и обилие цитат из произведений, публицистики и писем самого Достоевского, сравнительно малое количество ссылок на другие источники и почти полное отсутствие полемики. Добавим, что можно делать открытия в литературоведении, копаясь в архивах и публикуя не известные ранее тексты, а можно сказать своё, в чём-то новое, слово и – работая с каноническими текстами. Искусство здесь состоит не только в умении правильно читать-вчитываться в давно знакомые произведения изучаемого автора, но и в точном выборе цитат, их соединении, сопоставлении, столкновении, чередовании, сравнении, толковании, расшифровке… И – в точном выборе интонации. Да, бывают в исследовательской работе и открытия на уровне интонации! Главное же, может быть, открытие, сделанное автором, состоит в том, что о творчестве Достоевского можно говорить-писать нормальным языком, без излишней тягомотной наукообразности – доступно для самого широкого круга читателей.
Данная работа охватывает всю жизнь-судьбу Достоевского от первого до последнего дня и всё его творчество— от первой до последней строки. И очень важно, что ключом в исследовании служил простой принцип, о котором следует помнить и читателю, а именно: следует воспринимать героев Достоевского как живых людей, ибо безусловные гении создают не просто литературные персонажи и типы, а именно – живых, полнокровных героев.
И ещё о гениальности. Прав незабвенный Козьма Прутков – нельзя объять необъятное. Как невозможно, к примеру, создать одну-единственную и всеобъемлющую карту целой страны, так невозможно и творца уровня Достоевского, Пушкина или Толстого «втиснуть» в одну исследовательско-биографическую книгу. Именно по этой причине потерпели неудачу Л. П. Гроссман и Ю. И. Селезнёв – авторы фундаментальных по объёму и замыслу биографий Достоевского в «молодогвардейской» серии ЖЗЛ. Именно этого избежал И. Л. Волгин, создав самую адекватную на сегодняшний день книгу-исследование об авторе «Братьев Карамазовых» – «Последний год Достоевского».
Поэтому автор поставил перед собою скромную задачу: добавить в создаваемый усилиями сотен литературоведов «Атлас Достоевского» (уж продолжим аналогию-метафору!) одну тематическую «карту». И выбор темы не был случайным – отнюдь. Именно самоубийство, эта одна из самых капитальных (любимое словечко писателя) тем в жизни человечества, проходит красной нитью (канатом!) через всё творчество Достоевского. Как раз через раскрытие этой магистральной темы в творчестве раскрывается очень характерно и личность самого писателя, получает дополнительное освещение его судьба-биография.
Автор заранее благодарен всем, кто прочтёт эту книгу, и будет рад, если она поможет глубже понять творчество, жизнь и личность самого, может быть, гениального писателя из когда-либо живших на Земле.
Итак – в путь!
Введение в тему
Смерть – конец земной жизни,
разлучение души с телом.
В. И. Даль
Смерть – прекращение жизни.
С. И. Ожегов
Самоубийство – хроническая мечта Достоевского.
Она преследовала его и доставляла ему неизъяснимое наслаждение всю его сознательную жизнь. И в этом нет ничего удивительного, ибо каждый мыслящий человек хотя бы раз в жизни думал о самоубийстве, а Достоевского с его болезненной гениальностью и гиперстрастной натурой жизнь буквально на каждом шагу заставляла бросаться в бездну отчаяния, толкала-подталкивала его к суициду. Но если у подавляющего большинства состоявшихся и потенциальных самоубийц весь предварительно-подготовительный этап на пути к самоубийству остаётся скрытым от посторонних, и их внезапный конец выглядит в глазах оставшихся жить-существовать на этом свете именно внезапным, диким и не поддающимся уразумению, то у людей творческих, и в первую очередь у писателей, их подсознательное, а затем и сознательное стремление к добровольному и преждевременному уходу из жизни всегда проявляется в творчестве, прочитывается явно.
Это легко доказать на примере тех творцов, кто, по официальной и общепринятой версии, и в самом деле точку в конце своей жизни поставили сами. Возьмём Маяковского. Та же Л. Ю. Брик, одна из самых близких ему людей, настойчиво утверждала-подчёркивала, что Владимир Владимирович постоянно твердил о самоубийстве, уже совершал попытки застрелиться до рокового апрельского дня 1930 года. И это несмотря на то, что, как пишет Л. Брик: «В Маяковском была исступлённая любовь к жизни, любовь ко всем её проявлениям – к революции, к искусству, к работе, ко мне, к женщинам, к азарту, к воздуху, которым он дышал»[1][1]. Тема самоубийства проходит красной нитью и через всё творчество поэта, что убедительно доказал В. Радзишевский в статье «Маяковский был обречён раньше, чем Сталин услышал его имя»[2]. Казалось бы, дело ясное: всю жизнь мечтал-хотел застрелиться и в конце концов застрелился-таки. Однако ж, в случае с Маяковским дело осложняется тем, что в последнее время появились уж очень убедительно-аргументированные статьи-исследования об убийстве Маяковского[3]. И если это так, то убийцы поэта очень ловко использовали-обыграли суицидальный комплекс в его творчестве, заставив автора поэмы «Хорошо!» жестоко поплатиться за поэтические заигрывания с роковой темой.
Легко доказать цитатами из стихотворений и поэм Есенина, что и он вполне логично и продуманно завершил свой земной путь. Конечно, неспроста же ещё в 1916 году он восклицал: «В зелёный вечер под окном // На рукаве своём повешусь…» («Устал я жить в своём краю»). Писал-сочинял подобные строки, а потом взял, да и «в петлю слазил в “Англетере”», как не совсем удачно выразился впоследствии знаменитый бард[4]. Но если согласиться с доводами тех, кто не сомневается в насильственной смерти Есенина, то, опять-таки, убийцам подло удалось всего только потенциального самоубийцу (каковые доживают и до ста лет) представить самоубийцей состоявшимся.
Но вот что поразительно: даже самому дотошному литературовьеду, вероятно, и в голову не придёт мысль искать-исследовать мотивы самоубийства в творчестве, допустим, Лермонтова и, уж тем более, – Гоголя. А ведь эти наши достославные писатели хотя в прямом смысле слова и не наложили на себя руки, но вне всякого сомнения «намеренно лишили себя жизни», – именно так поясняется слово «самоубийство» в словаре Ожегова. Автор «Героя нашего времени», не посчитав нужным самолично приставлять дуло пистолета к собственной груди, просто заставил-вынудил сделать это подвернувшегося под руку Мартынова. Не исключено, что среди иных всяких причин выбрать именно такой романтический вид самоубийства не последнюю роль сыграло стремление пылкого поэта повторить судьбу своего старшего собрата по перу. Фантастическая строка в его знаменитом стихотворении-некрологе выдаёт Лермонтова с головой: «С свинцом в груди и жаждой мести…» Ничего себе – в груди! Пушкин был ранен в самый низ живота, почти в пах… Так что, если вспомнить лермонтовское «И скучно и грустно…» – этот гениальный гимн самоубийству, и прочитать воспоминания современников поэта, зафиксировавших обстоятельства его «дуэли» с Мартыновым, то сомнений в его преднамеренном и сознательном лишении себя жизни и быть не может. (В записной тетради Достоевского есть-имеется неосуществлённый замысел: «“Какая пустая и глупая шутка”. Самоубийца хочет убить себя, ищет места» [5].)
С Гоголем исследователи его творчества вообще запутались, зашоренные стереотипным мышлением. Почему сжёг вторую часть «Мёртвых душ»? Да, видите ли, засомневался в её художественном совершенстве, а тут ещё некий протоиерей Константиновский настоятельно посоветовал рукопись предать огню… А почему так странно повёл себя перед смертью, от пищи начал отказываться? Да просто-напросто умопомешался… Ну, а если всё же вспомнить, как Николай Васильевич настойчиво твердил-повторял, что всё его предназначение в этом миру – литература, творчество. Он искренне был убеждён, эта мысль зрела и развивалась в голове его, не могла не развиться, что непременно он сразу же умрёт, как только исполнит предначертанное ему на земле. И если это так, то не есть ли акт сожжения выстраданной и законченной рукописи актом страха и отчаяния, страстным стремлением отодвинуть финал: я ещё не закончил, не завершил свой главный труд – я начну заново!
А насчёт последних дней… Ещё в прошлом веке исследователь феномена самоубийства французский учёный Эмиль Дюркгейм в своей фундаментальной книге «Самоубийство» (о которой речь у нас впереди) констатировал: «Можно лишить себя жизни, отказываясь от принятия пищи, точно так же, как и посредством ножа или выстрела»[6]. Гоголь понимает, что совершил ужасную, трагическую ошибку, своеобразный бунт против Бога, попытавшись искусственно отодвинуть свой земной конец, и тут же, от отчаяния, совершает ещё большее преступление против Господа – пусть и в кроткой, пассивной форме, но кончает самоубийством…
Разумеется, трудно и даже невозможно иному читателю согласиться с данным утвердительным предположением. Потому что самоубийство как феномен действительности для нас, постсоветских людей – terra incognita[2]. Поразительно, но факт: в советских справочных изданиях, даже в таких солидных, как «Большая советская энциклопедия» и «Словарь иностранных слов», слово-понятие «суицид» отсутствовало. Перефразировав отца всех народов, можно сказать: нет слова – нет проблемы. Конечно, если начать разбираться всерьёз в этой чуждой догматам «Морального кодекса строителя коммунизма» теме, то, к примеру, придётся признать-согласиться, что Матросов и Гастелло жизни свои кончили самоубийством (что не умаляет их подвигов), а то и вовсе пришлось бы вести-составлять ежегодную статистику самоубийств в стране цветущего и беспроблемного социализма.
Совершенно неразрешимая загадка для любого homo sapiens’а[3] – самоубийство другого человека. Ещё неразрешимее она выглядит, когда её замалчивают. Лишь в 1989 году Госкомстат СССР впервые за 50 (!) лет опубликовал в своём сборнике статистику самоубийств: оказалось – было что скрывать. В 1975-м, например, случилось-произошло в нашей стране 66 тысяч самоубийств, в 1984-м – 81 тысяча. Это значит 30 человек из каждых ста тысяч счастливых советских людей строить дальше светлое будущее не пожелали. В то время, как во Франции самоубийц в том же 1984 году было – 22 человека на сто тысяч, в ФРГ – 21, в США – 12, в Великобритании и вовсе – 9. А во всём мире ежегодно более полумиллиона человек лишают себя жизни, число же покушавшихся на самоубийство, разумеется, в 5-10 раз больше[7].
Сначала, с непривычки, цифры только ошеломляют, а затем заставляют и задуматься. Ну вот, например, возьмём такие более точные данные: в 1975 году на сто тысяч жителей СССР было совершено 25,8 самоубийств, в 1980 – 26,9, в 1986 – 18,9, в 1989 – 25,7… Каково красноречие статистики! Сколько людей в перестроечном 1986-м вдруг обрели надежды, захотели жить, и сколько уже вскоре, в 1989-м, разочаровались-отчаялись, потеряли все и всяческие надежды.
Или взять «национально-географический» ряд цифр: в 1991 году в России покончили жизнь самоубийством 27 человек на сто тысяч жителей, в Белоруссии – 21,5, на Украине – 21,1, а вот в Азербайджане всего – 1,6[8]. Колоссальная разница!
И – таинственная, непонятная разница. Особенно для тех, кто не был знаком с уже упоминаемым капитальным трудом Э. Дюркгейма «Самоубийство». А читали-знали его разве что наши прадеды: «социологический этюд» Эмиля Дюркгейма (1858—1917) вышел во Франции в 1897 году, в России он был переведён и издан в 1912-м и вплоть до 1994 года не переиздавался. Конечно, социология – наука скучноватая, стиль «классика западной социологии», как представлен Дюркгейм в аннотации, мог бы быть и менее тяжеловесным (впрочем, может быть, здесь вина переводчика), подробностей-повторов в книге могло бы быть и поменьше, но надо отдать должное автору: он действительно сумел досконально проанализировать феномен самоубийства с самых различных сторон – социальной, морально-психологической, религиозной, этнической и др.
В нашу задачу не входит подробный разбор-анализ трактата Дюркгейма, но давайте хотя бы пунктиром обозначим ход его рассуждений и выводов, которые так или иначе необходимы для наших размышлений о суициде вообще и самоубийстве в жизни и творчестве Достоевского в частности.
Французский социолог уже на первых страницах формулирует и чётко оговаривает рамки самого понятия-предмета исследования: «…самоубийством называется каждый смертный случай, который непосредственно или опосредованно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершённого самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его результатах. Покушение на самоубийство – это вполне однородное действие, но только не доведённое до конца»[9]. В недавно вышедшем и тоже капитальном исследовании Г. Чхартишвили «Писатель и самоубийство» приводится формулировка современного суицидолога Мориса Фарбера: «Самоубийство – это сознательное, намеренное и быстрое лишение себя жизни»[10]. Как видим, Фарберу удалось то же самое сформулировать намного лаконичнее, но для нашего исследования важно именно то, что Дюркгейм был практически современником Достоевского, исследовал ту эпоху, оперировал понятиями XIX века.
Итак, Дюркгейм утверждает, что акт суицида присущ только homo sapiens’у, и все истории-легенды о лебедях, бросающихся, сложив крылья, камнем вниз после смерти своих подруг, и о собаках, отказывающихся принимать пищу после смерти своих хозяев, – не более чем фантазии людей, наделяющих животных человеческими чувствами.
Далее автор пишет и подтверждает цифровыми выкладками, что «каждое общество в известный исторический момент имеет определённую склонность к самоубийству»[11]. Именно в этом месте книги автор, будь он нашим современником, мог бы привести в качестве яркого примера «зигзаг» российско-перестроечных данных с красноречивым перепадом числа самоубийств в 1980—1989 годах.
Каждый, как известно, умирает в одиночку. И каждый самоубийца свой конец, казалось бы, тоже выбирает сам, и на его отчаянное решение оказывают влияние вроде бы сугубо индивидуальные особенности натуры – умственное развитие, состояние нервной системы, обстоятельства личной жизни и т. д. Но на самом деле акт суицида незримыми нитями связан и со множеством, так сказать, косвенно внешних причин – национальностью, местом жительства, вероисповеданием, политическими пристрастиями, социальным положением… Больше того, на статистику самоубийств влияют климат, время года и даже время суток. Ну, кто бы мог подумать, что подавляющее большинство отчаявшихся людей (четверо из пяти!) сводят счёты с жизнью не глухой и мрачной ночью, а именно днём, когда эта самая жизнь вокруг кипит, бурлит и пенится. А разве неудивительно, что «религия, наименее склонная к самоубийству, а именно иудейство, в то же самое время оказывается единственной не запрещающей его формально, и именно здесь мысль о бессмертии играет наименьшую роль…»[12] Более того, в Библии, книге, которую Достоевский читал и перечитывал постоянно, в Ветхом Завете, действительно не содержится никаких запретов на лишение себя жизни. Самоубийство в Библии подаётся как подвиг, естественный и единственный выход из тупиковой ситуации.
Вот, к примеру, царь-полководец Саул потерпел поражение от филистимлян. Израильтяне бегут. Враги их нагоняют и поражают. Убиты уже три сына Саула, и сам он изранен стрелами. «И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч, и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, и не убили меня, и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел; ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним.»[13] Саул понимает-осознаёт – смерть близка и неизбежна. Казалось бы, какая разница: собственная рука и собственным мечом его поразит, рука верного оруженосца или рука вражеская? Нет, только самоубийство – наилучший выход из ситуации. Больше того, не сразу понятно: а почему, собственно, так уж «очень боялся» верный оруженосец помочь господину достойно умереть? А разгадка проста: чуть дальше, в самом начале 2-й Книги Царств, эпизод смерти Саула рассказывается-подаётся уже несколько по-иному. К Давиду приходит человек из стана Саулова, амаликитянин, и повествует о том, как увидел во время сражения раненого Саула, который «пал на своё копьё (сам или не сам – не вполне понятно), а враги уже настигали его. И Саул попросил этого воина: «Подойди ко мне и убей меня; ибо тоска смертная объяла меня, душа моя всё ещё во мне». Воин исполняет просьбу Саула. И вот тут Давид, отплакав после данного известия и разодрав на себе одежды, вдруг вопрошает грозно амаликитянина: «Как не побоялся ты поднять руку, чтоб убить помазанника Господня?» И не успевает бедный гонец что-либо ответить, как-то оправдаться, как Давид приказывает убить его, что немедленно и исполняется слугой[14].
В библейских сказаниях, в Ветхом Завете, описаны ещё несколько случаев самоубийств и без всякого порицания. Вот некий Ахитофел, советник-слуга одновременно и царя Давида и сына его Авессалома (так сказать, слуга двух господ), во время их кровавой междоусобицы запутался в своих кознях и решил, в конце концов, самоустраниться. А сообщается об этом мимоходом, без всяких комментариев: «…и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего»[15]. Обычное дело: скончался человек (неважно как) и похоронен достойно по обычаям своего народа. А, например, когда покончил с собой (поджёг дворец и сгорел вместе с ним) Замврий, самозванец, убивший царя израильского Илу и воцарившийся всего на семь дней на троне, то порицание в Библии по его адресу содержится, но не за самоубийство, а за то, что при жизни «согрешил, делая неугодное пред очами Господними»[16].
Дюркгейм свои исследования о взаимосвязи религии и самоубийства ограничивает тремя основными европейскими конфессиями – католицизмом, протестантизмом, иудаизмом и совершенно не касается православия. Для нас же важно именно отношение этой религии к самоубийству, ибо Достоевский был до мозга костей православным верующим, несмотря на все свои сомнения и вопросы, и Новый Завет он не просто читал и перечитывал, он сверял, можно сказать, каждый свой важный шаг с Евангелием до последней буквально минуты жизни. И важно подчеркнуть-отметить, что православие однозначно осуждало и осуждает самоубийство, жестоко карает посягнувших на свою жизнь, отказывая им в христианском обряде погребения и предрекая им вечные адские муки, – по крайней мере, ещё в XIX веке это было именно так.
Принято считать, что самоубийца в Новом Завете всего один – Иуда Искариот. И уж, в отличие от ветхозаветных собратьев по способу смерти, – совсем не герой. Предатель, совершивший самое подлое и немыслимо грязное предательство – предал Учителя, Иисуса Христа. Имя Иуды стало синонимом слов «предатель», «изменник», и благодаря его мерзкому деянию родилось-появилось новое ругательное слово-понятие – «христопродавец», а тридцать сребреников превратились как бы в вещественное, денежное мерило предательства. Между прочим, сумма относительно ничтожная: столько в среднем зарабатывал подённый работник того времени за четыре месяца.
О самоубийстве Иуды определённо сказано лишь в Евангелии от Матфея: «…пошёл и удавился»[17]. Остальные авторы канонических Евангелий о конце предателя умалчивают, только у Луки Иисус предрекает ещё загодя: «…но горе тому человеку, которым Он предаётся»[18]. А уж где и как похоронен и похоронен ли вообще труп Иуды Искариота – в Новом Завете вообще не упоминается.
Впоследствии стараниями толкователей, интерпретаторов и комментаторов Евангелия история самоубийства апостола-предателя обрастает подробностями. К примеру, в «Священной истории в простых рассказах для чтения в школе и дома», составленной протоиереем Александром Соколовым в прошлом веке, живописуется так: «Иуда бросил им (Первосвященникам и старейшинам, которые наняли его в качестве предателя. – Н. Н.) сребреники, пошёл за город, нашёл там высокое дерево, выбрал сучок, который покрепче, взял обрывок какой-то старой верёвки, привязал её к суку, сделал петлю, просунул в петлю голову и повесился»[19].
Но пора высказать и весьма, может быть, кощунственную мысль, что Иуда в Новом Завете – самоубийца не единственный. По существу, Иисус Христос, добровольно взойдя на крест ради спасения человечества, совершил самое настоящее альтруистическое самоубийство. И ранние христиане, вслед за Ним, сотнями так же добровольно принимали мученическую смерть от рук варваров или убивали себя сами, за что впоследствии были причислены официальной церковью к лику святых. Больше того, если верно, что жизнь и смерть каждого человека зависит только от воли Господа Бога (ни единый волос не упадёт с головы!), тогда, естественно, и всякий конец земного существования homo sapiens’а – в том числе и самоубийственный, – так сказать, санкционирован Им…
Подобные мысли-предположения могут вызвать негодование у иных верующих, но, оказывается, ещё в XVII веке английский поэт, философ и священнослужитель Джон Донн в трактате «Биатанатос» пытался доказать, что Иисус Христос покончил с собой. А чуть позже, в 1777 году, вышел труд другого англичанина-вольнодумца Дэвида Юма «О самоубийстве», где был выдвинут следующий тезис: «…когда я бросаюсь на собственный меч, я так же получаю смерть от руки Божества, как и тогда, когда причиной её были бы лев, пропасть или лихорадка»[20].
Таким образом, ещё раз подтвердилась известная мудрость, что всё на свете уже сказано, и наша задача – повторить уже известное своими словами.
Впрочем, мы уже довольно сильно отвлеклись от книги Дюркгейма, а в ней содержится ещё немало интересных для нас суждений и выводов. И самый, может быть, капитальный из них, что существуют три рода самоубийства – эгоистическое, альтруистическое и аномичное. Эгоистическое самоубийство – понятно: человек совершенно потерял смысл жизни, утратил все связи с другими людьми. Альтруистическое тоже определено чётко: для индивида смысл жизни заключён вне её самой. А вот с аномичным самоубийством вопрос довольно сложный. Это понятие (от франц. anomie – отсутствие закона, организации) ввёл в научный обиход сам Дюркгейм. И сам же он признаёт, что между аномичным и эгоистическим видами самоубийства существует очень тесное родство. Аномичное самоубийство «определяется беспорядочной, нерегулированной человеческой деятельностью и сопутствующими ей страданиями»[21]. И если эгоистическое самоубийство распространено в основном в среде интеллигенции, в сфере умственного туда, то аномичный вид суицида присущ торговцам, промышленникам и прочим, как бы мы сейчас сказали, бизнесменам. Чтобы сильно не вдаваться в специфические скучные материи, поясним попросту, что аномичным можно считать акт самоубийства, когда, к примеру, человек вздумал из грязи выбиться в князи, но ничего у него не получилось, вот он и наложил на себя руки. Или: жил-жил богатым, да вдруг разорился – тоже аномично важная причина для лишения себя жизни. Естественно, что в периоды экономических потрясений-кризисов количество аномичных самоубийств резко возрастает.
Правда, Дюркгейм кроме понятия «экономическая аномия» вводит ещё и термины «аномия домашняя», «аномия семейная», то есть речь идёт о случаях, когда человека на самоубийство толкает семейная катастрофа – вдовство или развод. Тут, признаться, уж совершенно трудно согласиться с автором книги – очень это походит на такой вид эгоистического суицида, когда индивидуум кончает с собой после потери любимого человека, не желая страдать.
Увы, все мы смертны. Все мы – созревающие трупы. Memento mori![4]
Если б человек был бессмертен в земной – физической – жизни, тогда б только самоубийство имело смысл. Для большинства людей жизнь есть ожидание жизни. Мы, как правило, не знаем: жизнь наша – это прошлое, настоящее или будущее. Да, всё это нынешнее, сегодняшнее – мелкое, тусклое, полное лишений, горя и страданий, это всё – временное, преходящее. Вот-вот, и начнётся сама жизнь – настоящая, счастливая жизнь…
Однако ж, ежегодно более пятисот тысяч homo sapiens’ов на земном шаре ждать-надеяться вдруг устают и срывают стоп-кран, жизнь свою останавливают-прекращают. И большинство из этих полумиллиона человек – чистой воды эгоисты, как ни кощунственно это звучит. Они сугубо по личным соображениям решили: всё, жизнь не стоит того, чтобы её прожить. Они сами для себя ответили на основной, по Альберу Камю, вопрос философии. В «Мифе о Сизифе» французский писатель-мыслитель сформулировал это так: «Есть лишь один поистине серьёзный философский вопрос – вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой или она того не стоит, – это значит ответить на основополагающий вопрос философии»[22].
Разумеется, о философской стороне вопроса думают единицы – для этого надо быть пылким гётевским Вертером или таким теоретиком, как Кириллов Достоевского. В массе же своей несчастные самоубийцы становятся самоубийцами без всяких философских выкладок, а лишь по одной простой причине – немедленно, сию же секунду прекратить-оборвать невыносимые душевные или физические страдания. Да, причина глобальная и всеобъемлющая для суицида одна – тотальное разочарование в жизни, выражаемое в смертной тоске. (Подчеркнём, что речь идёт в основном об эгоистическом и аномичном видах самоубийства, ибо альтруистический вид мы привыкли считать не самоубийством, а подвигом.) А вот поводов, подводящих к такому пограничному состоянию, – неисчислимое множество. Один человек кончает с собой из-за того, что у него суп на столе совсем уж жидкий, другой из-за того, что у него жемчуг в шкатулке чересчур мелкий. Подросток экзальтированный уверен, что с такими, как ему кажется, позорными прыщами на лице жить совершенно невозможно, а мужчина в цвете лет обрывает жизнь свою, узнав, что заразился СПИДом. Одна девочка глотает упаковку снотворного потому, что кумир-певец поцеловал не её, а другую во время вручения цветов, а в соседней квартире школьница вешается после того, как подверглась групповому изнасилованию…
Знаменитый специалист в области человеческих отношений, как его представляют-аттестуют, американец Дейл Карнеги составил таблицу человеческих желаний. Получилось следующее: «почти каждый нормальный человек хочет —
1) здоровья и сохранения жизни;
2) пищи;
3) сна;
4) денег и вещей, которые можно приобрести за деньги;
5) жизни в загробном мире;
6) сексуального удовлетворения;
7) благополучия детей;
8) сознания собственной значительности»[23].
Конечно, насчёт очерёдности пунктов можно поспорить, но не это важно. Главное, этот список даёт наглядное представление об основных сферах человеческой жизни, и каждая из этих сфер напрямую связана с потенциальным суицидом. В самом деле, здоровье, вернее – его отсутствие наиболее часто толкает человека на последний трагический шаг. И это понятно: каждый ли способен до конца терпеть адские боли при раковых заболеваниях, десятки лет терзать себя ежедневными инъекциями при сахарном диабете, подвергаться мучительным припадкам эпилепсии, выдерживать длительные изматывающие запои, лежать пластом в параличе, жить-существовать без рук без ног или слепоглухонемым…
Причём, зачастую случается так, что человек даже упреждает болезнь, сдаётся и убивает себя ещё только при первых симптомах её, боясь, что потом у него просто-напросто не хватит на это физических сил. К примеру, известнейший американский писатель Эрнест Хемингуэй, который не раз смотрел смерти в лицо, погибал на фронте, во время охоты, в авиа- и автокатастрофах, не боялся ни Бога, ни чёрта, – в момент сдался при первых же признаках надвигающегося паралича, и никто не смог его остановить-удержать: после нескольких неудачных попыток самоубиться писатель застрелился-таки в полном ещё расцвете лет.
А знаменитый австрийский психиатр Зигмунд Фрейд, опять же к примеру, почувствовав серьёзные сбои в работе своего гениального мозга, устав от хронических головных болей, попросил товарища-врача сделать ему последнюю и навеки успокоительную инъекцию, что верный друг и исполнил. Это, к слову, яркий пример эвтаназии – самоубийства с помощью врача. И если когда-нибудь эта самая эвтаназия будет всё же узаконена, то прописываться она будет, естественно, только и сугубо по медицинским причинам – неизлечимым и тяжело страдающим больным.
Казалось бы, стремление к сохранению жизни, о котором упоминает Д. Карнеги в первой графе, не имеет к нашему разговору ни малейшего отношения, наоборот. Однако ж, стремление к сохранению жизни есть иными словами стремление избежать смерти, боязнь конца. И вот тут с иными людьми судьба проделывает удивительный трагический выверт: чрезвычайно дорожа своей жизнью, они сами обрывают её… в страхе перед смертью. К примеру, – приговорённые к смертной казни, которые не в силах вынести ожидания её и кончают с собой сами. Вот что свидетельствует известный в прошлом веке юрист М. Н. Гернет: «…физические муки смертной казни ничто в сравнении с психическими муками ожидания смерти, расставания с родными и близкими и отвращения к объятьям палача. Эти муки заставили пятнадцать заключённых Александровской каторжной тюрьмы братски поделить между собою яд для своей отравы. Эти же муки вызывают эпидемию самоубийств в других тюрьмах, где осуждённые к смертной казни или ожидающие смертного приговора вешаются, отравляются, перерезывают себе артерии кончиком стального пера…»[24]
Думается, не вызывает сомнения факт, что человек способен покончить жизнь самоубийством из-за пищи (вернее, её отсутствия – хронического, мучительного, унизительного и осточертевшего голода), из-за, опять же, хронической изнурительной бессонницы. А уж пункт 4-й в карнеговском списке, и вовсе вне всякого сомнения, даёт в статистику самоубийств весьма значительный процент. Люди добровольно гибли, гибнут и будут гибнуть за презренный металл и радужные бумажки до тех пор, пока они будут существовать на свете. Проигрыш в карты или на рулетке, растрата, неудачное воровство, удачное ограбление (для того, кого ограбили), инфляция, неизбывная нищета… Можно перечислить десятки денежных причин самоубийства.
Пункт 5-й – о желании жизни в загробном мире – это вообще в самое русло нашего разговора: вспомним только Свидригайлова из романа Достоевского «Преступление и наказание», который, в общем-то, и застрелился из-за того, что раз-де нет потусторонней вечности, какая ж разница – сколько прожить в этом мире. Даёт этот пункт повод и для следующих размышлений. Казалось бы, яснее ясного: каждый самоубийца-эгоист должен и даже обязан быть атеистом, не верящим в бессмертие и загробную жизнь, а потому земные сроки он считает за смехотворную условность. Но, как известно, среди наложивших на себя руки – и особенно в прежние, доатеистические, времена – верующих было большинство. И искренне верующих, знающих вполне, что поступком своим, своеволием в распоряжении собственной жизнью они навлекут на себя гнев Бога, лишатся Его милости и уж непременно будут обречены на вечные адские муки, однако ж это не остановило их…
Насчёт «сексуального удовлетворения» – это, конечно, чересчур по-американски. Скажем мягче и точнее: каждый нормальный человек в этом мире жаждет любви. И вот на этом-то поле и пожинает обильную жатву дьявол, который, как известно, и толкает-подталкивает бедных слабых человеков на самоубийство. Например, две трети, если не больше, героев-самоубийц в мировой литературе (классической) счёты с жизнью свели из-за несчастной любви – «бедная» Лиза у Карамзина, Анна Каренина у Толстого, Желтков у Куприна, Вертер у Гёте… Несть им числа! Забегая вперёд, отметим, что у Достоевского подобных героев практически нет, хотя вполне можно считать, что Свидригайлова на последний шаг толкнула неразделённая страсть к Дуне Раскольниковой…
Ну, что касается «благополучия своих детей» (и вообще, добавлю, близких и родных), – всё ясно. Уже упоминаемый М. Н. Гернет приводит факты, когда родственники приговорённых к смертной казни сходят с ума или кончают самоубийством[25]. И здесь имеются в виду в первую очередь родители, не сумевшие пережить смерть (и позорную, ужасную смерть) своих детей. А разве обычную смерть ребёнка – от болезни, под колёсами автомобиля, от трагической случайности во время игры – легче перенести отцу и матери? «Если Федя умрёт, я застрелюсь»[26], – твердил-повторял убеждённо Достоевский при малейшем недомогании любимого сына. Запомним это восклицание! И ещё раз подчеркнём: сплошь и рядом родители не в состоянии пережить смерть своих детей; один из супругов кончает жизнь самоубийством, не желая оставаться на этом свете после смерти своей второй половины…
Ну и, наконец, проблема «сознания собственной значимости» – тут уж причины для разочарования в жизни воистину неисчерпаемы. Тварь я дрожащая или право имею? Ветошка я затёртая или образ и подобие Господа Бога? Достойно ли жить в нищете и безызвестности человеку, рождённому изменить этот мир, сказать своё, новое, слово в литературе? Ещё Пушкиным замечено, что «мы все глядим в Наполеоны», а когда жизнь, грубая действительность убедят нас в обратном, что никакие мы не Наполеоны, а всего лишь твари дрожащие, то и наступает порой бездонное отчаяние-разочарование. Это с одной стороны. А с другой: ну, а как ещё можно доказать своё величие, своё притязание на статус человеко-Бога – как не правом распорядиться своей собственной жизнью?.. Впрочем, мы уже сразу перескакиваем в мир Достоевского, а это ещё преждевременно.
Пока же самое время поправить-дополнить Дейла Карнеги, ибо он опустил в своём списке желаний человеческих наиважнейшую графу – желание общения. Неисполнение её, одиночество, становится причиной громаднейшего количества суицидальных трагедий. Многие люди не понимают простой вещи: одиночество – неизбежность, закон человеческого общежития. Надо просто мириться с этим. Господи, уж если Антон Павлович Чехов, человек, максимально приближенный к идеалу, всегда окружённый близкими и родными людьми, всеми любимый, обожаемый и уважаемый, – мучился от одиночества, то нам-то, простым смертным, и роптать грешно. Надо с этим смириться и – жить-существовать. А скольких бедолаг, стоявших уже на грани самоубийства, можно было остановить, если бы в тот роковой предпоследний миг нашёлся человек, который сказал бы: «Не уходи, ты мне очень нужен!..»
И ещё одна чрезвычайно важная для нашей темы и специфическая причина суицида отсутствует в списке Д. Карнеги – творческий кризис. Для многих писателей-самоубийц именно она и стала решающей.
Ну и, наконец, сразу и невозможно как забегая вперёд, вспомним мнение-утверждение Достоевского в противовес судебной медицине своего времени, считавшей сумасшествие глобальной, основополагающей и всеобъемлющей причиной добровольного ухода людей из жизни, о том, что такой причиной является – реализм. «Опять новая жертва, и опять судебная медицина решила, что это сумасшедший! Никак ведь они (то есть медики) не могут догадаться, что человек способен решиться на самоубийство и в здравом рассудке от каких-нибудь неудач, просто с отчаяния, а в наше время и от прямолинейности взгляда на жизнь. Тут реализм причиной, а не сумасшествие…»[27]
Итак, вот он, основной, ряд причин, толкающих людей к суициду. Частностей, индивидуальных случаев – сотни, тысячи. Как неповторима жизнь каждого человека, так своеобычна у каждого из нас и смерть и свой клубок причин для добровольного ухода из жизни, если мы на это решились. Бывает, что какой-нибудь человек вешается из-за того, что чувствует приближение старости, тяжко болен, терпит страшную нужду, страдает от алкоголизма, подвержен расстройствам рассудка, брошен любимой женщиной, ненавидит существующий строй в своей стране, да ещё и (если поэт) утратил-потерял вдохновение… Какая из этих суицидальных причин главная, какие сопутствующие – знает лишь один Господь Бог.
Важно подчеркнуть, что эгоистическое самоубийство совершается, как правило, импульсивно, под влиянием минуты. Конечно, встречаются и самоубийцы-рационалисты, самоубийцы-математики, самоубийцы-режиссёры – они продумывают свой конец заранее в деталях, просчитывают конкретные сроки своей жизни и в назначенный день и час хладнокровно себя уничтожают. На память, разумеется, сразу приходят имена дочери и зятя Карла Маркса: Лаура и Поль Лафарги заранее, ещё в молодости, решили, что не будут жить старыми и немощными и вместе самоубились в 1911 году, когда ему не исполнилось и семидесяти, а ей было всего шестьдесят шесть.
Но чаще всё же бывает так, что несчастный добровольный смертник ещё за неделю, за день, за час, а порой даже и за минуту до своего конца не знает, не подозревает, что сейчас сам на себя наложит руки. Вспомним Анну Каренину, которая, уже стоя на железнодорожной платформе, даже и не помышляла ещё о смерти. Правда, однажды, незадолго до того, принимая очередную порцию опиумного лекарства, она подумала «о том, что стоило только выпить всю стклянку, чтобы умереть, ей показалось это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала думать о том, как он (Вронский. – Н. Н.) будет мучаться, раскаиваться и любить её память, когда уже будет поздно…» Но совершенно ясно, что это были только обычные мечтания дамско-детские, которые доставляют многим нервным натурам жгучее мазохистско-сладострастное наслаждение и заканчиваются обыкновенно ничем. И вот на платформе Анна читает последнюю записку Вронского, написанную «небрежным почерком». Всё кончено! «И вдруг (Вдруг! – Н. Н.), вспомнив о раздавленном человеке в день её первой встречи с Вронским, она поняла, чтó ей надо делать…»[28] Именно – вдруг, в одну секунду принято невероятное, чудовищное решение. Нам, живущим и относительно счастливым (раз мы ещё живём-прозябаем на этом свете!), даже невозможно понять-воспринять решение обезумевшей от любви женщины: уж, казалось бы, лучше «стклянку опия» выпить, чтобы безболезненно и красиво уснуть навеки, чем бросаться в грязь, под отвратительные стотонные колёса-резаки… Увы – секунда! Когда она подступит, уже не до эстетики и не до боязни физической боли.
Что интересно, Анна Каренина вполне могла, как и тысячи других людей, только помечтать о самоубийстве и этим ограничиться. Такому потенциальному всю жизнь самоубийце достаточно в самые невыносимые неизбывно тяжкие минуты представить себе, как выпьет он «стклянку» или пустит себе пулю в лоб, и как все его будут жалеть-оплакивать – и вот такого чисто головного самоубийства, мечтательно-теоретического переживания всей гаммы сопутствующих острых ощущений-переживаний раздавленному жизнью и обстоятельствами человеку зачастую вполне хватает, чтобы поглубже и потяжелее вздохнуть и продолжить тянуть опостылевшую лямку дальше. Но многих из таких мечтателей трагические фантазии коварно затягивают, порабощают и, в конце концов, толкают-таки на последний суицидальный шаг. Такой человек помечтает-помечтает о петле, да и в самом деле в неё залезет. Причём именно вдруг, неожиданно для себя и, уж тем более, для окружающих.
Бывает, что на акт суицида человека подталкивает обстоятельство, которое Дюркгейм назвал – заразительностью самоубийства. «Всем известен рассказ, – пишет он, – о пятнадцати инвалидах, которые… один за другим за короткое время повесились на одном и том же крюке в тёмном коридоре; как только крюк был снят, эпидемия прекратилась. То же самое было в Булонском лагере: один солдат застрелился в часовой будке; через несколько дней у него оказались последователи, которые покончили с собой в той же будке; как только её сожгли, эпидемия прекратилась…»[29]
Думается, из этого ряда известный факт жизни и литературы, когда после выхода в свет «Страданий молодого Вертера» Гёте Европу поразила эпидемия самоубийств. Да что там Европа! Максим Горький в начале нашего века считал, что инсценировка «Братьев Карамазовых» способствовала росту самоубийств в Москве[30]. А вспомним хорошо известный факт, как после так называемого самоубийства Есенина не только Галя Бениславская покончила с собой прямо на его могиле, но и по всей стране прокатилась волна самоубийств среди молодёжи; Маяковскому даже пришлось срочно писать-сочинять стихотворение «Сергею Есенину», дабы развенчать романтический ореол вокруг его смерти.
В какой-то мере заразительностью объясняется и феномен наследственного самоубийства. В книге Дюркгейма приводится поразительный случай, когда молодая девушка, у которой отец и его брат покончили с собой, тоже решила добровольно уйти из жизни. «Её стала занимать только мысль о её близком конце, и она беспрестанно повторяла: “Я погибну так же, как погибли мой отец и дядя…” Она пыталась даже покончить с собой, но неудачно. Человек, которого она считала своим отцом, не был им в действительности, и, чтобы освободить её от мучившего её страха, мать её решилась признаться ей во всём и устроить ей свидание с её настоящим отцом. Физическое сходство между отцом и дочерью было так поразительно, что все сомнения больной тотчас же рассеялись; с этой минуты она отказалась от всякой мысли о самоубийстве…»[31]. Поистине – сюжет для Достоевского!
В данных случаях речь идёт о заразительности эгоистического самоубийства, но точно в такой же мере можно говорить и о заразительности самоубийства альтруистического.
Не будем, опять же, вдаваться во все тонкости и сложности фундаментальных рассуждений Дюркгейма. Достаточно сказать, что существует несколько разновидностей такого вида добровольной смерти. Например, обязательный альтруистический тип самоубийства был распространён даже и до самого последнего времени у некоторых народов. Это, когда варварские обычаи предписывают самоубийство стариков и больных, жён после смерти мужей или рабов и слуг после смерти господина. Во всех этих случаях человек, может быть, и не желал, не хотел добровольно умирать, но он должен и обязан был это сделать, иначе его ждала или насильственная смерть, или ещё большее наказание – бесчестье, остракизм и религиозная кара.
На первый взгляд, факультативное альтруистическое самоубийство мало чем отличается от обязательного. Здесь тоже в основе явления лежит национальный варварский жестокий обычай. Самым ярким образцом может служить харакири у японцев. Даже существует циничная шутка, что, мол, настоящий самурай обижается только один раз в жизни. И действительно, гордый японец мог вспороть себе живот лишь из-за того, что кто-то нечаянно толкнул его локтем или косо на него взглянул. Более того, существовал даже вид дуэли при помощи харакири, когда противники вместо того, чтобы скрестить в поединке клинки, состязались в том, кто из них быстрее и эффективнее вспорет себе живот своим собственным мечом. Тонкость же различия между обязательным и факультативным видами суицида в том, что в первом случае общество заставляет, во втором же – одобряет. Если в первом случае человек самоубивается, чтобы избежать позора, во втором – чтобы обрести уважение и славу.
Ещё одна разновидность альтруистического самоубийства – самоубийство мистическое или, лучше сказать, – фанатичное, совершаемое обыкновенно на религиозной почве. Особенно распространённым был такой вид суицида среди индусов: во время религиозных празднеств они толпами бросались в священные воды Ганга, под колёса идола Джаггернаута или обрекали себя на голодную смерть, дабы с блаженством погрузиться в нирвану, раствориться в ней.
Впрочем, что нам Индия! И в нашей российской истории известно немало случаев, когда староверы или скопцы, хлысты и прочие сектанты-фанатики устраивали коллективные самосожжения в периоды гонений. Причём надо подчеркнуть, что, несмотря на все свои особенности и отличия своей веры от ортодоксальной, староверы и сектанты тоже – христиане. А ведь, как уже говорилось, христианство безусловно и категорически запрещает самоубийство. Однако ж, опять, как и в случае с ранними христианами, получается, только – эгоистическое. Вот характерный пример из недавнего прошлого – во время Великой Отечественной войны один из советских командиров отступающих частей приказал взорвать Казанскую церковь в посёлке Вырица под Ленинградом. Лейтенант, который получил такой приказ, оказался верующим человеком и решил ценой своей жизни спасти храм – прямо под стеной церкви он застрелился. Пока красноармейцы доставили его тело на станцию, доложили о случившемся и т. д. – время было упущено и Казанский храм уцелел. Случай этот описан-подан в книге о житии старца Серафима Вырицкого как безусловный подвиг лейтенанта-христианина[32].
Фанатично-религиозный подвид альтруистического самоубийства очень тесно смыкается с типом так называемого самоубийства героического. Понятно, что такой вид суицида характерен в первую очередь для армейской среды и особенно в период военных действий. Уже упоминались здесь самоубийства-подвиги Матросова и Гастелло, известны многочисленные случаи, когда воины со связкой гранат бросались под гусеницы танков или, находясь в окружении врага, сознательно вызывали огонь своих батарей на себя… Конечно, можно возразить, дескать, в большинстве таких случаев иного выхода у человека просто не было – всё равно впереди неминуемая и скорая смерть. Но ведь известно немало фактов, когда человек чудом избегал казалось бы неминуемой смерти в самый наипоследний миг, и каждый из нас сознательно и бессознательно цепляется за жизнь до самого последнего мгновения. Так что, если в критической ситуации человек подавляет в себе желание жить и делает осмысленный добровольный шаг к смерти ради спасения других – это и есть ни что иное, как альтруистическое героическое самоубийство.
Естественно, под определение альтруистического самоубийства подпадает и большинство тех деяний в мирное время, кои мы привычно называем подвигами. Врач прививает себе в научных целях смертельную вакцину, водитель легковушки перегораживает дорогу пьяному лихачу, защищая автобус с детьми, парень в тёмном переулке бросается на защиту незнакомой девушки от группы пьяных негодяев… Да, эти люди совершают подвиг, но, одновременно, и – самоубийство. И, конечно, все эти случаи являются результатом положительного (вспомним определение-формулировку Дюркгейма) поступка.
Но более сложен вопрос с подвигами-самоубийствами, совершаемыми террористами. С их точки зрения, в глазах своих сотоварищей по организации они несомненные и благородные герои. Но в глазах остальных членов общества они зачастую выглядят преступниками и злодеями. «В той среде, где властвует альтруистическое самоубийство, человек всегда готов пожертвовать своей жизнью, но зато он так же мало дорожит и жизнью других людей. Наоборот, там, где человек настолько высоко ставит свою индивидуальность, что вне её не видит никакой цели в жизни, он с таким же уважением относится и к чужой жизни…»[33] Вот, по Дюркгейму, главное, глубинное различие между альтруистическим и эгоистическим видами самоубийства. И первая часть формулировки относится в первую очередь к террористам. В основе их «политики» лежит чудовищная идея, что ради счастья и благополучия многих людей допустимо и даже совершенно необходимо уничтожить одного, двух, десяток людей, положить их жизни, выражаясь языком Достоевского, в фундамент будущего счастья своего народа и всего человечества. Сам автор «Братьев Карамазовых» имел в юности к этому непосредственное отношение, по крайней мере, власти предержащие зачислили его в разряд «смутчиков, возмутителей, крамольников и мятежников» (именно так переводится в словаре Даля заграничное слово «революционер»), на протяжении его жизни русский идейный терроризм развился-сформировался вполне, и писатель внимательно следил за всеми случаями покушений на царя и его «сатрапов», анализировал-обсуждал их в общении со знакомыми, в «Дневнике писателя», в записных тетрадях, в романах, наконец. Больше того, он даже присутствовал – и, может быть, не однажды – на церемонии казни террористов… Но об этом подробнее – дальше.
А пока подчеркнём-отметим, что русские цареубийцы-смертники XIX века – совершеннейшие младенцы в сравнении с террористами века XX и особенно самого последнего, новейшего нашего времени. Слово «террор» с латинского переводится как – страх, ужас. Народовольцы действительно наводили страх и ужас на своих потенциальных жертв и определённую часть законопослушного и благонамеренного общества. Но всё же в те времена образы, фигуры революционеров-террористов, благодаря, конечно, во многом либерально-демократической печати, окружались ореолом подвижничества и героизма. Как же, они не только действовали-убивали бескорыстно, не ради личной мести или выгоды, но ещё и платили за это собственными жизнями. Причём, трагические судьбы, казни-самоубийства действительных смертников вроде Каракозова или «первомартовцев», как бы бросали благородно-героический отблеск и на тех, кто избежал смерти за политическое убийство или по ошибке убил совсем невинных людей. Стоит вспомнить, например, Степана Халтурина, который устроил взрыв в Зимнем дворце, государя не убил, зато уложил на месте, умертвил десять и изувечил около пятидесяти простых солдат-караульных, да к тому же ускользнул безнаказанным. Правда, через два года Халтурин попался за участие в убийстве одесского военного прокурора и был-таки повешен. А вот Сергей Кравчинский, который средь бела дня и прилюдно в центре Петербурга хладнокровно зарезал шефа жандармов Мезенцова, и вовсе ускользнул от возмездия, жил благополучно за границей, писал статьи и романы («Андрей Кожухов») под псевдонимом Степняк, в которых прославлял революционный террор, и погиб совершенно случайно в возрасте 44-х лет под колёсами паровоза. (Впрочем, возникает естественный вопрос – случайно ли? Не есть ли это кара Божия или даже акт неосознанного самоубийства?) К слову, Достоевский, узнав об убийстве шефа жандармов из письма В. Ф. Пуцыковича, констатирует в ответном послании: «Пишете, что убийц Мезенцова так и не разыскали и что наверно это нигилятина. Как же иначе? наверно так…» Как видим, для бывшего петрашевца (а ещё лучше сказать – спешневца) в конце его жизни революционеры-смертники никакие не герои, а всего лишь – «нигилятина»… Впрочем, опять мы забегаем вперёд.
В целом на Руси, а уж тем более в Советской России, террористы-душегубы были в обществе безусловно уважаемыми людьми. Степняк-Кравчинский – читаемый и почитаемый писатель, в честь Халтурина назван целый город в Кировской области, именами Каляева, Перовской и прочих террористов называются улицы… Понадобился целый век, десятки миллионов насильственных смертей, ужасы революций, войн и репрессий, дабы флёр романтики вокруг политических, идеологических убийств-самоубийств потускнел. Теперь даже в самых варварских странах, не говоря уж о так называемых цивилизованных, террористы в основном предпочитают быть убийцами, но не смертниками. На вооружении они оставили в основном один метод – подлый и совсем безопасный для них: взрывное устройство с дистанционным управлением. Здесь о каком-либо самоубийстве, тем более – альтруистическом, даже и речи нет.
И в конце нашего введения в тему кратко и схематично ещё раз вспомним характерные особенности трёх основных видов самоубийства. «Эгоист» кончает с собой потому, что совершенно разорвалась его связь с обществом (в политическом, религиозном, семейном и любом другом плане), жизнь утратила для него смысл и ценность. «Альтруист» убивает себя потому, что общественность полностью и целиком поглощает его индивидуальность, жизни других людей, идеалы, общественные цели для него дороже собственной жизни. «Аномист» же – это эгоист по натуре своей, но не утративший связи с обществом, зависящий от него, и если общество (в экономическом, политическом, семейном и т. д. планах) делает его индивидуальную жизнь невыносимой, – такой человек от жизни отказывается, сам обрывает её.
А если уж совсем понятно и просто – представим такую ситуацию: в одном городе в один и тот же день застрелились трое молодых мужчин, как говорится, по семейным обстоятельствам, и каждый оставил после себя жену и детей. В чём же здесь разница? А в том, что первый давно уже не любил жену, терпеть не мог опостылевших отпрысков, маялся-пил от тоски одиночества и в случайную злую минуту решил раз и навсегда покончить с этим. Второй попал в крайне неприятную ситуацию на службе, но испугался не за себя: любимая и любящая жена, обожаемые детки могли остаться нищими и навеки опозоренными – только самоубийство могло спасти его от суда и, следовательно, их от нищеты и позора. Ну, а третий не выдержал, когда банк его лопнул, он разорился, да к тому же жена, которую он боготворил, заявила, что с «нищим» жить не будет и уйдёт к другому… Вот такие тонкости!
Может показаться, что наше вступление к основной теме затянулось, но, повторимся, тема самоубийства у нас весьма мало изучена, а общую теорию, суть предмета разговора всегда надо иметь в виду и помнить о них хотя бы на подсознательном уровне. Конечно, само по себе интересно и поразительно, так сказать, внешнее сходство в трагической смерти этих трёх самоубийц, но куда интереснее и важнее для нас внутренние обстоятельства и мотивы, толкнувшие их на этот шаг. Много схожего, например, во внешних деталях смерти Смердякова («Братья Карамазовы») и Оли («Подросток») – оба повесились, оба покончили с собой ночью, в своих комнатах, совершенно неожиданно для окружающих, не оставив никаких записок… Однако ж, какие кардинально противоположные причины и обстоятельства толкнули их на этот шаг!..
Вероятно, как утверждают учёные, существуют подспудные биохимические законы самоубийства, вполне возможно, что влияют на суицидальную статистику и вспышки на солнце и лунные затмения. О самоубийстве, как реалии действительности, человек начал задумываться, как только научился мыслить. Ещё античные философы ломали голову над этим феноменом. Позже, как уже упоминалось, Д. Донн, Д. Юм и другие мыслители отдали дань этой зловещей проблеме. Но особо хотелось бы упомянуть о великом Монтене, который в своих неисчерпаемых «Опытах» сформулировал афористично и глубоко свои мысли о самоубийстве. Достоевский, как и любой грамотный и мыслящий человек XIX века, свободно владеющий французским языком, «Опыты» Мишеля Монтеня читал. Ещё в главе XX под названием «О том, что философствовать – это значит учиться умирать» Монтень учит не бояться смерти и быть готовым к ней в любой момент, относиться к её приходу спокойно и рассудительно: «Никто не умирает прежде своего часа. То время, что останется после вас, не более ваше, чем то, что протекло до вашего рождения …. Мера жизни не в её длительности, а в том, как вы использовали её…»
Затем, в главе «Обычай острова Кеи» французский философ обращается непосредственно к теме самоубийства. Сначала он рассматривает точки зрения сторонников добровольного ухода из жизни и выглядит здесь вполне убедительно:
«Ведь говорят же по этому поводу, что мудрец живёт столько лет, сколько ему нужно, а не столько, сколько он может прожить, и что лучший дар, который мы получили от природы и который лишает нас всякого права жаловаться на наше положение, это возможность сбежать. Природа назначила нам лишь один путь появления на свет, но указала тысячи способов, как уйти из жизни…»
«Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. Жизнь зависит от чужой воли, смерть же – только от нашей…» (Ну как тут сразу же не вспомнить Кириллова с его теорией! – Н. Н.)
«Жизнь превращается в рабство, если мы не вольны умереть…»
«Подобно тому, как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне принадлежит, или сам беру у себя кошелёк … точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни…»
Но, с другой стороны:
«Многие полагают, что мы не вправе покидать крепость этого мира без явного веления Того, кто поместил нас в ней…»
«Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной…»
«Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы, – таков удел трусости, а не добродетели…»
И всё же, казалось бы, беспристрастный Монтень закрывает-завершает тему откровенным признанием: «По-моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству…»[34]
Достоевскому не могли не запомниться эти слова-суждения французского мыслителя, которые по сути своей противоречили христианской морали.
Ну, и совершенно необходимо поговорить о таком мрачном предмете, как – способы добровольного ухода из земной жизни.
Со времён Достоевского мало что в этой области изменилось. Чтобы сломать самую совершенную на свете, но и чрезвычайно хрупкую биологическую машину, homo sapiens’а, надо всего лишь «разлучить душу с телом», или, выражаясь современно-прагматически, – «прекратить жизнь». Медики до сих пор спорят, считать ли человека трупом после остановки сердца или же только после полной гибели мозга. Здесь спор идёт о минутах и секундах. Но человек, которому опостылела действительность, об этих медицинских тонкостях не задумывается, он лишь твёрдо знает, что ему надо навеки погасить своё сознание, а для этого необходимо оборвать биение сердца. Чаще всего – немедленно, срочно, сию же секунду.
Для достижения этой цели существует всего лишь несколько кардинальных методов – всего пять: необходимо лишить организм или крови, или кислорода, или питания, или ввести в него яд, или, наконец, физически повредить-разрушить, раздробить, уничтожить плоть. За сто с лишним лет цивилизация добавила к этому перечню только электричество, и Дюркгейм предсказывал широкое его применение в будущем для самоубийства. Однако ж, этого не произошло. Электрическая смерть досталась в удел по преимуществу людям несвободным, просто-напросто не имеющим другого выбора – американским преступникам, попавшим на электрический стул добровольно, сознательно, и заключённым концлагерей, которые прекращали свои страдания, бросившись на проволочное электроограждение.
А в остальном почти ничего не изменилось. Правда, если раньше самоубийцы выбрасывались в основном с четвёртого этажа, рискуя всего лишь покалечиться, то сейчас без всякого риска остаться живым выкидываются из поднебесья с небоскрёбов. Если в прошлом веке несчастный самоубийца не всегда находил вечное упокоение под копытами и колёсами конного экипажа, то сейчас любое авто, а уж тем более стотонный грузовик – это стопроцентная гарантия смерти. Что же касается тех, кто топится, вешается, стреляется, травится и вскрывает себе вены, – то прогресс практически нисколько не изменил процесса их ухода из жизни.
Но вот что самое поразительное для нас, ещё живущих и собирающихся жить дальше: почему человек, вздумавший с собой покончить, не выбирает самый лёгкий, безболезненный и, если можно так выразиться, благородный способ самоубийства? Зачем слабая утончённая женщина-аристократка, вспомним опять же Анну Каренину, вместо того, чтобы выпить «стклянку опия» и красиво уснуть навеки с покойной улыбкой на устах – бросается в грязь на четвереньки (если не сказать грубее – на карачки!) под ужасные колёса-резаки, в бездонный колодец хотя и мгновенной, но отвратительной физической боли? А труп? Труп как обезображен будет – уж одна только эта сугубо материалистическая мысль, казалось бы, любую женщину остановить должна. Не остановила. Не останавливает. Бросаются под поезда, под грузовики, с балкона об асфальт, топятся, зная, что через три-четыре дня их вздувшийся лилово-чёрный труп будет вызывать отвращение и тошноту даже у самых близких родственников. Или вот зачем мужчине сносить себе полчерепа картечью из охотничьего ружья (как сделал это Эрнест Хемингуэй) или, тем более, вспарывать живот (как японский писатель Юкио Мисима), когда есть возможность просто вскрыть себе вены и, блаженствуя в тёплой ванне, тихо-мирно отойти в мир иной, успев напоследок и вспомнить счастливое детство, и поразмыслить о вечном, и, если вздумается, – суметь поплакать. (Вспомним пронзительные и глубоко философские строки Андрея Платонова о судьбе героя повести «Котлован» Прушевском: «…за опавшими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченными и минувшими людьми существует его срок, когда придётся лечь на койку, повернуться лицом к стене и скончаться, не сумев заплакать»[35].)
Да, нам, живущим-прозябающим, такого самоубийственного мазохизма не понять. Как не понять и тех чудовищных ухищрений, к каковым прибегают иные самоубийцы. Вроде бы, что можно придумать такого экстраординарного, из ряда вон, решив покончить с собой на железной дороге? Ну, как опять же Анна Каренина, упасть под вагон всем телом; можно положить на рельс, как на плаху, только голову; можно в спешке, от неловкости и страха попасть под колёса так, что несчастному отрежет только ноги или руки, и он будет долго умирать-мучиться; можно выскочить на рельсы прямо перед поездом; можно в автомобиле перегородить на переезде дорогу локомотиву; вполне возможно машинисту-самоубийце направить свой электровоз на полном ходу в тупик (в метро подобные случае уже фиксировались!); можно, в конце концов, на бешеной скорости выброситься из вагона, хотя этот способ и не гарантирует неминуемой смерти. Человеческая фантазия, казалось бы, исчерпана. Но вот, к примеру, герой рассказа Владимира Набокова «Случайность», некий Алексей Львович Лужин, доказывает обратное: «В сотый раз воображал он, как устроить свою смерть… Думал так: выйти ночью на станции, обогнуть неподвижный вагон, приложить голову к щиту буфера, когда другой вагон станут придвигать, чтобы прицепить к стоящему. Два щита стукнутся. Между ними будет его наклоненная голова. Голова лопнет, как мыльный пузырь…»[36] А вообще, если кардинальных методов добровольного ухода из жизни всего пять-шесть, то способов, подвидов суицида, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано – 83[37].
И если начать погружаться в глубины суицидальной темы, то возникает ощущение, что законы логики не всегда здесь действуют. К примеру, вполне понятно, что в городах чаще бросаются с высоты, чем в сельской местности, где больших зданий мало. Казалось бы, логично и предположить, к примеру, что в южных странах утопленников больше, чем на севере, а зимою их количество и вовсе сокращается. Ничуть не бывало! Дюркгейм приводит следующие данные середины 1870-х годов по Европе: в северных столицах Копенгагене и нашем Санкт-Петербурге этот способ самоубийства встречался не менее часто, чем в солнечной Италии и Франции, и в той же Франции за три летних месяца число утопленников было всего лишь на одну треть больше, чем за три зимних, и эта загадочная статистика характерна для любой, по крайней мере – европейской, страны[38].
Но ещё загадочнее и необъяснимее тот факт, что очень и очень многие отчаявшиеся люди выбирают такой способ ухода из жизни, как – петля. Это – один из самых позорных видов смерти у многих народов. На Руси позорнее было разве что – сажание на кол. Нередко осужденные на казнь молили в прошении на высочайшее имя даже не о сохранении жизни, а лишь об одной-единственной милости – дозволить умереть не в позорной петле, а под дулами ружей. Способ казни через повешение становился как бы дополнительным тяжким наказанием. После убийства Кравчинским Мезенцова все подобные террористические дела в России были переданы в ведение военных судов, и вскоре в секретном отношении, разосланном по губерниям, подчёркивалось: «Государь император, получив сведение, что некоторые из политических преступников, судившихся в Киеве военным судом … приговорены к смертной казни расстрелянием, изволил заметить, что в подобном случае соответственнее назначать повешение…» А великий князь Николай Николаевич перед вынесением одного приговора, обращаясь к судьям, высказался ещё определённее: «Надеюсь, вы не приговорите его к п о ч ё т н о й смерти»[39]. В ту эпоху расстрел, в виде исключения, стал применяться только к офицерам.
Вполне понятно отвращение к такой – верёвочной – смерти: некрасивость, безобразность её наглядна. Судорожно дёргающееся в петле тело, длительность предсмертных мук (порой до четверти часа!), а затем – синюшное лицо, вывалившийся распухший язык, обвисшее безобразным кулём тело… Но есть ещё одна мерзкая, гадостная, отвратительная деталь, о которой упоминается разве что в криминалистских и медицинских учебниках. Широкая публика узнала о ней только из прямо-таки «достоевского» по силе изобразительности рассказа Виктора Астафьева «Людочка», юная героиня которого повесилась: «Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в её недре, она догадалась, где болит, попробовала схватиться за петлю, чтоб освободиться, цапнула по верёвочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею и успела ещё услышать кожей струйку, начавшую течь…»[40].
Подавляющее большинство добровольных удавленников даже и не подозревают о подобной мелочи. И если бы человек, особенно молодой и романтично настроенный, возмечтавший повеситься назло всем и вся, вдруг узнал бы достоверно, что у него не только вывалится омерзительно лиловый язык, но ещё и от него тошнотворно и позорно будет пахнуть мочой, – думается, это вполне могло бы отрезвить и охолодить любого потенциального самоубийцу. Или, по крайней мере, заставить отказаться от такого позорного способа смерти.
Впрочем, легко рассуждать, когда сам о добровольной смерти не думаешь, тяготы бытия вполне ещё терпишь и согласен-надеешься-мечтаешь дожить до глубокой старости. Но, как говорят в народе, от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Вполне можно добавить и – от петли. Хрестоматийным примером здесь может служить судьба Марины Цветаевой. Как известно, она сурово в своё время порицала за самоубийство Есенина и Маяковского («…Негоже, Серёжа! / …Негоже, Володя!..[41]), а спустя несколько лет сама повесилась.
Вообще, повторимся, так или иначе, самоубийство человека – это судьба. То есть – суд Божий. И если веровать в Бога, то надо и верить, что действительно ни единый волос с головы нашей не упадёт без Его ведома. Теперь же, когда это столь необходимое введение в тему закончено, когда мы хотя бы в самых общих чертах вспомнили, осознали и определили сложность, многомерность, противоречивость и, как любят выражаться нынешние литературоведы, амбивалентность такого явления действительности, как самоубийство, когда создана, так сказать, атмосфера исследования, пора нам входить-погружаться непосредственно в мир Достоевского. В мир, где, как ни странно, настоящих, удавшихся случаев суицида не так уж и много, наперечёт, но зато очень многие герои думают о самоубийстве, мечтают о нём, грозятся его осуществить или даже предпринимают попытки с собой покончить.
Откуда же у них такая страстная, а то и просто (привет недоброжелателям Достоевского!) ненормально-болезненная тяга к этому мрачному феномену человеческого бытия?
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I.
Маленький герой, или Первый дебют
Дети до пяти-шести лет вообще не задумываются о смерти.
Естественно, и – не самоубиваются. Есть-бывают счастливые люди, которые так и не задумываются о жизненном конце долгие годы, вплоть до настоящей взрослости, особенно, если живут внешне благополучно и не сталкиваются со смертью лицом к лицу, никто у них из близких родственников не умирал, и вообще они ни разу близко не видели мёртвое тело, труп, бренные человеческие останки.
Разумеется, речь идёт о прошлом далёком времени. Как разнятся толкования слóва-понятия «смерть» в словарях Даля и Ожегова, взятые эпиграфом к данному исследованию, так разнится и отношение к смерти человека прошлого века и века нынешнего. Понятно, что современный ребёнок, уже с трёхлетнего возраста смотрящий-проглатывающий каждый день боевики да ужастики по телевизору, совсем по-иному воспринимает кровь и совсем иначе относится к таинству смерти. Для него кровь людская – водица, а в смерти никакого таинства нет, есть лишь забавная акробатика, увлекательный цирк со стрельбой и потоками красной жидкости. Так что будем помнить, что речь у нас пойдёт о веке девятнадцатом, когда понятие «смерть» означало «разлучение души с телом» и было таинством из таинств.
Так вот, маленькому Феде Достоевскому, как и его братьям-сёстрам, в этом плане, можно сказать, фатально не повезло. Они росли в атмосфере, переполненной физическими страданиями, болью, кровью и бесчисленными смертями. Отец семейства Михаил Андреевич Достоевский служил лекарем московской Мариинской больнице для бедных. Для точности отметим – имя Мариинской она получит только в 1828 году, когда Феде будет уже почти семь лет. Но это не столь важно. А вот важно и многознаменательно то, что больница располагалась на окраинной московской улице Божедомке, и одно из толкований слова «божедом» («Божий дом»), по Далю, – «род сторожки в отдельной части кладбища, где хоронят … тела убогих, нищих, скитальцев, также погибших, внезапно умерших, найденных мёртвыми, убитых и (Подчёркиваем! – Н. Н.) самоубийц»[42]. Здесь, в правом флигеле больницы, где проживал с семейством лекарь Достоевский, и довелось родиться будущему писателю 30 октября (11 ноября н. ст.) 1821 года. Флигель, здание самой больницы, больничный двор и сад – вот мир-пространство первых детских лет. Более чем строгий и суровый отец не дозволял своим детям выходить на улицу, играть-общаться со сверстниками.
Но и этого мало. Можно даже ребёнку привыкнуть в какой-то мере к чужим увечьям, крови, обычным смертям, составляющим больничную атмосферу, но случилось происшествие, которое так потрясло маленького Фёдора, что он на склоне жизни будет его с содроганием вспоминать. Незадолго до своей смерти он в салоне А. П. Философовой рассказывал: «Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных … где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребёнок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: “Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!” И вот какой-то пьяный мерзавец изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню … меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно…»[43].
Если бы Достоевский вздумал написать своё «Детство», то оно, вероятно и скорее всего, получилось бы менее мрачным по колориту, чем «Детство» будущего «буревестника революции» Максима Горького, но и таким благостным, умильным и сентиментальным вроде «Детства» Л. Толстого, уж точно не было бы. Да, Достоевский не испытал в детстве голода и жестоких побоев, как маленький Алёша Пешков, его даже не наказывали розгами, как Николеньку Иртеньева (Лёвеньку Толстого), но условия своеобразной домашней тюрьмы, надо думать, не так уж много доставляли радостей. Андрей Михайлович, младший брат писателя, вспоминал, как ему, Андрею, приходилось каждый день по два часа, пока отец спал-отдыхал после обеда, отгонять от него мух, и, не дай Бог, если хоть одна муха «папеньку» укусит. Приходилось ли подобным образом «развлекаться» в детстве Фёдору – неизвестно, но Андрей упоминает, к примеру, как старшие братья боялись уроков латыни, которую преподавал им самолично отец. Ещё бы! Подростки во всё время урока должны были стоять навытяжку и поминутно ждать: вот-вот «папенька» вспылит, что непременно и случалось чуть не каждое занятие…[44]
Спустя много лет, в конце 1876 года, уже будучи известным писателем, Достоевский получил среди прочих письмо от помощника инспектора Кишинёвской духовной академии М. А. Юркевича, который сообщал о трагическом событии, взбудоражившем весь Кишинёв: 12-летний воспитанник местной прогимназии не знал урока и был наказан – оставлен в школе до пяти часов вечера. Мальчик походил-послонялся по классной комнате, нашёл верёвку, привязал к гвоздю и – удавился-повесился.
Юркевич знал, кому и зачем описывал «маленькую трагедию» – автор «Дневника писателя» чрезвычайно интересовался самоубийствами, а самоубийствами детей – в особенности. И действительно, в первом же, январском, выпуске «ДП» за 1877 год Достоевский уделяет кишинёвскому событию целый раздел второй главы под названием «Именинник». А начинает он её так: «Помните ли вы “Детство и отрочество” графа Толстого? Там есть один мальчик, герой всей поэмы…» и далее Достоевский напоминает-рисует психологический портрет Николеньки Иртеньева, особенно подробно останавливаясь на эпизоде, когда тот провинился на семейном празднике по поводу именин сестры и его наказали – заперли в тёмном чулане. И вот Николенька, в ожидании розог, начинает мечтать-фантазировать, как он вдруг внезапно умрёт, взрослые обнаружат его остывающий труп, начнут над ним плакать, жалеть его и корить-попрекать друг друга за его внезапную трагическую смерть… «Чрезвычайно серьёзный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный», – подытоживает-констатирует автор «Дневника писателя».
И эта уверенность тона красноречиво свидетельствует, что Достоевский знает, о чём говорит, что он не понаслышке, не только из книг и от других людей представляет, о чём может мечтать впечатлительный, с богато развитым воображением мальчик, уже наказанный или даже в ожидании неотвратимого наказания. И пусть его в детстве не наказывали розгами, но гнев отца уже сам по себе был страшным наказанием. О, это желание в горькую, позорную, обидную, слёзную минуту отомстить всему миру, всем этим жестоким взрослым своей собственной внезапной смертью, – эта мысль о самоубийстве в пассивной форме (взять бы да и умереть ни с того ни с сего!), которая любит посещать детские неокрепшие мозги, наверняка мерцала-вспыхивала не раз и в голове маленького Феди Достоевского.
К слову, ему не так уж обязательно было, работая над главой «Именинник», брать в качестве примера маленького героя графа Толстого. Он вполне мог припомнить собственные произведения, ибо не раз и не два экзальтированные мальчики и девочки в его повестях и романах грезят о собственной внезапной гибели точно так же, как Николенька Иртеньев. Ещё в «Неточке Незвановой» (в журнальном варианте) маленькому Ларе так невмоготу жить, что он мечтает убежать на могилу к своей маменьке и там умереть. Тринадцатилетняя Нелли из «Униженных и оскорблённых» жизнь свою ни во что не ставит, даже заявляет-утверждает, что хочет умереть и в конце концов в финале романа действительно умирает. Аглая из «Идиота» признаётся, что в детстве раз тридцать думала отравиться. Лиза, дочь Трусоцкого из «Вечного мужа» (восьми лет всего!), хотела в злую минуту выброситься из окна. Несчастная калека Лиза Хохлакова («Братья Карамазовы»), хотя уже почти и взрослая девица (14 лет), но по поведению ещё сущий ребёнок, восклицает убеждённо: «Я убью себя, потому что мне всё гадко! Я не хочу жить…», – и затем всерьёз угрожает Алёше Карамазову, что отравится, если тот немедленно не передаст её записку своему брату Ивану.
Романтик Виктор Гюго обронил как-то (в «Человеке, который смеётся») фразу-афоризм: «…детям неведом тот способ взлома тюремной двери, который именуется самоубийством»[45]. Реалист Достоевский неоднократно в своём творчестве как бы поправлял-опровергал высоко ценимого им французского писателя: да, младенцам, может быть, такой чудовищный способ избавления от каторги жизни и не ведом, но вот детям, подросткам – сколько угодно. Причём, они способны лишить себя жизни не только по действительно катастрофической причине, как Матрёша, жертва Ставрогина в «Бесах», но и, казалось бы, из-за мелочи, из-за совершеннейшего пустяка. По крайней мере, так считают взрослые. Они даже и не стремятся понять этот страшный феномен, или объясняют-толкуют его поверхностно, совершенно, по мнению Достоевского, извращённо и неправильно.
В «Голосе» от 21 февраля 1876 года промелькнуло сообщение, что в Кишинёве по неизвестной причине застрелился ученик реального училища. Писатель в тот же день делает помету в рабочей тетради с подготовительными материалами к «Дневнику писателя»: «О застрелившихся». Можно предположить, что Достоевского заинтересовал не только сам факт самоубийства подростка-учащегося, но и вот эта якобы неизвестность причины. Немногим более чем за месяц до этого он в той же рабочей тетради под особым знаком nota bene (заметь хорошо) записал: «NB. 19 января. Мнение В. В. Григорьева. Отменим везде в школах телесное наказание, прекрасно; но чего же, между прочим, достигли? Того, что в поколении нашего юношества явилось много страшных трусов, боятся малейшей физической боли, и до того, что при малейшей опасности, угрозе или физическом страдании, трудных уроках, экзаменах сейчас вешаются. Стали страшно невыносливы…»
Так довольно подробно пересказав-законспектировав суждение профессора Московского университета и известного публициста В. В. Григорьева, Достоевский горько иронизирует: «Действительно, всего вернее объяснить несколько подобных случаев с нашими юношами единственно трусостью. Но странная, однако, точка зрения на предмет…» Тема, судя по всему, крепко задела писателя, начала томить, мучить, формироваться в публицистический текст. Поэтому-то, полученное в ноябре того же года письмо Юркевича из Кишинёва как бы замкнуло некую цепь, стало связующим звеном между сообщением «Голоса» о застрелившемся в том же Кишинёве ученике реального училища и рассуждениями профессора Григорьева о том, что ученики вешаются только лишь из-за глупого детского страха перед наказанием. Достоевский тут же помечает в записной тетради: «Письмо Юркевича», – подчёркивает это двумя чертами (даже пометы NB, видимо, показалось ему недостаточно!) и тут же излагает вкратце суть своего мнения: не в баллах (то есть не в оценке и страхе наказания) причина, а всё дело – в пошатнувшемся семействе, в неправильном воспитании.
В декабрьском номере «ДП» Достоевский много внимания уделяет теме самоубийства, но о кишинёвских случаях не упоминает, однако ж в рабочей тетради в конце декабря опять делает короткую запись: «Самоубийство мальчика (экономические причины)». Данная запись явно относится к письму Юркевича. Писатель, судя по всему, уже тогда решил написать о самоубийстве детей, школьников отдельно и подробно. Но в письме к самому Юркевичу от 11 января 1877 года Достоевский, поблагодарив его за сообщение факта самоубийства ребёнка и подчёркивая, что «факт очень любопытен, и, без сомнения, о нём можно кое-что сказать», тут же предупреждает-оправдывается – так уж скоро это сделать не получится: «…в последнее время я уже довольно говорил о самоубийствах, и надобно выждать…»
Можно представить, как удивился Юркевич, только что получивший письмо Достоевского, когда раскрыл свежий номер «ДП» за январь и увидел-прочитал главу «Именинник». А получилось следующее: 29 января, за два-три дня до выхода январского «Дневника», цензор снял-запретил главку «Старина о “петрашевцах”» из второй главы. Достоевскому ничего не оставалось, как сесть за стол и в курьерском режиме написать-создать новую главку размером в три печатных страницы. Сообщение «Голоса», рассуждения В. В. Григорьева, письмо М. А. Юркевича, повесть Л. Н. Толстого и, без сомнения, собственные впечатления детства смешались-соединились, в результате чего и родилась-появилась замечательная педагогическая глава «ДП» – «Именинник».
Некоторые детали-обстоятельства кишинёвской трагедии (по письму Юркевича) просто поразительны. Ну, к примеру, маленький самоубийца был в этот день именинник. Не поэтому ли ещё вспомнился Достоевскому Николенька Толстого, тоже наказанный на семейно-именинном радостном празднике? Больше того, в этот же день именинником был и отец школьника, как сказано в письме корреспондента, «человек очень строгий». Уж, видимо, такой строгий, что, несмотря на двойной праздник, без всякого снисхождения наказал бы Мишу (так звали мальчика). По крайней мере, тот в этом ни капельки не сомневался. А вот ещё характерная, выразительная и совсем, можно сказать, в стиле Достоевского деталь: верёвку с петлей гимназист привязал к гвоздю, на котором обыкновенно висела так называемая золотая или красная доска (по-нынешнему – Доска почёта) и которую как специально для чего-то в тот день сняли и унесли.
Автор письма из Кишинёва к писателю-психологу сам не чужд психологических описаний-предположений: «Где причина самоубийства? Мальчик буйства и зверонравства не проявлял, учился вообще хорошо, только у своего классного наставника в последнее время получил несколько неудовлетворительных отметок, за что и был наказываем …. Быть может, с детским восторгом мечтал молодой именинник о том, как его встретят дома мать и отец, братишки, сестрёнки… И вот, сиди один-одинёшенек, голодный в пустом доме и раздумывай о страшном гневе отца, который придётся встретить, об унижении, стыде, а быть может, и наказании, которое предстоит перенесть. О возможности покончить самому с собою он знал (да и кто из детей нашего времени не знает этого)…»
Чрезвычайно знаменательно мимоходное примечание в скобках об уже ставшем будничным, обычным явлением детском суициде. А далее помощник инспектора из Кишинёва Юркевич делает выводы во многом совпадающие с мнением профессора Московского университета Григорьева: «Не слишком ли много придаётся значения – двойкам, единицам, золотым и красным доскам, на гвоздях от которых вешаются воспитанники? Не слишком ли много формализма и сухой бессердечности вносится у нас в дело воспитания?..»
Достоевский, приступая к собственным комментариям-выводам, сразу проводит мысль, уже зафиксированную им в рабочей тетради: дело не в двойках, баллах и излишней строгости – всё это и прежде было, но обходилось без самоубийств… Впрочем, зачем пересказывать Достоевского, – вот конспект его рассуждений:
«Эпизод из “Отрочества” графа Толстого я взял из сходства обоих случаев, но есть и огромная разница. Без сомнения, именинник Миша убил себя не от злости и не от страху только. Оба чувства эти – и злость, и болезненная трусливость – слишком просты и скорее всего нашли бы исход сами в себе. Впрочем, действительно мог повлиять и страх наказания, особенно при болезненной мнительности (Которая, стоит заметить попутно, была очень даже присуща самому Фёдору Михайловичу всю его жизнь! – Н. Н.), но всё же чувство могло быть и при этом гораздо сложнее, и опять-таки очень может быть, что происходило нечто вроде того, что описал граф Толстой, то есть подавленные, ещё не сознательные детские вопросы, сильное ощущение какой-то гнетущей несправедливости, мнительное раннее и страдальческое ощущение собственной ничтожности, болезненно развившийся вопрос: "Почему меня так все не любят", страстное желание заставить жалеть о себе, то есть то же, что страстное желание любви от них всех, – и множество, множество других усложнений и оттенков. Дело в том, что те или другие из этих оттенков непременно были, но – есть и черты какой-то новой действительности, совсем другой уже, чем какая была в успокоенном и твёрдо, издавна сложившемся московском помещичьем семействе средне-высшего круга, историком которого явился у нас граф Лев Толстой …. Есть тут, в этом случае с именинником, одна особенная черта уже совершенно нашего времени. Мальчик графа Толстого мог мечтать, с болезненными слезами расслабленного умиления в душе, о том, как они войдут и найдут его мёртвым и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог мечтать и о самоубийстве, но лишь мечтать: строгий строй исторически сложившегося дворянского семейства отозвался бы и в двенадцатилетнем ребёнке и не довёл бы его мечту до дела, а тут – помечтал, да и сделал. Я, впрочем, замечая это, не об одной только теперешней эпидемии самоубийств говорю. Чувствуется, что тут что-то не то, что огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без историка. По крайней мере, ясно, что жизнь средне-высшего нашего дворянского круга столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни. Кто ж будет историком остальных уголков…?» Прервём на этом месте, ибо разговор несколько уходит в сторону от нашей темы. Вспомним только, что Достоевского остро волновала проблема места и роли литературы в жизни общества, его собственное предназначение как писателя, отличие его творческого метода от методов Л. Толстого, Гончарова, Тургенева. Задавая здесь эти вопросы, автор «Преступления и наказания», в сущности, давно для себя на них ответил: да, именно он и являлся в тогдашней литературе «историком остальных уголков» текущей жизни, где обычным явлением стала «эпидемия самоубийств».
Конечно, семейство лекаря и мелкого помещика М. А. Достоевского никак нельзя было отнести к разряду «средне-высшего» круга с исторически сложившимися дворянскими устоями, поэтому если Фёдор Михайлович, лихорадочно, в спешке записывая-сочиняя главку «Именинник», и отождествлял себя в воспоминаниях с одним из двух маленьких героев своей статьи, то, наверняка, – не с избалованным Николенькой Иртеньевым. Естественно, возникает вопрос: отчего же Федя Достоевский, если он мечтал не раз и не два (а он мечтал, он не мог не мечтать – с его-то натурой!), как Николенька Иртеньев, о внезапной самоубийственной смерти, не взял, да и не довёл до конца мрачные мечты, как гимназист Миша?..
Об этом-то и речь, об этом-то и пойдёт разговор у нас.
Да, детство и отрочество Достоевского лёгким и безоблачным не назовёшь. Скорее – наоборот.
Но были три луча света в этом тёмном царстве, которые оказывали на Фёдора самое живительное и благотворное воздействие: «любезная маменька» (так он обращается к ней в своих детских письмах), старший брат-погодок Михаил и – Литература. Мария Фёдоровна Достоевская – поэтичная, любящая литературу, музыку, умеющая выражать свои мысли и чувства на бумаге (в письмах) и, в отличие от мужа, жизнерадостная и общительная натура, бесконечно добрая и ласковая. Самые счастливые периоды в детстве детей Достоевских были месяцы, которые они проводили в своей деревушке Даровое наедине с матерью: отец оставался в городе, и вдали от его догляда им дозволялось резвиться вволю и играть-общаться с деревенской ребятнёй. Михаил же, родившийся всего годом раньше Фёдора, был-являлся для него самым родным и духовно близким другом-товарищем. По воспоминаниям того же Андрея, старшие братья в детстве были буквально неразлучны. Ну, а Литература (именно с большой буквы) заменила, по существу, для маленького Феди весь мир, вернее – раскрыла этот необъятный внешний мир со всеми его радостями и горестями, борьбой страстей; мир, где люди рождаются, влюбляются, женятся, совершают подлости и героические поступки, умирают от дряхлости в постели, погибают доблестно в бою и… самоубиваются. Да, вполне вероятно, что маленький Федя именно из книг впервые услышал-узнал, что человек способен сам, добровольно прервать свою жизнь. Именно – услышал. В семействе Достоевских вечерние чтения вслух являлись обязательным ритуалом. И среди произведений, читаемых для детей попеременно то «маменькой», то «папенькой», была, к примеру, повесть Карамзина «Бедная Лиза», героиня которой от несчастной поруганной любви бросилась в пруд…
Чуть позже, когда Фёдору было уже одиннадцать, он вплотную столкнулся с реальным фактом, когда человек, можно сказать, добровольно пошёл на смерть, на гибель. Один из крестьян Достоевских, Архип, вздумал в страшно-ветреный день палить у себя на дворе кабана, случился пожар и сгорело почти всё сельцо Даровое. Андрей Михайлович, вспоминает, что «сгорел и сам виновник беды, Архип, который побежал в горевшую свою избу что-то спасать и там и остался»[46]. Это странное выражение «и там и остался» выглядит многозначительно: если представить себе состояние крепостного, спалившего вотчину своего строгого и даже жестокого хозяина-помещика, то можно и предположить, что он неспроста «там и остался», и что в семействе Достоевских могли быть разговоры о сознательном самоубийстве несчастного Архипа…
Между тем, в 12-летнем возрасте (возрасте Миши-гимназиста из Кишинёва) Фёдор из домашнего каземата, попадает в острог, казарму полупансиона Сушарда, а затем и закрытого пансиона Чермака. Данные сопоставления-эпитеты, может быть, и чересчур эмоциональны, но достоверно то, что у самого Достоевского сохранились об этом периоде его жизни по преимуществу довольно мрачные воспоминания. Связано это с первыми столкновениями с обществом, первыми страданиями, возникающими от общения с людьми. Впоследствии это найдёт отражение в «Подростке» – Аркадий Долгорукий не питает ни малейших добрых чувств ни к «пансионишке Тушара», где провёл несколько лет, ни к тогдашним товарищам по учёбе. О порядках, царивших в подобных заведениях, можно судить хотя бы по откровенному восклицанию-признанию Андрея Достоевского, учившегося в пансионе Кистера: «Нет тех гадостей, нет того гнусного порока, которому бы не были научены вновь поступившие из отчего дома невинные мальчики … про те дебоши, которые совершались между запертыми без всякого присмотра мальчишками, мне даже стыдно и совестно было рассказывать не только родителям, но даже и старшим братьям!»[47] Можно подумать, братья сами всё это не видели и не испытали.
Да и распорядок дня в том же пансионе Чермака был почти что казарменным: подъём в 6, а зимою в 7 часов, утренняя молитва, затем до 12 часов занятия, перерыв на обед, и вновь занятия до 18 вечера, после полдника с 19 часов – повторение уроков (как бы выполнение домашнего задания), в 22 часа ужин, вечерние молитвы и отбой… Для романтически настроенного мальчишки, любящего читать и мечтать, – режим более чем строгий и невыносимый. Угрюмые воспоминания Достоевского о школьных годах в пансионах выплеснулись и в восклицаниях Подпольного человека: «Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные (Стоит подчеркнуть-выделить! – Н. Н.) годы!» И ведь эпитет «каторжные» употребляет писатель, который совсем недавно прошёл настоящую каторгу.
Ещё большую тоску испытывал-ощущал Достоевский в Инженерном училище, куда определил его и Михаила отец без всяких, разумеется, возражений с их стороны. Но перед этим будущий писатель испытывает-переживает одно за другим два потрясения: почти одновременно уходят из жизни два бесконечно дорогих ему человека – погибает на дуэли Пушкин и скоропостижно умирает от чахотки Мария Фёдоровна. И это опять же не преувеличение: действительно, не менее чем кончина обожаемой маменьки катастрофой стала для Достоевского-подростка и смерть боготворимого им поэта. Весть о ней до семейства Достоевских дошла с опозданием, уже после похорон Марии Фёдоровны (которая, к слову, была практически ровесницей Пушкина, умерла на 37-м году). Андрей свидетельствует, что «братья чуть с ума не сходили, услыша об этой смерти». Более того: «Брат Фёдор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения носить траур по Пушкине…»[48]
До той поры Фёдору не доводилось терять близких людей, если не считать сестры Любочки, которая родилась в 1829-м (ему шёл тогда только восьмой год) и прожила на свете всего несколько дней, да дедушки Фёдора Тимофеевича Нечаева (отца матери), который скончался два с половиной года спустя после Любочки, – но он жил отдельно и, конечно, особо близким мальчику человеком не был.
А вот эти два подряд потрясения, связанные со смертью по-настоящему родных и подлинно близких людей, уже в сознательном возрасте, вероятно, и вызвали странную болезнь Фёдора – он потерял голос. Хворь была столь упорной, что не поддавалась никакому лечению. Тут оказался бессилен и сам отец-лекарь, и его товарищи-коллеги по больнице. Странная необъяснимая болезнь (диагноз так и не установили) пропала-прекратилась тоже странно, внезапно, как только старшие братья Достоевские пустились в путь-дорогу на учёбу в Петербург. Лишь до конца жизни у Фёдора Михайловича остался голос «не совсем естественный, – более грудной, нежели бы следовало»[49]. И, к слову, имеются-остались многочисленные свидетельства современников, присутствовавших при публичных выступлениях писателя в конце его жизни, о том, что голос его был слаб, надтреснут, но оказывал совершенно завораживающее, необъяснимое воздействие на аудиторию. Речь, разумеется, идёт не только о том, что он читал-произносил, но и – как. Не являлось ли это необъяснимое, буквально гипнотическое воздействие его голоса на людей в какой-то мере следствием той детской странной, скорее всего – нервной, болезни? Впрочем, сам Достоевский свой дар чтеца-чаровника объяснял весьма просто: «Разве я голосом читаю?! Я нервами читаю!..»[50]
Если о пребываниии Достоевского в пансионах сохранились лишь косвенные его воспоминания-впечатления, растворённые в художественных текстах, то о годах учёбы в Главном инженерном училище мы может судить более непосредственно по его письмам той поры и воспоминаниям очевидцев. Начать с того, что судьба его тут же разлучила с братом. А ведь можно догадываться, что в пансионах Сушара и Чермака неразлучность двух братьев здорово-таки помогала им выдерживать все сложности-перипетии казённо-коллективной враждебной атмосферы. А тут Михаила забраковали медики, не допустили даже к экзаменам, и Фёдор оказался в чужом казарменном мире один-одинёшенек.
Что там говорить о Достоевском, когда даже такой жизнерадостный человек, как Д. В. Григорович – известный писатель, а в ту пору также воспитанник Инженерного училища – уже на склоне жизни, можно сказать, с омерзением вспоминал: «Первый год в училище был для меня сплошным терзанием. Даже теперь, когда меня разделяет от этого времени больше полустолетия, не могу вспомнить о нём без тягостного чувства; и этому не столько способствовали строгость дисциплинарных отношений начальства к воспитанникам, маршировка и ружьистика, не столько даже трудность учения в классах, сколько новые товарищи, с которыми предстояло жить в одних стенах, спать в одних комнатах. Представить трудно, чтобы в казённом, и притом военно-учебном, заведении могли укорениться и существовать обычаи, возможные разве в самом диком обществе…»[51]
И далее Григорович живописует эти «обычаи»: над новичками, или как их именовали – рябцами, издевались изощрённо и безжалостно. Наливали, к примеру, воды в постель или за воротник, заставляли слизывать языком свежепролитые чернила, ползать на четвереньках под столом и при этом хлестали, загоняя рябца обратно под стол, по чему попадя скрученными жгутами… А если какой смельчак вздумывал возмутиться и сдачи дать – тут же избивали так, что бедолагу стаскивали в лазарет, где, разумеется, он должен был сказать, мол, просто упал с лестницы и сам расшибся. Почему-то Григорович не написал свои подробные физиологические «Очерки Инженерного училища» по примеру «Очерков бурсы» Помяловского (хотя имел талант именно натурального очеркиста), но и из этих кратких воспоминаний картина предстаёт угнетающая – помрачнее дедовщины в современной армии. Или, может, изнеженный барчук Григорович сгустил краски в силу своего беллетристического воображения? Да нет, вот хотя бы ещё одно мнение – более сдержанное, но с не менее горьким колоритом-подтекстом – К. А. Трутовского, художника (автора портрета молодого, 26-летнего, Достоевского), тоже соученика писателя по Инженерному училищу: «…первый год поступления в училище был для новичка годом полного бесправия и подчинения старшим воспитанникам. Существовал обычай, что все старшие воспитанники имели полное право приказывать новичкам, а те должны были беспрекословно исполнять их приказания. Всякое сопротивление их приказанию или проявление самостоятельности было наказываемо ими подчас очень жестоко…»[52]
Атмосфера училища действительно мало способствовала духовному развитию и формированию подростков. Сам Достоевский в письмах к отцу, естественно, не слишком откровенничает об атмосфере и нравах среды, в которую «папенька» его насильно впихнул, но всё же и в них проскальзывает-читается кой-какая информация к размышлению: «Любезнейший папенька! … Вообразите, что с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекциями. Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже ни минутки …. Нас посылают на фрунтовое учение, нам дают уроки фехтования, танцев, пенья, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец, ставят в караул …. Слава Богу, я привыкаю понемногу к здешнему житью; о товарищах ничего не могу сказать хорошего…» Последняя фраза наполняется глубоким, насыщенным содержанием в свете воспоминаний Григоровича и Трутовского.
Итак, подлая система унижений и оскорблений, жизнь после сравнительно комфортных в бытовом плане домашних условий в казарменно-солдатских, да ещё и чрезвычайно мрачных стенах Михайловского замка (где в начале века был зверски убит император Павел I, и как бы бродила тень его – уж наверняка робких новичков этим пугали), бесконечная шагистика, которая совершенно не давалась кондуктору Достоевскому (при 12-балльной системе отметок он за «фрунтовую службу» имел всего от 2 до 4 баллов!), а тут ещё и навалилась впервые тяжкая нервомотательная проблема, которая будет потом преследовать писателя всю его жизнь – деньги. Вернее – их хроническое отсутствие. До поступления в училище Достоевский вообще не знал, что такое свои деньги и соответственно совершенно не умел, не научился с ними обращаться. И эта сторона новой, самостоятельной жизни с самого начала приводила его буквально в отчаяние. Хотя, на первый взгляд, его денежные треволнения кажутся мелкими и даже надуманными. Однокашники, например, к очередному параду-смотру запаслись новыми собственными киверами, и Фёдор начинает бояться, как бы его «казённый» (видимо – поскромнее видом) кивер не бросился в глаза царю на традиционном параде. Пришлось покупать новый за 25 рублей, на последние деньги, так что к «любезнейшему папеньке» летит отчаянная просьба: денег, ради Бога, хоть немного денег! Без них жизнь буквально немыслима! (Письмо от 5 июня 1838 года)
Мольбы о деньгах будут звучать из письма в письмо, но апофеозом этой темы можно считать строки из послания к отцу, которое Фёдор начал 5 мая 1839 года: «…Пишете, любезнейший папенька, что сами не при деньгах и что уже будете не в состоянии прислать мне хоть что-нибудь к лагерям. Дети, понимающие отношения своих родителей, должны сами разделять с ними все радость и горе; нужду родителей должны вполне нести дети. Я не буду требовать от Вас многого.
Что же; не пив чаю, не умрёшь с голода. Проживу как-нибудь! Но я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери; потому что туда надо запасаться этим. Но кончим это…»
Но кончим это!.. Какой подспудный упрёк отцу, какое подчёркнутое самопожертвование. Литературоведы спорят (в частности, В. С. Нечаева с Б. И. Бурсовым[53]), являются ли эти и последующие строки-переживания из письма юного Достоевского основой известного амбициозного восклицания-девиза героя «Записок из подполья» о том, что, мол, пусть лучше весь белый свет в тартарары провалится, а только б ему чаю напиться. Неважно, кто был прав из почтенных достоевсковедов, главное, что есть предмет для полемики. Чай для Достоевского на протяжении всей его жизни играл роль не только любимейшего напитка, но и мерила-границы какого-никакого благополучия. Если уж у человека своего чаю нет, это даже не бедность, это – нищета; а нищета – это уж точно, как сформулирует позже в «Преступлении и наказании» Мармеладов, порок. Дальше, господа, больше некуда!
Так вот, оставив пока чайную острую тему, Фёдор пишет далее подробно о брате Мише, о бесполезности науки математики, о своей неизбывной любви к латинскому языку (каковому, как мы помним, учил его «папенька» – как же не любить-то!) и прочих отвлечённых вещах. Но это письмо отправить сразу не удалось, и 10 мая Достоевский пишет перед отправкой и вкладывает в конверт дополнительно ещё одно, не менее пространное письмо. И вот здесь-то чайная тема всплывает опять и уже на новой – отчаянно-трагической, можно сказать – ноте звучания:
«… Милый, добрый родитель мой! Неужели Вы можете думать, что сын Ваш, прося от Вас денежной помощи, просит у Вас лишнего. … Будь я на воле, на свободе, отдан самому себе (Так и читается между строк: если бы, папенька, Вы меня не сунули сюда, в эту «инженерную тюрьму»! – Н. Н.), я бы не требовал от Вас копейки; я обжился бы с железною нуждою.
… Волей или неволей, а я должен сообразоваться вполне с уставами моего теперешнего общества … лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений требует по крайней мере 40 р. денег. (Я Вам пишу всё это потому, что я говорю с отцом моим). В эту сумму я не включаю таких потребностей, как например: иметь чай, сахар и проч. Это и без того необходимо, и необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождём в полотняной палатке, или в такую погоду, придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мною случилось прошлого года на походе. Но всё-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю…»
Можно только представить, до какой точки тоскливого отчаяния дошёл Фёдор, чтобы упорно колоть и корить отца своего этим злосчастным чаем. И вполне вероятно – отчаяние это, это взвинчивание тона письма было преувеличенным, гипертрофированным, даже истеричным. К примеру, будущий известный географ-путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский, который в юности учился в военной школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и находился в летних лагерях в Петергофе неподалёку от лагерей Главного инженерного училища, пишет в мемуарах: «Я жил в одном с ним (Достоевским. – Н. Н.) лагере, в такой же полотняной палатке, отстоявшей от палатки, в которой он находился (мы тогда ещё не были знакомы), всего только в двадцати саженях расстояния, и обходился без своего чая (казённый давали у нас по утрам и вечерам, а в Инженерном училище один раз в день), без собственных сапогов, довольствуясь казёнными, и без сундука для книг, хотя я читал их не менее, чем Ф. М. Достоевский. Стало быть, всё это было не действительной потребностью, а делалось просто для того, чтобы не отстать от других товарищей, у которых были и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук…»[54]
Однако ж, нам сейчас важно не то, мог на самом деле или не мог Достоевский обходиться в лагерях без чая, важно то, что он уверен был – не мог, ну никак не мог! И, соответственно, – страдал. Чёрт с ними, с сырой погодой и простудами, но вот косые усмешливые взгляды товарищей по оружию на бедность-нищету безчайную – с его ли характером вынести было!
Далее тон письма его становится прямо-таки настойчивым и даже ультимативным: требую только, мол, на самое необходимое – на сапоги, на сундук для личных вещей… Насчёт сундука написана-создана целая поэма в прозе: зачем сундук нужен, какой сундук нужен, почему его на сохранение надо будет сдать и за это опять же платить «условную таксу». Тут же столбиком приводятся-складываются арифметические выкладки общих самых необходимейших (без чая-сахара) расходов и получается: свету ли провалиться, а ещё хотя бы 25 рублей к 1 июня «любезнейший папенька» прислать просто обязан. Иначе нельзя – положение безвыходнейшее, отчаяние полнейшее. Невольно подумаешь: а что бы случилось-произошло, если б отец проигнорировал просьбу сына, отказал в денежной помощи? Человек в отчаянии преувеличивает тяжесть своего положения и готов порой на опрометчивые и самые безумные поступки – вплоть до самых крайних. Это сам Достоевский потом убедительно обрисует-покажет на примере судеб иных своих героев…
В ответ Михаил Андреевич присылает письмо (от 27 мая 1839 года), переполненное такими эмоциями, жалобами-резонами на бедность-нищету и скрытыми, опять же между строк (семейно-фамильный стиль!) упрёками сыну за чрезмерность требований и непростительную расточительность, что письмо Фёдора по сравнению с отцовским может показаться сухим, пресным, без всяких эмоций посланием. «Папенька» живописует, что опять случился в деревне неурожай, сена-соломы на корм скоту зимой не хватило и соломенные крыши с изб ободрали, с начала весны началась ужасная засуха, и озимые погибли, а это угрожает не только разорением, но и настоящим голодом. Однако ж, это ещё не всё: Михаил Андреевич настолько обнищал, что не в состоянии уже четыре года купить себе нового платья и вынужден ходить в ветхом старье… Но (проникнись, сын!) «папенька» решил подождать со своими нуждами и высылает Фёдору 35 рублей ассигнациями – то есть, получается, не только на сундук и сапоги, но и на чай с сахаром…[55]
Это воистину можно считать отцовским подвигом. И подвигом, можно сказать, – предсмертным, ибо менее чем через месяц Михаил Андреевич Достоевский умрёт при весьма загадочных обстоятельствах: так и не будет точно установлено – то ли с ним случился в поле апоплексический удар, то ли замордованные им крепостные крестьяне помогли барину внезапно умереть…
Но здесь надо вернуться чуть назад и вспомнить, что сам Фёдор за полгода до того чуть было не убил собственного «папеньку».
Дело в том, что в письме от 30 октября 1838 года сын был вынужден сообщить-признаться отцу: экзамены по алгебре и фортификации он провалил (интриги, предвзятость!) и в результате оставлен на второй год. Михаила Андреевича эта весть буквально сразила и, как сообщал он в письме к дочери Варе, он чуть было не умер: у него начала неметь левая сторона тела, открылось сильное головокружение, и только вовремя подоспевший в Даровое из соседнего Зарайска фельдшер пустил кровь и в последний момент спас его жизнь.
Не совсем понятно, почему сам лекарь Достоевский не мог пустить себе кровь, но это не суть важно. Важно, что если так остро и трагично воспринял учебную катастрофу сына отец, то уж сам Фёдор, можно легко представить, и вовсе впал в отчаяние. Отголоски его звучат-проскальзывают в письме к Михаилу, написанном на следующий день после послания к отцу: «…Я не переведён! О ужас! ещё год, целый год лишний! Я бы не бесился так, ежели бы не знал, что подлость, одна подлость низложила меня; я бы не жалел, ежели бы слёзы бедного отца не жгли души моей. До сих пор я не знал, что значит оскорблённое самолюбие. Я бы краснел, ежели бы это чувство овладело мною… но знаешь? Хотелось бы раздавить весь мир за один раз…
… Брат, грустно жить без надежды… Смотрю вперёд, и будущее меня ужасает… Я ношусь в какой-то холодной, полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный…»
Весьма соблазнительно в русле нашей темы предположить, что юный Достоевский речь здесь ведёт о самоубийстве, о своих суицидальных мечтаниях, однако ж прямо утверждать этого пока всё же не будем. Хотя для героев-самоубийц будущих его произведений самоубийство как раз чаще всего и является актом «раздавливания всего мира за один раз». Ну а, например, такой заокеанский достоевсковед, как Марк Слоним, даже прямо и убеждённо утверждает: «Пессимистические настроения молодого Достоевского часто принимают характер влечения к самоубийству…»[56] И в качестве примера исследователь приводит даже более «театральные» и отвлечённые строки из другого письма Достоевского к брату Михаилу (от 9 августа 1838 года): «Но видеть одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить её и слиться с вечностию, знать и быть как последнее из созданий… ужасно! Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет!..» (Запомним это восклицание-упоминание – имя шекспировского героя ещё не раз потом появится в текстах писателя.)
«Влечение к самоубийству» в этот период жизни Достоевского носит, скорее, книжный романтико-поэтический, именно театрально-отвлечённый характер. Думается, позднему Достоевскому самому было бы смешно читать иные строки из того письма к брату, где он пишет о желании раздавить весь мир за один раз и о том, что будущего у него нет: «…но вот уже и прежние мечты мои меня оставили, и мои чудные арабески, которые создавал некогда, сбросили позолоту свою. Те мысли, которые лучами своими зажигали душу и сердце, нынче лишились пламени и теплоты; или сердце моё очерствело или… дальше ужасаюсь говорить… Мне страшно сказать, ежели всё прошлое было один золотой сон, кудрявые грёзы…»
Однако ж, особого упоминания стоит то, что именно в этот период юный Фёдор впервые реально сталкивается с реальным фактом суицида – ближайший товарищ братьев Достоевских поэт Иван Шидловский как раз в декабре 1838 года бросился от несчастной любви в прорубь Фонтанки. Злополучный романтик, к счастью, был спасён случайными прохожими, но можно представить, какое потрясение испытал Достоевский, сам твердивший о «сведении счётов с жизнью». Он, как пишет в письме к брату (1 января 1840 г.), оказывает нравственную поддержку самоубийце-неудачнику, проводя с ним целые вечера в беседах. Понятно, что автор будущей «Хозяйки» (а Шидловский послужит прототипом Ордынова) в этих беседах постарался докопаться до корней суицидальных мыслей своего товарища, примеряя откровения его на себя.
И ещё одно можно предположить наверно и твёрдо: все эти гамлетовские романтические угрозы самому себе и своей Судьбе покончить счёты с жизнью, если только она окажется совершенно бессмысленной и невыносимой, выкристаллизовались бы непременно очень скоро в твёрдое убеждение, а затем и в действие, если б Достоевский потерпел сокрушительный крах на первых же шагах литературного поприща. Расплёвываясь осенью 1844 года с военной карьерой в самом её начале окончательно и бесповоротно, отказываясь добровольно от твёрдого казённого жалования (каковое в цифровом выражении имело прямо-таки зловещий, дьявольский, вид – 66 руб. 66 коп.[57]), уходя, по-современному говоря, на вольные хлеба, обрекая себя на нищету и неизвестность будущности своей, он поставил на карту не только свою Судьбу, но и жизнь. И вот в этот-то период, когда «Бедные люди» ещё только создавались-рождались из-под его пера, и всё зависело от успеха или неуспеха этого литературного дебюта, Достоевский начинает упоминать в письмах о самоубийстве уже совершенно, как говорится, на полном серьёзе, без дураков. К примеру, 24 марта 1845 года он пишет Михаилу: «Так дело в том, что я всё это (Отсутствие денег. – Н. Н.) хочу выкупить романом. Если моё дело не удастся, я, может быть, повешусь…»
Здесь, конечно, надо упомянуть (а далее об этом поговорим подробнее), что литературный успех или неуспех был напрямую связан с нищетой или достатком, а этот фактор тоже весьма громадное влияние оказывал на самоубийственные мысли. Судьба литератора-неудачника страшила Достоевского, приводила его в состояние болезненной тоски. Притом, особенно невыносима мысль, что в литературе и вообще в искусстве можно было загубить судьбу, погибнуть даже и при наличии таланта. Восклицание «повешусь!» проскочило в письме к брату от 24 марта совсем не случайно. В постскриптуме Фёдор упоминает, что накануне прочёл в «Инвалиде» о немецких поэтах, «умерших с голоду, холоду и в сумасшедшем доме», и ему сделалось страшно.
Действительно, заметка А. Вейса «Поэты в Германии» («Русский инвалид». 1845. 22 мар.), речь в которой идёт и о композиторах, способна была омрачить состояние души любому начинающему творцу: «Лессинг умер в нужде… Шиллер никогда не имел 1000 франков, чтобы съездить взглянуть на Париж и на море. Моцарт получал всего 1500 франков жалования, оставив после смерти 3000 франков долгу. Бетховен умер в крайней нужде… Гёльти, чистый поэт любви, давал уроки по 6 франков в месяц, чтобы иметь кусок хлеба. Умер молодым – отравился. Бюргер знал непрерывную борьбу с нуждою. Шуберт провёл 16 лет в заключении и кончил сумасшествием. Граббе, автор гениальных “Фауста” и “Дон Жуана”, в буквальном смысле умер с голода 32 лет. Ленц, друг Гёте, умер в крайней нужде… Писатель Зонненберг раздробил себе череп. Клейст застрелился; Лесман повесился; Раймунд – поэт и актёр – застрелился. Луиза Бришман кинулась в Эльбу. Шарлотта Штиглиц заколола себя кинжалом. Ленау отвезён в дом умалишённых».
Конечно, в тогдашней российской действительности такой массовой гибели поэтов (в широком смысле слова) от нищеты ещё не наблюдалось, но объяснить это просто: во-первых, в России того времени литературой и музыкой занимались в основном дворяне, люди более или менее обеспеченные, а во-вторых, профессиональных, на вольных хлебах, поэтов практически не было. Разве что начинающий Некрасов, но и он ставку делал не столько на литературу, на творчество, сколько на издательскую деятельность, в чём вскоре и преуспел. (Понятно, что в данном контексте не упоминается Гоголь, который хотя и жил-существовал на этих самых вольных хлебах, но в основном за счёт выпрашиваемых для него Жуковским царских подачек.) Так что молодой Достоевский оказался на этом кремнистом пути первопроходцем. И немудрено, что он сопоставлял свою гипотетическую судьбу с трагическими судьбами немецких творцов-пролетариев. Вот поэтому он с такой истовой убеждённостью и заявлял в другом письме к тому же Михаилу (4 мая 1845 года): «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву. Что же делать? Я уже думал обо всём. Я не переживу смерти моей idée fixe…»[5]
Мысль о самоубийстве, как уже упоминалось, имеет страшное свойство: раз-два мелькнув в сознании в виде мрачной шутки, романтического мечтания, она возвращается вновь и вновь, приобретая всё более настойчивый, требовательный и как раз идеефиксовый характер. Человек привыкает думать о самоубийстве, свыкается сначала с мыслью о возможности, а затем, если ничто его не остановит, – о необходимости и, наконец, неизбежности такого лёгкого выхода из любого жизненного тупика. Притом, несчастный самоубийца совершенно забывает прошлый свой жизненный опыт или сознательно старается забыть, что прежде глухой тупик при подходе к нему вплотную оказывался всякий раз всего лишь очередным поворотом, и впереди открывался новый широкий и длинный путь-коридор в жизненном лабиринте.
Так вот, молодой Достоевский всё более и более втягивался в эту опасную игру с собственным сознанием и собственной волей: он возвращался и возвращался к опасным самоубийственным мыслям, хотя страстно желал жить и страшно не хотел умереть рано и внезапно. Он, к примеру, боялся летаргии и оставлял записки перед сном с предупреждением – в случае его «смерти» не торопиться его хоронить, дабы не произошло ужасной ошибки[58]. И в то же время Достоевский то и дело легко разбрасывается в письмах суицидальными угрозами – повешусь, утоплюсь, погибну…
Что поразительно, он и после несомненного успеха «Бедных людей», после плодотворного начала профессиональной литературной деятельности, после блистательного осуществления своей подростково-юношеской мечты (стать известным значимым писателем) уже не силах отвязаться от мыслей о самоубийстве. Он твердит и твердит в письмах брату-наперснику, что его давит невыносимая тоска, и что он с радостью бы сейчас же умер (к примеру, письма от начала сентября 1845 года и января-февраля 1847-го). А в письме от 31 марта 1849 года, за несколько дней до своего ареста, к издателю «Отечественных записок» А. А. Краевскому, у которого он тогда по преимуществу и печатался, Достоевский, выясняя их запутанные денежные отношения и выпрашивая ещё денег авансом, даже как бы угрожает своей внезапной смертью: мол, Андрей Александрович, если я вдруг умру от безысходности положения, то вы и вовсе мой долг никогда не получите, так что, дескать, уж пришлите ещё маленькую толику на прожитьё…
Прямо-таки шантаж угрозой самоубийства!..
Ну и, разумеется, в первых же произведениях молодого писателя суицидальная тема не могла не появиться.
Герой «Бедных людей» Макар Алексеевич Девушкин, удивительно подражая автору, то и дело в письмах к Вареньке грозится этим: «Пойду к Неве, да и дело с концом. Да, право же, будет такое, Варенька; что же мне без вас делать останется!..» Это он пишет 1-го июля, отговаривая Вареньку идти «в люди», в гувернантки, и в конце письма ещё раз подчёркивает: мол, она не только себя этим погубит, но и его тоже – доведёт до греха (то есть, до самоубийства). Варенька, вняв мольбам Макара Алексеевича, от места гувернантки отказывается.
Но, спустя месяц, обстоятельства складываются так, что Вареньке всё же необходимо срочно съехать с этой квартиры (её взялись осаждать сластолюбивые «женихи»), и она умоляет Макара Алексеевича срочно найти-занять где-нибудь для этого переезда денег. Бедный Девушкин в отчаянии: и не помочь нельзя, а поможешь – тоже смерть для него, улетит его «милая пташка» из гнёздышка, а разлуки он не переживёт. И всё же герой, разрываемый двойственным (амбивалентным!) чувством, клятвенно обещает выпросить вперёд жалование (хотя и без того уже набрал авансом невозможно сколько) и без денег не возвращаться. И опять же: если денег не выпросит – то не воротится тогда, просто «сгинет куда-нибудь, пропадёт».
Короче, жизнь свою Макар Алексеевич Девушкин готов в любую минуту добровольно поставить на кон. Но ещё более удивительно, что тут же, буквально следом после мрачно-погибельных слов «сгину» и «пропаду», герой наш простодушный пишет, что-де побриться ему нужно перед визитом к начальству-то. Обязательно нужно побриться для благообразия. Казалось бы, этим будничными заботами Девушкина о бритье напрочь умаляются-стушёвываются его угрозы-восклицания о конце жизни, погибели, его угрозы броситься в Неву. Однако ж, в будущих своих произведениях писатель-психолог ещё более разовьёт этот момент, эту деталь в поведении самоубийц: многие из них в самый последний момент перед добровольной смертью (или попыткой суицида) будут озабочены самыми прозаическими мыслями и совершать самые приземлённые поступки. Например, героиня повести «Кроткая» (1876 год) буквально за час до самоубийства пьёт традиционный утренний чай. У Достоевского упомянуто скупо, что они с мужем сошлись утром у самовара, и она была чрезвычайно внешне спокойна. Толчком к написанию этой повести послужила заметка в «Новом времени» (1876, 3 октября) о некоей швее Марье Борисовой, которая выбросилась из окна с образом Божией Матери в руках. Так вот, эта несчастная Марья Борисова буквально перед самым самоубийством пила чай с калачом, и только лишь хозяйка квартиры вышла по делам, она прямо из-за стола, может даже и калач не прожевав, бросилась к окну…
Главный герой второй повести молодого Достоевского – «Двойник» – господин Голядкин и вовсе уже изначально является потенциальным самоубийцей. Психиатрия того времени утверждала, что вообще «только в состоянии безумия человек способен покушаться на свою жизнь, и все самоубийцы – душевнобольные люди»[59]. Э. Дюркгейм в своей книге «Самоубийство» даёт подробный обзор медицинских трудов, в которых высказывается подобная точка зрения. Сам Дюркгейм менее категоричен и путём статистических выкладок доказывает, что отчаявшихся и решившихся на крайний шаг людей хватает и среди нормальных. Но и этот французский социолог-психолог утверждает однозначно: неврастения, начальная форма сумасшествия – прекрасная почва для мыслей о самоубийстве.
Думается, не надо быть психиатром и даже психологом, чтобы признать героя «Двойника» ярко выраженным неврастеником. (Неврастения – нервно-психическое заболевание, обусловленное психическим перенапряжением и проявляющееся повышенной возбудимостью и раздражительностью в сочетании с бессонницей и быстрой утомляемостью[60].) И, без сомнения, сам Достоевский неврастеником был уже с юных лет, судя по многочисленным воспоминаниям современников, и в частности, такого компетентного специалиста, как доктор А. Е. Ризенкампф. Кстати, самое время привести-процитировать здесь эту своеобразную «больничную карту» молодого Достоевского полностью, дабы представить себе, какие болезненные страдания терпел-выносил он с юных лет: «Я выше говорил о постоянной болезненности Фёдора Михайловича. В чем состояла эта болезненность и от чего зависела она? Прежде всего он был золотушного телосложения, и хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желёз, также землистый цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на кахексию) и на хроническую болезнь воздухоносных путей. Впоследствии присоединились опухоли желёз и в других частях, нередко образовались нарывы, а в Сибири он страдал костоедой костей голенных. Но он переносил все эти страдания стоически и только в крайних случаях обращался к медицинской помощи. Гораздо более его тревожили нервные страдания. Неоднократно он мне жаловался, что ночью ему все кажется, будто бы кто-то около него храпит; вследствие этого делается с ним бессонница и какое-то беспокойство, так что он места себе нигде не находит. В это время он вставал и проводил нередко всю ночь за чтением, а ещё чаще за писанием разных проектированных рассказов. Утром он тогда был не в духе, раздражался каждой безделицей…»[61]
Между прочим, в самый разгар работы над «Двойником» Достоевский в уже упоминаемом письме к брату Михаилу (сентябрь 1845 года), жалуясь на несносное расположение духа, грусть, апатию, тоску и восклицая, что с радостью бы умер в эту же минуту, ибо будущее безотрадно и «весь этот спектакль решительно не стоит свечей», обранивает вдруг многознаменательную фразу: «Я теперь настоящий Голядкин…»
И вот (возвращаемся к герою) на этого титулярного советника Якова Петровича Голядкина, с донельзя, до последней степени расстроенными нервами, обрушивается жизненная катастрофа. Он тихой сапой, с чёрного хода, проникает в дом статского советника Берендеева, где гремит-сверкает бал в честь дня рождения его дочери и предмета любви Голядкина Клары Олсуфьевны, даже уже осмелился на польку её пригласить, как вдруг слуги буквально вышвыривают его за шкирку из праздничной атмосферы на промозглую улицу. Что же должен был чувствовать в сей трагический, позорно-сокрушительный момент наш неврастеник? «Господин Голядкин был убит, – убит вполне, в полном смысле слова … господин Голядкин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться … Действительно, положение было ужасное!..»
В отчаянии Голядкин остановился, навалился на перила набережной «и пристально стал смотреть на мутную, чёрную воду Фонтанки…» А что в природе творится! С небес падает-льётся снег пополам с дождём, воет ноябрьский ветер, сырой туман клубится. Придавленный, убитый катастрофой, униженный и оскорблённый, стоит амбициозный полупомешанный титулярный советник на мосту и смотрит, смотрит, смотрит в тёмную притягательную воду. О чём он думает? На что решается? «…в это мгновение господин Голядкин дошёл до такого отчаяния, так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа, что позабыл обо всём… Что ж в самом деле? ведь ему было всё равно: дело сделано, кончено, решение скреплено и подписано; что ж ему?..»
Как видим, мысли путанные, смысл неясен: какое дело сделано? Какое решение принято?.. Да ведь, вероятнее всего, Яков Петрович решился разом покончить со всей этой обрушившейся на него позорной катастрофой, раздавить весь постылый и враждебный мир за один раз. Если внутри, в душе такое слякотное состояние, а вокруг такая мерзкая осенняя слякоть, то в воде-то, в реке, может, оно и покойнее будет?..
«Вдруг… вдруг он вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага на два в сторону…» Что же случилось, что спасло Голядкина в самую последнюю минуту от самоубийства? А спас его, как ни странно это звучит, резкий прогресс в его психопатическом состоянии: именно в этот момент и началось раздвоение личности господина Голядкина. Именно в этот миг ему впервые почудилось, будто рядом с ним, точно так же облокотясь на перила, кто-то стоял и «даже что-то сказал ему, что-то скоро сказал, обрывисто, не совсем понятно, но о чём-то весьма к нему близком, до него относящемся». Нетрудно предположить, что мог сказать-шепнуть Голядкин 2-й Голядкину 1-му: бросайся, милый, в воду, кончай свои мучения разом – ей-Богу, сей жизненный спектакль не стоит свечей!.. Но бедный Голядкин испугался не слов своего двойника, а именно такого внезапного явления его и отскочил от перил. По известной поговорке «клин клином вышибают» у господина Голядкина одна болезнь (прогрессирующее сумасшествие) одолела, стушевала, подавила другую – влечение к суициду. И, к слову, зачастую вообще самое лучшее лекарство в самый последний момент от самоубийства – душевное потрясение. И безразлично какое – положительное или отрицательное: радость или ещё большее горе, испуг или гнев, жаркий поцелуй любимой или нападение грабителя, свалившееся на голову миллионное наследство или, наконец, внезапный арест…
В 1847 году Достоевский пишет и публикует в «Отечественных записках» повесть «Хозяйка». Писал он её с жаром и вдохновением, считал-надеялся, что выйдет нечто даже лучше «Бедных людей» (предыдущие произведения – «Роман в девяти письмах» и «Господин Прохарчин» – автор и сам, вслед за критиками, посчитал неудавшимися), однако ж литературный мэтр Белинский оценил «Хозяйку» крайне отрицательно, объявив, что молодой писатель вздумал здесь помирить Марлинского с Гофманом и получилась ерунда страшная и непонятная[62]. Белинский, которому не суждено было узнать весь творческий путь гения, не мог, конечно, заметить, что в этой ранней повести впервые появился у него тип мечтателя (Ордынов) – характерный тип человека, чрезвычайно, стоит подчеркнуть, предрасположенный к самоубийству. И герой «Хозяйки» не только мечтатель-романтик, как, к примеру, герой «Белых ночей». Л. П. Гроссман вполне справедливо замечает: «По своей типичной сущности Ордынов – предвестник Раскольникова. Перед нами одинокий, одичавший в своём уединении мыслитель…»[63]
Уточним и дополним: в Ордынове можно усмотреть и штрихи-намётки подпольного типа, тоже одного из капитальнейших в мире Достоевского. Впрочем, в этом мире все подпольные герои – мечтатели; а все мечтатели – подпольные. Вот и Ордынов, закончив курс в университете и получив малую толику грошового наследства, снял первый попавшийся угол и на два года забился-залёг в нём, как в подполье. Правда, Достоевский, ещё, разумеется, и не предполагавший, что через полтора десятка лет напишет-создаст «Записки из подполья», только обозначил-назвал в «Хозяйке» целое громадное явление русской действительности и одну из основополагающих черт, как мы сейчас красиво выражаемся, менталитета русского думающего человека – подпольность и пояснил это на примере Ордынова так: «Там (В своём углу. – Н. Н.) он как будто заперся в монастыре, как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно…»
Конечно, у Ордынова ещё и в помине нет подпольной философской идеи-платформы героя «Записок…», как нет и стремления в своём «монастырском» уединении (как в будущем, допустим, у Алёши Карамазова в настоящем монастыре) найти душевный покой, обрести истинную веру, познать мир Божий и себя в этом мире. Ордынова всего лишь пожирала и требовала уединения всепоглощающая страсть к науке. К какой конкретно – понять из текста повести трудно: что-то похожее на философию, а может быть, даже и на социологию, политэкономию или что-то в этом роде. Именно в период работы над повестью Достоевский и начал посещать кружок Петрашевского, так что немудрено, если герой его в своём подполье-«монастыре» вслед за Фурье, Оуэном и Сен-Симоном вынашивал-создавал свою теорию социального переустройства мира. «Он сам создавал себе систему; она выживалась в нём годами, и в душе его уже мало-помалу восставал ещё темный, неясный, но как-то дивно-отрадный образ идеи, воплощённой в новую, просветлённую форму, и эта форма просилась из души его, терзая эту душу; он ещё робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность её: творчество уже сказывалось силам его; оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания был ещё далёк, может быть, очень далёк, может быть, совсем невозможен!..»
В конце повести будет упомянуто, что в самое последнее время, перед тем, как выйти из подполья, Ордынов в «нетворческие минуты», то есть для отдыха, писал ещё и некое сочинение по истории церкви.
И вот этот подпольный мечтатель-утопист, вынужденный в силу обстоятельств переменить квартиру, как бы очнулся, ожил и мгновенно, забыв о мировых проблемах, заболел проблемами эгоистично-личными. Он влюбился страстно, безумно и – вот именно! – болезненно в молодую жену хозяина новой квартиры старика Мурина – Катерину. Вернее, он влюбился в неё ещё раньше, увидев-встретив совсем случайно в церкви, и именно из-за неё, преодолев сопротивление Мурина, снял у них угол.
С «неистовым Виссарионом» можно согласиться в том, что в «Хозяйке» действительно чересчур много непонятного, туманного, таинственного и необъяснённого. Но одно можно сказать твёрдо: восторженно-мечтательный Ордынов тоже, как и герой «Двойника», – ярко выраженный неврастеник, то и дело подумывает о самоубийстве, близок к нему. Только лишь перебравшись на новую квартиру и ещё не зная совершенно будет ли безответной или, наоборот, взаимной его любовь, он уже заранее восклицает про себя: «Нет, лучше смерть… лучше смерть…» И надо добавить, что он к тому же по-настоящему, так сказать, телесно заболевает в тот момент: у него озноб и жар, страшное сердцебиение, губы его воспалены…
Но вот какова парадоксальность натуры Ордынова: ему хочется немедленно умереть (давайте уж скажем – самоубиться!) и от предельного счастья, и от предельного горя – и от разделённой любви, и от несчастной. Полуочнувшись на мгновение об болезненного бреда, он вдруг видит над собою лицо той, о которой он только что мечтал-бредил в горячечном забытьи. Более того, Катерина склонилась над ним с нежною заботливостью, её ласковая рука лежит на его воспалённом лбу, лицо её прекрасное омочено слезами сострадания и более чем «материнского» участия… Какие же мысли-чувства обуревают в сей сладостный момент восторженного Ордынова? Он хочет поблагодарить прекрасную «хозяйку», хочет взять её за руку, он хочет эту ручку «поднести к запёкшимся губам своим, омочить её слезами и целовать, целовать целую вечность…» Он хочет, в конце концов, многое, очень многое сказать Катерине, но… Ни единое из этих в общем-то простых, естественных и вполне доступных желаний Ордынов в жизнь не претворяет. Зато вдруг все эти мысли-желания умаляет-поглощает одна и совершенно чудовищная: «…ему захотелось умереть в эту минуту».
И абсолютно та же мысль-идея и точь-в-точь в тех же словах стучит-пульсирует в воспалённом мозгу Ордынова, когда он, спустя время, вынужден навсегда расстаться с любимой и полюбившей его Катериной, съехать с квартиры: «Он не мог вынести более; он был как убитый; сознание его цепенело. … Ему хотелось умереть в эту минуту…» Стоит добавить, что, когда Катерина в первый раз поцеловала его в губы – «как будто ножом ударили его в сердце…» Что и говорить – довольно странные ассоциации!
Если у мечтателя Ордынова стремление к самоубийству носит всё же весьма отвлечённо-романтический и несколько абстрактный характер, то другой персонаж повести – Мурин – оказывался в своей жизни-судьбе буквально на волосок от добровольной гибели. Некогда он был чрезвычайно богатым купцом, но внезапно разорился, что привело его не то что к неврастении, а уж к настоящим приступам полного сумасшествия. Вот в одном из таких припадков он и бросился убивать своего хорошего товарища, молодого купца, а когда очнулся и узнал о случившемся – «готов был лишить себя жизни». Неизвестно, что остановило-образумило Мурина от этого рокового шага, скорее всего, уже тогда ярко выраженная страстная набожность, только кончать с собою он не стал, а вместо этого подверг сам себя строгому церковному наказанию – несколько лет находился под покаянием. Кстати сказать, это типичный пример, когда самоубийство (желание его) является как бы формой самоказни за совершённое преступление, и не менее типичный пример, когда истинно верующий человек находит в себе силы отказаться от бунта против Бога, от роли человеко-Бога, самолично решающего свою судьбу. Тема эта наиболее скрупулёзно и всеобъемлюще будет исследована-показана Достоевским позже в «Бесах», в образе-судьбе Кириллова…
Впрочем, не будем забегать вперёд и покончим с Муриным. А этот таинственный Мурин, при всей своей набожности превратившийся под старость лет по сути в колдуна-ведуна, словно позабыл, как чуть было не стал в молодости убийцей. В припадке ревности, который через мгновение превратился в припадок падучей (эта болезнь через несколько лет станет главной болезнью Достоевского), он стреляет в Ордынова из ружья, но, к счастью, промахивается. А потом, некоторое время спустя, уговаривая Ордынова съехать с квартиры и оставить в покое якобы помешанную Катерину навсегда, Мурин, опять же словно запамятовав, как чуть было не стал самоубийцей когда-то и забыв о страхе Божием, вновь выставляет собственную добровольную смерть в качестве последнего аргумента в разговоре-споре с Ордыновым: мол, если тот заберёт-уведёт у него Катерину, ему, Мурину, тогда «что ж делать, в петлю лезть, что ли?..»
В конце концов, Ордынов на себя такого греха не берёт, смерть Мурина ему ни к чему (хотя, к слову, был момент, когда он явно возжелал зарезать опьяневшего и уснувшего Мурина, уже и нож схватил, да муж Катерины вовремя очнулся), с квартиры он съезжает, впадает в тоску и, как уже говорилось, в голове его начинают роиться мысли о внезапной и столь желанной смерти. Вероятно, спасла Ордынова, как некогда и Мурина, вера, религия, обострившаяся в нём истовая набожность – он целые часы проводит в церкви, молится до полного изнеможения, вымаливает у Бога душевного спокойствия и дарования сил пережить-выдюжить разлуку с любимой и тяжесть одиночества…
А вот героя следующего крупного произведения Достоевского (после ряда небольших рассказов) – сентиментального романа «Белые ночи» (1848) – от самоубийства спасает… мечтательство. Да, то самое мечтательство, которое способно довести иного замечтавшегося романтика до суицидного шага, в иных случаях именно удерживает-спасает бедолагу от петли, воды или пули, одурманивая его мозг, словно наркотиком, всё новыми и новыми волнами розового тумана.
Больше всего герой повести боится утратить способность мечтать, он страшится реальности, своего безотрадного будущего. Ещё едва только встретившись-познакомившись с Настенькой, он выплёскивает-выдаёт в разговоре с нею свой страх: «Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем – опять одиночество, опять эта затхлая ненужная (Подчеркнём. – Н. Н.) жизнь…» И далее Мечтатель вдохновенно выдаёт Настеньке целую поэму-импровизацию о мечтательстве, заменившем, подменившем и заслонившем для него реальную убогую действительность. И он признаётся, что после таких «фантастических (мечтательных) ночей» на него находят «минуты отрезвления, которые ужасны», он с тоской осознаёт, что фантазия его со временем истощается, устаёт, и впереди его неизбежно ждёт мрачный конец: «Ещё пройдут годы, и за ними придёт угрюмое одиночество, придёт с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние…»
Уж разумеется, Мечтатель не всё договаривает, но можно догадаться, что не раз и не два в минуты жестокого ужасного отрезвления от мечтаний он задумывался всерьёз: а стоит ли ждать, когда фантазия его окончательно истощится, и он останется один на один с невыносимой тоскливой действительностью?.. По крайней мере, в словах его, вырвавшихся в первую же встречу с Настенькой, звучит вполне определённый намёк на это: «Две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да! счастливым; почём знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения… … Ну, да я вам завтра всё расскажу, вы всё узнаете, всё…» Назавтра-то Мечтатель и рассказывает Настеньке про такие ужасные «минуты отрезвления», наступавшие после часов, после ночей сладких фантазий.
Между прочим, Настенька своей чуткой женской душой что-то чувствует, улавливает, догадывается, до каких мрачно-тяжёлых депрессивных крайностей доходит порою в мыслях её новый друг-знакомый. Даже больше того, она предполагает, что Мечтатель и в других наклонен видеть-подозревать стремление искать выход из жизненного тупика в самоубийстве. В повести есть такой эпизод («Ночь четвёртая»): любимый Настеньки, её жених-студент, не ответил на её письмо. Девушка в отчаянии, она плачет – он её забыл, разлюбил, бросил, предал! Мечтатель, сам уже жарко влюблённый в Настеньку, но, тем не менее, добровольно и добросовестно исполняющий роль посредника-почтальона между нею и женихом, пытается её успокоить, но, вероятно, таким напряжённо-испуганным тоном, с таким гипертревожным видом, что Настенька невольно вскрикивает: «Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слёзы, это просохнет! Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?..»
Настенька, конечно же и слава Богу, не утопится, ибо жених вернётся, все недоразумения разрешатся и впереди – свадьба. Счастливая сверх меры и наивная Настенька даже имеет чисто женское жестокосердие просить в прощальном письме Мечтателя, чтобы он любил её по-прежнему и даже приходил к ним в дом, так сказать, просто в гости, на чай…
Соглашается на дальнейшую жизнь и наш герой-романтик. Он даже представляет себе, каким будет-станет через пятнадцать лет – «постаревшим, в той же комнате, так же одиноким…» Но он уже знает, что мечтательство поможет ему, поддержит его, и конкретно – воспоминания об этих четырёх чудесных белых ночах, об этом пылком сентиментальном романе с Настенькой. Эти четыре необыкновенные ночи сжались-сконцентрировались для него в целую «минуту блаженства и счастия», которая теперь словно фантастический какой-то, неиссякаемый источник энергии будет поддерживать существование Мечтателя долгие годы. «Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»
Вопрос, конечно, риторический и для Мечтателя-героя, и для мечтателя-автора.
Совсем неудивительно, что, начиная работу над следующим и самым на тот период объёмным по замыслу произведением – романом «Неточка Незванова», – Достоевский довольно значительную роль отводит герою-мечтателю Оврову. Однако ж, вскоре уже писатель от первоначального варианта отказывается, и образ Оврова отходит на второй и даже десятый план. Но мечтательство как образ жизни и смысл существования присущ многим персонажам этого произведения в той или иной мере и в разных проявлениях. К сожалению, роман так и остался незавершённым из-за ареста Достоевского в апреле 1849 года, нам осталась неизвестной взрослая часть жизни Неточки Незвановой, но вот судьба отчима её, Ефимова, развёрнута-обрисована полностью от начала и до трагического конца. И именно для нашего разговора о самоубийстве судьба этого героя и он сам как раз и представляют чрезвычайный интерес. Особенно ещё и потому, что герой этот наделён творческим началом. Можно смело предположить, что в судьбе Ефимова писатель как бы проиграл-вообразил на перспективу собственную свою судьбу в самом её худшем, самоубийственном, варианте. Опасения, страхи, тревоги молодого Достоевского за своё литературное будущее, свою творческую карьеру, сомнения в том, хватит ли у него таланта, сил, воли, упорства и уверенности в себе, дабы сказать своё – новое – слово в литературе, – вот материал, из которого лепился-создавался Ефимов, писалась-придумывалась его биография-судьба творца, человека творческого.
Притом, Достоевский в полном смысле слова испытал драму Ефимова во всей её тяжести: после оглушительного успеха «Бедных людей», после общего хора восторгов, после панегириков самого Белинского, после сладких эпитетов «громадный талант» и даже «гений», после того, как он уже вообразил-поверил, что добился полного успеха и впереди одна только слава, после всего этого вдруг – насмешки, злобные эпиграммы, прозвище «литературного прыща», улюлюканье «сотоварищей» и уничижительный приговор того же Белинского. К тому же Достоевский, с его мнительным, вспыльчивым и неврастеническим характером, склонен был всё преувеличивать и воспринимать болезненнее, чем оно того стоило. По крайней мере, печатно Белинский весьма деликатно критиковал молодого писателя лишь за неумение совладать со своим художественным даром и ни в коем случае сомнений в его таланте не высказывал. Более того, и в приватных разговорах суровый критик выражал не раздражение или насмешку, а – тревогу за творческую будущность начинающего романиста. Так, в доме Панаевых, за картами, он как-то заметил: «Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того, чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдёт вперёд…»[64] Но ведь эти слова тютелька в тютельку подходят и к Ефимову, в его-то судьбе они как раз оправдались совершенно и полностью.
Ефимов – музыкант, скрипач. У него действительно были в юности задатки, обнаружилась искра Божья, перед ним открывалась возможность проявить себя, достичь высот, прославиться, но… Но сам же Ефимов первым в себе, в своём таланте и усомнился. Он испугался, что не справится, не сможет, не потянет – не сыграет обещанную ему судьбой роль гения. А он внутренне убеждён, он уверен в своей гениальности (вполне простительная слабость каждого творца!), он считает, что стоит ему только всерьёз, в полную силу взяться за скрипку…
Увы, герой выбирает самый лёгкий и погибельный для любого художника путь – мечтательство. Мечтательство как самообман. «Он мечтатель; он думает, что вдруг, каким-то чудом, за один раз станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз: aut Caesar, aut nihil[6], как будто Цезарем можно сделаться так, вдруг, в один миг. … он всё-таки уверен, что он первый музыкант во всём мире. Уверьте его, что он не артист, и я вам говорю, что он умрёт на месте как поражённый громом…»
Конечно, слова эти о моментальной смерти употреблены персонажем Б., хорошо знавшим Ефимова, в переносном смысле, образно, отвлечённо, но этот Б. и сам не подозревал, насколько он был близок к истине. Ефимов услышал игру гениального скрипача-гастролёра С—ца и – произошло полное крушение всех его мечтаний: окончательно и бесповоротно Ефимов убедился-уверился, что талант свой и жизнь свою он пропил-просвистал, и что никакой он не гений и впереди лишь безобразная пьяная похмельная старость в безызвестности и беспросветной нищете. Мозг его не выдержал этого, сознание помутилось. Началась агония самоубийцы.
Не исключено, что это он в прямом смысле слова убил-задушил мать Неточки. Сцена написана туманно, полунамёками, сквозь болезненное восприятие полусонной девочки, но, по крайней мере, сам Ефимов, чувствуя-осознавая себя убийцей, оправдывается перед Неточкой, показывая на труп её матери: « — Это не я, Неточка, не я… Слышишь, не я; я не виноват в этом…» Он в затмении чуть было не убивает и Неточку и лишь в последнее мгновение очнулся-спохватился, опустил занесённую для страшного удара скрипку.
И вот обезумевший отчим и больная падчерица выбегают из мрачной затхлой своей квартиры, где остывает труп жены и матери, чтобы устремиться куда-то далеко, навстречу новой, светлой, счастливой жизни (они оба мечтали об этом давно, особенно – Неточка); ведь где-то же есть эта светлая счастливая жизнь! Как это зачастую и бывает у Достоевского, петербургские улицы мрачны и донельзя неуютны: промозгло, холодно, идёт мокрый снег… И вот через четверть часа как бы целеустремлённой ходьбы (а они идут молча, отчим, судорожно поддёргивая под мышку футляр со скрипкой, упорно о чём-то думает), Ефимов вдруг сворачивает с тротуара к берегу канавы и садится на тумбу. Вода канавы закована грязным льдом, но особо отмечается: «В двух шагах от нас была прорубь…» Это Неточка невольно отметила-запомнила, случайно, однако ж вполне можно предположить, что упорно думающий о чём-то Ефимов остановился и сел «в двух шагах» от проруби совсем не случайно. По существу, это был уже «живой труп», мертвец, остатками сознания он понимал, что жизнь его кончилась-оборвалась. А здесь – прорубь рядом, притягательная глубь тёмной воды, вечное упокоение… Вот только девчонка мешает!
Хитрому, как и все сумасшедшие, отчиму удаётся уговорить Неточку, чтобы она побежала назад домой и позвала соседей к телу матери, а потом вернулась. Но у него не хватило терпения дождаться, пока она свернёт за угол, он уже не в состоянии ждать, тянуть волынку, он вскакивает, он бежит прочь – скорее, скорее избавиться от привязчивой девчонки! В Петербурге, на его реках и канавах, ещё много других прорубей!..
Конечно, досочинять-фантазировать за Достоевского было бы странно, но в контексте повествования суицидальное направление мыслей Ефимова прочитывается вполне. Судьба распорядилась так, что у бедняги припадок иступлённого помешательства обострился, он совершенно потерял власть над собой, своими поступками, попал в больницу, где и умер как бы своей собственной смертью. Но ещё и ещё раз стоит подчеркнуть: Ефимов – самый настоящий самоубийца. Самоубийца своего таланта, своей судьбы и, в конечном счёте, – своей жизни…
В первоначальном, журнальном, варианте начала «Неточки Незвановой» был ещё такой персонаж – сирота Ларенька, о нём уже упоминалось ранее. Так вот, этого маленького мальчика терзала навязчивая идея – как-нибудь вот так взять, да и умереть внезапно. По ночам к нему является его умершая маменька, ласкает-голубит его, после чего Ларенька просыпается и начинает мечтать о смерти. А жизнь у бедного сиротки в княжеском доме, и вправду, невыносима: его мучают французской грамматикой, а огромный хозяйский дог Фальстафка его ненавидит и «поклялся и дал себе честное благородное слово скушать когда-нибудь бедного Ларю вместо завтрака», к тому же старуха княжна, будто бы, его ненавидит… Нам, взрослым, такие заботы-тревоги кажутся почти смешными, но мальчонка буквально заболевает от них. Одним словом, Ларя твёрдо решил «бежать на могилку к своей маменьке, чтоб там умереть…»
В конце концов, добрый князь по совету докторов отправил впечатлительного мальчика из гнилого мрачного Петербурга к родственниками в солнечную Малороссию и тот остался жив. Надо полагать, кой-какие детские воспоминания Достоевского отразились в образе и судьбе этого маленького героя: самого Федю когда-то мучили если не французской грамматикой, то латынью…
Итак, подведём кое-какие предварительные итоги. В первом – докаторжном – периоде своей жизни, в начале литературной карьеры Достоевский весьма часто думает-упоминает о самоубийстве и в повседневной жизни, и в творчестве. В итоге он создаёт образ Ефимова, и в судьбе его исследует-рисует самый для себя страшный вид суицида – творческое самоубийство, которое, в свою очередь, приводит или к умопомешательству, или к самоубийству физическому. Достоевский многое понял и решил-определил для себя, сочиняя историю-судьбу Ефимова, избавлялся, вероятно, от определённых комплексов и страхов, но и понимал, что находится только в самом начале исследования капитальной темы – темы добровольного ухода человека из жизни.
Темы самоубийства.
Ну, разумеется, пора наконец объясниться и по поводу заглавия данного раздела. Хотя первая его часть, вероятно, вопросов не вызывает: обыгран заголовок произведения писателя, созданного им в Петропавловской крепости, и обыгран вполне обосновано – Достоевский, с самых юных лет поставивший себе целью сделаться писателем и сумевший несмотря ни на какие препятствия добиться этого, действительно, – герой. А вот перл «первый дебют», напомним, принадлежит перу Белинского. Как известно, в иноземных языках наш великий критик был не особо сведущ, поэтому и допустил, казалось бы, досадную тавтологию. Полностью это суждение «неистового Виссариона» выглядит так: «Нельзя не согласиться, что для первого дебюта «Бедные люди» и, непосредственно за ними, «Двойник» – произведения необыкновенного размера и что так ещё никто не начинал из русских писателей…»[65] Но если вдуматься, то в данном случае с пресловутым «маслом масляным», может быть, и нет ничего общего. Вообще, в отношении Достоевского даже оговорки критиков порой получают особый многознаменательный смысл. Ведь, действительно, писателю предначертано было Судьбой пережить и как бы второе рождение, и как бы во второй раз дебютировать в литературе…
Но прежде предстояло ему совершить хождение в Мёртвый дом.
Глава II.
Хождение в Мёртвый дом
Глубокой ночью, вернее уже под утро (был 5-й час) 23 апреля 1849 года Достоевского арестовали вместе с другими петрашевцами.
Только представить себе: молодой 27-летний впечатлительный человек, вкусивший первые сладкие плоды литературной славы, только-только начавший играть не последнюю роль в тайном политическом обществе, к тому же весьма слабый здоровьем и крайне мнительный в этом отношении, с донельзя уже воспалёнными нервами, до тоски боящийся летаргии или внезапной смерти, – такой человек попадает вдруг в мрачный, похожий на склеп, каземат Петропавловской крепости. В перспективе у него было только три пути-выхода: тяжело заболеть и скоропостижно скончаться, сойти с ума или же покончить с собой.
А что делает Достоевский? По его собственному признанию, он в тюрьме «вдруг стал бодр, крепок, свеж, спокоен…» Причём он не скрывал, что и сам страшился ужасных последствий ареста – он всерьёз думал-боялся, что не выдержит и трёх дней в каземате, а вместо этого «совсем успокоился», начал видеть «тихие, хорошие, добрые сны»[66] и написал самое своё светлое и лирическое произведение – «Детскую сказку», которое при публикации в «Отечественных записках» несколько лет спустя (1857) получило название «Маленький герой».
Ключевые слова здесь – «совсем успокоился»: бег суматошного времени как бы прервался, кончилась напряжённая тайная заговорщицкая деятельность, прогрессирующая всё больше в опасную сторону радикальных бунтовских действий и методов, оборвались и мучительные, запутанные денежно-духовные отношения со Спешневым, злым демоном молодого Достоевского…[67] И Достоевский, полностью успокоившись, в гнетущих каменных стенах своего нового «рабочего кабинета» создаёт пронзительную по тональности и содержанию вещь.
История первой влюблённости «без малого» 11-летнего мальчика в светскую замужнюю даму на фоне пышного усадебно-деревенского лета могла залететь в воображение автора «Бедных людей», «Двойника» и «Хозяйки», вот именно, только в «тихом, хорошем, добром сне».
«Было довольно рано, когда я проснулся, но солнце заливало уже ярким светом всю комнату. … Наскоро одевшись, сошёл я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался туда, где гуще зелень, где смолистее запах деревьев и куда веселее заглядывал солнечный луч, радуясь, что удалось там и сям пронизать мглистую густоту листьев. Было прекрасное утро.
Незаметно пробираясь всё далее и далее, я вышел наконец на другой край рощи, к Москве-реке. Она текла шагов двести впереди, под горою. На противоположном берегу косили сено. Я засмотрелся, как целые ряды острых кос, с каждым взмахом косца, дружно обливались светом и потом вдруг опять исчезали, как огненные змейки, словно куда прятались; как срезанная с корня трава густыми, жирными грудками отлетала в стороны и укладывалась в прямые, длинные борозды…»
Право, впору воскликнуть-удивиться: да Достоевского ли это перо?! Подобную по тону и содержанию вещь мог написать разве что Тургенев где-нибудь в орловском своём имении, наслаждаясь покоем и комфортом. К слову, повести «Ася» и «Первая любовь» появились-родились на свет вскоре после публикации «Маленького героя» и существует мнение, что именно это необычное произведение Достоевского и подтолкнуло-вдохновило Тургенева на создание своих маленьких шедевров о любви.
А между тем, отрываясь от рукописи светлой «Детской сказки» для допросов, Достоевский растолковывает суровым членам следственной комиссии, что писатель не должен писать одними светлыми красками и не имеет права скрывать от читателя порок и мрачную сторону жизни: «О свете мы имеем понятие только потому, что есть тень…» Он вообще на допросах ведёт себя очень достойно и не столько оправдывается за свои «преступные» деяния и помыслы, сколько пытается убедить допросчиков-судий, что они, петрашевцы, думали-мыслили только лишь о благе бедного своего Отечества, да и вообще на собраниях больше говорили о литературе и отвлечённых философских проблемах… Достоевский даже, опасаясь хоть полсловом навредить товарищам, наговаривает на себя совершенно невероятные вещи. К примеру, при обыске у него обнаружили-изъяли две запрещённые книги – Э. Сю «Пастух из Кравана. Социалистические и демократические беседы о республике и претендентах на престол» и П.-Ж. Прудона «О праздновании воскресения». Откуда они? Кто распространяет-навязывает такие крамольные бунтовские сочинения?.. Оказывается, «Пастуха…» Достоевский, будучи в гостях у Григорьева, взял с его стола, а вторую книгу прихватил незадолго до ареста из домашней библиотеки Головинского, тоже, якобы, позабыв уведомить хозяина, то есть, попросту говоря, – украл…
Спустя шесть лет в письме к Э. И. Тотлебену Достоевский с подспудной и вполне понятной гордостью напишет, что «вёл себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других…»
Самообладание и твёрдость духа молодого литератора-заговорщика вывели в конце концов из себя члена следственной комиссии генерала Ростовцева настолько, что на одном из допросов он с криком: «Я не могу больше видеть Достоевского», – выбежал в другую комнату, заперся на ключ и не выходил оттуда, пока подследственного не увели. Всё это походило на фарс, на балаган и выглядело даже смешно, однако ж на самом деле смешного во всём петропавловско-допросном действе было мало. Это Достоевский устоял, не поддался на посулы полного прощения, если он расскажет-выдаст всё чистосердечно и до конца. А вот, например, петрашевец Д. Д. Ахшарумов не выдержал тяжести заключения и угроз – сломался, написал подробнейшее покаянное письмо-признание, наговорив в нём «много лишнего» и на себя, и на товарищей по тайному обществу. Сам он впоследствии в своей мемуарной книге «Из моих воспоминаний (1849—1851 гг.)», вышедшей в 1905 году, каялся, что, мол, упал в заключении духом и был испуган угрозой смертной казни.
Без сомнения, одной из главных, краеугольных опор Достоевского в заключении было – творчество. Кроме «Детской сказки» он выдумал и разрабатывал ещё несколько сюжетов, планируя-собираясь написать в ближайшем будущем эти три-четыре повести и романа. Он всерьёз надеялся жить и работать, несмотря на все угрозы следственной комиссии. О состоянии его духа в тот тяжкий период свидетельствуют хотя бы следующие строки из письма к брату Михаилу от 18 июля 1849 года, то есть на исходе третьего месяца заключения: «В человеке бездна тягучести и жизненности, и я, право, не думал, чтоб было столько, а теперь узнал по опыту…» Правда, стоит отметить, что, в противовес бодрости духа, физическое здоровье писателя-узника, как и прежде, оставляло желать лучшего. В том же письме он бодро признаётся брату: «Здоровье моё хорошо, разве только геморрой да расстройство нервов, которое идёт crescendo[7]. У меня по временам стало захватывать горло, как прежде, аппетит очень небольшой, а сон очень малый, да и то со сновидениями болезненными. Сплю я часов пять в сутки и раза по четыре в ночь просыпаюсь. Вот только это и тяжело. Всего тяжелее время, когда смеркается, а в 9 часов у нас уже темно. Я иногда не сплю до часу, до двух заполночь, так что часов пять темноты переносить очень тяжело. Это более всего расстроивает здоровье…»
Здоровье «расстроивала» мучительная бессонница, которая и раньше, в свободной жизни, была частой гостьей литератора-мечтателя (по ночам-то особенно сладостно и мечтается!), а в последующей жизни-судьбе своей Достоевский и вовсе заделается-станет ночным человеком, хронической совой: практически всё его творчество – это плоды ночной бессонницы. Пока же, в каземате Петропавловки, он по ночам не только пишет и обдумывает сюжеты художественных произведений, но и впервые, может быть, начинает всерьёз размышлять о смерти, о конечности своей земной жизни, о быстротечности её. Раньше, можно предполагать, юный Достоевский сильно кокетничал, бравировал, играл некую романтическую роль, оставляя перед сном записки, дескать, не хороните меня дней пять, если помру вдруг, а то, не дай Бог, – летаргия… Теперь же было не до бравады: сладость жизни познаётся вполне только тогда, когда она истаивает-исчезает и конец её виден, устрашающе близок. Жить! Так хочется жить! А ведь во время следствия мучители-допросчики постоянно твердят-угрожают смертной казнью – именно этого не выдержал, испугался несчастный Ахшарумов…
Впрочем, в реальность смертного приговора поверить было трудно, невозможно, не хотелось верить. Дело в том, что о самом главном преступлении – участии Достоевского в конспиративном кружке Дурова, ставившем целью политический переворот в России, о создании тайной типографии (для которой уже был изготовлен печатный станок) – следственная комиссия подробностей чудом не узнала, достоверных фактов не добыла; а за разговоры да чтение различных сочинений вслух разве можно человека жизни лишать? Петрашевцы, конечно же, невольно сопоставляли себя с декабристами, но те ведь на прямой бунт решились, выступили открыто против царя…
Вообще, по нелепости и беспрецедентной жестокости приговор Военно-ссудной комиссии Достоевскому и его товарищам поражает даже сегодня, хотя у нас уже есть опыт сталинских массовых и совершенно без суда и следствия репрессий. Предъявляемые обвинения и приговор петрашевцам совершенно несоизмеримы, не стыкуются, не пересекаются с точки зрения нормальной человеческой логики:
«Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсудимого) копию с преступного письма литератора Белинского, – читал это письмо в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского и, наконец, передал его для списания копий подсудимому Момбелли. Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием “Солдатская беседа”. А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, – лишить на основании Свода военных постановлений … чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием…»
Сей архиважный документ, как видим, из-за разгильдяйства судебных чиновников был составлен крайне небрежно: получилось, что формально Достоевского приговорили к смертной казни даже не за чтение «преступного» письма Белинского, а только лишь за «недонесение о распространении». То есть самое страшное преступление писателя-петрашевца, по мнению военно-судебных чинуш, состояло в том, что он не был и не стал доносчиком, стукачом, шпионом и предателем. За это и – расстрел. Да притом, в приговоре содержится и фактическая ошибка: письмо Белинского для снятия копий было передано вовсе не Момбелли, а Филиппову…
Впрочем, сам приговорённый о вердикте этом ещё и духом не ведает – судили и приговор выносили заочно. Правда, он знает-чувствует – разбирательство движется к завершению: его со товарищи допрашивает уже Военно-судная комиссия, уже запрещена всякая переписка, и эта оборвавшаяся последняя связь-ниточка с внешним миром – ещё одна, дополнительная, причина ночных давящих бессонниц и самых мрачных размышлений о финале затянувшегося Петропавловского действа.
И вот наступает морозное утро 22-го декабря 1849 года – утро финальной сцены отвратительного жестокого спектакля. Об этом утре «казни» на Семёновском плацу оставили воспоминания многие петрашевцы (особенно подробные – всё тот же Д. Д. Ахшарумов), Достоевский же не только описал его в романе «Идиот» и «Дневнике писателя» (1873), но и многократно восстанавливал подробности того декабрьского утра в разговорах-беседах с разными людьми. Он рассказывает о сцене казни в семействе Корвин-Круковских, и младшая из дочерей, будущая Софья Ковалевская, запомнила этот рассказ на всю жизнь. Писатель вспоминает эшафот на Семёновском плацу в узком кругу сотрудников журнала «Гражданин», и корректор В. В. Тимофеева фиксирует это в своей мемуарной статье «Год работы с знаменитым писателем». А однажды, уже под конец жизни, Достоевский в подробностях воссоздал детали инсценировки казни, находясь в многолюдном собрании гостей на традиционной «пятнице» в доме поэта Я. П. Полонского.
Но порой ему достаточно было и одного слушателя, причём почти незнакомого – так случилось в первый же день их встречи с А. Г. Сниткиной, будущей его женой: он ни с того ни с сего вдруг начал ей живописать, как стоял он на эшафоте и жить ему оставалось всего лишь пять минут… Хотя «ни с того ни с сего» – это не совсем верно. Это Анне Григорьевне показалось, что – «Почему-то разговор коснулся петрашевцев и смертной казни»[68]. На самом деле всякий раз был-случался какой-либо толчок-импульс к вспышке этих мрачных воспоминаний. К примеру, в мемуарах В. В. Тимофеевой ясно говорится, что Достоевский воодушевился-взволновался и предался воспоминаниям сразу же после того, как решился вопрос об его уходе с поста редактора «Гражданина»[69]. Эта неприятная и обременительная должность-роль настолько тяготила писателя, что он невольно испытал чувство освобождения, перелома в судьбе и даже нового рождения – вновь только творчество, независимость, свобода. Конечно же, чувство это по силе и эмоциональному накалу ни в какое сравнение не шло с тем, каковое испытал Достоевский на эшафоте в момент объявления о помиловании, но оно вполне могло послужить толчком к ассоциациям, началу воспоминательного рассказа.
В доме Полонского дело обстояло и того проще: окна квартиры выходили аккурат на Семёновский плац, да к тому же была опять зима, и когда хозяин дома подвёл бывшего петрашевца к окну и спросил: «Узнаёте, Фёдор Михайлович?», – Достоевский сразу взволновался: «Да!.. Да!.. Ещё бы… Как не узнать?..», – и начал вслух вспоминать-восстанавливать тот мучительный эпизод из своей жизни[70].
И так же ничего странного, оказывается, не было и в том, что Анна Григорьевна Сниткина услышала этот рассказ-воспоминание из уст автора «Преступления и наказания» в первый же день их знакомства: И. Л. Волгин выдвинул очень убедительную версию по этому поводу. Дело в том, что именно в этот день, 4 октября 1866 года, рано утром на Смоленском поле в Петербурге состоялась публичная казнь одного из каракозовцев – Ишутина (самого Каракозова, совершившего неудачное покушение на царя, казнили-повесили месяцем раньше), и если Достоевский самолично не присутствовал при этом, то знал-слышал о событии всенепременно. И его не могло не поразить сходство сценариев зловещих спектаклей: Ишутина продержали в белом смертном балахоне и с накинутой на шею петлёй десять минут, после чего, так же, как когда-то петрашевцам, объявили вдруг помилование. И именно вечером, во второй приход Анны Григорьевны, Достоевский, в отличие от утрешнего состояния, – чрезмерно воодушевлён, разговорчив, откровенен и рассказывает юной стенографистке о своих «пяти предсмертных минутах», скорее всего, после того, как разговор коснулся только что происшедшего события на Смоленском поле…[71]
К сожалению, Софья Ковалевская в своих «Воспоминаниях детства» чересчур бегло упоминает о рассказе Достоевского, но очень даже вероятно, что и в тот раз романист заговорил-вспомнил об инсценировке казни петрашевцев совсем не случайно. Дело происходило в марте или апреле 1865 года: совсем недавно умерли один за другим самые близкие Достоевскому люди – жена, брат Михаил, товарищ и соратник по литературе Аполлон Григорьев, да к тому же именно в эти дни терпит окончательный крах журнал «Эпоха», а вместе с ним и все надежды писателя на стабильное материальное благополучие и творческую независимость. Достоевский в тот период бывает у Корвин-Круковских (уже практически в качестве жениха старшей из сестёр – Анны) очень часто, три-четыре раза в неделю, так что вполне можно предположить – он был у них в гостях и 14 апреля и именно в этот день вдруг начал вспоминать тот давний эшафотный эпизод своей судьбы. Но как раз в этот день, 14 апреля 1865 года, Достоевский в письме к А. Е. Врангелю, живописуя о катастрофе с журналом «Эпоха» и о пятнадцати тысячах долгу (сумма для писателя-пролетария фантастическая!), восклицает: «О друг мой, я охотно бы пошёл опять в каторгу на столько же лет, чтоб только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным…»
Нет, недаром поведал Фёдор Михайлович двум юным сёстрам Корвин-Круковским и их добросердечной матушке свои переживания декабрьского утра 15-летней давности: десять минут ожидания смерти, после которых каторга была воспринята как благо, как дарование жизни; теперь же – ожидание погибели судьбы, творческой карьеры под гнётом неимоверных долгов и мечтания о каторге как о благе и способе выжить…
Уж Достоевскому, с его вдохновенным невероятно богатым воображением, связать ниточками ассоциаций эти два «эпизода-периода» своей биографии не составляло особого труда.
В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский констатирует: «Приговор смертной казни расстрелянием, прочтённый нам всем предварительно, прочтён был вовсе не в шутку; почти все приговорённые были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти…»
Нам, не испытавшим таких страшных десяти минут на эшафоте, трудно до конца осознать и прочувствовать состояние человека, ожидающего объявленной неминуемой смерти через считанные мгновения. Конечно, многие из нас, уже достаточно пожившие на белом свете, не раз и не два бывали-оказывались в ситуациях, когда приходилось, что называется, заглядывать смерти в глаза (попадал в подобные смертные ситуации впоследствии и сам Достоевский, о чём речь впереди), но такие пограничные моменты возникают-случаются, как правило, нежданно, вдруг, внезапно, и мозг, душа человека не успевают перед этим испытать-вынести весь ужас ожидания конца. Даже самоубийцам в большинстве своём, как это ни странно звучит, легко встретить смерть спокойно, без чрезмерного ознобного трепета – они приготовились, они свыклись с мыслью о прекращении жизни, они, наконец, добровольно уходят из этого мира. А тут, во время казни – внезапный приговор, чужая угнетающая безжалостная воля, оборванные мечты, надежды, планы и целых десять минут, невероятных десять минут – самых наипоследнейших в этой прекрасной земной жизни…
Ахшарумов, писавший свои воспоминания на склоне лет, уже в начале XX века, не быв ни писателем, ни психологом (после арестантских рот и ссылки он закончил медико-хирургическую академию и впоследствии проявил себя как врач и учёный в области санитарии и социальной гигиены), утверждает, что петрашевцы, услышав приговор о смертной казни расстрелянием, всего лишь испытали «изумление» и далее описывает свои чувства при виде того, как на Петрашевского, Спешнева и Момбелли, привязанных к столбам, уже направили ружья: «Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию, и притом людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них, почти в упор, ружейные стволы и ожидать – вот прольётся кровь и они упадут мёртвые, было ужасно, отвратительно, страшно … Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но всё внимание было поглощено наступающею кровавою картиною…»[72]
Уж разумеется, через полвека после описываемых событий Ахшарумову та зловещая эшафотная постановка виделась-вспоминалась в несколько романтизированном и – вот именно – театральном виде, а собственные тогдашние чувства помнились только как чувства сострадания и страха за других, за товарищей, но не за себя. Вольно, конечно, было Дмитрию Дмитриевичу позабыть свои непереносимые страхи ещё только ожидания и вероятности смертной казни, толкнувшие его уже через три недели после ареста на «лишние» показания.
Обратимся лучше к свидетельствам самого Достоевского, вернее, его alter ego[8] в данном случае – князя Мышкина. Этот, можно сказать, заглавный герой романа «Идиот» через испытание смертной казнью, как известно, не прошёл, но он наделён такой восприимчивой душой, такой утончённой нервной системой и таким развитым творческим воображением, что максимально личностно и достоверно передаёт-реконструирует мысли, чувства и впечатления приговорённого к смертной казни, передоверенные ему автором. Формальный опыт у Мышкина в этой области таков: он лично присутствовал в Швейцарии на гильотировании преступника и плюс к этому слышал подробный рассказ-воспоминание человека (читай – Достоевского), испытавшего обряд смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Причём странный князь трижды заводит разговор о казнях в один и тот же день, в первый же по возвращении в Россию из Швейцарии, находясь впервые в доме генерала Епанчина. Сначала он в передней живописует лакею о том, какие чувства испытывает человек, на шею которого вот-вот обрушится нож гильотины; затем в гостиной генеральша Епанчина и её три дочери («барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощною грудью, с сильными, почти как у мужчин, руками…») слышат от гостя из Швейцарии угнетающий рассказ о человеке, выдержавшем несколько минут в ожидании расстрела и, наконец, чуть погодя Лев Николаевич в разговоре с барышнями вновь возвращается к гильотированному разбойнику и описывает-воссоздаёт его чувства-мысли перед смертью.
Самому Достоевскому ни до написания «Идиота», ни после не доводилось присутствовать при гильотировании, лишь два года спустя он прочитает-изучит статью Тургенева «Казнь Тропмана», опубликованную в июньском номере «Вестника Европы» за 1870 год, которая возмутит его «напыщенностью» и «щепетильностью» автора (эпитеты из письма к Н. Н. Страхову от 11/23 июня 1870 года из Дрездена) – Тургенев в последний момент не выдержал, отвернулся, не увидел самого момента отсечения головы. Достоевский (Мышкин) не только не отворачивается, проигрывая в воображении сцену казни, но, наоборот, даже полностью отождествляет себя с казнимым, как бы влезает в его личину и сам переживает ужасные предсмертные мгновения. Во многом русский писатель отталкивался от повести В. Гюго «Последний день приговорённого к смерти» (этот психологический этюд-хронику предсмертных размышлений человека, жизнь которого оборвала гильотина, Достоевский не раз читал и перечитывал и даже вспоминал о нём перед собственной казнью на эшафоте), но, разумеется, основной материал для рассказов князя Мышкина дали личные воспоминания-переживания автора, бывшего смертника. Ведь в общем и целом внутреннее состояние приговорённого к гильотированию, «расстрелянию» или повешению мало зависит от способа и вида казни, главное и общее – ужас ожидания насильственной смерти.
Итак, вот что поведал об этом ужасе Лев Николаевич Мышкин девицам Епанчиным: «Он (Приговорённый. – Н. Н.) жил в тюрьме и ждал казни, по крайней мере ещё чрез неделю; он как-то рассчитывал на обыкновенную формалистику, что бумага ещё должна куда-то пойти и только чрез неделю выйдет. А тут вдруг по какому-то случаю дело было сокращено. В пять часов утра он спал. Это было в конце октября; в пять часов ещё холодно и темно. Вошёл тюремный пристав тихонько, со стражей, и осторожно тронул его за плечо; тот приподнялся, облокотился, – видит свет: “Что такое?” – “В десятом часу смертная казнь”. Он со сна не поверил, начал было спорить, что бумага выйдет чрез неделю, но когда совсем очнулся, перестал спорить и замолчал … потом сказал: “Всё-таки тяжело так вдруг…” – и опять замолк, и уже ничего не хотел говорить. Тут часа три-четыре проходят на известные вещи: на священника, на завтрак, к которому ему вино, кофей и говядину дают (ну, не насмешка ли это? Ведь, подумаешь, как это жестоко, а с другой стороны, ей-Богу, эти невинные люди от чистого сердца делают и уверены, что это человеколюбие), потом туалет (вы знаете, что такое туалет преступника?), наконец везут по городу до эшафота… (Нелепым кажется вопрос о туалете и особенно потому, что задан как бы в скобках и князь, вовсе не ожидая ответа, спешит с рассказом дальше; но, видимо, вопрос относится к разряду риторических, Мышкин просто-напросто не сомневается, что просвещённые девицы Епанчины читали «Последний день…» Виктора Гюго, где этот туалет осуждённого – острижение головы, обрезание ворота сорочки, связывание путами рук и ног и пр. – описан подробно[73]. Сам Достоевский в письме к брату от 22 декабря 1849 года предсмертным туалетом называет надевание на приговорённых белых балахонов. – Н. Н.) Я думаю, что вот тут тоже кажется, что ещё бесконечно жить остаётся, пока везут. Мне кажется, он наверно думал дорогой: “Еще долго, ещё жить три улицы остаётся; вот эту проеду, потом ещё та останется, потом ещё та, где булочник направо… ещё когда-то доедем до булочника!” Кругом народ, крик, шум, десять тысяч лиц, десять тысяч глаз, – всё это надо перенести, а главное, мысль: “вот их десять тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят!” Ну, вот это всё предварительно. На эшафот ведёт лесенка; тут он пред лесенкой вдруг заплакал, а это был сильный и мужественный человек, большой злодей, говорят, был. С ним всё время неотлучно был священник, и в тележке с ним ехал, и всё говорил, – вряд ли тот слышал: и начнёт слушать, а с третьего слова уж не понимает. Так должно быть. Наконец стал всходить на лесенку; тут ноги перевязаны и потому движутся шагами мелкими. Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, а всё ему крест давал целовать. Внизу лесенки он был очень бледен, а как поднялся и стал на эшафот, стал вдруг белый как бумага, совершенно как белая писчая бумага. Наверно у него ноги слабели и деревенели, и тошнота была, – как будто что его давит в горле, и от этого точно щекотно, – чувствовали вы это когда-нибудь в испуге или в очень страшные минуты, когда и весь рассудок остаётся, но никакой уже власти не имеет? (Женщины-слушательницы на вопрос князя не реагируют – они находятся в каком-то оцепенении под впечатлением потрясающего воображение и чувства рассказа, под лавиной-тяжестью подробностей. – Н. Н.) Мне кажется, если, например, неминуемая гибель, дом на вас валится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и закрыть глаза и ждать – будь что будет!.. Вот тут-то, когда начиналась эта слабость, священник поскорей, скорым таким жестом и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял, маленький такой крест, серебряный, четырехконечный, – часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал, и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностию целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное сознавал. И так было до самой доски… Странно, что редко в эти самые последние секунды в обморок падают! Напротив, голова ужасно живёт и работает, должно быть, сильно, сильно, сильно, как машина в ходу; я воображаю, так и стучат разные мысли, всё неконченные и, может быть, и смешные, посторонние такие мысли: “вот этот глядит – у него бородавка на лбу, вот у палача одна нижняя пуговица заржавела…”, а между тем, всё знаешь и всё помнишь; одна такая точка есть, которой никак нельзя забыть, и в обморок упасть нельзя, и всё около неё, около этой точки ходит и вертится. И подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит, и ждёт, и… знает, и вдруг услышит над собой, как железо склизнуло! Это непременно услышишь! Я бы, если бы лежал, я бы нарочно слушал и услышал! Тут, может быть, только одна десятая доля мгновения, но непременно услышишь! И представьте же, до сих пор ещё спорят, что, может быть, голова когда и отлетит, то ещё с секунду, может быть, знает, что она отлетела, – каково понятие! А что если пять секунд!..»
Это – часть рассказа князя Мышкина о казнях, которую услышали девицы Епанчины в гостиной. Прежде чем вернуться в переднюю, к разговору князя с лакеем, – несколько попутных мыслей-замечаний. Многознаменательна реплика князя о той странности, что, мол, в предсмертные секунды приговорённые редко в обморок падают. Сам Достоевский, имеющий чрезвычайно нервную конституцию уже с юности, был весьма предрасположен к обморокам. Некоторые такие случаи-конфузы засвидетельствованы: так, однажды, ещё в 1845-м, в период работы над «Бедными людьми», он шёл с Григоровичем по улице, увидел похоронную процессию, и тут же ему вдруг стало так плохо, что спутник его, позвав на помощь прохожих, перенёс беднягу в ближайшую мелочную лавку, где с большим трудом смогли начинающего и чересчур впечатлительного литератора привести в чувство. Причём, Григорович утверждает, что подобные обмороки (мемуарист называет их «припадками» в свете своего позднего знания о падучей болезни Достоевского) во время их редких прогулок случались несколько раз[74]. Известен и казус, когда автор «Бедных людей», опьянённый первым всплеском славы, был приглашён на вечер в дом графа Виельгорского и в момент представления великосветской красавице Сенявиной вдруг потерял сознание и пал к её ногам в полном смысле слова…[75]
Таким образом, совершенно ясно, что восклицание-удивление князя Мышкина: «Странно, что редко в эти самые секунды в обморок падают!», – вырвалось у него отнюдь не случайно. Вернее, вырвалось-оформилось оно у автора: в течение восьми месяцев заключения, во время ночных мучительных бессонниц и дневных последопросных тягостных размышлений он, вероятно, не раз представлял-боялся, как «в эти самые последние секунды» не выдержит и грохнется по привычке в обморок прямо на эшафоте. Воистину, не смерть страшна – позор предсмертный. Между прочим, герой «Последнего дня приговорённого к смерти» тоже боится, уже перед эшафотом, что упадёт в обморок и добавляет уничижительно – «последний проблеск тщеславия!»[76]
Обморочные опасения Достоевского имели основания ещё и потому, что обмороки в то время почти всегда у него были напрямую связаны со смертью, предсмертью, были как бы предвестниками, прелюдией смерти. Эпизод с похоронной процессией в этом плане чрезвычайно красноречив. Ну, а кроме того, и сам Достоевский, уже на склоне лет, вспоминая о своей юношеской поре в разговоре с Вс. С. Соловьёвым (причём в первую же встречу!), признался, что ещё до каторги был подвержен тяжкой нервной болезни, и когда наплывал-накатывал приступ – реальность для него исчезала и, казалось, наступала смерть, «настоящая смерть приходила и потом уходила»[77].
Теперь – насчёт «железо склизнуло». Самому писателю, как уже упоминалось, наблюдать гильотирование не приходилось, но, судя по рассказу-описанию героя «Идиота», испытать – и, вероятно, не единожды – чувства человека, лежащего под ножом гильотины, писателю довелось. Речь, конечно, идёт о тех «болезненных сновидениях», которые мучили его в каземате в ожидании приговора – подробности «Последнего дня приговорённого к смерти» Виктора Гюго, прочитанные-перечитанные и прочувствованные до нервного потрясения, наверняка аукались в ночных кошмарах. Достоевский вообще всю свою жизнь был подвержен ночным кошмарам, так что и во время работы над «Идиотом» вполне мог видеть-переживать вновь и вновь в удушливых сновидениях сцену гильотирования, тем более, что он внимательно читал газеты, а в них постоянно печатали подробности казней через гильотину, которых случались-происходили во Франции в тот период, можно сказать, регулярно. Недаром князь Мышкин признаётся, что уже месяц прошёл после того, как он казнь видел, а она ему снится и снится. Впрочем, Достоевскому, с его гениальным творческим воображением, ничего не стоило и без всякого сна, как бы наяву, вообразить-испытать самые мельчайшие детали-подробности чужой смерти, описывая-воссоздавая её пером на бумаге. В этом плане он умирал многажды вместе со своими героями, в том числе и – самоубийцами…
Однако ж, не стоит опять забегать вперёд. Осталось в приведённом фрагменте рассказа Мышкина обратить внимание ещё на один штрих – на то место, где князь рассуждает о жизни-сознании отрубленной головы ещё в течение секунды, а то, может быть, и целых пяти. Герой повести В. Гюго, представляя-переживая свою уже близкую казнь заранее, в минуту слабости ужасается последнего мгновения, последней полсекунды: «Ничего страшного! Полминуты, нет – полсекунды, и всё кончено. А тот, кто так говорит, поставил ли себя даже мысленно на место человека, на которого падает тяжёлое лезвие и впивается в тело, разрывает нервы, крушит позвонки?.. Как же! Полсекунды! Боль не чувствуется… Какой ужас!..»[78] Мышкин (Достоевский) идёт дальше, он ставит себя мысленно на место человека, голова которого уже отскочила, но человек ещё пять секунд жив – вот где ужас-то! Ещё несколько секунд после момента смерти человек, его мозг, знает, что смерть наступила, что он уже находится по ту сторону, и никакой надежды уже не только нет, но и быть не может. В тех десяти минутах, что выдержали петрашевцы в ожидании команды «Пли!», надежда всё-таки оставалась (и оправдалась!), а вот Достоевскому весь ужас пяти секунд уже после казни, настоящий порог между жизнью и смертью, предстояло впоследствии переживать-испытывать многократно, каждый раз перешагивая этот порог во время припадков эпилепсии.
22 февраля 1880 года автор «Идиота» участвует в публичной казни – второй и последний раз в жизни: 22 декабря 1849 года он был казнимым, теперь, менее чем за год до смерти, – свидетелем-зрителем. Всё на том же памятном ему Семёновском плацу казнили через повешение Млодецкого, совершившего за два дня до того неудачное покушение на главного начальника Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия графа Лорис-Меликова. Достоевский, скорее всего, надеялся, что и Млодецкому, как петрашевцам когда-то, как Ишутину в 1866-м, в последний момент величайшею милостью даруют жизнь. Но палач из-под ног Млодецкого скамью безжалостно выбил, и тело преступника закачалось-задёргалось. Самое ужасное и запредельное состояло в том, что Млодецкий содрогался в конвульсиях и умирал в петле целых 12 (двенадцать!) минут – 24-летний государственный преступник никак не мог и не желал переступить роковой порог. Какие там пять секунд! Если б впечатлительный князь Мышкин присутствовал на казни Млодецкого, он бы, вероятно, тут же и сошёл с ума окончательно. Достоевский несколько дней после 22 февраля был болен, крайне раздражён, угрюм и постоянно в разговорах со знакомыми возвращался и возвращался к чудовищной сцене недавней казни на Семёновском плацу.
В декабре 1867 года, работая над первыми главами «Идиота» – сценами приезда князя Мышкина в Петербург и визита его в дом Епанчиных, – писатель имел только свой опыт десятиминутного ожидания расстрела, читательский опыт «Последнего дня…» Гюго и газетных отчётов о казнях с применением гильотины. Героя романа особенно занимает-тревожит чудовищная, с точки зрения нормального человека, мысль: что лучше – медленно или быстро казнить-убивать человека? Причём, стоит вспомнить, такую запредельно философскую и этическую проблему Мышкин обсуждает с лакеем. На вполне праздный вопрос последнего – кричит или не кричит казнимый в последний момент? – князь возбуждённо рассказывает-вспоминает:
«– Куды! В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож, по машине, гильотиной называется, тяжело, сильно… Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно!
… Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах… Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил – плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребёнку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. (Не есть ли эти рассуждения отголоском опасений 27-летнего больного нервами Достоевского, представлявшего-планировавшего во время ночных казематных бессонниц своё поведение после объявления приговора? – Н. Н.) Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог её доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: “не убий”, так за то, что он убил, и его убивать? (А уж какое надругательство над душой, надо понимать, если не за убийство даже, а только за чтение вслух письма одного литератора к другому! – Н. Н.) Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось …
– Хорошо ещё вот, что муки немного, – заметил он (Лакей. – Н. Н.), – когда голова отлетает.
– Знаете ли что? – горячо подхватил князь: – вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, всё это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрёшь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот, что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно. Вот как голову кладёшь под самый нож и слышишь, как он склизнёт над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. … Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно ещё надеется, что спасётся, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он ещё надеется, или бежит, или просит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. … Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: “ступай, тебя прощают”. Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!..»
Думается, если бы Достоевскому довелось в художественном произведении описывать казнь Млодецкого (например, в продолжении «Братьев Карамазовых», где он, по утверждению А. С. Суворина[79], собирался сделать Алёшу революционером и «казнить»), он вряд ли стал бы возвращаться к вопросу: что мучительнее – быстрая или продолжительная агония? И, конечно, нельзя не заметить, что концовка беседы князя с лакеем имеет автобиографическо-реалистические корни: действительно, не каждый способен вынести ожидание приговорной смерти и, утверждая это устами своего героя Мышкина, писатель помнил-вспоминал, без сомнения, судьбу петрашевца Н. П. Григорьева, который после десяти минут на эшафоте сошёл с ума. Впрочем, и у самого Достоевского, надо полагать, после утра 22 декабря 1849 года нервная система, организм полностью и окончательно сформировались (вернее – деформировались) для развития-появления эпилепсии. Ну, а предположение князя, что только человек, стоявший на эшафоте и сам переживший ужасные десять минут, способен рассказать-поведать об этой муке – как раз в романе «Идиот» и воплотилось-реализовалось фактически и натурально. Нельзя забывать, что до петрашевцев подобных инсценировок казни не было, так что ужас и муки ожидания смерти испытали они в полной мере и до конца. Даже Иисус Христос, в какой-то мере, не выдержал – о чём и упоминает Мышкин (Достоевский) – и даже ещё до вынесения смертного приговора, но уже зная о нём, признаётся ученикам, что душа Его «скорбит смертельно» и молит Бога-Отца: «да минует Меня чаша сия…»[80]
Вообще-то странным, на первый взгляд, выглядит то, что Мышкин, едва войдя в дом Епанчиных, всё говорит и говорит о казнях. Ну, ладно бы ещё о сцене гильотирования, которую он видел-наблюдал всего лишь месяц назад и которая мучит его до сих пор в сновидениях. Но зачем он ещё и вспоминает вдруг о рассказе «одного человека», который выдержал на эшафоте несколько минут и был помилован?.. Однако ж, странность эта в какой-то мере стушёвывается, если знать-помнить, что данная (5-я) глава «Идиота» писалась-создавалась Достоевским во второй половине декабря 1867 года, а конкретно этот рассказ князя, не исключено, – именно 22 декабря, аккурат в 18-ю годовщину мрачного события на Семёновском плацу. Ну никак не мог бывший петрашевец не вспоминать то судьбоносное пороговое утро, не мог вновь не увидеть, не пережить те десять минут в воображении, в ночных кошмарах. И эти давние впечатления не могли не выплеснуться на бумагу, дабы облегчить обременённую память.
Но вот что ещё удивительно: сперва князь начинает рассказывать дамам совсем о другом человеке, который «просидел в тюрьме лет двенадцать», у него были «припадки, он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз убить себя…» Добавив ещё пару подробностей, Мышкин вдруг обрывает эту историю и перескакивает: «Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком…» Право, очень и очень странно и загадочно! Такое впечатление, будто бы герой романа упомянул о заключённом-эпилептике, пытавшемся покончить с собой, только для того, чтобы через сто с лишним лет какой-нибудь исследователь творчества Достоевского соблазнился и констатировал, мол, сам писатель, находясь в каземате Петропавловской крепости, пытался наложить на себя руки.
Или, по крайней мере, думал-мечтал об этом…
Но пора, наконец, вчитаться в самые полные и подробные воспоминания Достоевского об утре 22 декабря 1849 года в изложении-пересказе героя романа «Идиот»:
«Этот человек был раз взведён, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания; но однако же в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут, или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрёт. … Он помнил всё с необыкновенною ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. (И это так, но вот количество эшафотных минут почему-то всё время меняется-варьируется, и это наводит на мысль, что для Достоевского время в тот момент совершенно изменило ход, стало неподвластно обычному учёту-исчислению, как перед эпилептическим припадком, когда, подобно Магомету, возможно за секунду осмотреть-изучить все просторы рая. Далее рассказчик-воспоминатель в романе, как мы увидим, и вовсе начинает распоряжаться временем, растягивать и уплотнять минуты, словно согласуясь с будущей теорией относительности Эйнштейна, до бесконечности. – Н. Н.) Шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белые, длинные балахоны), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей; затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. (Сам Достоевский на эшафоте стоял шестым и попадал во вторую очередь вместе с Дуровым и Плещеевым. – Н. Н.) Священник обошёл всех с крестом. Выходило, что остаётся жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживёт столько жизней, что ещё сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он ещё распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты ещё положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. … Он умирал двадцати семи (! – Н. Н.) лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. (Зафиксированы в мемуарах два мини-диалога Достоевского на эшафоте и оба отнюдь не на постороннюю тему. «Не может быть, чтобы нас казнили», – сказал он Дурову, а тот молча указал рукой на телегу, покрытую рогожей, полагая, что там лежат гробы – на самом деле там оказались арестантские костюмы. А к Спешневу Достоевский, вспомнив-упомянув перед этим «Последний день…» Виктора Гюго, обратился с полувосклицанием-полувопросом по-французски: «Nous serons avec le Christ» – «Un peu de poussiere»[9], – ответил тот с безобразной усмешкой[81]. – Н. Н.) Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чём он будет думать: ему всё хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живёт, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, – так кто же? Где же? Всё это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от неё сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольётся с ними… Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжело, как беспрерывная мысль: “Что если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И всё это было бы моё! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счётом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!” Он говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтоб его поскорей застрелили…»
Что это предсмертные мысли самого Достоевского легко подтверждается строками из его письма к брату, написанному вечером того же дня: «Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить; как не дорожил я им…»
И, между прочим, оборвав неожиданно и этот рассказ, Мышкин на вопрос Аглаи, зачем же он всё это поведал им, утверждает, что ему случайно этот чужой рассказ припомнился, вдруг, к разговору, и признаётся, опять же, что он «сцену эту во сне видел, именно эти пять минут видел…» Ну не подтверждается ли этими заявлениями героя романа предположение, что в момент работы над этой главой в очередную годовщину со дня казни петрашевцев Достоевский о ней вспоминал и даже вновь пережил эти «пять минут» во сне?
Люди, не очень сведущие в литературе, считают Достоевского писателем жестоким, тяжёлым, мрачным, пугающим, мучительным и любителем патологического натурализма. Ну можно ли, считают подобные читатели, так подробно и с такими ужасными угнетающими психику подробностями описывать сцену казни?.. Что ж, стоит привести здесь небольшой отрывок, как бы для сравнения-сопоставления, из текста «Последнего дня…» Виктора Гюго – прозаика-романтика и поэта:
«…в конце сентября месяца в тюрьму, к одному заключённому, спокойно игравшему в карты, явились с заявлением, что через два часа он должен умереть; человека охватила дрожь – полгода о нём не вспоминали, и он считал, что страшная кара миновала его; его обстригли, обрили, связали, исповедали, затем посадили на телегу и с четырьмя жандармами по бокам повезли сквозь толпу зевак на место казни. До сих пор всё шло, как обычно, как полагается. Около эшафота палач принял страдальца из рук священника, втащил его на помост, привязал к доске, – говоря языком каторги, «заложил в печь», – и спустил нож. Тяжёлый железный треугольник с трудом сдвинулся с места, ежесекундно застревая, пополз вниз и – вот где начинается настоящий ужас – не убил, а только поранил несчастного. Услышав его отчаянный крик, палач растерялся, поднял нож и опустил снова. Нож вторично вонзился в шею мученика, но не перерубил её. К воплям несчастного присоединились крики толпы. Палач опять подтянул нож кверху, рассчитывая, что третий удар окажется успешным. Ничуть не бывало. Кровь в третий раз хлынула из шеи приговорённого, но голова не отлетела. Короче говоря – пять раз поднимался и опускался нож, пять раз вонзался в шею приговорённого, и после каждого удара приговорённый испускал отчаянный вопль, дёргал всё ещё не снесённой головой и молил о пощаде! Народ, не стерпев этого издевательства, принялся забрасывать палача камнями. Палач соскочил с помоста и спрятался за лошадьми жандармов. Но это ещё не всё. Осуждённый, увидев, что он на эшафоте один, насколько мог поднялся с доски и, стоя так, страшный, залитый кровью, поддерживая наполовину отрубленную голову, которая свешивалась ему на плечо, чуть слышным голосом умолял отвязать его. Толпа, исполнившись сострадания, собралась было оттеснить жандармов и спасти страдальца, пять раз претерпевшего смертную казнь, но в этот миг подручный палача, малый лет двадцати, поднялся на эшафот, велел приговорённому лечь ничком, чтобы удобнее было отвязать его, а сам, воспользовавшись доверчивостью умирающего, вскочил ему на спину и принялся неумело перерезать остаток шеи чем-то вроде кухонного ножа…»
Но и это ещё не всё, можно повторить вслед за Гюго, ибо далее он кратко, но не менее впечатляюще приводит ещё одну запредельно ужасную сцену: «Три месяца назад в Дижоне казнили женщину. (Женщину!) И на этот раз механизм доктора Гильотена действовал неисправно. Голова не была отрублена сразу. Тогда подручные палача ухватили женщину за ноги и, под отчаянные вопли несчастной, до тех пор дёргали и тянули, пока не оторвали голову от туловища…»[82]
Достоевского, судя по всему, привлекли не эти действительно шоковые и предельно натуралистические сцены из предисловия Гюго к своей повести «Последний день приговорённого к смерти», а сама повесть, где сцена казни вовсе не описывается и действие заканчивается, когда герою-смертнику остаётся ещё несколько мгновений жить, и он всё ещё надеется каким-нибудь чудом спастись. В сценах из предисловия всё описывается с точки зрения зрителя (как позже и у Тургенева в «Казни Тропмана»), в самой же повести передано-показано внутреннее состояние героя, его мысли, его восприятие происходящего, его внутренний мир, переживающий смертельную катастрофу. Такой способ-метод письма рассчитан не на внешний эффект, не на щекотание нервов читателя, а на сопереживание, на раздумья, на, если угодно, философские размышления о жизни и смерти, о конечности собственной судьбы, о своём поведении в подобной – эшафотной – ситуации хотя бы гипотетически. Думается, и юный Достоевский (впервые познакомился он с «Последним днём…», скорей всего, когда ему не было ещё и семнадцати – в письме брату Михаилу от 9 августа 1838 года он утверждает, что прочёл всего Виктора Гюго, кроме «Кромвеля» и «Гернани»), с его талантом вживаться в чужой мир, перевоплощаться внутренне в героя произведения, когда поглощал-впитывал повесть французского писателя, – полностью отождествлял себя с приговорённым, воображал как бы въяве своё восхождение на эшафот. Мог ли он тогда предполагать, что через каких-нибудь десять лет он сам в полной мере испытает-прочувствует лично состояние последнего дня приговорённого к смерти! Совсем не случайно он вспоминает об этой повести Гюго прямо на эшафоте, перед казнью, ещё не зная о помиловании, и практически цитирует дословно отдельные строки из неё в письме брату, написанном вечером того же судьбоносного дня 22 декабря 1849 года[83].
И, надо полагать, когда в 1860-м, уже имея за плечами этот личный эшафотный опыт, Достоевский ещё более пристально и пристрастно вчитывался в текст «Последнего дня…», когда просматривал и редактировал новый перевод этого произведения Виктора Гюго, сделанный (вероятно, по его же подсказке) братом Михаилом для журнала «Светоч». И его чрезвычайно высокое мнение об этом шедевре французского автора, никогда не стоявшего на эшафоте, не изменилось до конца жизни. Русский писатель будет вспоминать-упоминать о нём в дальнейшем и не раз в своих произведениях, «Дневнике писателя», письмах; эта повесть Гюго в какой-то мере аукнется в «Записках из Мёртвого дома», «Записках из подполья», «Преступлении и наказании» и особенно в «Кроткой», где в предисловии «От автора» Достоевский напрямую сопряжёт «фантастическую» форму своего рассказа с произведением французского писателя-романтика и именно здесь обозначит-назовёт «Последний день приговорённого к смертной казни» (так у Достоевского) шедевром и «самым реальнейшим и самым правдивейшим произведением из всех им написанных». Ну, а как повесть Гюго проросла в тексте «Идиота», речь у нас только что шла.
И. Волгин в книге «Последний год Достоевского» утверждает, что Достоевский трижды переживал смертную казнь: на эшафоте («изнутри»), в «Идиоте» («художественно») и зрителем на казни Млодецкого («со стороны»)[84]. Позволю себе здесь слегка подкорректировать выводы уважаемого достоевсковеда и учителя (в студенческие годы мне довелось посещать спецсеминар Игоря Леонидовича по Достоевскому), который сам же буквально за две страницы до того справедливо упоминает-подчёркивает способность писателя «вживаться в чужое состояние, в чужой психический мир, видеть в другом равноценное с собой бытие»[85]. Но, без сомнения, эта способность распространялась и на чтение-восприятие им чужих текстов (того же «Последнего дня…», «Казни Тропмана», газетных отчётов на темы казней), а уж при воспоминании об утре 22 декабря 1849 года он, совершенно бесспорно, переживал состояние казнимого, эти ужасные десять минут, каждый раз как бы заново от первой до последней секунды…
Надо признать, что тот жуткий спектакль на Семёновском плацу был поставлен-разыгран чрезвычайно талантливо и запомнился на всю жизнь не только участникам-исполнителям, но и, вероятно, многим зрителям. Авторство идеи принадлежало самому Николаю I – это он, несмотря на смягчение приговора, повелел объявить помилование только в самую последнюю секунду, когда осуждённые испытают-переживут весь предсмертный ужас. В высших канцеляриях был составлен «Проект приведения в исполнение приговора над осуждёнными злоумышленниками», своего рода сценарий, в котором подробно и в деталях были прописаны мизансцены расстрельного действа: и как везти преступников к месту казни, и как их одеть, и какую дробь должны бить барабаны и даже размеры эшафота продумали заранее, а то, не дай Бог, палачу места не хватит… Сценаристы для пущего эффекта даже предусмотрели мизансцену, в которой с осуждённых срывают их собственную «мундирную одежду» и надевают на них белые балахоны смертников, хотя такой обряд полагался только при позорной казни через повешение. Не забыли и о роли священника, её исполнитель встретил осуждённых у эшафота в траурной рясе, с крестом и Евангелием и потом, призывая их к предсмертной исповеди и целованию креста, бессердечно рассеял их последние надежды – разве ж можно шутить с крестом?
Всё это более чем жестоко. Но, с другой стороны, именно автору мрачного эшафотного спектакля Достоевский обязан не только жизнью, но и, в какой-то мере, последующей своей судьбой. Именно с ведома царя дело петрашевцев уже после смертного приговора Военно-судной комиссии поступает-передаётся вдруг, вопреки правилам, формально в более низшую инстанцию – генерал-аудиториат, который пересматривает приговоры и определяет, в частности, Достоевскому лишение всех прав состояний и восемь лет каторжных работ. Причём новый вердикт, хотя внешне и менее страшен, но составлен был более аргументировано и убедительно: Достоевскому вменялось в вину не только «распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти», но и «покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства, посредством домашней литографии…»
И вот тут Николай I вновь проявил необъяснимую милость к падшему литератору, начертав на определении генерал-аудиториата высочайшую резолюцию: «На 4 года и потом рядовым», что возвращало Достоевскому после отбытия наказания гражданские права, в отличие от каторжан с полным сроком.
Понятно, почему в нашем разговоре о суициде в жизни и творчестве писателя столь много места уделено утру 22 декабря 1849 года: никогда ни до ни после Достоевский не стоял, не находился так близко к смерти, не переживал её так реально, не приготовлялся так тщательно к последней минуте (за исключением, конечно же, настоящего своего смертного часа в конце января 1881 года). Это – во-первых. А во-вторых, в одной из главок «Введения в тему» уже шёл у нас разговор о том, что все политические заговорщики, участники конспиративных кружков, революционеры и особенно террористы являются в какой-то мере самоубийцами, ибо сознательно ставят ради идеи и политической борьбы на карту свою собственную жизнь.
Деятельность петрашевцев, благодаря агенту-доносчику Антонелли, была пресечена почти в самом начале, а участников кружка Дурова и вовсе практически в зародыше, однако ж намерения заговорщиков были более чем серьёзны и явно прогрессировали к всё более кардинальным действиям-поступкам – вплоть до государственного переворота. По крайней мере, так утверждал сам Достоевский, вербуя-приглашая своего близкого товарища поэта А. Н. Майкова в тайный кружок. И более осторожный и дальновидный Майков очень резонно предупредил друга: они, заговорщики, «идут на явную гибель», то есть, попросту говоря, на самоубийство, – и пытался отговорить Достоевского от этого гибельного пути, ибо им, поэтам, литераторам, людям непрактическим, делать в политической борьбе нечего. Ну совершенно не их это дело! Причём, у Майкова проскакивает в воспоминаниях очень уж многознаменательный штрих, пророческо-зловещее сравнение: Достоевский во время этого разговора сидел на постели (он ночевал у Майкова) «как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной (красной) рубашке с незастёгнутым воротом»[86]. Это сопоставление-сравнение молодого Достоевского в рубашке кровавого цвета, мечтающего о бунте и борьбе, с древнегреческим философом-самоубийцей, только что принявшим, по приговору, яд, – имеет в ретроспективе зловещий смысл и весьма впечатляет.
Автор «Бедных людей» чудом остался жив. Выдержав десять минут на эшафоте, он как бы заново родился на свет. Буквально. Физически.
Воскрес из мёртвых!..
Его бурлящее эмоциями, восторженно-восклицательное письмо брату Михаилу, написанное сразу после казни, цитировалось в достоевсковедении уже бессчётное количество раз, поэтому вспомним только, что в нём писатель взахлёб рассказывает-передаёт самому близкому человеку («…в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моём, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый!») подробности утрешнего эшафотного действа и сообщает-формулирует свою новую программу-судьбу: жить! И в каторге – жить! «Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем.» Главное – жить среди людей и оставаться человеком среди людей… «Жизнь – дар, жизнь – счастье…»
Но Достоевский не был бы Достоевским, если бы и в момент наивысшего восторга не помнил и о «тени», о «мрачных сторонах» жизни и в будущем своей судьбы. Он, конечно же, выплёскивая в письме брату эмоции, уже предчувствует и даже знает наверно – физическое возвращение к жизни, воскрешение из мёртвых ещё не означает и не гарантирует безоблачного счастья до конца дарованных дней. «Никогда ещё, – уверяет он Михаила, – таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь…» Однако ж, тут и прорывается тягостная тревога-предвиденье: «Но вынесет ли тело: не знаю. Я отправляюсь нездоровый, у меня золотуха…» И уже в конце письма, уже не сдерживаясь, вновь и вновь о своей затаённой тревоге: «Ах! кабы здоровье! … Кабы только сохранить здоровье!..»
Тревога-тоска Достоевского понятна: каторга и слабое физическое здоровье – две вещи несовместные. Но ещё больше страшит, ещё более капитально угнетает будущего каторжанина мысль-тревога, что воскрешение его произошло-случилось лишь наполовину, частично, не до конца. В душе его осталось ощущение, что казнь над ним всё же свершилась, и он сразу же после оптимистично-бодрых восклицаний, что-де он «не уныл и не упал духом» и «жизнь везде жизнь» вдруг пишет-добавляет в письме: «Да правда! та голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих…» Вот ещё где сверкнул – нож гильотины! Вот когда ещё услышал-прочувствовал будущий автор «Идиота», как над ним «железо склизнуло»! Он выстоял пять минут под расстрелом, но ощущения человека, за четверть секунды до смерти услышавшего ужасное «Пли!» и ружейный залп, – остались за пределами его творчества. Он лично видел-наблюдал, как мучился-умирал в плохо намыленной петле Млодецкий, но нигде письменно и не заикнулся об этом. О гильотировании, срезании головы с плеч он знал лишь опосредованно, по свидетельствам других людей, но описание казни с помощью ножа-топора гильотины в «Идиоте» просто переполнено, можно сказать, личными впечатлениями – вспомнились, видно, во всех безобразных подробностях удушливые казематные сновидения, которые тогда, в 1849-м, ещё и перемешивались с угнетающими мыслями-страхами о своей насильственной творческой смерти. Всё-таки казнь состоялась. Голова срезана с плеч. И надежды на второе рождение в этом, творческо-созидательном плане, – чрезвычайно зыбки. «Неужели никогда я не возьму пера в руки! … Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольётся! Да, если нельзя будет писать, я погибну…»
Литература и жизнь, творчество и судьба для него – понятия-синонимы. Без творчества, вне литературы Достоевский своего существования не мыслил. Уж лучше – смерть. Но надежды на полное своё воскрешение он пока не теряет. Один из петрашевцев, А. И. Пальм, вспоминал, что Достоевский перед отправкой в Сибирь был «бодрый, почти весёлый и какой-то светлый, верующий», он даже заявил оптимистично: «Четыре года каторги, потом солдатчина – всё вздор, пустяки, пройдёт, а будущее наше!..»[87]
Однако ж, впоследствии, постфактум, место своего четырёхлетнего пребывания после физического воскрешения он назовёт метафорически, но совершенно однозначно – Мёртвым домом. Какой-нибудь писатель рангом пониже и талантом пожиже, вроде, к примеру, И. И. Панаева, доведись ему пережить каторгу, вполне мог озаглавить своё воспоминательное произведение ещё более броско и эффектно: «Записки из склепа», «Записки из могилы» или даже «Записки с того света». Большинство читателей и многие знакомые-приятели уже вскоре после исчезновения автора «Бедных людей» и «Неточки Незвановой» из Петербурга забыли о нём напрочь, похоронили заживо. Своеобразным свидетельством этому может служить роман некоего Поля Гримма «Тайны царского двора времён Николая I», где одним из героев и под своей фамилией выведен и «благородный поэт» Достоевский, участник тайного общества заговорщиков. Сам Фёдор Михайлович, находясь за границей, читал в 1868 году на французском языке сей роман, претендовавший быть исторически правдивым и документальным, и из него узнал с удивлением и негодованием, что он, Достоевский, оказывается, умер-погиб уже много лет назад по дороге в Сибирь…[88]
Но ещё, может быть, более характеризует преждевременное «погребение» Достоевского обществом следующий литературный факт. Тот же Панаев опубликовал в 12-м номере «Современника» за 1855 год под псевдонимом Новый Поэт свой очередной и как всегда бойкий фельетон «Литературные кумиры и кумирчики». Ох и поглумился же он от всей своей демократической души над Достоевским, который в это время, отбыв каторгу, тянул такую же каторжную лямку солдатчины в Семипалатинске. Иван Иванович зубоскалил вовсю, описывая, как они, настоящие литераторы, погубили по неосторожности этого народившегося «маленького гения», сделали его невзначай «кумирчиком», и он стал требовать носить его на руках, да всё «выше! выше!» И в конце концов Новый Поэт сожалеет-вздыхает: «Кумирчик наш стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт… Бедный! Мы погубили его!..»
Панаев пишет о Достоевском не просто как о мёртвом, ушедшем из этой (столичной) и вообще литературной и физической жизни, но как о человеке, целиком и полностью исчезнувшем даже из памяти читателей. Конечно, Панаев есть Панаев, это по его адресу Белинский как-то обмолвился, мол, от таких недостатков как у того «должно исправлять людей гильотиною» (вот к нашему-то разговору выраженьице!). А поэт Н. Ф. Щербина и вовсе уничтожил Ивана Ивановича прижизненной (1860 г.) убийственной эпиграммой-эпитафией и уже в первой строке как бы поправил Панаева-фельетониста, констатировав, кому в действительности уже и при жизни не светило уважение народной памяти: «Лежит здесь, вкушая обычный покой неизвестности, // Панашка, публичная девка российской словесности»…[89] Да, Панаев был Панаевым. Но его гадкий пасквиль на Достоевского появился в «Современнике», надо полагать, с согласия Некрасова…
В февральском номере журнала «Эпоха» за 1865 год, когда бедняга Панаев сам и по-настоящему уже ровнёхонько как три года умре, канув совершенно и до конца в бездонную Лету, появляется начало повести Достоевского «Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» («Крокодил»). На автора сразу же посыпались обвинения (с подачи Краевского), что-де он окарикатурил-высмеял арестованного Чернышевского. Достоевский позже, в «Дневнике писателя» (1873) с негодованием опроверг такие инвективы – он, бывший каторжанин, способен был написать «пашквиль» на другого арестанта и ссыльного?! Автор «Крокодила» очень сожалел, что тогда же, по горячим следам, громогласно и печатно не протестовал против приписываемого ему злобного и безнравственного зубоскальства. Однако ж, он сразу оставил эту злосчастную повесть, не стал её продолжать-заканчивать. Сыграло в этом свою роль, разумеется, и закрытие-прекращение «Эпохи» на этом же номере, но в черновых записях Достоевского сохранились довольно подробные намётки-планы продолжения «Необыкновенного события…», так что автору не составило бы труда произведение закончить. Он делать этого не стал, дабы даже теоретически и в чужих глазах не опуститься до уровня жизнерадостного зубоскала Нового Поэта. Впрочем, от самой повести в её опубликованном варианте Достоевский отнюдь не отрекался, не чувствуя за собой никакой вины, и со спокойной совестью включил её в собрание своих сочинений (1865), не предполагая даже, что вскоре в «Современнике» обругают его роман «Преступление и наказание» (Г. З. Елисеев) только из мести за «Крокодила», за «пашквильную аллегорию» на Чернышевского, и что ему вновь, уже печатно, придётся как бы оправдываться за «Пассаж в Пассаже» через несколько лет в «ДП», когда поднимется оскорбительный шум вокруг «Бесов»…
Между прочим, в творческой биографии Достоевского три произведения, уже частью опубликованных, так и остались незаконченными, что является уникальным, беспрецедентным случаем в истории, вероятно, всей мировой литературы. И каждый раз работу над рукописью обрывала, так сказать, нештатная, пограничная ситуация: в 1849-м («Неточка Незванова») – арест, эшафот, каторга; в 1865-м («Крокодил») – гибель «Эпохи», обвинения в безнравственности, долговая каторга; в 1881-м («Братья Карамазовы») – физическая смерть. Но и в случаях с «Неточкой Незвановой» и «Крокодилом» можно в какой-то мере говорить о смерти автора, ибо и в том, и в другом случаях как бы прекращалась прежняя и начиналась новая и совершенно иная жизнь писателя. Всё творчество Достоевского в этом плане очень легко и убедительно делится именно на три периода: ранний – от «Бедных людей» до «Неточки Незвановой»; переходный – от «Маленького героя» до «Крокодила» и период «великого пятикнижия» – от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых».
Три творческих судьбы в одной.
«Самоубийцы предают себя смерти, но никто ещё не предавал себя каторге…»[90]
Заманчиво было бы себе приписать такую убедительную и впечатляющую формулировку, но слова эти принадлежат графу Н. С. Мордвинову – единственному, кстати, из членов Верховного уголовного суда, отказавшемуся в 1826 году подписать смертный приговор декабристам. Действительно, каторга – хуже смерти. Это именно то место, где не только легко можно погибнуть, но и – самоубиться. Если бы Достоевский не пережил каторгу, мы бы никогда не узнали его мыслей, чувств, переживаний, его внутреннего состояния того периода – он был приговорён к каторжному сроку без права переписки. Но у нас, к счастью, есть-имеются «Записки из Мёртвого дома» и воспоминания сотоварищей писателя по нарам. Так вот, из этих источников мы узнаём, что в каторге Достоевский по крайней мере дважды был на самом краю гибели и избежал смерти лишь чудом да Божьим промыслом.
Эпизод, описанный в «Мёртвом доме», произошёл-случился в первый же день пребывания Достоевского в остроге. Один из самых, как бы мы сейчас сказали, крутых каторжников Газин, совершенно пьяный, ввалился в кухню, где Достоевский с товарищем (Дуровым) сидели за столом. «Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его. … Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною…» И этот ужасный Газин вдруг с первого же мутно-пьяного взгляда возненавидел лютой ненавистью двух новых каторжных «дворянчиков», распивающих в острожной кухне чаи. Опять этот злосчастный чай! Воистину, он был в жизни-судьбе Достоевского каким-то фетишизированным судьбоносным напитком: из-за него случались-вспыхивали конфликты с родителем, он чуть было не явился причиной гибели автора «Бедных людей» в остроге и в конце концов чай ускорил в какой-то мере и кончину писателя… Впрочем, об этом речь впереди, а пока вернёмся в каторжную кухню. Газин прицепился именно к чаю.
« – А позвольте спросить …, вы из каких доходов изволите здесь чаи распивать? … А разве вы затем в каторгу пришли, чтоб чаи распивать? Вы чаи распивать пришли? Да говорите же, чтоб вас!..»
Право, на эшафоте Достоевский, можно предположить, чувствовал себя уютнее, чем в тот момент. Представим только въяве эту картину: он, худой, маленький, болезненный, измождённый казематом и угнетённый непривычной мрачной обстановкой острога да притом сидящий на скамье, как бы уже снизу вверх смотрящий на обидчика, а тот навис над ним всей своей огромной тушей, взбешённый, ужасно сильный («сложения геркулесовского»), жестокий и безжалостный – этот Газин любил на воле резать маленьких детей «из удовольствия», медленно, наслаждаясь мучениями маленькой жертвы. Достоевский с товарищем решили отмолчаться, но этим только ещё больше разъярили Газина: он побагровел, задрожал-затрясся от приступа запредельного бешенства, схватил громадную сельницу (лоток для хлеба) и взметнул вверх…
Ещё мгновение и пьяная тварь раздробила бы головы несчастных жертв, но, на их счастье, вдруг раздался крик: «Газин! Вино украли!», – тот грохнул сельницу об пол и бросился из кухни вон. Бог спас! Это твердили-повторяли потом арестанты, которые в момент инцидента безмолвствовали – то ли из страха, то ли, как посчитал Достоевский, из-за ненависти к ним, дворянам, «железным носам».
Да, на этот раз спас Бог. В другой раз, когда Достоевский лежал в тюремной больнице Омской крепости с воспалением лёгких, от неминуемой смерти его спасла… собака. Случай тот был ещё более дикий, нелепый и гнусный. Автор «Мёртвого дома» о нём почему-то умолчал, а известен он стал широкой публике из книги Ш. Токаржевского «Каторжане», которому Фёдор Михайлович его и поведал.
Доктор Борисов, симпатизировавший автору «Бедных людей», уехал дня на четыре по делам службы и перед отъездом оставил-подарил Достоевскому три рубля (опять же, на хороший чай!). Сосед его по койкам каторжник Ломов заприметил, как три вожделенных рубля были спрятаны под подушкой. Между прочим, сразу надо отметить два момента. Во-первых, внешность и характеристику Ломова – они удивительно напоминают газинские: «Ломов по внешности был Геркулесом, но с отвратительной, отталкивающей физиономией и свирепыми глазами. Про него говорили, что он способен убить всякого человека, лишь бы ценою убийства угоститься водкой…» Думается, для Достоевского Газин и Ломов не то что гляделись братьями-близнецами, а попросту слились в единое отвратительное и смертельно опасное паукообразное существо. Во-вторых же, не может не поражать жизненная, бытовая наивность писателя-психолога, писателя-провидца. К тому времени он уже достаточно пожил в остроге и знал преотлично, что газины-ломовы способны зарезать человека не то что за три рубля, – за гривенник, за копейку, за луковицу. Но, тем не менее, на глазах соседа Достоевский прячет ценную-бесценную (особенно в остроге!) ассигнацию под плоскую госпитальную подушку.
В этом зловещем спектакле участвовало ещё несколько персонажей: фельдшер и служитель Антоныч – сообщники Ломова, с одной стороны, и бездомная дворняга Суанго, которую Достоевский прикормил-приласкал, за что благодарная собаченция обожала его до безумия, – с другой. И вот на ужин больному писателю-каторжанину, счастливому обладателю трёхрублёвого сокровища, Антоныч принёс в миске молока. Ломов почему-то с напряжённым, усиленным вниманием следит за каждым движением соседа, словно чего-то ждёт. Достоевский решил было, что тот, бедолага, намеревается попросить у него молока и уже хотел поделиться от чистого сердца, как вдруг (у Достоевского и с Достоевским всегда – вдруг!) в приоткрывшуюся дверь ворвался Суанго, вскочил на кровать своего благодетеля, вышиб из рук его мисочку и вылакал-слизал разлившееся молоко. Замешкавшийся Антоныч вышвырнул собаку на улицу, где она вскоре, как сообщил потом Достоевскому деликатный доктор Борисов, и «перестала жить» – молоко оказалось отравленным…
Ну, чем не сюжет для небольшого рассказа? Однако ж писатель не только отдельного произведения с такой заманчивой фабулой не создал, но, как уже говорилось, даже почему-то не включил этот эпизод в «Записки из Мёртвого дома», как бы подарив его Токаржевскому полностью и насовсем[91]. Но логично будет и предположить, что подобных смертельных эпизодов-случаев с Достоевским в острожный период могло быть ещё не один и не два, но они остались за рамками всех и всяческих мемуаров, покрыты, как пишут бойкие романисты, мраком неизвестности. О них можно только догадываться.
Как остаётся догадываться-гадать и об эпизоде с розгами. У самого Достоевского нигде об этом не встретишь ни полсловечка, воспоминаний-свидетельств непосредственных очевидцев экзекуции над писателем (если только она была!) тоже в природе не существует. Но сохранилось несколько сообщений об этом лиц, слышавших рассказ о позорном наказании писателя от других людей, якобы чуть ли не присутствующих при этом. К примеру, А. Е. Ризенкампф, первый лечащий доктор Достоевского и его товарищ юности, служивший впоследствии, как раз в начале 1850-х годов, в Омском военном госпитале, утверждал в письме к брату писателя, Андрею Михайловичу, от 16 февраля 1881 года, ссылаясь при этом на безымянных «друзей покойного, бывших свидетелями», что-де плац-майор Кривцов подверг писателя-арестанта телесному наказанию, после чего с ним и случился первый припадок эпилепсии[92].
А вот литератор П. К. Мартьянов, опять же с чужих слов, живописует данный эпизод с несколько другим финалом: «Оставленный однажды для работ в остроге, он (Достоевский. – Н. Н.) находился в своей казарме и лежал на нарах. Вдруг приехал плац-майор Кривцов – этот описанный в «Записках из Мёртвого дома» зверь в образе человека.
– Это что такое? – закричал он, увидя Фёдора Михайловича на нарах. – почему он не на работе?
– Болен, ваше высокоблагородие, – отвечал находившийся в карауле за начальника «морячок»… – с ним был припадок падучей болезни.
– Вздор!.. я знаю, что вы потакаете им!.. в кордегардию его!.. розог!..
Пока стащили с нар и отвели в кордегардию действительно вдруг заболевшего со страху петрашевца, караульный начальник послал к коменданту ефрейтора с докладом о случившемся. Генерал де Граве тотчас приехал и остановил приготовления к экзекуции…»[93]
Дыма без огня, как известно, не бывает. Что-то связанное с розгами – было. И сейчас мы поторопились, заявив, будто у Достоевского нигде об этом ни полсловечка. Есть-читаются в «Записках из Мёртвого дома» определённые намёки. Несколько раз на протяжении повествования бывший каторжанин набрасывает портрет своего бывшего начальника-командира плац-майора Кривцова и каждый раз, можно сказать, с такой неприкрытой личной ненавистью.
«Был он до безумия строг, “бросался на людей”, как говорили каторжные. Более всего страшились они в нём его проницательного, рысьего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. … Арестанты звали его восьмиглазым…»
«Страшный был это человек именно потому, что такой человек был начальником, почти неограниченным, над двумястами душ. … На арестантов он смотрел как на своих естественных врагов … Невоздержный, злой, он врывался в острог даже иногда по ночам, а если замечал, что арестант спит на левом боку или навзничь, то наутро его наказывали (Розгами. – Н. Н.): “Спи, дескать, на правом боку, как я приказал”. В остроге его ненавидели и боялись, как чумы. Лицо у него было багровое, злобное…»
Вроде бы естественно ненавидеть автору «Мёртвого дома» плац-майора раз вся каторга его ненавидела и боялась. Но ненависть и страх Достоевского по отношению к Кривцову носят ещё и свой потаённый смысл-оттенок. Как мы знаем, ни в родительском доме, ни в закрытых пансионах, ни в Инженерном училище ему не доводилось испытывать прелесть телесных наказаний. Для него это нечто запредельное. Само собой, не столько физическая боль страшила его, сколько непереносимость человеческого, нравственного позора-унижения. Он прямо признаётся в «Записках из Мёртвого дома», что от рассказов-воспоминаний каторжных, прошедших-выдержавших телесные наказания, у него «подымалось сердце и начинало крепко и сильно стучать».
Дворяне, хотя и бывшие, пользовались в этом отношении некоторым послаблением. Хотя формально они считались полностью равными с остальными арестантами и за серьёзный проступок вполне могли лечь под розги, однако ж этого практически не случалось. Тому, как считал Достоевский, было две причины: во-первых, высшие сибирские начальники, сами, естественно, дворяне, были против позорных телесных наказаний их собратьев по классу; во-вторых, «случалось ещё прежде, что некоторые из дворян не ложились под розги и бросались на исполнителей, отчего происходили ужасы» (это очень важный для нашей темы пункт!); ну и, в-третьих, за четверть века до петрашевцев явилась в Сибирь большая масса дворян-декабристов, которые так себя поставили и зарекомендовали, что заставили уважать и отличать дворян от всех других ссыльнокаторжных.
Вероятно, Достоевский ещё на пути в каторгу утешал-успокаивал себя подобными соображениями, но в первый же день по прибытии в Омский острог действительность в образе (образине!) плац-майора Кривцова заставила сердце его «крепко и сильно» застучать: «Багровое, угреватое и злое лицо его произвело на нас чрезвычайно тоскливое впечатление: точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшуюся в его паутину…»
Снова это сравнение с пауком – начальник острога, офицер, сливается в сознании, в воспоминаниях автора «Мёртвого дома» с патологическим убийцей Газиным. Думается, не последнюю роль в этом сыграл финал первой встречи каторжников-новичков Достоевского и Дурова с плац-майором, который многообещающе заверил-припугнул: «– Смотрите же, вести себя хорошо! чтоб я не слыхал! Не то… телес-ным на-казанием! За малейший проступок – р-р-розги!..»
Достоевский весь тот первый вечер в остроге от такого приёма «был почти болен». Можно представить, как сгустилась тоска в душе его, когда он узнал, что незадолго до их с Дуровым прибытия в острог здесь по приказу плац-майора высекли розгами дворянина поляка Жоховского. Достоевский вполне понял-осознал, что общие – пусть и неписаные – законы в каторге ничто, если нарвёшься на «лихого человека», на командира-самодура вроде Кривцова. И очень многозначительно глядится-воспринимается реплика-замечание автора «Мёртвого дома», что он прямо-таки особенно возненавидел иные здания в крепости: «Дом нашего плац-майора казался мне каким-то проклятым, отвратительным местом, и я каждый раз с ненавистью глядел на него, когда проходил мимо…»
История с розгами в острожной судьбе писателя, повторимся, так и осталась не прояснённой, туманной, но, зная характер, натуру Достоевского, его понятия о гордости, чести, человеческом достоинстве, – можно смело утверждать, что он не вынес бы телесного наказания. Уже одни угрозы, уже только ожидание розог оставили в душе писателя-каторжника глубокий саднящий рубец, а что уж там говорить, если б дело и в действительности дошло до позорной экзекуции: вспомним – бывало, дворяне под розги не ложились, а бросались на исполнителей, «отчего происходили ужасы». Невозможно представить себе Фёдора Михайловича Достоевского, бросающегося на другого человека даже с голыми кулаками, не то что с ножом, но вот иной ужасный способ избежания розог или позора после внезапного телесного наказания вполне был ему подвластен – самоубийство.
Если иным авторам воспоминаний и исследователям вольно, основываясь на предположениях и слухах, утверждать, что автор «Бедных людей» перенёс-испытал в каторге розги, то и нам да будет позволено, основываясь на собственном представлении о Достоевском как человеке, высоко духовной личности и дворянине, утверждать, что телесного наказания не было – иначе просто бы не существовало на свете «Преступления и наказания», «Бесов» и других великих романов послекаторжного Достоевского.
Это же – очевидно!
Впрочем, пора от домыслов, догадок и предположений вернуться в русло строгого текстового анализа.
Текстов самого Достоевского данного – каторжного – периода у нас два: так называемая «Сибирская (или «Каторжная») тетрадь», в которую писатель втайне от соглядатаев и начальства, в основном в госпитале, заносил пометки, наброски, штрихи, характерные словечки-выражения острожного мира; и – «Записки из Мёртвого дома», включившие в себя бόльшую часть записей из этой потаённой тетради.
Как и можно было заранее предполагать, тема суицида в текстах этих, как говорится, имеет место быть. Ещё бы! Уже в начале главы «Первые впечатления» Достоевский в «Записках…» формулирует как бы философский аспект наказания каторгой. Его тягость состоит не в трудности и беспрерывности работы, а в том, что она, эта каторжная работа – «принуждённая, обязательная, из-под палки». И далее писатель приходит к мысли, которая, слава Богу, не приходила в головы высшего начальства, искоренявшего преступность, а именно: не будет страшнее наказания для любого даже самого закоренелого каторжника, если заставить его делать бессмысленную работу – к примеру, переливать воду из одного ушата в другой или перетаскивать песок из одной кучи в другую и обратно. Достоевский категоричен в своих выводах-предположениях: «…я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки».
Заметим попутно, что, говоря об арестантах как бы со стороны, Достоевский уже сам является арестантом-каторжником, так что подобное суждение, вероятно, справедливо и по отношению к нему. Но если Достоевский-острожник гипотетически может-готов удавиться от «унижения, стыда и муки» бесполезного, бессмысленного труда, то «унижение, стыд и муку» розог он вряд ли бы стерпел-пережил…
Однако ж, не будем больше возвращаться к туманному вопросу о телесном наказании Достоевского, вернее, посмотрим на эту тему несколько с другой стороны: а как же переносили подобное наказание другие – простые – каторжники? В «Мёртвом доме» описаны в связи с этим несколько случаев. Одни приговорённые к розгам, кнуту или палкам выносили наказание стойко, другие ещё перед прохождением сквозь строй испытывали страшные муки, страдали от непереносимого страха, тоски и ужаса. В «Каторжной тетради» под номером 53 есть короткая запись: «Переменил участь»[94]. В «Записках из Мёртвого дома» она развёрнута во впечатляющий эпизод: один молодой арестант, убийца, приговорённый к наказанию палками, до того заробел, что решился на крайнее средство – настоял на вине нюхательный табак и выпил эту отравную смесь накануне наказания. У него тотчас же началась рвота с кровью, он свалился почти без сознания, через несколько дней открылась-началась у бедолаги скоротечная чахотка, и через полгода он умер. Как видим, это можно смело назвать своеобразным экзотическим способом самоубийства. Он настолько поразил Достоевского, что писатель не только рассказал о нём в «Записках из Мёртвого дома», но и использовал-применил его в первом же послекаторжном произведении – повести «Дядюшкин сон», о чём разговор у нас впереди.
Но вообще выражение «переменил участь» в каторжных условиях – понятие весьма широкое. Арестант перед наказанием бросился на начальника с ножом и отодвинул наказание, но зато получил добавку к сроку – переменил участь. Другой ударился в бега – переменил участь… По существу, отчаявшийся человек своё тяжёлое, невыносимое положение менял на ещё более тяжкое и нестерпимое, но – лишь бы переменить участь. Одна из историй, рассказанных в «Мёртвом доме», особенно поразительна. Молоденький, «чрезвычайно хорошенький мальчик» по фамилии Сироткин добровольно, по собственной воле попал в бессрочное отделение каторги для особо важных военных преступников, да при том, попытавшись перед этим самоубиться. А случилось следующее. Его забрили в солдаты. Он прослужил год и отчаялся. Ему так тошно стало, и решил он во что бы то ни стало переменить участь. И придумал для этого самый лёгкий и доступный способ: стоял в карауле, снял правый сапог, отомкнул штык от ружья, приставил дуло к груди и большим пальцем ноги спустил курок. Осечка! Сироткин, полный решимости, свежего пороху на полку подсыпал и ещё раз спустил курок. И опять выстрела не последовало!.. Надо только представить состояние человека, в течение пяти минут дважды пытавшегося покончить с собой. И стоит представить себе мысли-чувства писателя-арестанта, слушавшего некоторое время спустя этот рассказ самоубийцы-неудачника. Между тем, Сироткин, осознав, что сам Бог, видно, препятствует его добровольному уходу из жизни, но уже не в силах расстаться с мыслью-мечтой о перемене участи – своеобразный вариант самоубийства всё же выбирает: в сей момент подъехал к караулу командир роты и взялся распекать рядового Сироткина за плохую службу, а тот перехватил ружьё с уже примкнутым штыком наперевес, да и всадил его по самое дуло в брюхо опостылевшего офицера-самодура. Участь бедный Сироткин переменил: прошёл четыре тысячи палок, попал в бессрочную каторгу, да ещё и вдобавок стал в остроге «петухом» (бытовало ли в те времена в тюремном жаргоне такое словцо-определение?), то есть – объектом гомосексуальных услад острожников.
В главе «Решительные люди. Лучка» Достоевский, рассуждая об этих «решительных» каторжниках, приходит к выводу, что зачастую убийцы становятся убийцами под влиянием буквально минуты. То есть, это то же самое по существу – терпит, терпит человек обстоятельства и, так сказать, окружающую среду, да вдруг и вздумывает-решается переменить участь. «Точно опьянеет человек, точно в горячечном бреду. Точно, перескочив раз через заветную для него черту, он уже начинает любоваться на то, что нет для него больше ничего святого; точно подмывает его перескочить разом через всякую законность и власть и насладиться самой разнузданной и беспредельной свободой, насладиться этим замиранием сердца от ужаса, которого невозможно, чтоб он сам к себе не чувствовал. Знает он к тому же, что ждёт его страшная казнь. Всё это может быть похоже на то ощущение, когда человек с высокой башни тянется в глубину, которая под ногами, так что уж сам наконец рад бы броситься вниз головою: поскорей, да дело с концом!..»
Но подобные самоубийцы (а это – самоубийство: человек знает о неотвратимости и неизбежности казни, но всё-таки бросается вниз головою в пропасть преступления, отдаёт свою жизнь и судьбу за минуту сладостного и ужасного куража) – всё же исключение на каторге. Подавляющее большинство арестантов терпят и выносят все тяготы каторжного бытия удивительно стойко. За особо тяжкое преступление, совершённое уже в остроге, иного арестанта приковывают к стене. Он пять, десять лет сидит на цепи в сажень длиною (чуть больше 2-х метров) – живёт, существует. Для чего?! Оказывается, и у такого, приравненного, по существу, к животному, к цепному псу, homo sapiens'а есть мечта-надежда, которая его и поддерживает: отсидеть-закончить свои десять цепных