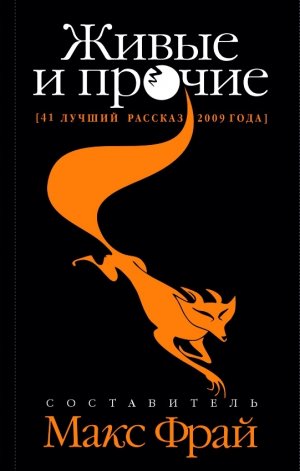
Ангел кошачьего молока
— Так ты говоришь, старая Тильда померла, а сыну её ты не нужен? Ну и дурак тогда её сын. Не пройдёт и месяца, как от мышей спаса не будет — побежит тебя на улицу искать или к Агнессе за мышьим отворотом. Что за «мыший отворот»? Мешочек такой, в нём хвостик да корочка, да мышья косточка да пергамента клочок, а на нём Агнесса нацарапала что-то. Я как-то под телегу бондаря попала — целую неделю у Агнессы прожила — и шьёт она эти мешки и шьёт — бойко идут. Даже из Гаммельна за ними едут. А дело знаешь в чём? Не в косточке, не в хвостике, а в мешковине. Она её под золу в то корытце стелит, куда её Густав ходит. Не знаешь Густава Агнессы? Да что ты вообще тогда знаешь?! Вот была я помоложе…
Постирает тряпку потом, конечно. Только мыши и того, что осталось довольно. Так бы и нюхала эти мешки, так бы и нюхала…
Да ты не бойся, не пропадёшь, город у нас хороший — вот в Гаммельне, говорят, в прошлом месяце ведьму жгли и сорок чёрных кошек с ней, а в Мартенбурге нет такого и в заводе. И никаких тебе перчаток из кошачьих шкурок — это оттого, что у нас бездомных мало. Ну, разве что как у тебя — хозяин помер, а взять некому. Или как я — я, понимаешь ли, совсем не могу, когда детей топят, некоторые ничего, а я — не могу. Почему топят? Экий ты смешной. Право слово, что ж тебя Тильда совсем не выпускала? Ничего — наверстаешь. Ты вот наверстаешь, а я, примеру, ходи потом с брюхом. А потом известно что — не успела выродить, да облизать, да последы подъесть, а уже ведро тащут. Ну, оставят тебе одного, много — двух, чтоб с молоком не мучалась. А я и по шесть порой рожаю. Вот и ушла. Но у меня, что ни раз — все красавцы, сама пристраивала — кого пекарю под дверь, кого — мяснику. Мало кто на улице остался. Ходят теперь гладкие. И не узнаёт никто. Вот там видишь, окошко горит? Там мой Мартин живёт — это ещё с поза-поза-той весны. От Густава, кстати. И чудно так — я, когда ещё в доме жила — Мартой была, и он — Мартин. Я тебе потом покажу — он на окне сидит часто, такой красавец.
Нет, хорошо у нас. Чокнутая Брюн с мешком объедков часто ходит: — Пус-пус-пус… — ты только сразу к ней не кидайся, а подожди. Пока мешок вытряхнет, да уйдёт. Нет, она ничего не сделает, но ты подожди. И каждый рыбак с улова на пристань по три рыбины кладёт, а кто и пять — наша доля. А по четвергам после службы сам отец Питер идёт на рынок, покупает рыбью мелочь и высыпает в корытце на паперти — и это нам. Плохо ли? Ну и Агнесса, опять же. Совсем взять — не возьмёт, другого кота Густав не потерпит, а покормить — покормит. Нет, не пропадёшь, летом на рынке объедки, рыба опять же, что мелкая и в засол не пойдёт — всё нам, главное не зевать. И умывайся, умывайся почаще — чистым дают охотнее, это как с нищими — несчастный, да, но чтоб чистый. И осенью до самых заморозков хорошо. И весной. Главное зиму пережить. Ты только не суетись, днём надо забиться, где потеплей, да спать. Сарай вот дровяной — видишь, какой лаз удобный? Свернись, прижмись, дыханьем грейся — хочешь и со мной, только, чур, не баловать, стара я уже для баловства. Главное, темноты дождись. Нет, не сумерек, а совсем темноты. А потом смотри и слушай — как услышишь вроде плеск — так вылезай. А куда бежать покажут. У меня чутьё уже не то, но тут опоздать не страшно, всегда всем хватает.
Бок у Марты был костлявый и тёплый. Кот («Рыжик, мальчик мой, рыжий чёрт, прорва ненасытная») привалился к ней, плотнее уткнул нос в брюхо и задремал.
Над вымерзшим городом, над заснеженной черепицей низеньких домов, над флюгером на магистрате, над колокольней церкви Девы Марии Тишайшей шорох, шелест, мягкое колебание мёрзлого воздуха. Где сегодня — а вот хоть тут, у бесполезной башенки на крыше знахарки Агнессы, там под черепицей, на чердаке летний запах от сухих трав и крылья уснувших осенью бабочек, а над печной трубой — хитро кованый козырёк в завитках. Серая хламида сминается прямыми складками, как на алтарной картине, возле которой так любит стоять отец Питер, наклоняется деревянная миска, и белый, гладкий поток соединяет небо и снег. Искрящийся сугроб протаивает белой чашей, сладкий пар и запах как от молочного супа с клёцками, как от молочницы Марии, что летом приносила тяжёлый кувшин, как от палево-рыжего брюха, которое надо толкать лапами, пока прямо в рот не брызнет…
Серые, рыжие, белые — так что по снегу несётся лишь тень, запретно чёрные, полосатые, с меткой Богородицы на пушистых лбах бегут они к снежной чаше. Серые, рыжие, чёрные морды в густых и сладких молочных звёздах. Розовые лепестки языков складываются крошечными ковшиками, сугроб, дом, город покачиваются в слитном ритме молочного плеска.
Звук этот заставляет сонно ворочаться дочь бургомистра. А её толстого любимца, Мартина, и вовсе будит. В звёздчатой прорези ставни — стылая луна, под пологом постели, на тонких нитях — чуть колышутся золотые пряничные звёзды, изразцы печи горячи, молоко в блюдце тепло и только от окна тянет зимним, сахарным ветерком в который вплетён сладкий по иному запах. Мартин тяжело спрыгивает с окна. Подцепляет лапой дверь, вниз-вниз по лестнице, в первый раз за зиму в прорезанное в двери оконце, заботливо прикрытое кожаным фартуком, обжигая нежные подушечки непривычным снегом — туда — к манящей протаянной чаше, от которой неторопливо расходятся рыжие, чёрные, серые, сытые. Озадаченно принюхивается: «И что это с ними каждый раз? Снег как снег…»
Архивариус
Кот у господина архивариуса, конечно, есть. Не станет же такой уважаемый человек, глупой шутки ради, дважды в год обходить весь город, спрашивая:
— Вы, случайно, не видели моего кота? Он серый и очень-очень худой. — «Весь в тебя» — думает слушатель. Но, конечно, не говорит этого. — Его зовут Каспар, хотя он, скорее всего, не отзовётся. Если вы встретите его, то прошу вас, сообщите немедленно мне, я буду крайне признателен.
Конечно, всякий в Мартенбурге готов не только «сообщить», но и собственноручно доставить хозяину загулявшего кота, и не столько награды ради. Хотя человек, заказавший для твари бессловесной у шорника специальный мягкий ошейник, а у золотых дел мастера бляху, на которой искусно выгравировано «Каспар, кот архивариуса Иеронима Хабитуса», за наградой не постоит. Да вот не попадался пока никому крупный тощий кот в ошейнике с бляхой, хотя, несомненно, существует. Иначе для кого господин архивариус трижды в неделю, брезгливо морщась, покупает у мясника рубленую печень? Самому ему мясник без надобности — все знают, что из трактира в судках ему в обед приносят овощное рагу и рыбу, а сам он из провизии покупает хлеб, сыр и молоко. Пиво? Нет, господин архивариус не пьет пива. Вода, изредка местное белое винцо, разбавленное так, что и винного духа не осталось, да прописанный доктором печёночный травник. Лицо у господина архивариуса и правда желтое, как выдержанный саксонский сыр, но приятное лицо — тонкое, моложавое и всегда так тщательно выбрито, словно никогда не росли ни усы, ни борода на этой гладкой восковой коже. Немужественное, надо признаться, лицо, но и не женское.
Всякий раз после встречи с господином Иеронимом отец Питер пытается вспомнить, где ещё он видел такой же взгляд: пристальный, но словно безразличный, тёмный из-под тяжёлых век, — и рот, сложенный так же строго и неулыбчиво. Задумается на мгновение, но отмахнется от суетных мыслей — у отца Питера много дел и мало времени. Впрочем, это не единственное, что пропадает из памяти доброго священника. Он никогда не помнит, какие грехи отпускал господину Хабитусу. Но и тому есть объяснение: вероятно, грехи архивариуса столь ничтожны, что не задерживаются в памяти, да и что за грехи могут быть у этого анахорета и книжника — безжалостное утопление в сортире мыши, погрызшей кожаный переплет, вожделение к редкой книге, чревоугодие — в постный день вкушать капустный суп из соседнего трактира?
Конечно, город не так любит господина архивариуса, как отца Питера, или лекаря Теофраста, но все же горожане гордятся собственным доктором Философии, Истории и Права. С тех пор, как господин архивариус принял дела, вся городская хроника ведется таким образцовым почерком, что и при императорском дворе позавидуют. Иероним Хабитус, кроме того, умеет составить торговый контракт, и брачный договор, все нотариальные дела в городе ведутся им, и никем иным. Злые языки говорили, что когда дочка городского мясника, рябая Лотта, выходила замуж, красивее всего на свадьбе были жареный поросенок и брачный контракт, написанный мастерской рукой городского архивариуса. А какая у него библиотека! Никто из горожан не может похвастаться, что видел её, но все знают: если случай сложный, надо идти к господину архивариусу прямо домой. Он примет в гостиной — замечательно чистой для холостого господина без слуги, предложит присесть на стул или табурет и исчезнет на втором этаже. В гостиной у господина Хабитуса безупречный порядок, и лишь белые писчие перья валяются повсюду — и на конторке, и на подоконнике, а порой и на полу. Через малое время хозяин погремит ключами и бережно снесёт вниз том в сафьяновом, тканом, кожаном переплёте, а то и в старинном деревянном окладе, любовно огладит, прежде чем открыть, стремительно найдёт нужную страницу и высоким надтреснутым голосом огласит параграф, исчерпывающий проблему.
В книгах архивариуса есть ответы на любой самый каверзный вопрос. Вот что вы скажете, когда глупая крестьянская баба сама, собственными руками, выхватывает из купели младенчика, и, опомниться не успеешь, как становится крёстной собственному сыну и кумой мужу? И то в старом, погрызенном мышами, пергаментном фолианте с новым сафьяновым переплётом нашёлся подходящий случай. Бегло зачитав абзац на латыни, Хабитус помолчал, кашлянул и перевел для отца Питера сходную историю несчастной франкской королевы, по вредоносному совету и суетной своей глупости ставшей крестной матерью собственному сыну, за что оной королеве супруг дал развод и заточил в монастырь. Но доброму пастырю неразумных овец сей исторический прецедент ни в коем случае не подошел. Взяв грех на свою душу, старый священник велел обоим ежедневно читать по 30 раз «Отче наш», держать строгий пост по средам и пятницам и, по мере сил, воздерживаться. Вот уж несколько лет на каждой исповеди отец Питер, морщась, слушает о грехе с кумой и кумом и, вздыхая, назначает епитимью. Да детишек крестит — третьего уже.
Впрочем, доктору Теофрасту как-то случилось подержать в руках одну инкунабулу. Повод к этому был курьёзный: ночной сторож, выйдя на площадь, увидел господина архивариуса в самом неожиданном виде — в полотняной ночной рубахе, белом колпаке да домашних туфлях. Уважаемый доктор Философии, Истории и Права дёргал запертую на ночь дверь магистрата, ощупывал, вздыхал и вновь дёргал. Бедного лунатика сторож с возможным бережением отвёл под руку домой. За обедом весь город повторял сомнительную шуточку цирюльника Якуба, известного острослова. Подстригая с утра бургомистрову бороду, чтоб как у Максимилиана на монете, тот брякнул, что Господь Бог сегодня забыл завести часы. Слыханное ли дело — наш архивариус пришел на службу, а солнце еще не вставало!
Вечером господина архивариуса навестил доктор Теофраст. Присел у камина, поиграл оброненным возле кресла пером — замечательно упругим и еще не заточенным, поговорил о погоде, о слухах про чумное дальнее поветрие, от которого, будем надеяться, город оборонят Господь и Приснодева, а напоследок предложил на пробу новый снотворный травник собственной композиции. Также рекомендовал поменьше есть незрелого сыра, потому что, как известно, продукт сей потворствует лунатизму и душевным недугам. Господин архивариус улыбнулся, притом заметно было, как нелегко даётся его лицу это малое усилие, попросил обождать, проскрипел по лестнице, звякнул ключами, вынес небольшой томик в переплете зеленого сукна. Слегка запинаясь и медля расстаться с книжицей, архивариус произнес: «Думаю, Вам небезынтересно будет ознакомиться? „О меланхолии и прочих недугах, порожденных разлитием черной желчи“. Особенно хороша глава „О вредных и пагубных суевериях, связывающих душевные помрачения с употреблением кислой и квашеной пищи“. Только прошу Вас, любезнейший господин Теофраст, будьте с ней поосторожнее: экземпляр редкий, а может быть, и последний».
Впрочем, уже на третий день господин архивариус посетил господина доктора и, смущаясь, попросил вернуть трактат — душа неспокойна и желчь, знаете ли, разливается.
Эликсир от бессонницы тайный лунатик с благодарностью взял, и даже несколько раз возобновлял его запасы, но ни аквавита, протёкшая по стеклянному змеевику доктора Теофраста, ни собранные знахаркой Агнессой успокоительные травы не спасают архивариуса от еженощной тревоги, поскольку не бессонница мучает сухопарого книжника, а вновь и вновь приходящий кошмар. Зимний белесый день сочится сквозь разбитые частые стекла в окнах архива. Холодно и тихо, ни звука не доносится снаружи, по Ратуше вольготно гуляют сквозняки. В стылом воздухе особенно отчетлив скверный запах пожарища и золы. Каменный пол затоптан и заплеван, но страницы раскрытой на пюпитре городской летописи сияют совершенством выделки пергамента и строгим благородством начертания букв:
«С великой скорбью сообщаю, что ХХ числа ХХХХ года город наш, Мартенбург, был захвачен и разорен бродячим отрядом ланскнехтов под предводительством некоего Клааса, говорят, что родом из Утрехта. Спаси, Господи, уцелевших и прими в Царствие Свое души погибших горожан…»
— далее имена, женские, мужские, детские тянутся длинным столбцом, за окном спускается вечер, а может, смеркается в глазах архивариуса, но чем более он напрягает зрение, тем глубже сгущается сумрак. Он не может прочитать ни строки, написанной собственной рукой.
Каждый раз из слепой темноты архивариус вырывается с диким желанием схватить мертвую страницу, скомкать, швырнуть в огонь и, вдыхая вонь палёной телячьей кожи и горящих чернил, ощутить, как воздух города очищается от пожарной гари и сладковатого тошнотворного смрада. Каждый раз, очнувшись в чистой тихой спальне, архивариус встает и идет в Ратушу, не в силах прекратить неспешное и бесстрастное тиканье часов в тайном уголке памяти: тридцать дней, двадцать девять, двадцать восемь…
Когда остается шестнадцать дней, архивариус, перед тем как провалиться в дымный холод, прячет под подушку острый нож-скребок, малую скляницу с чернилами и толику лучшей пемзы.
Этой же ночью он, полуослепший в холодном бреду сожженного Мартенбурга, очень медленно и спокойно начинает выскабливать проклятую страницу. Текст, легко написанный хорошим пером, исчезает без остатка, италийская пемза гладко лощит кожу. Протерев пергамент мелким меловым порошком, господин Иероним оглядывает подобранное с пола перо — уже утратившее остроту, испачканное засохшими чернилами, негодное для тонкой работы. Отбрасывает, спокойно заводит за плечо руку и, коротко вздохнув, выдергивает новое — безупречной белизны и упругости. Неспешно очинив его и опробовав на тыльной стороне ладони, Иероним Хабитус, архивариус города Мартенбурга не задумываясь пишет:
«Месяца декабря сего дня, в год от Рождества Христова…. случилась сильная буря, по окончанию оной у городских стен был обнаружен странный человек, утверждающий, что в снежном буране отбился от большого отряда ландскнехтов под командованием некоего Клааса, родом из Утрехта. Самого же отряда не видела ни одна живая душа. Других событий за сей день, по Божьей милости, не произошло».
Теофраст
- Господин лекарь, вставайте, нужда в вас…
Сейчас придётся встать. Обнаружить что кто-то украл комнату, постель, чистую полотняную сорочку, ещё вчера пахнувшую утюгом, свечу и книгу, с вечера заложенную полоской сафьяна. Натянуть сапоги, выйти из палатки, и опять увидеть его — Херберта Косого, которому тут быть никак невозможно, потому что позавчера ещё своими руками зашивал ему скверную рану на брюхе. Света было мало, волосы занавешивали глаза, солдат дёргался, и водка в фляге кончалась, а ведь, чтобы ни говорил отец Питер, применение аквавиты для промывания ран приносит прекраснейшие результаты — всего-то пять случаев антонова огня за весь поход. Не может быть тут Херберт Косой, потому что трясётся в отставшем обозе под плащом, а святой заступник его то ли просит у Господа дать рабу божьему ещё вина попить и девок пощупать, то ли утомился. Не может, а сидит, перекосившись весь, на обозной кляче, в кошеле шарит, глаза прячет.
— Вот, говорит, господин лекарь, передать просили… — на грязной ладони невесомое колечко бледного золота — ребёнку впору.
Сейчас надо стащить его с седла, встряхнуть за шиворот и страшным голосом рявкнуть:
— Как?
И он, серея лицом, расскажет…
Чёрт, ничего он не расскажет, потому что никогда не успевает ничего рассказать, исчезает в небытии, как исчез навсегда, как не было, обоз с ранеными, добычей и Адель. Нет второго кольца, нет вестника, нет путаного рассказа — упала с обрыва, утонула при переправе, сгорела в лихорадке, умерла внезапными родами — какой же большой у неё был живот, когда…
— Господин лекарь!
Пропади! Ты умер! Нет тебя!
Надо встать, зажечь свечу, выпить воды, постоять у окна, слепого от снега, прочитать две страницы из тяжеловесного перевода премудрого Авиценны.
— Господин лекарь, раненого подобрали. Вы уж простите, что потревожили. Мы его к Агнессе отнесли, но вы уж зайдите к ней. Больно странен он — и говорит непонятное, вы уж как солдат, разберитесь.
Сорочка, чулки, штаны, зимний камзол, тёплый плащ, берет, сумка с инструментами, глоток вишнёвки, чтобы согреться изнутри перед выходом в набитое густым снегом утро.
Светло уже. Заспался.
— Это Якоб, Якоб из деревни возвращался — ночевал там, крестины были, ну и ночевал. У кумы, значит. Идёт — а он стоит. Шатается. Где, говорит, всё. А никого, кроме него, и нету. И следов нету — ни костра, ни барахла никакого. Нас тут, говорит, рота была… А потом упал, а тут как раз лесорубы, так с Яковом на плаще его и донесли. Расспросить бы, как следует, только не в себе он.
Снег валит хлопьями, залепляя глаза, забиваясь за ворот плаща, ну ладно, а то замучила долгая предзимняя слякоть. Ни телеге не проехать, ни обозу… Полно, какой обоз? Обоз растаял вместе с тяжелым сном. Вместе с Хербертом. Сквозь пелену снега проступает призрачная фигура. Господи, что не примерещится в такую погодку! Ветер распластал рваную шаль, как будто за спиной нищенки хлопают темные угрюмые крылья. Торжественной поступью старая Брюн проходит мимо них, не обернувшись, даже не заметив, бормоча что-то себе под нос. Неужто хоть одна кошка на площади встретит сегодня свою кормилицу? Кошки-то умные, забились кто куда, в метель на улицу и носа не высунут.
Агнесса открывает дверь сразу, словно стояла за ней, тотчас между косяком и её широкими юбками протискивается чёрный Густав и, хрипло мявкнув, прыгает с крыльца. Провалился по брюхо, обиженно встряхнулся и исчез в сером предрассветном сумраке. После таких снов на все смотришь, как в первый раз. Не там. Или там? Проснулся он уже или упал в новый сон, как Густав в сугроб? Пол в сенях уже подтерт, но вокруг плаща, на котором лежит раненый, талая лужица, мокрые волосы чужака слиплись жидкими прядками. Доктор скинул на стул свой плащ и камзол, опустился на колени, подтянул выше сборчатые рукава сорочки.
— Я воду греться поставила, — сказала Агнесса невыразительным, сонным голосом. — И полотно есть у меня. Сломана нога-то. Лубок класть надо.
Якоб, чувствующий себя героем, и два лесоруба топтались в дверях, вокруг их башмаков оплывал грязноватый снег. Агнесса неспешно достала из шкафа зеленоватого стекла толстые стопки, составила их на оловянное блюдо, прихватила графинчик с настойкой:
— Угощайтесь… А теперь идите, идите. Господину лекарю мешать не надо.
Закрыла дверь, задвинула засов, спокойно сняла с очага здоровенный закипающий котел. Плеснула горячей водой в таз и разбавила из кувшина, пробуя, как для младенца, белым круглым локтем. Разложила на чистой холстине моток полотняных бинтов и кучку корпии. Никогда-то она не спешит, но все появляется как по волшебству в самый нужный момент. Такую бы помощницу в лагерь — цены бы ей не было. Солдаты бы мамкой звали.
— Агнесса, с него надо стащить одежду.
Она протянула тяжёлые ножницы.
— Режьте сразу, господин Теофраст, всё одно грязь сплошная. И прожаривать даже не стану. Колет разве приберечь, — знахарка подобрала и бросила в угол кожаный колет. Ловко сгребла и унесла в сени лохмотья камзола, чудовищно грязной рубахи и обрезки штанов.
Тело у раненого было, как у Христа неумелой деревенской работы, — узкое, с покатыми плечами и впалой грудью, бледное неживой белизной. Под коленом — скверная, воспалённая рана — кость перебита, и кажется, мушкетной пулей. Когда доктор взялся прощупывать рану, чужак застонал и открыл глаза.
— Дайте-ка мне, Агнесса, вашей настойки. Отдельно в плошке и в стакане. Плошку сюда, и не вздумайте смеяться — я неоднократно проверял — это спасает от воспаления. А из стакана влейте ему в глотку — это притупит боль.
— И в мыслях смеяться не было, господин Теофраст. Вот плошка, а стакан и не надо. Лучше так.
Она тяжело опустилась на колени в изголовье раненого, обхватила белобрысую голову мягкими ладонями, склонилась к самому лицу:
— Спи.
И действительно, водки не понадобилось.
Рана была вычищена, нога запелёнута в тугой лубок, а раненый обмыт, переодет в рубаху покойного Вальтера и бережно переложен с сырого плаща на перину поплоше.
— Спасибо, господин Теофраст, что пришли, — сказала Агнесса, как всегда бесстрастно. — Не желаете ли вишневки откушать?
— А не откажусь, нет! — И когда женщина неторопливо направилась к шкафчику, лекарь спросил ее внезапно для себя:
— Вы уверены, что не стоит отправить его к отцу Питеру? Или, хотите, перевезу к себе, как очнется? Вам, должно быть, не слишком-то… Хлопоты лишние…
— Справлюсь, — не оборачиваясь обронила Агнесса.
Уже надевая перчатки, доктор уточнил:
— Он говорил о чём-нибудь, пока не впал в беспамятство?
— Говорил, что все пропали. Что началась пурга из ледяных перьев, и все пропали. Бредил, верно.
Снегопад давно кончился. Лекарь ушел. Сколько же они провозились? Агнесса выходит во двор, выплескивает под яблоню грязную воду, обтирает котел и набивает его чистым декабрьским снегом. Небо светло-серое, зимнее жемчужное небо. На дворе все белым-бело. В сугробе у крыльца ямка — это плюхнулся важный Густав — натоптано, где кот выбирался на поверхность, брезгливо тряся лапами, а дальше по кромочке молодого рыхлого снега тянется невесомая цепочка независимых кошачьих следов. Ох, Густав!
Господин Теофраст с привычным пессимизмом опытного лекаря ожидал антонова огня, лихорадки от ран либо простудной, внезапной мозговой горячки, или, на худой конец, пролежней от неподвижности и небрежения, но раненый поправлялся на удивление быстро. Ежедневные визиты лекаря к Агнессе вошли в привычку для обоих. Знахарка скоро перестала дичиться высокоученого господина, прямо при нем закладывала в небольшой котелок травы и прочие ингредиенты, нужные по ходу дела, ворожила и шептала над томящимся душистым отваром. На «колдовские штучки» господин Теофраст прикрывал глаза, да и католическое воспитание его было сильно разбавлено вольнодумием и опытом военного врача. Однажды, впрочем, развлечения и любопытства ради, он напряг слух, пытаясь услышать, что же бормочет ведунья, но, к изумлению своему, обнаружил: женщина раз за разом монотонно и ровно повторяет «Отче наш». Осторожно выспросив ее, Теофраст подивился собственной несообразительности. «Да как же иначе-то, господин лекарь! Три „Отче“ — и снимать котелок, не то перестоится», — терпеливо ответила Агнесса. Если же травам надлежало томиться дольше или же у знахарки были иные заботы, из деревянного гладкого ящичка извлекалась господская игрушка, покупные часы на четверть часа, и струйка цветного песка тихо перетекала из колбы в колбу. Высокомерную небрежную ревность к коровьей матери, дерзающей лечить подобие Божие, все больше сменяло профессиональное любопытство. Раньше с умением знахарки подбирать травы и составлять сложные смеси доктор сталкивался лишь при дегустации настоек, теперь же он оценил ее искусство по достоинству, и, глядя, как работает флегматичная Агнесса, с удивлением замечал в неспешных и полуварварских действиях неграмотной бабы отсветы того же высокого искусства, какому предан был и сам. К слову сказать, нечасто господин Теофраст видел столь быстро заживающие раны и такой тщательный уход. Удивляло его и совершенное отсутствие в Агнессе жалостливости к увечному, свойственной слабому полу. В бытность свою не раз и не два наблюдал он, как прельщает дам боль, переносимая, а паче того когда-то перенесенная мужчиной.
…Адель боялась крови и совершенно не могла перевязывать раны. Но гладкая розоватая кожица его старых шрамов так занимала её…
Как Агнесса, отказавшаяся от помощников, управлялась с телесными нуждами бесчувственного пациента, доктор мог только догадываться. Больной был чист и обстиран, и в доме не ощущалось запаха гниющей плоти. Смущало то, что ландскнехт не приходил в себя, хотя состояние его не напоминало беспамятство — скорее, то был чудесным образом продленный целебный сон. Порой спящий говорил не пробуждаясь — то быстро и невнятно, так что и не разберёшь языка, то по-немецки — чисто, хоть и с нездешним выговором, а однажды — высоким голосом отрока, отвечающего затверженный урок, — на фландрском. Доктор, в своих скитаниях волей-неволей освоивший пять языков, помимо прочно вбитой в отрочестве латыни, изумился, поняв, что речь идёт о красках. «…Плащ Пресвятой девы надлежит писать лазурью, что …из в пыль растёртых синих камней немалой цены. Но если средства …то употреблённая в сочетании с белилами сажа, если, конечно, цвет окружения будет подобран точно, даёт подобие блеклой синевы…».
«Вот ведь, живописец!» — подумал лекарь, рассматривая лежащую поверх одеяла руку солдата — крупную, худую, с искривлённым средним пальцем и на треть срезанным мизинцем.
— Никак услышаны молитвы отца Питера? — усмехнулась Агнесса. — Вечно он охает, что некому алтарь подновить, и святой Мартин у него облез совсем, от людей стыдно!
Теофраст осекся было, но решил, что про живописца сказал вслух, забывшись.
В пропиленный лаз вальяжно скользнул черный Густав, осмотрел всех топазовыми глазами, басовито мурлыкнул Агнессе. Та расцвела улыбкой и, укрыв спящего, поспешила в сени, где на холоде стояли крынки с молоком.
Пришёл злой февраль, месяц прибыльный для докторов, но тяжелый для болящих. От гнилой лихорадки скончался старый Фридрих, родные и близкие оплакали его, но к доктору никаких претензий не имели. Теофраст в последний раз навестил дом травницы. Раненый давно не нуждался в его заботах, и визит был продиктован причинами щекотливого свойства. Вчера отец Питер, осторожно выбирая слова, попросил старого приятеля поговорить с пришлым ландскнехтом — нехорошо здоровому мужчине дольше надобного задерживаться у нестарой ещё вдовицы. Отец Питер даже готов предоставить солдату кров, пока тот не найдёт себе приюта получше.
— Ханс? — Агнесса держала на отлёте руки в мыльной пене. — Утром ещё ушёл. К отцу Питеру, вроде бы, а за вещами, сказал, вечером зайду.
Стоило бы поблагодарить и откланяться — видно же, занята хозяйка, но Агнесса уже обтёрла руки о передник и милости просила пожаловать. Пришлось сбить снег с сапог, повесить в сенях плащ и шляпу, мимодумно жалея чисто выскобленный пол, пройти к печке в синих дельфтских изразцах.
— Раз уж я добрался до вас, милая Агнесса, так и прикупил бы вашего травничка. Если, конечно, найдётся излишек. А пока пост не начался, так и наливки.
— Вишнёвка у меня почти вышла, а есть вот настойка на девяти травах с мёдом и перцем — я такую в первый раз ставила. Она только к Рождеству и созрела как надо. Я сейчас бельё развешу, и вам на пробу по рюмочке налью, и сливянки ещё, а вы уж сами выбирайте, что вам больше по нраву.
В ожидании обещанных рюмочек доктор занял дубовое кресло, чёрный наглец Густав потёрся шерстяным боком о сапог, перемахнул через подлокотник и развалился на коленях гостя. Теофраст не возражал, даже погладил мощный загривок.
Раздались голоса, кто-то пришел к знахарке, хлопнула дверь, зашаркали по полу, застучали деревянные подошвы. Густав встрепенулся и пулей слетел на пол. Старая Брюн вошла в комнату, не отряхнув платья от снега, оставляя за собой мокрые грязные следы. Смерила доктора неприязненным взглядом, присела на негнущихся ногах, проскрипела «доброго здоровьичка, господин лекарь, приятная встреча!» и рухнула на низенькую скамеечку у печки кучей сырого темного тряпья. Скинула башмаки, высунула из-под грязной юбки ступни в толстых промокших чулках и впала в блаженное забытье, прижавшись спиною к горячим изразцам. Пока Агнесса во дворе развешивает белье между двумя вишнями, потерпим друг друга, глупо же прямо сейчас вставать и уходить.
Старуха сидела молча, выкатив почти мужской кадык, крупный крючковатый нос торчал из-под оборок грязного чепца. Лекарь присмотрелся — Брюн спала. Даже всхрапнула, слава Богу, а то и не понятно — не преставилась ли? Нос заострился, как у трупа. И кожа желтоватая, восковая. Вот сейчас воск подтает, плоть сольется со лба, с впалых щек, исчезнут губы, и мертвец обернется к Теофрасту, ухмыльнувшись оставшимися редкими и длинными зубами. Ухмыльнется и скажет: «Господин лекарь, вставайте, нужда в вас!»
Что за дурацкие мысли? Одно ясно — старуха долго не протянет — совсем уже полуистлевшая она, как жива еще…
— Что, солдатики, ловко вы мамку провели? Под юбками у ведьмы-то тепло? А в огонь не пора? — дремлющий кадавр поднял голову, и под закрытыми веками Теофраст видит движение зрачков, поворачивающихся к нему, ищущих его по комнате, настигших. Оба глаза, под морщинистой кожей у проклятой ведьмы шевелились оба мертвых глаза!
Брюн наклонилась к дверце печки, седая прядь выбилась из-под чепца, свесилась с голого черепа, и вдруг старуха заскользила вниз, как бескостная кукла. Теофраст рванулся и подхватил ее, потому что ему показалось: если та полыхнет, из-под оболочки нищей попрошайки полезет что-то ужасное, как библейская железная саранча.
Старуха дернулась, проснулась и осклабилась:
— Да вы никак обжиманцы затеяли, господин лекарь? А войдет кто — так я ж девушка незамужняя, жениться придется, — и заперхала, подавившись скабрезным смешком.
— Вы задремали… — смешавшись, пробормотал Теофраст. Она взглянула на него единственным слезящимся глазом, еще раз хихикнула и съежилась под шалью. Как можно было испугаться старой Брюн?
Потом он часто просыпался по ночам от душного ознобного страха. Во сне мерзкая ведьма заглядывала ему в лицо, кокетливо прикрываясь растопыренными пальцами, а под ее вонючим тряпьем лязгала ржавая кираса с острым килем. И неумолимые глаза старухи прожигали его насквозь.
А наяву Брюн почти и не встречалась. То ли избегала лекаря, то ли слишком слаба была, чтоб тащиться за подаянием через весь Мартенбург. Но в апреле Теофраст увидел ее на площади, под лучами яркого весеннего солнышка старуха сидела, оседлав конскую поилку и залихватски подоткнув подол. Рядом стоял Ханс и что-то быстро зарисовывал на дощечке. Доктор подошел посмотреть. Из путаницы темно-серых штрихов возникал андрогинный пьяный труп на хохочущем коне. Особенно ужасал пронзительный, ищущий взгляд Войны сквозь ветхие, плотно сомкнутые веки.
Ханс, не отрываясь от работы, поклонился доктору и сбивчиво объяснил, что видел у патера «Трёх всадников» прославленного мейстера Альбрехта. Нимало не тщится повторить, но хочет написать сам… Смотрите, господин Теофраст, смотрите не правда ль эта женщина есть страшная, как война?
Теофраст еще раз взглянул на сумасшедшую старуху, в непристойной позе раскорячившуюся на каменном корыте, и вновь отметил, что Брюн вряд ли протянет хоть год. Осиротеют городские кошки.
— А ты кому пишешь эту картину? Неужто просто для себя? Ах нет… Ну так продай мне. Хочешь задаток? Но прошу, пиши поскорее. Уж больно натура хороша.
Теофраст шел домой и прикидывал, где бы ее можно было повесить, повесить. И гвоздь вбить покрепче. Теперь точно не вырвется.
Фрау Брюн
— Пус-пус-пус… Ну, сюда, твари неблагодарные! Не обижу, не пну, сами знаете. Вы только посмотрите, что у меня в мешке, а? Тресочка, жирная, нежная, как рыбка в райских прудах. Кухарка старого попа готовила, пухлые ручки пачкала. В соусе, молочный соус через сито протерт, три рыбки в корзине было, я две съела, и то хвостики вам, все вам. А эта — целиком. Да понюхайте хоть. Это ж не сушёная треска, не солёная! Свежатинка, последнего улова. Мазилка, при церкви прижился, вот уж чисто треска. Селедка белесая. В кирасе-то, может, на человека был похож. А так — шалишь, селедка — она селедка и есть. И на что попу занадобился хоть? Для мальчика староват, да и непохоже — постный поп, вишнёвкой еще грешит, а ничем больше — ни-ни. Я попов видала. Всяких видала. Попы есть, им с бабами грешно, зазорно, а с мальчиками нет. Да он-то не мальчик, все тридцать орясине есть. Намедни стою на площади, подходит: «Не согласитесь ли, уважаемая, сюда присесть, я де вас рисовать стану». Усадил враскоряку и давай угольком шаркать. Пошаркал-пошаркал, не показал ничего, пять грошей дал за мою красу. На лошадиной-то поилке за пять грошей так посидела.
Зверя-дракона с меня намалюет. Для блуди Вавилонской я лет тридцать не гожа.
А вишнёвки-то поп пожалел. Весна, а тепла всё нет, старухе кости греть надо, а бутылка-то плевая, смех — не бутылка. А к зиме, глядишь, травника отжалеет, травник от простуды. Травник лекарь делает — не зелье, огонь.
Лекарь вот тоже. Уважительный господинчик …Пус-пус-пус… ну, чего ждёте? Рыба не по нраву? А мясо завтра, завтра будет, вот к лекарю схожу, и будет вам мясо. Кто ещё о вас позаботится, кроме старой… старой?.. Брюн, во как! «Почтенная фрау Брюн», говорит. Это я почтенная. Дверь откроет, и голову наклонит так учтиво — волоса встряхнутся, по плечам рассыпятся, курчавые и длинные, что у девки. Колечко в ухе, дорогое, где добыл-то? Небось, когда служил, стриг плотно, или баба была, чтоб чесала, а то вшам в такой волосне рай. В столовую не пустит, да мы не гордые, мы и на кухне. Зато похлёбка мясная — с каплуном или с требухой, а по зиме так с солониной. А постной-то не бывает — конечно, лекарь когда хочешь себе слабое здоровье пропишет, а поп по дружбе и порося рыбой объявит. Куски смачные, жирные — половину в мешок, в мешок, вот как. О вас, твари, забочусь. А потом рагу, а в нём колбаски кровяные — в мешок. А пиво — мне, куда вам пиво? А как к двери проводит, ещё пару медяков сунет. Я на них мясной обрези куплю — в мешок. Жрите, киски! Пус-пус-пус…
А от Агнессы я вам белой колбаски припасу. Она меня никак не зовёт. Нечего ей меня звать. «Проходите, — говорит, — еда на столе». Говорит, а сама морду толстую на сторону воротит. Я в дверь — кот её из двери. И не боится, паскуда, а манерный — нагло так пройдёт, впритирку, а на подол, паскуда, всякий раз хвостом тряхнёт. Пометил, значит, яйца, значит, есть. Ну, ничего, тряси мудями своими, тряси, твоей же хозяйке стирать. Как покормит, узелок вынесет: я вам постирала.
Когда в узелке и правда моё постирано. Иной раз своё старье суёт: юбка вот нижняя у меня сейчас хорошего полотна, чулки толстой шерсти, деревня, а тёплые. А платье ее болтается, как на пугале. Сукно хорошее, и ростом мы с ней вровень. Корова и есть. У неё в кухню лохань вытащена, вода нагрета и мочалка распарена. Полынная, от вшей хорошо. Меня моет, хоть и брезгует. Грязное унесёт, чистое даст. У неё еда-то всякая — что принесут, за то и спасибо. Знахарке всё тащут. Лепёшки вот с мёдом — небось, и муку, и масло, и мёд — всё принесли. Знай пеки да намазывай. Лепёшки съем, а колбасу — в мешок. И пирог с мясом, и яйцо варёное — в мешок.
И ведь не по доброте — в глаза не смотрит и вижу, брезгует. Не вшами моими, не грязью — что знахарка грязи не видала? Мной брезгует. Или обет какой дала? Поп что ли приказал? А то вот ещё думаю… а ну как дочка она мне? Тяжёлой я, вроде, ходила, и не раз, а рожала ли — не помню. Цветочки есть такие мелкие, жёлтые — чтоб не понести, ещё корешки есть — травить. А уж если совсем дура, не позаботилась — тут лекаря спрашивай или по брюху колоти. Спрыгнуть еще откуда можно. Зимой под монастырем стояли лагерем. Бабы все туда бегали, со стены сигать. Святые стены грех скинуть помогут. За три деревни бегали. Наши-то каждый подол задирали, а эти потом и бегали. Как ночь, так и тащатся — охают, крестятся да сигают где пониже. Умора. Да нет, не дочка. У неё лицо коровье, и стать кобылья. А я девка что надо была. Помню, красное платье мне досталось, богатое — лиф, как пламя, юбка — утрехтского бархата. Золотом расшито все сверху донизу, гранатовые яблоки золотом вышиты. Красота — залюбуешься, графине впору. А, может, и было впору, пока кто не снял. Мы тогда сами, как графья, ходили. Многие мне его задирали, и сзади, и спереди. И на земле, и на телеге, и на поилке лошадиной тоже. Потом подол обтрепался совсем, нитки полезли. Тележка моя в грязище завязла — а тащи. Подтыкала его, подтыкала, сзади по земле волочится — все оттаптывают, нарочно сапожищем один наступил, паскуда, юбка нижняя по грязи полощет, пропасть совсем… Куда дела потом?… Пес с ним, с платьем. Богатое было.
Глаза вот нет. А как выбили — тоже не помню. Но не городские, нет. Детишки тут добренькие — ни камнем, ни палкой не кинут. Фрау Война зовут. А кто из них эту войну видел? Тихий городок, хороший — штурма поди лет тридцать не нюхали, а то и все пятьдесят, как заговорённые. Ничего — как припрёт, понюхают. А кто обо всех позаботился? Я обо всех позаботилась — старая тётка Брюн. Лекарь так зовет. Уважительный господинчик.
Пус-пус-пус… Ну уйду, сейчас уйду. Уже ушла совсем, жрите, прорвы. Киска должна быть жирной. Давай-давай, брюхатая, корми пузо. Сколько их у тебя там, пять, шесть? Ничего, я и об этих позабочусь. Плодитесь, кисочки, пока можно.
— Фрау Война! — румяная девочка в вязаном чепце, тёплом шерстяном платье и суконной пелерине похожа на сытого ангелочка. — А вы очень любите кошечек?
— Кошечек? — городская сумасшедшая отрывается от копания в своём бездонном мешке. — Нет… не слишком, но когда припрёт, не до разносолов. Запомни, деточка, когда кругом война, киска должна быть жирной.
Густав, кот
Ледяная черепица обжигает подушечки лап. Два прыжка — и перемахнув от треугольного чердачного окошка к коньку крыши, Густав садится, обвив себя хвостом и спокойно осматривает вечерний Мартенбург. Предзимье затянулось. Серое сумрачное небо нависло над крышами, ржавый флажок флюгера охает и скрежещет над головой, по улице торопливо проходят крохотные человечки. В окнах мелькают неясные силуэты — люди ужинают, нежничают, подходят закрыть ставни, из труб кое-где поднимается дым. Пахнет холодом, съестным и обжитым. Густав жмурится и зевает. Все спокойно.
Вчера к ним опять приходила Война. Все кошки Мартенбурга боятся ее до дрожи, ни одна не смеет приблизиться. Густав отлично знает ее запах, ее старую дряблую плоть, которая не скрывает железной нечеловеческой вони. Так уж надо, чтобы она жила здесь, под бдительным присмотром медных кошачьих глаз. Малыши плачут, когда встречают ее, опрометью бросаются прочь, забиваются под бревна и прижимают ушки. От ее еды разит железом и смертью. Вон она ковыляет на площадь, красная юбка в сумерках кажется бурой, сегодня ее принимает доктор.
Из ниоткуда возникает серая тощая тень. Каспар, не иначе. Каспар отшельник и монах, он ни разу не спел Веселую песню и не посещает ни одной девки, но с ним хорошо молчать. Он деликатно скользит по крыше и пристраивается чуть ниже Густава. Часы на ратуше размеренно отбивают четверть. Хозяин Каспара еще полчаса проведет среди пыли и старой кожи, шуршащих бумаг и кисло пахнущих чернил. Еще полчаса ни одна живая душа и не подумает, куда это запропастился тощий тихоня, похожий на клок серого тумана, единственный в городе кот, безропотно носящий ошейник. Густав помнит, как Каспар впервые появился под флюгером, скромно занял место внизу, сразу уступив черному коту Агнессы. Густав помнит, как они вдвоем навестили архив ратуши, единственный раз, когда молчальник Каспар, скрепя сердце и нервно облизываясь, согласился принять его помощь. В одиночку там и вправду делать было бы нечего, а вдвоем они славно потрудились, спасая старые книги.
Среди прочих Каспар держится на отшибе, скромником, городские, особенно из молодых, его и за кота не считают, даже дурак Мартин, купеческий приемыш, попробовал было задирать перед ним нос — дескать, что это за зверек, в петле с бляхой, как служивая болонка! Но Каспару, похоже, наплевать и на Мартина, и на блохастый молодняк, и на девок, презрительно водящих хвостами в его сторону. Впрочем, Каспар не ходит на собрания, ну разве только на самые важные, куда Густав лично его приглашает. Часы бьют половину.
— Тебе пора, — говорит черный.
— Спасибо, я помню, — беззвучно улыбается серый и исчезает в треугольнике чердачного окна, верный фамилиар Иеронима Хабитуса.
Густав встречает ночь. Луна еле пробивается сквозь тучи, холодный ветер теребит заржавленный флажок на кованой спице, окна исчезают в темноте. Дольше других горит свеча у священника, но вот и она мигнула и погасла. Из низкой брюхатой тучи скользнули первые снежинки, потом еще и еще, снежинок все больше, они слипаются в большие хлопья и падают на застывшую грязь, схваченную ночным морозцем, на крыши, на черную спину Густава, на засыпающий Мартенбург опускается белый неплотный покров. Завтра все растает, но это значит, что зима уже пожаловала в город и берет его под свое суровое покровительство. Густав не против, он выгибает спину и в те же два прыжка оказывается на чердаке, среди старой рухляди и мышиных погадок. Чужая серая мышь бросается с перепугу ему под ноги, но Густаву нет до нее никакого дела. Пусть себе живет, да не заглядывает ни к Агнессе, ни к Хабитусу. Не пристало черному Густаву, архипастырю мартенбургских котов, истреблять глупое мышье племя везде, где встретит, без вины и подчистую.
Улицы засыпаны мокрым снегом, на белесом снежном полотне тянется кое-где черная цепочка аккуратных следов. Густав поспешает вдоль стен, по самому краешку, стараясь не ступать на свежий снег — что зря лапы студить. Дома хорошо: молоко в плошке подернулось тонкой заветрившейся шкуркой сливок, ласково потрескивает натопленная печь, Агнесса дровами не обижена — крестьяне возят ей по зиме вволю, в благодарность за лечение и добрые советы. Сама хозяйка, простоволосая в длинной льняной рубахе, готовится отойти ко сну, чешет светлые с проседью косы, повторяет молитву на сон грядущий, ждет своего Густава. А Густав и сам рад бы душевно привалиться под теплый мягкий бок городской травницы, разнежиться и мурлыкнуть, но служба есть служба. С незапамятных времен так уж повелось — раз в месяц, при круглой луне Густав обходит весь город, по кругу.
Улица за улицей, тропинка за тропинкой, пустой, как вымерший, зимний причал — река вот-вот станет, снег накрыл перевернутые лодки, бочки, кучи отбросов, доски и старые щепастые прилавки там, где с утра шумит рыбный базар, окна в «Веселом рыбаре» плотно завешены тяжелыми ставнями. Зима наступает, да и времена не те, чтобы допоздна веселиться. Брехливые бродячие псы возле харчевни, вскочившие было с ворчанием, узнают черного кота и молча сворачиваются теплыми клубками у стены, спать. Густав бежит мимо. Грязный Речной переулок опрятен и свеж, снег засыпал и убелил его убожество, а вот улица, на которой живет пекарь, чуть свет поплывет из его дома сытный горячий запах, к окошку потянутся служанки с корзинами за хлебом, за калачами и маленькими круглыми булочками. Свет фонаря мажет по стенам, это ночной сторож идет по улице, у него свой обход, у Густава свой, дальше, дальше. Небольшой дом с нарядными белыми ставенками, сквозь вырезы-сердечки льется золотистый свет. Здесь живет фрау Вильма, ночью она ходит по дому, не может уснуть, что-то ищет, бормочет, шепчется сама с собой. Марта жила у нее прошлой зимой, но не выдержала, ушла. Очень уж там беспокойно: что ни ночь — старуха мечется по комнатам, словно у нее детенышей отобрали. В городе об этом не знают, разве только Агнесса, однажды старуха к ней приходила, плакала. Чем дело кончилось, Густав не знает, больше фрау Вильма у них не появлялась. Черная тень скользит по улицам, цепочка крупных кошачьих следов опоясывает спящий город.
Фрау Вильма мечется по своему дому, ровно запертая. Толкается в двери, трогает оконный переплет, Марта говорила, что при этом не то плачет она, не то поет тихонечко, и не поет — скулит. Кошки знают: ищет фрау Вильма свою дочу, да не просто — с внучком. Доча фрау Вильмы покинула дом в незапамятные для Марты времена, и с тех пор фрау Вильма маленько повредилась в уме. Днем она сухая, чинная, плетет бесконечное кружево, вон сколько у ней сколков на твердых подушечках, вон как свисают моточки ниток, и барабанчик, на который накручивается готовая лента, не пустеет. Доча ее уехала и о матери словно забыла — что есть старуха, что нет ее. Старательная женщина фрау Вильма, и строгая, только плачет и плачет в церкви, а потом поворачивается и вон идет, а ночью ищет свою дочу по дому, оттого ни одна кошка с ней ужиться не сможет никогда. С ней и из горожан мало кто дружится, а вернее сказать — никто. Муж ее, рыбак из Мартенбурга, в городе невесты не нашел, издалека привез себе супругу, гордую фрау Вильму, золотые руки, золотые волосы и золотое сердце. Но муж давно упокоился, а кружево все плетется. Агнесса грешный плод вытравлять не взялась, никогда к такому не касалась, нашлись и другие лекарки, пока не видно и разговоры не пошли, после дочь Мартина-рыбака и фрау Вильмы покинула родной дом, поступила куда-то далеко в услужение, а вскоре старая Вильма начала свои ночные поиски.
А вот за этим окном спят, и за тем — ставни так покойно затворены. В кадке у дома заснеженные кусты, подвязаны, укутаны ветхой мешковиной, — весной выстрелят зеленые почки, а к маю набухнут первые розы. Вдоль кадки Густав пробегает мелкой побежкой: после кустов остается добрых три четверти дороги.
А вот здесь, у складов, три года назад Густав сошел с дороги, потому что рядом с тропкой заметил крысу. Вялая и одутловатая, она моталась из стороны в сторону и силилась удрать, потом вдруг вставала на задние лапы и вспрыгивала вверх и вбок. Сражаться с ней вряд ли бы пришлось — время ее было на исходе, издохла б и сама. Но проклятая тварь неудержимо, с тупым упорством рвалась в город, за цепочку кошачьих следов, и все блохи на ней уже ждали, когда можно будет покинуть окостеневший крысиный труп и перепрыгнуть дальше. Густав бил ее лапой, стараясь не забыться, не вонзить зубы в тварь, он отшвыривал ее от города так далеко, как только мог, и наконец, отбросил вон, перед тем как следует пометив, чтоб никому из его народа и в голову не пришло сдуру польститься на поганую стерву. Он закончил обход и пролежал в тайном своем укрытие целых 10 дней, не выходя наружу и почти не вылизываясь, не усмотренный никем, кроме серого Каспара. Агнесса стыдила его потом, но он только жмурился и шевелил усами… Какое же долгое это дело — вести череду шагов, обходя город, пока следы аккуратно не замкнутся в кольцо и последний шаг не сольется с первым.
На исходе ночи Густав протискивается в кошачий лаз, выпиленный в двери. На теплой кухне долго приводит себя в порядок, моет черную блестящую шерсть, ужинает молоком, потом, потоптавшись, вспрыгивает на строгую деревенскую кровать. Агнесса спит, положив крепкие руки под щеку, чуть надув губы, как девочка. Густав щурит желтые глаза, сворачивается плотным клубком и погружается в глубокий безмятежный сон.
Ханс
— Парча, ну просто парча, вот руками — дерюга, а глазами — парча! — отец Питер уже третий раз то подходил к наброшенному на кресло облачению второго волхва, то отбегал, всплёскивал руками и головой крутил. — Ты же плут, чародей какой, Ханс, добрый обманщик! И как же это сделано?
— Ничего нет особенного, отец Питер. Я вырезал узор из старый пергамент и через вырезы… дыры… вытер одежду… такая смесь… жёлтая темпера на клею. Потом уже кистью я сделать вышивку, и якобы тут есть блик. Агнесса принесла бусы, хорошие, много. Пришить вот тут по вороту и вниз. А пояс будет настоящий, золотой — шить канителью, я знаю как, это недорого, мне уже обещали. Для третьего волхва платье из белый холст, с кистями на рукавах. Так как на одной картине великого Иеронимуса Босха. Еще белым шнуром рисунок, девушки сделают, и ещё московитский жемчуг, это дал Отто.
— Боже мой, жемчуг это же, верно, очень дорого?
— Дорого, но нет очень. Это речной жемчуг. Он мелкий, неправильный. Говорят, в Московии его премного.
Праздник приближается, набирает великолепие, загодя сияет дареными и одолженными сокровищами. Агнесса пожертвовала бусы, те самые, что ей вдова отдала за корову. Кроме жемчуга, щедрый господин Бейль посулил горсть бусин из богемского стекла — они гранёные и переливаются, как драгоценные камни. Ханс уже нацелился украсить ими ларец и чашу, великие дары царей с востока.
— А звезда? — вздохнул отец Питер. — Что у нас со звездой будет? Позолота с неё совсем облезла, я боюсь, если снег повалит — никто нашу звездочку и не увидит.
— Нет бойтесь. Дерево у неё без вреда, я проверил, а фальшзолото…. позолоту, да…. можно заново. А еще те бусы Отто пустить не на ларец, я тоже думаю, а вот так, по лучам звезды, да? О! Тогда они будут играть от любого света, даже от свеча.
— Но вот я всё сомневаюсь — не напугаем ли мы третьим волхвом. Всё-таки чёрный человек… Может быть, чёрными будут только слуги?
— Это уж как вы, отче, велеть. Но я лично сам видел не один раз мистерии, где волхв был весь черный, и никто нет был испуган — и есть еще — все знают, что это Ференц. А чёрное лицо и белая одежда, богатое платье — это очень хорошо, это красиво. Вот только надо будет перчатки, а то всё белое будет захватанный, это есть потешно для всех. Я думаю, на голову надо шапку или тюрбан, потому что у чёрных людей их волосы короткие и такие… как овечина… овчина. И ещё, я так подумал: первый волхв едет на осле, второй и третий — на конях, почему не сделать еще дивного зверя, дважды горбатого, — на таких ездят в Аравии, я знать? Он будет нести поклажа, очень потешно тоже. Голова его, я нарисовать, ее надо вырезать из дерева, обтянуть старая кожа, раскрасить, а тело можно сшить как попона из овчин… две старых шкур. Два человека влезть внутрь, а две их головы будут как бы два горба, мы сделать в шкурах дыры для смотреть и дышать. Это есть очень смешной трюк, все радоваться…
Ханс тараторил без умолку, махал руками, набрасывал на два кулака покрывало Девы, показывая, как будут торчать горбы диковинного аравийского зверя верблюда, как чудесно преобразят Михелевы бусы пожухлую и страшноватую звезду, какое роскошное действо можно будет устроить. И это наш голландец, который два слова подряд обронит — считай, речь сказал! Отец Питер диву бы давался, но повальное сумасшествие овладело всем городом без исключения, и имя ему было — Рождественская мистерия. Хор ангелов уже дважды собирался, чтоб разучить хвалебные песни, а до Адвента еще неделя. Когда стало понятно, что в Мартенбурге есть свой собственный, пусть и скромный, да живописец, готовый взяться за хлопоты и треволнения постановки, добрые горожане как с цепи сорвались. Девицы засели за иголки, простегивают крылья ангелу-вестнику, разукрашивают плащ Иосифа, и себе измысливают обновки. Цех хорохорится перед цехом, сосед перед соседом, а чем ближе к великому дню, тем жарче будут пылать страсти вокруг! И поди еще управься с ними со всеми!
— Ох, Ханс, что-то заигрался я с тобой, да так, что, боюсь, расстригут меня, как одного лотарингского каноника. Он тоже уж слишком увлекался мистериями.
— А… разве не вы сами будете царь Каспар?
— Что ты, сын мой, куда мне лицедействовать? — рассмеялся отец Питер. — Наступлю на мантию, да и бухнусь Деве Марии прямо на колени! — но простодушный Ханс все стоял с вытянутым лицом: интересно, знай этот чудак с самого начала, что первым волхвом будет Отто, стал бы он с таким тщанием превращать древний упелянд в златотканую мантию?
— Шорник Готлиб мне спасибо не скажет, если я его среднюю дочку придавлю, да и мне хорошего мало — я ж ее крестил, а к весне хочу и обвенчать. С нашим, между прочим, младшим волхвом. Колени-то у неё выдержат, не столько во мне веса, но можно же младенчика напугать, а я ведь и его крестил. Это её племянничек, ее сестры младшенький. А если весной повенчаю, то, может, на следующее Рождество уже её сыночка в ясли положим. Правда, боюсь, если не повенчаем, младенчик всё одно будет: у Готлиба дочери такие — влюбчивые, упрямые. А судя по старшей, и плодовитые. Так что со свадьбой лучше не тянуть. Да и мне со стороны виднее будет — какая красавица у нас Мария, какой гордый эфиоп, и как твой дивный зверь верблюд в шкуре запутается. Но ты и не думай даже — если он запутается, все еще больше обрадуются.
Наступил Адвент. Перед дверью церкви в цветном фонаре с утра горела толстая свеча — и такие же маленькие фонарики плыли по улицам, это благочестивые горожане спешили на ранние мессы. На третье воскресенье выпал снег, отец Петр в древнем розовом орнате кропил прихожан водой, чтобы были чисты и белее снега, хор пел Laetare, и Ханс, готовя Дары к Пресуществлению, никак не мог унять дрожь в коленках — скоро, совсем скоро, и ведь не готово толком ничего. Еще бы месяц-другой — да где ж их взять!
На площади перед ратушей собирались парни, прикидывали, обсуждали, где поставить вертеп, как сколотить его, чтобы все влезли. Шутка ли — и Семейство, и волхвы, и слуги, да еще вола с ослом туда же пихать. Особенно кипятился Лотарь, подмастерье бондаря, — он непременно хотел тоже постоять в вертепе во время представления, хоть одной ногой, хоть на минуточку. Лотарю с братом досталась на двоих роль верблюда. Днями напролет господин городской живописец метался между сараем, где строились и расписывались декорации, закуточком в доме отца Питера, где хранились костюмы и утварь, домом Отто, куда собирались актеры повторять роли. Каждый вечер выяснялось, что кто-то забыл свои слова или время выхода, у кого-то от волнения приключилась желудочная хворь, каких-то чрезмерно любопытных подмастерьев, пытавшихся подглядеть в щелку между ставнями, отколотил буйный Лотарь со товарищи, и вообще все шло совсем не так, как представлялось в мечтаньях новоиспеченному мастеру мистерий. По ночам Ханс падал на постель и засыпал как убитый, чтобы проснуться с петухами и вновь кричать, горячиться, подмалевывать то дворец Ирода, то ангельские крылья, договариваться об очередности шествия, разбирать жалобы горожан, отвечать на тысячи вопросов, врать на ходу, от усталости насилу подбирая немецкие слова. Отец Петр уж и рукой на все махнул и сам прибирался в церкви, пока не пришли девицы и благочестивые вдовы, чтобы вымыть храм, отскрести от сала подсвечники и облачить Богоматерь в пышное Рождественское одеяние. Рождество прошло, прозвенело, просияло — и наконец настало Богоявление.
Утром великого дня господин городской живописец проснулся почти в лихорадке. Отец Питер лично обещал ему молитвенную помощь и силком заставил проглотить хоть что-нибудь, после чего отпустил с миром, и Ханс нырнул в бурлящий водоворот городской мистерии. Костюмы были заблаговременно осмотрены накануне, актеры при примерке веселились, как малые дети, шуткам и прибауткам конца не было. Теперь же всю веселую компанию охватил панический ужас — а волхв Бальтазар шепотом признался, что позабыл слова. Но деваться было некуда — город ждал. На Мессе благословили всех горожан, кто своим талантом и щедростью помогает прославить Спасителя, и отец Питер особо отметил музыкантов-ангелов и актеров, заверив, что ангелы святые, которых они будут изображать в мистерии, не оставят их без своей помощи ни во время представления, ни во весь будущий год. Лотарь с братцем приуныли, зато юная дочка Готлиба зарделась и расцвела, уверенная в особом покровительстве Приснодевы. Ханс все время до представления был как в тумане, что-то объяснял, кого-то успокаивал, орал в чье-то красное лицо, расставлял музыкантов и певчих, наряженных в белые ангельские балахоны, потом повалил снег. Площадь была битком-набита народом — горожане терпеливо ждали, когда грянет колокол, отмечая начало мистерии. И наконец грохнули барабаны, заиграли дудочки, и под легкий звон колокольчиков на помост выбрался белоснежный златокудрый архангел с огромными толстыми крыльями за спиной. Он повернулся лицом к публике, развел руками и начал:
«Громче, дерьма мешок! Громче! — шипел Ханс в бессильной ярости. — Ты же есть ангел, не драная дохлая селедка!» Ангел вздрогнул от неожиданности и заорал во все горло:
Публика разразилась одобрительными криками, хлопками, свистками, музыканты заиграли «К Деве Ангел снизошел», а в это время за занавесом толкались актеры, занимая свои места. Сыпал мелкий легкий снег, музыка вилась над площадью, горожане прихлопывали в такт и глазели на колыхания мешковины, размалеванной облаками и золотыми райскими кущами. На занавес Ханс много времени не тратил — и так сойдет. Раздались изумленные и радостные крики, возня, оживление — это с трех сторон через площадь шли три царя — белобородый старец, молодой мавр и муж из страны восточной. Юный ангелочек высоко вознес разукрашенную бусами и переливающуюся звезду, вслед за ним цари взошли на помост и встали в ряд, как объяснял им Ханс, чтобы люди вдосталь могли налюбоваться роскошеством и пышностью их одежд. У помоста, приплясывая от нетерпения, стоял сказочный зверь Верблюд и слуги с двумя огромными мешками и пальмовыми листьями — несметные богатства Востока.
Музыка смолкла, и белобородый Каспар громко возгласил:
Архангел, глядя на толпу и честно стоя к царям вполоборота, вопросил их громким голосом:
Бальтазар сопел, молчал и топтался на помосте. Ханс готов был рвать на себе волосы от отчаяния, но тут смышленый Мельхиор шагнул вперед и, поклонившись, выпалил вместо собрата-мага:
— Да! Точно! — перебил Мельхиора счастливый Бальтазар. — Так и есть!
- и для убедительности высоко поднял над головой мешочек с монетами.
Далее все шло как по маслу. Ангелочек-певчий, стоя на самом верху шаткой конструкции, затянутой тряпкой со звездами и означавшей небеса, затянул Gloria in exelsis, все подхватили, занавес раскрылся, и Мартенбург ахнул: перед ним на троне, прямая, чуть разрумянившаяся, с печальным и торжественным видом сидела Пресвятая Дева. Два ангелочка поддерживали ее широкое одеяние синего бархата. В центре композиции в высоких яслях на свежей золотой соломе, тепло укутанный, спал Младенец, и Иосиф Обручник с белой лилией в руках защищал Его сон. Весь город толпился на площади, молча и благоговейно созерцая эту сцену, и Ханс, ученик живописца, бывший ландскнехт, а теперь служка при церкви и сирота в чужой стране, вдруг понял, сколь щедр был Господь к нему, когда провел его сюда сквозь губительную метель из ледяных перьев.
Потом пришли пастухи — ангелы спросили их: кого вы ищете в яслях? Они ответили: Господа Христа. После занавес закрыли, и Архангел поведал, как царь Ирод, чтоб Христа убить, велел всех деток погубить, но Йозефу приснился сон, чтобы бежал в Египет он. Из-за помоста вышла Мария с младенцем, святой Иосиф посадил ее на ослика, и Святое Семейство покинуло Вифлеем. Вокруг помоста с песнею «Вот звезда сияет» прошли дети Рахили, на них внезапно бросились злые воины Ирода с громадными ножами, мертвые дети упали на снег. Архангел поднял их одного за другим — и увел за собой. Тем временем за занавесом приготовили последнюю перемену декораций — убрали ясли, вокруг трона встали ангелы с колокольцами, треугольниками и тамбуринами, за троном — три царя-волхва и Иосиф, сбоку уместился диковинный Верблюд и музыканты. На трон воссела Приснодева, держа на руках Сына, и началось шествие. Проходили цеха, мастерские, все кланялись, юная Дева в высокой звездной короне, замерзшая, но сияющая, с улыбкой кивала им со своего резного трона.
Ханс сидел за темно-синим звездным небом, а мимо него тянулся целый город, и музыканты играли без остановки — как только хватало сил и дыхания? Скрипели шаги, гомонили люди, вскрикивали в изумлении дети, ухал барабан, рассыпались руладами флейты. Вот прошел доктор Теофраст, в черном с ног до головы, даже ландскнехтский его берет черный. Ханс вздохнул опечаленно: уж как одеться — это дело доктора, но неужто нельзя было сдержать свое вольнодумство ради святого Рождества? Ведь праздник же — а он ворона черней. Теофраст заметил Ханса, кивнул ему как другу, сцепил руки и встряхнул ими перед грудью в знак полного и безоговорочного одобрения действа. Когда шествие кончилось, все актеры — и загубленные дети, и злые воины, и слуги, и пастухи — вышли и встали перед помостом на поклон. И тут почтенный Каспар недоуменно спросил: «А Ханс-то наш где?» Ханс в это время давал себе два обещания: первое — непременно напиться этим вечером, да так, чтобы свалиться под стол и ни о чем не помнить! И второе — никаких больше мистерий, уж дудки, уж ни за что! Святой Иосиф метнулся за занавеску — растерянного и растрепанного Ханса вытащили на помост, и город разразился криками и рукоплесканиями в честь господина городского живописца, устроителя мистерии.
Ангел уснул, распластав крылья по закопчённой стене. Отвязанная борода Каспара мокла в пивной луже, Мельхиор, в съехавшем на бок тюрбане пил на спор с Иосифом. Одеяние третьего волхва безнадёжно погибло. Отличная шерстяная ткань, уложенный хитрыми узорами витой шнур, великолепие струящихся кистей — все это богатство было забрызгано грязью, залито вином и перемазано углем. Если после первой кружку молодой бондарь ещё помнил про своё эфиопство, то третья напрочь вышибла все из головы. Краска размазалась вокруг рта, на щеке и на лбу — Ференц то и дело вытирал рукавом потное лицо, добавляя новые чёрные полосы.
— Голландец, эй, Голландец, что же ты сидишь с пустой кружкой? Эй, пива нашему Голландцу, и пусть до самой Вены все завидуют — у них небось нет такого художника!
— Вы, ваше эфиопское величество, молоды ещё командовать, — трактирщик по большой дуге обогнул развеселившегося волхва. — И без ваших приказов понимаем, кому ещё налить, а кому уже довольно. И за чей счёт налить, тоже понимаем. Пейте, господин живописец, сколько душе угодно — вам всё бесплатно. А хотите не пива, а вина к примеру? Вот рейнское у меня уж очень хорошее. И вот я вам ещё скажу, очень бы хотелось заказать у вас картину. Можно и в новом стиле, а лучше бы в старом. То есть две картины — я и супруга. А про оплату бы договорились. Скажем, столоваться у меня хоть год могли бы.
— Я конечно. Я подумаю, и завтра, конечно… — трактир, кажется, превратился в корабль на средней волне и качался, не давая встать. В винном бокале дрожал и дробился свет свечи, и Ханс начал искать у пояса блокнот — так важно показалось зарисовать и бокал, и оплывающую свечу и оловянную тарелку с сыром.
— Ты, Ханс, теперь наш, — хлопнул его по плечу Михель. И даже не думай про свой Брабант. Чего тебе в этом Брабанте делать? Там, небось, живописцев на дюжину десять и не протолкнёшься, а у нас ты один. А надумаешь удрать — так мы тебя женим. Хорошую девку найдём, цепкую, чтобы не сбежал. А не девку, так и вдову отыщем — крепкую, с хозяйством. Или… — тут иерихонская труба его голоса ослабла… — Или она сама тебя найдёт.
В дверях стояла Агнесса, и, повинуясь исходящему от неё покою, весь трактир присмирел, качка утихла.
По пути к Хансу она подобрала со столов короны старшего и младшего волхвов, надела на руку, как огромные браслеты. Третью походя сняла с головы брата:
— Поцарствовал — и будет с тебя. И чашу давай, пока в неё кто чего непотребного не сделал.
— Я вот что думаю, господин городской живописец, прибрать бы это всё. А то будете потом свои труды по канавам собирать. Вон ангел наш уже так напраздновался, что и со звездой до дому не дойдёт. Крылья снимай давай, — подёргала она за плечо ангела. — Все стены ими уже обтёр.
Морозный воздух обжёг, но не отрезвил. Ханс пошатнулся, опёрся на древко звезды. Агнесса придержала его за локоть рукой, унизанной коронами. Другой рукой она прижимала к груди ларец и чашу, подмышкой устроились стёганые ангельские крылья.
— Если заранее подумать, — сказала она, — так можно прямо сейчас перья собирать. Так и объявим: мол кто гуся режет — хоть по десять перьев пусть тебе несут. А потом можно пришить будет. Или ещё как. Но чтобы уж наш ангел самый красивый был. Ключи-то от ризницы у тебя есть? Отца Питера сейчас будить негоже — тихонько откроем, тихонько занесём. А потом уж лучше ко мне иди — куда тебе такому при церкви ночевать. Что головой мотаешь? Что говорить будут? Поговорят и перестанут. А пойдёшь ты ночью по храму так бродить, так ещё неведомо чего набродишь, а прибирать с утра кому?
— С меня сейчас можно писать блудного сына во хмелю, — сказал он непослушными губами.
— Блудного сына в трактире сейчас с кого хочешь писать можно. А с некоторых даже и Ноя упившегося. Да вот только господин художник шибко пьян, кисти не удержит. И не моё дело господину живописцу советовать, но пить помногу ему не надо. У нас тут Ноев и без него довольно.
— Когда я был маленьким, в Брабанте представляли мистерию про потоп. Там был ковчег, и Ной, и сыновья его. Волны являли синим полотном. Голубей пускали из клетки, они летели…
— У нас небось такое не представишь. Корабль целый строить — это ж кто возьмётся… А Ференцу я завтра всё выскажу. Нет, чтобы сначала ризу снять, а потом набираться. Ничего, если не отойдёт — покрасим луковой шелухой. Не сумел ходить в белых, пусть в красных представляет.
В тепле её дома ноги отказали Хансу, и он мешком сидел в кресле, пока Агнесса доставала из сундука старую перину и стелила её на прежнее место. Уже засыпая, он ощущал, как ловкие руки расстёгивают пряжки и распутывают шнурки.
Потолок был знакомый — тёмный, с закопчёнными балками, с которых свисали пучки трав и луковые и чесночные косы. Запахи были знакомыми — мяты и валерианова корня, полыни, череды, а ещё дыма и мёда, и совсем немного — кота. «Наглого и чёрного,» — уточнила память. Это от корытца, что стоит за дверью. Если не лежать на полу, то и не почуешь.
На секунду Хансу почудилось, что весь этот год привиделся ему во сне, и лишь вчера была метель, и он стоял, опираясь на мушкет, тщась разглядеть сквозь режущие лицо ледяные перья, куда в одночасье пропали все бравые парни Клааса.
Скрипнули половицы. Перекатив по перине гудящую голову, он увидел Агнессу. Она шла босиком, в мятой рубахе тонкого полотна и нижней юбке, с небрежно, для сна, заплетённой косой. Легко подняла с пола на скамью таз. Потащила за рукав из воды его рубаху, потёрла побледневшее винное пятно. Плеснула в таз щёлоку из горшка, долила парящего кипятка из котла над очагом и неспешно принялась за стирку.
Плеск воды, запахи, тепло утаскивали назад, в дремоту. Ханс заснул и увидел Марию на дубовом троне — тонкие девичьи персты придерживают белое покрывало. Младенец выставил из пелёнок пухлый кулачок. Старший волхв, в старинном камзоле с длинными разрезными рукавами, приклоняет колени. «Осторожно, отец Питер, — хочет крикнуть Ханс, — не споткнитесь!» За спиной Девы стоит повитуха — широкое лицо спокойно, губы едва тронуты мечтательной, сонной улыбкой, светлая коса убрана под чепец, в руках обливной дельфтский кувшин и полотенце.
— Ты таки сделал из меня волхва, Ханс! — улыбнулся священник. — Но у тебя я гораздо красивее, чем в жизни — такое достоинство. И волос ты мне написал много больше, чем оставил мне Господь.
— Я что вижу, то и писал, — упорствовал господин живописец.
— Если ты писал то, что видишь, то где башмаки у верблюда? Я, между прочим, очень помню: передние ноги были в деревянных, а задние — в сапогах. А вот наш Теофраст вышел, как живой. Что за волшебство — я хожу, а он следит за мной глазами.
— Это нет волшебство, просто трюк. Если зрачок вот так, совсем посредине, что он словно двигается. У доктора весьма красивое лицо — я хотел, чтобы потом, уже совсем потом, на наших детей с картины смотрело красивое лицо. Как этот город… — Ханс смутился и умолк.
Из каталога выставки «Золотой век немецкой живописи»
Настоящим открытием, помимо привезённой из Мартенбурга ранее неизвестной картины Лукаса Кранаха Старшего, можно считать мартенбургский «Алтарь Волхвов». Это произведение создано творившим во второй половине XVI века мастером Хансом (так называемым, «Хансом Брабантским»). Имя художника связано исключительно с Мартенбургом, полтора десятка сохранившихся живописных работ и более двух сотен графических листов находятся в местном соборе и в частных собраниях и ранее никогда не экспонировались.
Биография этого мастера была издана в 1730 году году одним из его потомков, художником-гравёром Ульрихом Нойманном (ок. 1698–1762 гг.) в собственной типографии. По преданию, Ханс Брабантский был солдатом-наёмником, оставшимся при городском соборе после ранения, и позже женившемся на местной уроженке Агнесс Бейль. Возможно, таким образом городские легенды трансформировали историю Ханса Мемлинга — немецкого живописца, осевшего во Фландрии. Этому мастеру так же приписывали военное прошлое, жизнь при храме и даже любовь к монахине. В подтверждение истинности биографии Ульрих Нойманн приводит цитату из ныне утраченной части «Летописи города Мартенбурга» и записи из церковно-приходской книги о браке Ханса, живописца, и Агнессы Бейль, вдовы, и крещении двух их детей.
Все три части «Алтаря волхвов» посвящены «Легенде о трёх царях». Левая створка отведена сюжету «Волхвы у царя Ирода», правая — «Явлению волхвам ангела», центральная часть изображает «Поклонение волхвов младенцу». Если правая и левая створки говорят о нидерландских корнях мастера, его приверженности старой фламандской школе и несомненном знакомстве с работами Ханса Мемлинга, Рогира ван дер Вейдена, а, возможно, и Иеронима Босха, то центральная часть — настоящий гимн городу, ставшему новой родиной художника.
Композиция картины очень проста: три волхва и их свита направляются к находящемуся у правого края картины вертепу. «Хлев» не имеет никакого отношения к настоящему хлеву — это крошечное сооружение, построенное без передней стенки, едва вмещающее в себя ясли для младенца, Мадонну, сидящую на некотором подобии деревянного трона, Иосифа и служанку (повитуху). Из-за спин героев выглядывает вол. Осёл привязан возле стены хлева.
Действие развивается линейно, горизонтально. Шествие разделено на три группы — волхвы: первый, преклоняющий колени перед Девой, второй, склонившийся и прижимающий руку к груди, третий, протягивающий на вытянутой руке круглый сосуд. Следом за ними — свита волхвов, держащаяся слитной толпой, но различимая благодаря костюмам, — особенно выделяется фигура слуги, ведущего верблюда. Третья группа, написанная с особым вниманием, — простые люди, пришедшие поклониться Младенцу. Без сомнения, мы видим своеобразный групповой портрет города.
В целом вся картина весьма близка «Снежному поклонению» Брейгеля. Сомнительно, что Ханс Брабантец был знаком с этой картиной. Скорее всего, сходство породила близость натуры — и великий Брейгель, и практически неизвестный художник из Мартенбурга написали сцену Поклонения, используя не фантазию, а память и наблюдательность. Каждый из них изображал не давнее событие в неведомом Вифлееме, а лишь несколько приукрашенную реальную мистериальную процессию. Реальность происходящего подчёркивает окружение: «хлев» выстроен на площади типичного немецкого городка, заваленные снегом дома плотно примыкают друг к другу, снег лежит на мостовой, и всю сцену мы видим сквозь снежную пелену.
Можно предположить, что среди толпы мы видим и самого живописца — в свите первого волхва выделяется фигура красивого молодого мужчины в чёрном камзоле, отороченном рыжим мехом, и в большом разрезном берете — так называемом берете ландскнехта. Возможно, этот берет должен символизировать солдатское прошлое художника. Но основным аргументом является не головной убор, а взгляд второстепенного персонажа, адресованный не сцене Поклонения, а зрителю. Подобный приём применялся достаточно часто. К примеру, мы можем наблюдать его в одном из «Поклонений» кисти Иеронима Босха.
Помимо «Алтаря волхвов», управа Мартенбурга предоставила восемь оригинальных картин Ханса Брабантского, одну копию, и двадцать четыре рисунка (из них восемь — эскизы алтарной композиции).
А вот с этой картины Босха наш Ханс взял костюм чёрного волхва.
А живописная манера у него должна быть довольно наивной. Вот такой, как у Синт Янса, к примеру.
Отец Питер
Вволю померзнув и потоптавшись по снегу среди галдящих и хохочущих горожан, слегка утомленные праздником и Большой Рождественской мистерией, в тихом домике священника за столом сидели доктор Теофраст и отец Питер. Мягкое тепло топящейся печи обволакивало и убаюкивало, радостное возбуждение шумного дня постепенно сменялось вечерним тихим умиротворением, на столе сияла рубином внушительная бутыль наливки. Обоим было хорошо.
— Вы столько раз потчевали меня превосходными рассказами! Моя жизнь, сами знаете, какова. Но вот приключилось однажды и со мной одно… гм… чудо. Не желаете ли, дорогой друг, выслушать? Не думал, что еще хоть раз осмелюсь поведать о том, после исповеди у епископа — отец Питер заботливо наполнил стаканы, пододвинул блюдо с печеньем и, смущенно кашлянув, продолжил:
— Уж не знаю, помните ли вы, но в 1525 году была очень холодная зима…
Зима 1525 года выдалась непривычно суровой.
Мейстер Альбрехт, прославленный художник, следовал в Саксонию по приглашению курфюрста. Земля, промерзшая до тяжелого звона, мечтала о снеге, деревья стояли, воздев узловатые черные руки, моля небеса послать им белые ризы. Карета катила по закаменевшей грязи, январь надвинулся, хмур и суров, ночью от студеного воздуха перехватывало дыхание, и звезды сияли колючим недобрым блеском. В один из вечеров, после особенно лютой стужи, сердце фрау Метелицы смягчилось, серые тучи прорвались, и на дорогу, на пустые измученные поля, на человечье редкое жилье просыпался снег, да такой изобильный, словно Господь и вовсе решил спрятать землю с глаз своих под белесой погребальной пеленой. Замерзшая вода сыпалась ночью и днем, и мейстер Альбрехт, зябко ежась в угрюмой колымаге, видел себя неким новым Ноем, зимним и одиноким среди закоченевшей природы. Нечего было и думать продолжать путешествие: колеса вязли в снегах, за ночь дороги заносит так, что и не отыщешь, где она была, эта дорога. Пришлось сворачивать в Мартенбург, ставить тяжелую старинную карету на полозья, иначе и думать не стоит двигаться дальше, только загубишь лошадей.
Городок встал на пути, как вульгарная картинка этих хвалёных голландцев. Теплые окошки, дымок над крышами, вишневые деревья в чьем-то садике, по пояс заваленные снегом, огромные слоистые сугробы нависают над краями крыш. Напишешь такую благодать, и считай, спета твоя песенка как художника — простаки-то будут в восторге, а приличные люди брезгливо сморщатся. Но что отвратительно в искусстве, вполне приемлемо в житейской буре, особенно коли сам ты устал и изможден погодой, тряской и дремлющей болезнью. Холод и сырость, ветер и снег губительны для великого живописца, если бы не высокий заказ, он предпочёл бы тяготам пути уныние домашнего плена. Но теперь болезнь крепко удерживает его в Мартенбурге, точь-в-точь, как назойливая опека дражайшей Анхен. Курфюст будет раздражён, правители не любят промедлений. Но нет худа без добра: покуда пребывает в ожидании курфюст Саксонии, покуда городские умельцы воюют со старым рыдваном, покуда томится в одиночестве заботливая супруга, мейстер Альбрехт проведёт время не без пользы и удовольствия. Восстав с одра болезни, он, совершенно неожиданно для себя, обнаружил в городе три прелюбопытных вещи — неглупого и понимающего собеседника, отменную, в меру сладкую, в меру крепкую вишневую настойку и детскую картину своего заклятого друга-соперника, мейстера Лукаса. Четвертое благо — отсутствие милой супруги, но об этом мейстер Альбрехт не любит говорить вслух.
С отцом Петером, молодым священником Мартенбурга, они сходятся каждый вечер за бутылочкой прекрасной вишневки, и беседы их полны чинной строгости, смягченной взаимной приязнью. Давно уже мейстеру Альбрехту не случалось встретить на земле Германии человека, столь полно уважающего искусство вообще и конкретно его самого, мейстера Альбрехта.
Разумеется, кабы не зима, нездоровье и естественное его следствие — тоска и хандра, навряд ли их беседа была возможной. Все же этот отец Петер на десять лет моложе мейстера Альбрехта, некрасив, хотя и благообразен, совсем лишен придворного лоска и изощренности, провинциален и сентиментален. Но так уж рассудил Господь, и в конце января в занюханном городишке за одним столом и общей трапезой по прихотливой игре Фортуны сидели смиренный священник и всесильный живописец самого Императора. А этот простец, наверное, запомнит их случайные досуги навсегда. Пожалуй, еще и гордиться будет тем, что так запросто общался с живым гением. Случай уникальный, вряд ли когда-нибудь городишке так повезет еще раз! Некоторое время мейстер Альбрехт искренне забавлялся этой мыслью, конечно же, не торопясь делиться ею, но каково же было его удивление, когда он узнал, кто именно писал алтарную картину для маленькой бедной церквушки этого сонного городка. Вялое благодушие как рукой сняло!
Заезжая знаменитость осматривал картину столь придирчиво и ревниво, что отцу Питеру даже стало слегка не по себе. И вот уже три дня, как мейстер Альбрехт неотступно и раздраженно думал о «Богородице с котенком», которую странствующий подмастерье написал для города по заказу предшественника отца Питера, отца Бальтазара. За гроши, наверное, работал. Гордец мальчишка, в первый раз, наверное, поставил свою подпись — размашисто и лихо черкнул в углу «Лука Малер из Кронаха». Кто же мог догадаться тогда, что пройдут годы, и этот самый Лука прославится по всей Германии и далеко за ее пределами.
На столе горела свеча, комната была натоплена, и вишневая настойка в стаканах играла глубоким, благородным рубиновым огнем. Как называется этот оттенок? «Две первых капли голубиной крови»? Нет, в том больше от фиолетового, а здесь явно бьется пурпурно-красная искорка. Все же не рубин. Альмандин, пожалуй.
Майстер Альбрехт привык, что люди подобострастно ловят каждое его слово, но не слышат, просто не желают услышать, что же он хочет сказать. Другие были еще отвратительней — перед ними приходилось заискивать самому. К счастью, таких было ничтожно мало. Ученики обожали его, но их слепая и назойливая любовь только язвила сердце.
Но провинциальный священник, не блистая в диалоге, замечательно умел слушать: почтительно, но не подобострастно, не прерывая течение мысли дилетантскими вопросами.
Говорили о живописи, конечно.
Постепенно мейстер Альбрехт увлекся, и с неподдельным, удивительным даже для себя самого жаром стал рассуждать о благородной строгости против сусальной слезливости, говорить о недопустимости низведения небес в земную слякоть, о потакании низменному желанию черни умилиться, оскорбляющему Вечность. Отец Петер слушал с неослабевающим вниманием, ни на миг не отводя близоруких умных глаз от собеседника.
Вишневка ли, или долгое изнурительное молчание, внезапная серьезность темы или близость картины соперника распаляли мейстера Альбрехта. «Мадонна» и впрямь была нехороша.
— Интересно, сам-то Лукас помнит ее? Ему стоило бы выкупить свою работу у города и спрятать подальше, от стыда и позора. Кого он рисовал, тупоголовый гордец? Христа? Молочные глазки младенчика на картине, они не могут прозреть грядущее величие. Это не Спаситель, это просто человеческое отродье, тупое и бессмысленное, как все младенцы. Мейстер Леонардо, когда писал младенца Христа, не унижал Спасителя. Святое дитя серьезно и строго смотрят на нас, провидя грядущую Голгофу. И, к тому же, помилуйте, святой отец, это просто дурно нарисовано. Под плащом Марии не чувствуется скелета. Так сидят тряпичные куклы, так…
Мейстер Альбрехт внезапно зашелся резким лающим кашлем. Отец Петер грустно улыбнулся:
— Мейстер Альбрехт богато одарен не только гением, но и многими познаниями, и он черпает из бездны премудрости золотым кубком. А у моей паствы ложечки-то мелкие, оловянные, и им высоких прозрений не понять, — голос у священника был чуть глуховатый, ласковый и печальный. — Они утешаются малым, потому что и есть сущие младенцы. Но ведь Господь не гнушается ими. Он и в земной своей жизни никогда не гнушался малыми детьми. Помните? «Не мешайте, — говорил, — пусть приходят». Да-да, сейчас вспомню! У Матфея Он сказал: «Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном».
Мейстер Альбрехт поморщился:
— Господь наверняка имел в виду что-то другое!
Отец Питер задумчиво покачал головой:
— Что сказано, то сказано! — и поспешно добавил: — К тому же, мейстер Лукас и сам был сущим ребенком, когда писал эту картину. Лет семнадцати, кажется.
— Зато теперь он зрелый протестант, этот ваш замечательный добрый Кранах, — с внезапной злостью прошипел Альбрехт. — Знаете, что он самолично крестил детей Лютера?
— Нет, этого я не знал, — опечалился священник и, немного помолчав, ни к селу ни к городу добавил: — Ну, слава Богу, хоть дети крещеные.
Разговор, начавшийся было так интересно, вдруг стал каким-то дурацким, ускользнул и завертелся вокруг сущей ерунды. Дети Лютера, надо же! Какое им дело до каких-то сопливых детей Лютера? С чего вообще о них зашла речь? Говорим о картине, а она откровенно слаба и пестрит кучей огрехов.
Отец Питер, словно прочтя его мысли, разволновался:
— Хороша или плоха эта картина, но уже двадцать лет жители Мартенбурга приходят сюда и любуются ею. И видят не ошибки художника, уж простите, мейстер Альбрехт, не погрешности, а живую теплую красоту.
Мейстер Альбрехт язвительно парировал:
— Что есть красота?
Собеседник печально улыбнулся, и мейстеру Альбрехту стало слегка не по себе. Неловкий, нелепый этот вопрос отозвался почти кощунством. Мейстер живописец неотвратимо и яростно пьянел. Какого черта этот святоша все время усмехается?
— Вы изволили сказать про теплую красоту. Да ведь теплое Господь изблевал из уст Своих. Или вы не помните? Он из-бле-вал!
В подтверждение своих слов живописец что есть сил ударил грубый тяжелый стол. И опомнился от резкой боли.
Священник мягко улыбнулся и предложил гостю еще вишневки, потому что стакан мейстера Альбрехта пуст. Мейстер Альбрехт так и вскинулся от внезапной и страстной обиды и абсолютно ледяным голосом потребовал уточнить, что хочет сказать отец Петер? На что он изволит намекать, утверждая… О, мейстер Альберт не опустошен… нет! И я не позволю, слышите? Никому, даже Господу, если Он вдруг захочет присчитать меня к полове, к сорной траве… Мне есть что сказать, и всегда будет, я не покорюсь, и не надейтесь, что бы там… И вдруг осекся, вспомнив, с кем разговаривает. Смешно, право. И даже дико — это же попик, тихий, захолустный, да что за чертовщина такая, что же это я так? И вправду, видимо, развезло.
Отец Питер смотрел на господина живописца все теми же добрыми беспомощными глазами. Как у овцы, ей-право, только ресницы не такие пушистые.
— Отличная у вас вишневка, отец Петер. Право, знаете, хоть к столу курфюста подай! Может, поделитесь рецептом?
Тот опять застенчиво улыбнулся:
— Помилуйте, мейстер Альбрехт, я тут ни при чем, вся эта роскошь — дело нежных рук фрау Агнессы. Воистину, золотое сердце и небесная душа. Да вы ее видели, нашу красавицу, она как раз у картины была, как мы пришли. Если, конечно, изволили заметить.
Говоря о пастве этот поп становится раздражающе многословен…
— Такая высокая, в бусах? И беременная? Это и есть ваша агница?
Ну конечно, она. Не запомнить ее нельзя, таких еще поискать. Возле Кранаховой мазни и вправду торчала молодая баба, на редкость уродливая. Очевидно, фрау Агнесса и в девушках не блистала красой, а теперь и вовсе внушает омерзение. Безобразно вздутый живот, отекшее мужицкое лицо в каких-то пятнах, коралловые бусы, едва не врезающиеся в толстую шею. И в бабьей мерзкой плоти шевелится и вздыхает отвратительный гомункулус, будущий труп. Нарисуй такую — и готово, лучшая иллюстрация первородного греха, средство от похоти. Могу себе представить того олуха, что ее обрюхатил!
И вдруг с особенной четкостью мейстер Альбрехт понял, что эта бабенка у картины — и есть его родина, сама фрау Германия, сентиментальная телка, туша… Теплота. Куриная теплота. Не город, а перина, — и не заметил, что последние слова выплеснул наружу, в досаде и отвращении.
— Кранах написал вам ангелочка… с котиком… так мило… А хотите «Страшный суд»? А? Недорого?
Отец Петр даже не вздрогнул. Он смотрел в стол, на широкие доски. Ответил тихо и твердо:
— Нет, мейстер Альбрехт. Это слишком страшный дар для нашей церкви.
— А мадонну, мадонну хотите? Даже с кошкой могу. И недорого же… — схватил отца Петера за рукав холодными пальцами и прохрипел с пьяной бравадой: — Довольно и годовых молебнов о моей душе!
— Перестаньте, мейстер Альбрехт, — прошептал священник. — Я и так буду молиться о вашей душе. Сколько нужно, столько и буду.
Они смотрели друг в друга так, словно кроме них на земле не осталось никого. За окном стояла глухая непроглядная тьма.
— Ну так я напишу для вас… для вашего храма образ. Апостола Петра. Это хоть можно?
И отец Петр в невыразимой печали и сострадании кивнул:
— Можно. Это можно.
Наутро, когда отец Петер пришел к бургомистру, слуга выносил вещи. Высокий гость отправлялся дальше, в Саксонию. Кутаясь в теплый плащ, мейстер Альбрехт вышел из дома и заметил священника. Отец Петр смущенно топтался на скрипучем снегу и держал в руках нелепую крестьянскую сумку-мешок. «Доброго вам утра, мейстер Альбрехт. Уезжаете все-таки от нас? Я к вам с покорной просьбой. Вы же встретитесь в Саксонии с мейстером Лукасом? Не согласитесь ли вы передать ему бутылку вишневки от нашего города? В качестве скромной благодарности, за все». Мейстер Альбрехт усилием воли встряхнулся и принял увесистый мешок из рук отца Петера. Глухо звякнуло. «Спасибо вам, — робко улыбнулся священник. — Там еще вторая, для вас. Храни вас Бог в пути. И вообще, храни вас Бог».
Вечером из дома бургомистра пришел слуга и принес большую холщовую папку. В ней лежала гравюра и четвертушка бумажного листа. Изящным угловатым почерком мейстер Альбрехт извещал, что сию гравюру он покорно просит принять в качестве скромной платы за гостеприимство и как дань дружбы и уважения. Отец Петер перевернул плотный желтоватый картон и вздрогнул. На гравюре в ледяном безмолвном кошмаре неслись вдаль Всадники Апокалипсиса.
Отец Петер вздохнул, рассеянно пожал плечами, как бы извиняясь, и продолжил:
— Через три года мейстер Альбрехт скончался. Господи, упокой его бессмертную душу, а я до сих пор молюсь о нем. Великий был дух. И страдающий.
Доктор налил отцу Петеру и себе, и оба выпили за мейстера Альбрехта. Страшные Всадники беззвучно мчались в бесконечном губительном полете. Вишневка рубиново сияла сквозь пламя свечи. Теофраст посмотрел на своего друга и, тщательно выговаривая каждое слово чуть заплетающимся языком, спросил:
— Отец Петер, а что, он серьезно хотел подарить городу картину?
— Думаю, да, — кивнул отец Петер. — Он вообще был очень серьезен. Может быть, чувствовал, что недолго осталось? Сейчас я, безусловно, не оскорбил бы мейстера своим отказом. Но по молодости лет я так истово защищал покой города… Дурак был, что ж поделать.
— А… в городе знают? Знают, что вы отказались от его… подарка?
Отец Петер слегка улыбнулся и, допив вишневку, накрыл стакан ладонью.
— Да что вы, Теофраст! Добровольное самоубийство есть грех тягчайший, а бургомистр меня просто разорвал бы, аки лев. А сейчас никто и не поверит. Но вы все равно, пожалуйста, никому не говорите. Хорошо, сын мой? Просто по дружбе.
Агнесса
Пьяный Михель подошёл, расплёскивая пену из кружки, шарахнул по плечу и гаркнул:
— Что грустишь, треска голландская? Вдова любит не жарко? А вот скажи, ляжки у неё крепкие? А ещё расскажи…
Продолжить вопрос ему не удалось — две здоровенные руки обхватили его голову и начали валять между ладонями, тискать и похлопывать:
— Ах, какая отличная тыква. Чудо, а не тыква — пустая, звонкая! Как ты думаешь, Ханс, если стянуть её парой обручей, чтобы не треснула, да поставить на петлях серебряную крышку — (тут толстые пальцы крепко щёлкнули Михеля по макушке), — да приделать вот тут серебряный краник — (и старшина бондарей сильно ухватил беднягу за нос), — рад ли будет господин Отто Бейль, брат нашей дорогой фрау Агнессы, такому дорожному бочонку?
— О, — сказал, стряхивая со шляпы снег, вошедший в трактир лекарь, — я думаю, он будет весьма рад. Клаус! Горячего вина с пряностями, да побыстрее! И пирог с мясом… Бочонок выйдет вместительный, а грядущее вино будет куда лучше нынешнего содержимого. Кстати, Михель, друг мой, у вас счастливый день. Будь тут почтенный наш Отто, вы бы драными ушами не отделались. Господин негоциант становится крайне щепетилен, когда дело касается его сестры.
«Да уж», — хмыкнул старшина бондарей, поглаживая чуть кривоватый нос.
Компания подобралась на славу — Отто, белобрысый купеческий наследник, вымоленный и набалованный, Варлам, сын бондаря, и Теофраст, будущий школяр, грамотей и затейник. Стоял поздний апрель, по дворам перла трава, на припеке старая черемуха уже раскрывала первые гроздья, обещая летнее изобилие черных вяжущих ягод. Варлам сетовал на житейские неурядицы — опять ему влетело дома за побитую посуду, кот, чертова зараза, прыгнул на полку и снес все, что там было, а отец решил, что это Варлам раззадорил вредную скотину.
— Давай сюда своего кота, — решительно сказал Теофраст. — Мы его враз утихомирим.
— Яйца, что ли, резать? — недоверчиво спросил Варлам. — Мамка убьет точно.
И тогда Теофраст прочитал свою первую в жизни лекцию о чудодейственных свойствах флеботомии, каковая, будучи произведена в определенный месяц, способствует всяческому оздоровлению как телесному, так и душевному. «Вскрытие вен изгоняет дух буйства чрезмерного в людях!» И через некоторую паузу добавил: «И тварям полезна, наверно».
Потрясенные бездной премудрости, Варлам и Отто отправились ловить паскудного кота, а Теофраст тайком добыл ланцет из отцовского рабочего кошеля.
Шипящего и барахтающегося пациента распялили прямо под черемухой, ухватив за все четыре лапы. Кот злобно и беспомощно мотал башкой, ощерив клыки, и подвывал от горя и ужаса. Теофраст извлек скальпель, перекрестился перед началом операции и грохнулся наземь, чудом не напоровшись на лезвие. Чуть поодаль, грозная, как надвигающееся войско, возвышалась толстая деваха в перекошенном чепце. В руке у нее был увесистый ком земли, а другим таким же она только что повергла в прах будущее светило медицины. Отто, увидев воительницу, чертыхнулся, пришел в смятение и отпустил свою половину кота. Бестия махом вывернулась и, располосовав рукав хозяйской куртки, унеслась прочь. «Ну, дрянь, — заорал Варлам, — ты схлопочешь сейчас!»
— Не советую, — тихо сказал Отто, подбирая ланцет, — у нее рука тяжелая.
Флеботомия, безусловно, удалась, но как-то странно.
— Вот уродина! — кипятился Варлам, истекая кровью и ненавистью. — Я ей ноги вырву. Отто, ей что, жить надоело, дуре набитой? Я ее убью!
Отто пожал плечами
— Не убьешь. Сестра сама за зверье кого хочешь убьет.
— Какая она тебе сестра — приживалка чертова, — сплюнул Варлам, и совершенно неожиданно получил в морду от щуплого Отто.
— Мало кто в это верит, но наша кроткая Агнесса бывает весьма сурова, — улыбнулся Теофраст, — надеюсь, Ханс, вы не обижаете животных? Клаус! Ещё вина. И корицы не жалей!
От трактира к церкви направо и прямо, к Агнессе — налево и налево. Ханс постоял, глядя на звезду, зацепившуюся за флюгер на ратуше и решительно свернул налево.
Несмотря на поздний час, окна дома светились. Потоптавшись у крыльца он ударил в дубовую дверь медным молотком.
— Это кто там? Ханс? Да входи-входи, снег сбей только. Зачем пожаловал? Дрова наколоть? В темноте? Это ты опоздал — дров мне лесник уж и привёз, и наколол, и в поленницу сложил — за внука. Ты вот лучше отцу Питеру возьми, я ему уже собрала — и травника три склянки, и вишнёвки флягу, и себе вот ещё прихвати пирог — это Мария пекла. Ну, сапожника золовка, шустрая такая. У неё пироги лучшие в городе. Да мне хватит, хватит. Ты садись. Пива налить? Лепёшки вот, сыр… Ну куда ты скачешь, что там кто «говорить будет»? Про меня уже все слова сказаны, ничего нового не удумают. Думаешь, не знаю, как тебя Михель выспрашивал?
Ханс почувствовал, как загорается лицо.
— От меня вот Тильда только что ушла. Племянница Клауса, не знаешь разве? Ну, когда народу много, помогает, рыженькая такая? А ты бы уж не сидел молчком, а сказал бы все как есть. Юбки, мол, полотняные, как ляжки — не знаешь, не видал, а руки ничего, крепкие — я ли тебя ими не таскала. А сколько тех старых юбок на перевязки тебе извела — ты про них теперь всё должен знать.
Мне от слов его беды мало, всё ж не девка. И замужем была, и детей рожала, вот только не сберегла никого. Вот ведь пропасть — чужих с того света сколько раз вынимала, а со своими не задалось. У меня муж приказчик у Бейлей был. А господин Бейль, покойник, ему условие поставил, мол, приказчиком будешь, только на Агнессе женись, я и приданое дам — вот Вальтер и женился. Так и было, как обещал. Дом этот нам дал, и в дом всего… — она по-девчоночьи как-то поёрзала на табурете широким задом, словно подтверждая — да, вот всё, и табуреты хорошие, дубовые.
Мы же с Отто не родные и не сводные даже — только молочные. Мать у него родами померла. А моя, со мной, маленькой, из деревни пришла наниматься. Думала в служанки, а попала в кормилицы. А потом и в домоправительницы. Ну и сладилось… Нет, жениться господин Бейль не женился, а со мной добрый был. Только ругался, что всякое зверьё домой волоку. «Замуж, говорил, тебя скорее, и детей…»
А с Вальтером мы хорошо жили, он тихий такой был, и я не перечила. И понесла быстро… Пауля носила — это как раз когда у нас художник знаменитый жил. У отца Питера он часто посиживал, ему моя вишневка по нраву пришлась, даже в столицу с собой увез. Строгий такой был, как посмотрит — душа в пятки. Слабенький мальчик тогда родился. Уж я с ним возилась-возилась, а тут как раз муж с товаром уехал, и не повезло. Вернулся без товара и без денег. Били его сильно. Полгода выхаживала — не выходила. Пока с мужем возилась — сыночка упустила. Так рядом и зарывали. А сама стою у могилы тяжёлая, пузо на нос прёт — месяц седьмой уже был. Ну, чую, вот сейчас рожу. Закидали землёй — и я домой. Тётка Хильда меня под локоть держит, а меня как скрутит, я как на четвереньки упаду. Гляжу, отец Питер бежит. Подхватил меня под другой локоть, домой едва дотащили, сам воду грел. Помогал, пока Хильда за повитухой бегала, а как та пришла — все уже и кончилось. Ну, стыдно мне было, да как схватки начались — уж и про стыд забудешь, а без отца Питера я бы, может, и не справилась бы, это Бог мне его послал тогда. Девочка синенькая такая, крошечная, только два раза и вздохнула. Он её в таз окунул и Анной назвал. На освящённой земле хоронили, как надо, не нехристем. Да что ты так на меня смотришь? Мне и так хорошо, вот деточки мои, вот Густав, да, Густав, ты морда усатая, кто сливки съел, а? Съел, подлец?! Ты вот что, ты рубаху эту снимай давай, зашита она у тебя вкривь. А я тебе пока на взамен другую дам, у меня от покойничка в сундуке много чего лежит. Да ты сиди. Пиво вот наливай.
Ханс, уже полмесяца как не просто «пришлая треска голландская», а «господин городской живописец», сидел и подливал пиво, крошил лепёшку, а потом, обнаглев, съел полпирога, и слушал, как она рассказывает про Густава: «Вот такусенький котёнок был, а? А про то, что он бес, и я с ним блужу, тебе уже тоже напели?». Сидел и смотрел, как она распарывает кривой шов, щурится, продевая нить в иглу, как шьёт, аккуратно расправляя ткань, а потом встряхивает и любуется на дело рук своих — большая, угловатая, с мягкой, детской улыбкой на тяжёлом лице. А потом подобрал у очага кусок растопочной бересты и уголёк и набросал этот массивный круглящийся контур. Она замолчала и замерла, и не попросила показать рисунок.
Дома он достал уже с месяц как припрятанный липовый круг. Варлам жалился и так и эдак, отдавая прекрасно просушенную крышку в придачу к сговорённой уплате, но уж больно нравился ему святой Флориан — как в зеркало глядишься. Ханс полюбовался на светлое гладкое дерево и начал тереть мел для грунта.
— Отменная работа, сын мой, — говорил отец Питер, поворачивая доску к свету. Отменная работа, что бы и кто бы мне ни сказал. И чтобы и кто бы ни сказал тебе, — тут он сурово повысил голос, — знай, что натурой для Матери Божьей она быть достойна больше многих. И скажу тебе, сын мой, я бы с радостью и удовольствием принял твой дар храму, но знаю место, где этот дар будет ценнее. Ну иди же к ней, дурень, не мне же свахой быть. И долго не думай, а то до поста обвенчать не успею. Не дети уже, а так и спроворите хоть кого-нибудь… — и отец Питер опять радостно развернул под жёлтый луч, бьющий сквозь витражное окно, «Божью матерь со зверями», написанную на чудной круглой доске. Божью Матерь, с тяжёлым и грубым крестьянским телом и детской улыбкой, держащую на круглых коленях сучащего ножками младенца. Подле неё ангел лет трёх, с голубыми, нелепо торчащими из рубашки крылышками, протягивал белую пелену. Сзади всплёскивал руками Иосиф, сходный отчего-то с отцом Питером, сбоку тянули над загородкой морды осёл, корова, пара овец и любопытная коза, а у ног женщины тёрся чёрный кот.
Картина
Начало февраля. К вечеру сырую грязь присыпало мелкой белой крупкой — ни следа не осталось от роскошных сугробов Рождества. Сумерки, город опустел — все расходятся по домам, работа кончилась, завтра новый день, ну разве заглянуть доброму человеку в пивную, развеять зимнюю тоску. Отец Питер в последний раз осматривает церковь перед тем, как закрыть ее и пойти готовить ужин. Ханс провалился куда-то, с обеда его нет, а и был — толку с него мало. Смотрит невидящими глазами, мусор подмел — и сор с совка ссыпал мимо ведра, подсвечник взялся было чистить — и вот он, голубчик, так и валяется. Дров наколоть отец Питер его уж и не просит — не ровен час полноги себе оттяпает. Ну что ж, в прошлый раз все так же начиналось: не иначе как в голове у Голландца колокол забил — новую картину задумал. Убрав веник и совок и дочистив пару заляпанных воском подсвечников, отец Питер достает из кошелька у пояса ключ и смотрит на свою церковь — маленькую и уютную церковь Марии Тишайшей.
— Мастер Лукас! Я принёс вам обед!
— Благослови тебя Господь, Петер. И что же сегодня готовила твоя матушка? Тушёная капуста и кровяная колбаса! Дивная снедь. Вот только отчего её принесла не твоя сестра?
— Мама велела Лизе проветривать перины.
— Какая у тебя предусмотрительная мама, Петер. А к ужину, думаю, она велит ей чистить котёл или перебирать горох. Ведь по дому столько работы, прада?
— Да, мастер Лукас!
— Ничего, недели через три твоя сестра твоя вздохнет свободно. Да передай матушке, что Лизхен не единственная пригожая девица в Мартенбурге. Передашь?
— Не стану, мастер Лукас.
— Правильно. Не то твоя мама скажет Лизхен, что я назвал её уродиной, а это неправда.
Когда-то давно, когда славный мейстер Лукас был еще простым подмастерьем, он пришел в Мартенбург, и отец Бальтазар нанял вечно голодного, остроглазого, гораздого на затеи юнца писать картину для храма. Петеру было лет семь, и он, сущее ничто, сидел в ризнице тише воды ниже травы, готовый смеяться от счастья и тут же рыдать и боясь лишний раз напомнить о себе, чтоб не прогнали. Сидел и наблюдал за чудесами, как из цветных пятен вдруг рождается рука, бессильно опирающаяся на грубую кормушку. Как рассыпаются золотые волосы из-под сбившегося покрывала. Как Младенец тянется к усталой только что заснувшей Матери, а под темным потолком прокопченного хлева, точно голуби, примостились ангелочки — разноцветные крылья, пухлые ножки, развевающиеся ленты. Петер ходил за подмастерьем как приклеенный, был влюблен в этого шута горохового не хуже, чем сестренка Лизхен, а то и сильнее. Лизхен только фыркала и дергала плечиком, а Петер боялся помыслить, что будет, когда господин Лукас покинет город. Домашние уже слышать не могли о господине художнике, даже отец Бальтазар велел поумерить страсть к художествам и прицыкнул, когда его министрантик не в шутку заикнулся, что хотел бы уйти вместе с художником. И ушел бы, что интересно, хоть слугой, хоть собачонкой, — да жалко было маму.
— Мастер Лукас, а вы скажите маме, что хотите жениться на Лизхен, и она перестанет сердиться.
— Вот уж точно. И дядюшка твой про прострел забудет и венчать нас побежит скорее, пока не передумаю. Не подумай плохого, ягнёнок мой, я желаю твоей сестре хорошего мужа, но не себя. Во-первых, для брака я слишком молод, во-вторых, не намерен застревать в Мартенбурге, а в-третьих, приданое будет невелико. А я, малыш, расчётливый парень.
— А почему вы не хотите остаться здесь?
— Потому что, Петер, я пойду от вас в Вену, а может быть, в Прагу и буду писать там что придётся — где вывеску, а где и алтарь. И каждая работа будет лучше прежней. Потом вернусь в родной город и получу звание мастера. А то пока я «мастер» только для тебя. А потом приду к маркграфу, курфюрсту или или к самому императору и напишу его портрет. Тут он сразу скажет: «Эй, мастер Лукас, ты славно написал меня. Будь моим придворным живописцем!» Вот будет дело по мне. У вас хороший городок, Петер, но для меня он тесноват. Да и тихий слишком. Дремлет, словно Матерь Божия на этой картине. Но ты не подумай, Питер, это неплохо. Многие и рады бы всю жизнь в такой тишине прожить. Скоро я допишу картину, покрою её тремя слоями лака, получу расчёт и уйду, пожелав вам поменьше неспокойных гостей вроде меня. Особенно Лизхен.
Мастер Лукас пил пиво в трактире, зубоскалил с девицами, даже раз подрался с парнями, и Петер не знал, что и думать, когда видел своего кумира в самой плачевной компании. Было два Лукаса — и один грешил напропалую, не чурался крепкого слова, короче, был самым обычным, и даже похуже многих прочих. Петер знал, куда попадали такие парни: за ними приходил черт, и те — раз-два! — оказывались в аду. Петер ни за что на свете не хотел бы стать таким, как они, и за это братцы называли его малым попиком и сестренкой Петрой. Но в ризнице работал совсем другой Лукас, он весь преображался, даже волосы его становились другими. Перед этим Лукасом хотелось стоять на коленях, ради этого Лукаса Петер воровал из дома яйца, колбасу и пироги, этому, другому Лукасу, принадлежало сердце Петера. Сам художник как должное принимал приношение и, с чудовищной скоростью сожрав все, лениво пропускал мальчишку в ризницу, а когда тот надоедал ему своим молчаливым обожанием, щелкал по лбу и гнал прочь.
— Эту картину я подпишу, как «Лукас Кронах». Почему? Потому что Малеров и так хватает. Как соберётся подмастерья пекаря в живописцы сбежать — так и Малер. У нас это имя тоже новое. Дед убил кого-то, из города бежал и назвался Зибель. Отец Малером стал, а выучился на золотых дел мастера. А Кронах — так мой город зовется.
— Хороший, наверное, город?
— Так себе. Жить я там не собираюсь. Но знаешь, парень, я хочу, чтобы Лукаса из Кронаха помнили, когда и Кронаха никакого не останется.
— Это нехорошо, — грустно сказал Петер. — Это гордыня.
— Да, ягнёнок, это гордыня. Я хорошо умею вот это, — и Лукас постучал черенком кисти по картине, — и этим горжусь.
Умел, это правда. До самой смерти не забудет отец Петер, как из зеленовато-серой тени у ног Девы вдруг возник серый котенок. Такой же, как жил у них дома, ничем не примечательный, с темными полосками, белыми тонкими усами и круглыми глазенками, зеленее молодой травы. Котенок карабкался куда-то вверх, и Младенец смотрел на него, а Петер, смешавшийся и обескураженный, глаз не мог отвести от картины. Обычный котенок имел часть в Святом Семействе. Обычного котенка мастер Лукас почтил своей волшебной кистью. Не ангел, не единорог, не птица небесная — глупейшая и обыденная тварь земная веселилась как равная рядом со Христом. Лукас, уже взявшийся писать золотом тонкие нимбы ангелов и золотые волоски в их кудри, хитро покосился на обалдевшего Петера и одним махом пририсовал к лилейной ручке одного из ангелочков сияющую нить с бантиком.
Тогда его это обожгло и одновременно окатило благоговейным холодом, словно небо показалось из-за старой занавески. Сейчас бы он, старик, только усмехнулся — шалопай был мастер Лукас, не мог, чтоб кто им не восторгался — хоть девка-красавица, хоть младший ее братишка, дурак-дураком. А вот отец Бальтазар разозлился не на шутку, заставил бантик убирать, хорошо еще, против котенка ничего не сказал. Но Петер-то все равно помнил, и всю жизнь помнил, и показать мог всегда: вон она, эта ниточка, спускается из-под потолочной балки, где сидит ангел в белой рубашке. Уже когда Лукас Кранах ушел давно, и картина висела себе в церкви на гладкой каменной стене, а Петер готовился принять сан, зашел у них разговор с отцом Бальтазаром о дурацком Лукасовом бантике: грех или нет — эта полуязыческая, наивная вера, привязывающая к Небесам земное со всем его скарбом, хлебами, кошками и тряпками. Вот мейстер Альбрехт — он бы понравился отцу Бальтазару, это уж точно. И от Мадонны его тот бы никогда не отказался, куда там! На следующий же день и краски бы раздобыл, и все потребное — лишь бы не передумал великий Дюрер — уж он-то наверняка до шалостей бы не опустился, равно как и с глупым мальчишкой разговоры разговаривать погнушался бы. Наверное, это и правильно. Есть кому золотые короны, суд, и честь, и всякое великолепие. Есть столицы и королевства, силы, престолы и власти. Мир пожирают войны, шьют-кроят невзгоды и бедствия, чтобы потом явились новые царства, величественней прежних, и так же пали. А в Мартенбурге, тихом городке, все не о том, все не так.
Тем временем сумерки совсем сгустились, в ночном небе проклюнулись неяркие звезды — к ночи прояснело. Идти пора, хватит сиднем сидеть. Вот о чем и быть ближайшей проповеди: святая красота малых сих, преображение и благодать. Правы кошки или нет, но Город спасается.
Саша
«Святой Флориан, покровитель цеха бондарей.
Размер: 65Х115 см, основа — липовая доска, техника — масло, состояние основы удовлетворительное, состояние грунта удовлетворительное…»
«А мощный ты дядя, святой Флориан! — думает Саша, рассматривая румяное широкое лицо, обрамлённое короткой бородкой и густыми, стриженными в кружок волосами. — Выпивоха ты был и гуляка. И подраться не дурак — нос-то ломаный. И звали тебя Мартин, к примеру, а то Губерт. Была у тебя жена — здоровая такая баба, и штук пять белобрысых детишек. И был ты, Губерт-Мартин… да нет, пока не старшиной цеха, зато женат, наверняка, на дочке старшины. Ну потом и ты стал, конечно. Художника, надо думать, не обидел, потому что рожа у тебя добродушная и на скареду ты не похож. А из старшин самый желчный обязательно намекнул, что мало святости в таком святом.»
Зажмурившись, она на гладит доску кончиками пальцев — трещины, легко различимые глазом, осязанию не даются — и возвращается к ноутбуку: «…растрескивание красочного слоя в пределах нормы, отслаивание красочного слоя отсутствует, наличествуют поновления, датированные серединой XVII века: усилен цвет и прописаны складки одеяния, дописана меховая отделка плаща. Последние реставрационные работы проводились в 1957 году и включали в себя укрепление доски с изнанки, промывку и регенерацию лакового слоя. Расчистка новых записей не производилась».
«Je T'aime Moi Non Plus…»- интимно промурлыкал телефон.
«Да, дорогой, и я тебя», — Саша нажимает на зелёную трубочку.
— Фройляйн Эрхарт? С вами говорит некто Феликс Либерман, у которого вы пять лет назад слушали «Искусство Возрождения» и «Маньеризм». Я помню, слушали, не прогуливали, хотя постоянно рисовали всякую чепуху!.. — (Саша на секунду даже прекратила штриховать окошко готического домика в блокноте.) — Вы уже подумали: где этот старый козёл Либерман взял мой личный номер и чего ему нужно? Так вот, этот старый, но компетентный козёл хочет вам сказать, что предисловие к каталогу выставки писать таки именно ему. И он точно знает, что работы из этого захолустного Мартенбурга везти и описывать будете именно вы. Скажите мне, дитя, там что, в самом деле есть неизвестный Кранах, или ваш бургомистр хочет выбить жирный грант?
Саша проглатывает удивление и солидно отвечает, что да, бургомистр, конечно, хочет жирный грант, но Кранах тут и вправду есть. Совсем молоденький, подписан Лукасом из Кронаха, стилистика ещё наивнее, чем в «Бегстве в Египет». Как раз сегодня она его осматривает и описывает, а завтра приступает к упаковке.
— Дитя, вы возрождаете меня для жизни. Привезите сюда Кранаха невредимым, и старый скряга раскошелится на кофе. Даже с пирожными и коньяком. Если захотите. А если откопаете мне какую-нибудь колоритную легенду, связанную с картинами, можете рассчитывать на обед в «Barenschenke Bierbar».
— Учтите, герр Либерман, у меня очень хороший аппетит.
В трубке смешок:
— Тогда найдите две легенды. Сами понимаете, без изюма и орехов каталог — не каталог, так, маца сухая, а мы должны на выходе иметь приличный штрудель. И зачем зря тянуть — все уже составленные сопутствующие документы скиньте мне на почту, не сочтите за труд. Вы уже пишете мой адрес?
Две легенды. Саша улыбнулась и открыла файл «Богоматерь с кошкой». Сопроводительный текст составлен ею по всем правилам — он пресный, как галета, и точный, как палата мер и весов. История статуи скопирована из «Хроник Мартенбурга», не зря сидела, разбирала крючковатые готические литеры:
«Когда Иосиф Обручник пришел со своей женой в Вифлеем, никто не открыл им дверей и не пустил на порог. Меж тем Марии пришло время родить. Иосиф отвел ее в каменный хлев, где стояли осел и вол. Там на соломе был рожден Спаситель и Царь мира, завернут в белый плат Своей Матери и положен в ясли, откуда ели животные. После Иосиф Обручник вновь ушел в город Вифлеем, надеясь найти им если не достойного ночлега, то хотя бы еды и дров на эту зимнюю ночь. Приснодева, утомившись в трудах дороги и родов, забылась сном, ее сторожили осел и вол, согревая Матерь и Младенца своим теплым дыханием. В ту же ночь в том же хлеву, на краешке той же соломы родила серая кошка, каких без счета шныряет по городам и весям. И до тех самых пор, пока не вернулся старый Иосиф, кошка пела, мурлыкала и баюкала равно нашего Господа и своих котят. Младенец, хоть и не спал, но, засмотревшись на кошку, не тревожил Своей Матери. Приснодева, проснувшись, заметила кошкино усердие, погладила ее и сказала: „Ты сберегла Мой сон и утешила Моего Сына, так за то будет Мое благословение на тебе и твоем роде“. С тех пор и ведется род кошек Мадонны — узнать их просто: они серые, полосатые, а на лбу у них, прямо над бровями, ясно видна буква М в знак того, что эти кошки угодны Марии. Когда Святое Семейство вернулось в Назарет, кошка эта или ее потомки жили в доме Господа, блюли хозяйство, супостаты были мышам и крысам, сохраняли зерно от порчи и верно служили Мадонне. Исстари кошкам и котам, кто отмечен печатью Приснодевы, разрешен вход в церковь, живут они и при монастырях, несут службу в книгохранилищах и трапезных, на гумне и в амбарах. Есть у них еще один дар — им не вредит змеиный яд, самих же змей кошки Мадонны ненавидят и нападают на них, где встретят. Кто их обидит, будет ответ держать перед Девой Марией».
«Вот так и рождаются бренды, — думает Саша, — кошки — лучшая реклама. Все любят истории про котиков». И вспоминает, между прочим, что при ратуше живут аж три кошки. И все как прописано — серые и полосатые.
«С незапамятных времён в церкви Марии Тишайшей стоит статуя Мадонны с кошкой. Говорят, что статуя эта старше собора. Еще говорят, что статую привезли издалека и подарили городу моряки, в благодарность за свое благополучное возвращение. Подле колен Богоматери на задних лапах, помавая передними в воздухе, пребывает та самая кошка, с затейливо вырезанной буквицей на гладком лбу. Под башмачком у Приснодевы извивается змей, и кошка одной лапой тоже стоит на нем, а когти ее запущены в деревянную гадину. Три раза в год, на Пасху, Благовещение и Рождество статую облачают в праздничные одежды, не забывают и кошку — на шею ей вешают цветное ожерелье с золотым бубенцом. Говорят, некогда настоятель храма усмотрел недоброе в том, что горожане кланяются кошке, и захотел исправить дело, придав в спутники Мадонне животное более величественное: льва или единорога. Искусный резчик приехал из самого Нюренберга, но когда взял пилу и начал отпиливать кошку от подола Приснодевы, пила завязла в дереве, и на глазах статуи выступили слезы. Больше никто не дерзал тревожить статую и разлучать кошку с ее Покровительницей. Глубокий надпил между облачением Мадонны и кошачьей головой так и остался незаделанным, и по сей день зияет там в память о свершившемся чуде и укором всякому, кто допускает величие только в большом и великолепном, тогда как Господь в мудрости Своей и для исполнения Своей воли сотворил и высокую скалу, и малую песчинку».
Интересно, автор ещё видел надпил открытым? Сейчас расщелина окована двумя золочёными пластинами. Получается стрелочка «смотреть сюда». В принципе, четыре-пять веков этой травме, вполне вероятно, и есть: ведь и сама статуя сильно не девочка — поздняя романика, ещё никакой чрезмерной удлинённости, черты Девы чуть грубоваты, кошка прочно стоит, опираясь на хвост, как геральдический лев, только что без вымпела. Но перевозку эта парочка отлично переживёт — помимо легендарной травмы нет ни одного крупного скола, все глубокие трещины заделаны давно — варварски, но надёжно. Хорошо, что краску поновляли в последний раз лет сорок назад — цвет и позолота уже достаточно пожухли и не рвут глаз.
«Je T'aime Moi Non…» — вздохнул телефон.
— Добрый день, фройляйн Эрхарт, — собеседница говорит несколько в нос, возвышая голос к концу фразы. — Меня зовут Мария-Агнесса Каулитц, и у меня находятся «Всадники Апокалипсиса» кисти Ханса Брабантского. Если я правильно поняла, вы намерены их фотографировать?
— Да, фрау Каулитц, здравствуйте! Я сама собиралась вам позвонить. Мне важно знать, когда бы вы могли предоставить нам картину для съёмки?
— Я не фрау, а фройляйн. Знаете, боюсь вас разочаровать, но если «предоставить» значит «привезти» или «принести», то никогда. Все съёмки, зарисовки, описи и исследования делаются только у меня дома.
— Фройляйн Каулитц! — Саша дорисовывает домику флюгер в виде кораблика и начинает с ласковой убедительностью специалиста: — Уважаемая фройляйн Каулитц, дело в том, что для съёмок нужно установить хороший свет, это довольно хлопотно, нам бы не хотелось вас обременять…
Да, сейчас. Старуху не собьешь. Она тверже стали, скорее всего, разговорчики вроде этого для нее давно вошли в привычку.
— Это будет неудобно для меня и крайне неудобно для вас, но картина не покидала дома с XVI века, и не нам менять правила. Так что считайте, что картина приклеена к стене, и всё будет проще. Я жду вас завтра с полудня и до шести в любое время. Так как ничего не нужно перевозить, думаю, много времени на опись не потребуется. К тому же, я про неё знаю всё до мелочей и смогу облегчить ваш труд. До завтра…
— До свидания, и спасибо за звонок, — отвечает Саша в короткие гудки, дорисовывая на скате крыши кошку.
Когда часы на ратуше отбивают пять пополудни, Саша сохраняет последние документы — описи ещё двух картин и одного рисунка, закрывает ноутбук и укладывает его в серую сумку с овечьей мордой и четырьмя верёвочными ножками. Кепка обнаруживается на подоконнике, куртка — в кресле, а одна из перчаток — на полу.
— Я ухожу, герр Лемке! — громко сообщает она глуховатому здоровяку, считающемуся охранником музея, и в ответ на его вопросительную улыбку повторяет ещё громче: — Ухожу до завтра! — показывая пальцами бегущие ножки.
— Фройляйн Эрхарт? — окликают её сзади.
— Добрый вечер, герр Фляйшер, — отвечает Саша, делая вид, что страшно занята сражением с бронзовой ручкой двери.
— Минуточку, — говорит бургомистр, толкая старинную дверь маленькой пухлой рукой в серой перчатке. — Фройляйн Эрхарт, я хочу пригласить вас в кафе.
— Это тенденция, господин бургомистр, меня сегодня все хотят пригласить в кафе. И все, как я понимаю, не просто так.
— Дорогая Александра…
— Саша.
— Саша, — он молитвенно сложил ладони, — если бы мне вздумалось посидеть с вами в кафе просто так, без сопутствующей цели, тёща узнала бы об этом за две минуты до того, как мы бы выбрали столик, а жена — минутой позже. Да они примчатся раньше, чем нам принесут заказ. Поэтому я, как бы мне ни хотелось, вынужден приглашать вас лишь на деловой разговор.
Очень занятно наблюдать, как аккуратно, словно бережливая женщина, он снимает перчатки, расстёгивает плащ, устраивает его на старомодную рогатую вешалку, обстоятельно усаживается — кругленький, коротенький, уютный — просто Дени де Вито из немецкой глубинки.
— Не надо меню, детка, кофе по-венски и..?
— И кофе по-венски, — заканчивает заказ Саша.
— Итак, дорогая моя фройляйн, я бы хотел обратиться к вам с просьбой… Это дело требует большого такта и способности к ведению переговоров. Вам надо уговорить фройляйн Агнесс предоставить картину для выставки. Вы, возможно, не в курсе, это специфика нашего городка: существует легенда, что пока картина в городе, он защищён от опасностей. Суеверие, конечно, но города она и впрямь никогда не покидала. И даже из дома ее не выносили. Поэтому, вы понимаете, если красиво подать легенду, Мартенбург может заинтересовать весьма многих. Город у нас не так чтобы очень популярен, а тут туристы, приток капитала… ну зачем вам объяснять, как это важно в наше трудное время для любого маленького города.
Саша разрушает ложечкой совершенство припорошенной шоколадной крошкой шапки сливок.
— То есть если я вас правильно понимаю, господин бургомистр, сами вы в легенду не верите?
— Зачем так цинично, фройляйн Саша? — огорчается кругленький бургомистр. — Немножко верю, немножко не верю… Согласитесь, какие особенные беды могут у нас быть сейчас? Чума? Голод? Осада? А польза от показа оригинала, особенно если подготовить интересный текст, знаете, с изюминкой… Я понимаю, для вас в этом никаких особенных выгод нет, но если выставка приведёт к изданию каталога, его, несомненно, будете писать вы. И любые статьи о Хансе Брабантском. Считайте, что вы — его биограф. Вы постараетесь? Магда?! Счёт! Нет, ну нет, фройляйн, конечно, я угощаю…
«Je T'aime Moi Non…» — оживает телефон.
«Фляйшер,» — высвечивается в окошечке. «Нужно поменять сигнал», — думает Саша.
— Фройляйн Эрхарт? Не подумайте, Бога ради, что я за Вами шпионю, но у нас такой маленький городок — тёща сказала, что примерно час назад Вы покинули госпожу Каулитц. Не хочу быть назойливым, но как там наши «Всадники…»?
— Это, уважаемый герр бургомистр, не наши «Всадники…», и даже не её. Это Божьи всадники, я полагаю. Скачут. И прекрасны. Пожалуй, самая сильная работа вашего наёмника Ханса.
— Ну так мы сможем показать их миру?
— Ещё бы, герр бургомистр. Я отсняла буквально каждую подкову. И даже, пожалуй, каждый гвоздь.
Пауза затягивается. Когда телефон оживает, Саша легко представляет лицо бургомистра и думает, что сейчас он — Де Вито в роли Человека-Пингвина.
— Если я правильно понял, Агнесс упрямится?
— Герр Фляйшер, скажу Вам кратко — если у вас нет денег на киллера для старой дамы, «Всадники» будут скакать по той стенке ещё очень долго — она в отличной форме. А потом их, я предполагаю, будет пасти её племянник. Она говорит — он большой патриот города и ревнитель традиций.
— Фройляйн Саша, мне кажется, я не давал Вам повод для иронии.
— Послушайте, мудрейший герр Фляйшер, ну зачем Вы сами роете себе яму? Ну кому будет нужна картина, в защитную силу которой даже бургомистр не верит. Вы же взрослый деловой человек. Я напишу к «Всадникам» интригующий текст, Вы снимете с фройляйн Каулитц муниципальный налог и назначите небольшое жалованье, как сотруднику филиала городского музея. По вторникам и четвергам, к примеру, она прекрасно сможет показывать посетителям «Всадников», а вместе с ними отличную Марию Магдалину и портреты своего прапрапра… неважно и его супруги. Кстати, этот её предок — заказчик и первый владелец картины — мы можем поднять историю семьи. Выдавайте ей на экскурсионные дни вашего Отто для солидности. Только купите ему пушку и слуховой аппарат. После того, как мы покажем картину в Берлине, к вам повалят туристы.
— А что вы с этого хотите иметь, дорогая фройляйн Саша?
— Как вы выделяете «дорогая». Пустяки, буквально. Только право первой ночи на всё, что будет после выставки вокруг вашего Брабантца.
— Слава Богу, фройляйн Саша, а то я уже испугался, что вы — романтик. Но вы — практичная девушка.
— О, да, герр Фляйшер! Я страшно рассчётлива…
Положив трубку, Саша бесцельно ходит по комнате, смотрит в окно — вывеска бара напротив призывно светится. Она достаёт из чемодана полосатый свитер с высоким горлом и длинную юбку со смешным хвостом.
В баре пусто, пахнет пивом и недавно сваренным кофе, на стойке возле бармена стоит полупустая чашка.
— Кофе, — говорит Саша, — кофе, водки на три пальца и апельсинового сока в отдельном стакане.
Тщательно расправив хвост юбки, она усаживается, включает ноутбук и заходит в почту.
— Добрый вечер, герр Либерман, — набивает Саша, — я припасла для вашего штруделя одну большую изюмину и один крупный орех…
Историю статуи она копирует без исправлений, а над текстом «Всадников» страдает три четверти часа, перечитывает про себя и вслух, перетаскивает один из абзацев из середины в конец в начало и наконец-то нажимает на «отправить».
В пятницу она будет пить кофе у фройляйн Каулитц. Интересно, её племянник хоть чуть-чуть похож на портрет предка?