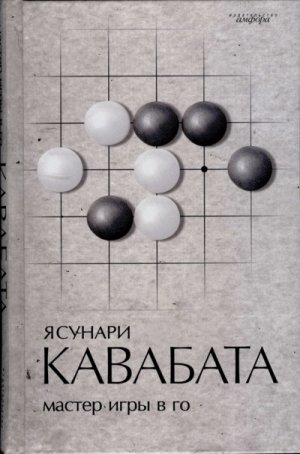
ЯСУНАРИ КАВАБАТА
1
Мастер игры в го Сюсай Хонинобо XXI[1] скончался утром 18 января 1940 года в городе Атами в гостинице «Урокоя». Ему было шестьдесят семь лет по японскому счету.
Эту дату я никогда не забуду и не спутаю с другой, потому что каждый год 17 января в Атами отмечают Дни памяти писателя Одзаки Коё[2]. Именно в этот день Канити, главный герой романа Коё 1890-х годов «Золотой демон», произносит на берегу моря в Атами свой знаменитый монолог «Сегодня луна…».
Мастер Сюсай умер на следующий день после начала праздника.
В те времена было принято к Дням памяти Коё приурочивать некоторые другие торжества литературного мира, и в год смерти мастера они получились как никогда пышными.
Кроме Одзаки Коё о городе Атами писали Такаяма Тёгю и Цубути Соё — их имена тоже поминали в заупокойной службе. В тот год благодарственные адреса от города за описание Атами получили три писателя — Такэда Тосихико, Осораги Дзиро и Хаяси Фу-сао. Я тоже был тогда в Атами и участвовал в Днях памяти Коё.
Вечером 17 января мэр города давал банкет в гостинице «Дэсураку», где остановился и я, а на рассвете 18-го меня разбудил телефонный звонок — мне сообщили о смерти мастера. Я немедленно отправился в гостиницу «Урокоя», затем вернулся к себе, позавтракал и присоединился к приехавшим на Дни памяти Коё писателям, которые вместе с чиновниками из мэрии направлялись возлагать венки на могилу Цубути. После кладбища я вновь зашел в гостиницу, побыл недолго на банкете в павильоне Бусёан в Сливовом саду, а с середины вновь ушел в «Урокоя» и сфотографировал мастера на смертном ложе. Позже я еще раз пошел туда проститься с покойным — его в тот же день увозили в Токио.
Мастер Сюсай приехал в Атами 15 января, а 18-го — умер. Как будто специально прибыл в Атами, чтобы умереть. 16-го я навестил его в гостинице, и мы сыграли две партии в сёги[3]. Вечером, едва я ушел, мастеру стало плохо. Две партии в любимые сёги оказались последними в его жизни. Мне довелось быть корреспондентом газеты на последнем матче, сыгранном Сюсаем, я оказался последним партнером мастера в сеги, я же сделал последние фотографии покойного.
Я близко познакомился с мастером тогда, когда токийская газета «Нити-нити симбун» (ныне «Майнити симбун») поручила мне вести репортаж о его последней партии. Матч организовала газета, и игра получилась невероятно затянувшейся. Началась она 26 июня в павильоне Коёкан в токийском парке Сиба, а завершилась в городе Ито 4 декабря. Одна партия в го продолжалась почти полгода. Ее откладывали четырнадцать раз. Я опубликовал в газете шестьдесят четыре репортажа об этой игре. В середине матча мастер заболел, партию пришлось прервать на три месяца — с середины августа до середины ноября. Вероятно, по причине болезни мастера, последняя партия окончилась для него трагически. Казалось, это она отняла у него жизнь. После матча здоровье к Сюсаю так и не вернулось, а через год он умер.
2
Если быть совсем точным, партия завершилась 4 декабря 1938 года в 2 часа 42 минуты пополудни. Последний 237-й ход черных сделал противник мастера.
Не произнеся ни слова, мастер стал заполнять нейтральные пункты. Один из судей, Онода, игрок шестого дана, сказал: «Кажется, пять очков?» Голос его был полон сочувствия к мастеру — перекладывание камней и подсчет очков сделали бы поражение мастера слишком явным.
— Да-а… пять очков… — пробормотал мастер, поднял тяжелые веки и убрал руку.
Заполнившие зал зрители молчали. Словно желая разрядить тяжелую атмосферу, мастер тихо проговорил:
— Не попади я в больницу, мы закончили бы еще в августе, в Хаконэ.
Затем спросил о потраченном времени.
— Белые — девятнадцать часов пятьдесят семь минут… без трех минут половина лимита, — ответила девушка-секретарь. — Черные — тридцать четыре часа девятнадцать минут…
На одну партию профессионалам обычно дается десять часов, но для этой партии сделали исключение и каждому партнеру отвели по сорок часов, в четыре раза больше обычного. У черных оставалось еще время, но тридцать четыре часа — колоссальный срок, небывалый случай с тех пор, как в го ввели контроль времени.
Игра закончилась около трех часов пополудни, и горничная принесла чай. Все присутствовавшие по-прежнему молча смотрели на доску.
Мастер протянул чашку своему противнику Ота-кэ[4], игроку седьмого дана.
Когда игра была закончена, молодой Отакэ сказал:
— Сэнсэй, покорно вас благодарю.
Он поклонился мастеру и застыл с низко опущенной головой: руки на коленях, белое лицо совсем побледнело.
По примеру мастера, смешавшего камни, Отакэ принялся складывать черные камни в чашу. Мастер, не сказав ни слова об игре, встал и как ни в чем не бывало вышел из зала. Отакэ, естественно, тоже не проронил ни слова. Иное дело, если бы он проиграл.
Я вернулся в свой номер и, случайно глянув в окно, увидел Отакэ — он уже успел переодеться в теплое кимоно и теперь одиноко сидел на скамейке во дворе, руки скрещены на груди, голова опущена. Приближался пасмурный зимний вечер. На широком холодном дворе виднелась лишь фигура погруженного в раздумья Отакэ.
Я открыл застекленную дверь на веранду и окликнул его: «Отакэ-сан!» Он резко оглянулся на мой зов и тут же отвернулся. Мне показалось, что на лице у него слезы.
Я отошел от двери и увидел жену мастера — она зашла поблагодарить меня.
— Вы так долго нам помогали… были так любезны.
Пока я разговаривал с ней, Отакэ исчез со двора. Он вновь переоделся в кимоно с гербами и уже совершал торжественный обход в сопровождении своей жены. Он поблагодарил мастера, организаторов матча, заглянул и в мой номер. Я отправился благодарить мастера.
3
Как только закончилась эта растянувшаяся на полгода партия, на следующий же день все причастные к ней люди поспешно разъехались по домам. Это было накануне открытия железнодорожной ветки на Ито.
Город Ито, к которому провели железную дорогу, в ожидании зимнего курортного сезона украсил свою главную улицу и выглядел нарядным.
У профессиональных игроков в го есть правило — во время матча их «запирают». Вместе с ними сидел почти безвыходно в гостинице и я. Теперь, когда мы ехали в автобусе и видели за окном яркие украшения, я испытывал такое облегчение, словно выбрался наконец из погреба.
Возле вокзала виднелась новая дорога, стояли наспех построенные домики. Этот хаос чем-то напоминал мне нашу редакцию и казался подлинным лицом большого мира.
Когда автобус покинул Ито и поехал вдоль берега, навстречу попалось несколько женщин с вязанками хвороста за спиной. Некоторые несли в руках веточки рябины. Меня неожиданно потянуло к этим людям. Как будто я перевалил через гору и увидел вдруг дымки деревни.
От обычных житейских дел вроде подготовки к Новому году веяло теплом и уютом. Казалось, я вырвался из какого-то ненастоящего мира. Женщины собирали хворост и теперь шли домой готовить ужин. Тускло светилось море, невозможно было понять, где находится солнце. Так бывает зимой, когда быстро спускаются сумерки.
Но и в автобусе я продолжал думать о мастере. Меня пронизывала жалость к нему, возможно, поэтому я испытывал сочувствие ко всем людям.
Все, кто имел отношение к матчу, покинули Ито. В гостинице остался только мастер с женой.
«Непобедимый мастер» проиграл свою последнюю в жизни партию, и никто бы не удивился, если бы он уехал первым. Ему пришлось сражаться сразу с двумя противниками — Отакэ и болезнью, и он, конечно же, нуждался в отдыхе. Но отдыхать ему было бы лучше в другом месте. Неужели мастеру его поражение было настолько безразлично? Ни организаторы матча, ни я не желали оставаться там ни одной лишней минуты и немедленно разъехались по домам, словно сбежали. Остался только побежденный мастер. Унылая, гнетущая атмосфера… Все это мастер предоставил людскому воображению, а сам… Сам он сидел молча, как всегда, и лицо у него было бесстрастным, будто все происшедшее его не касалось. Его противник Отакэ уехал в числе первых. В отличие от бездетного мастера у него была большая семья.
Года через два после матча я получил от жены Отакэ письмо, в котором она сообщала, что теперь в их семье шестнадцать человек. Семья в шестнадцать человек — в этом чувствовался характер Отакэ, или, если угодно/жизненная позиция. Мне захотелось навестить его. Вскоре умер отец Отакэ, и семья уменьшилась до пятнадцати человек. Я отправился к ним выразить соболезнование. Правда, для соболезнования было немного поздно, со дня похорон прошло больше месяца. Отакэ был в отъезде, но его жена тепло встретила меня и провела в гостиную. Когда я закончил слова приветствия, она подошла к внутренней двери и сказала кому-то: «Позови-ка всех!» Послышались шаги, в комнату вошло несколько подростков в возрасте от десяти до двадцати лет. Они выстроились в ряд и застыли как по команде «смирно», словно живущие в доме ученики. Среди них была крупная краснощекая девочка.
Жена Отакэ[5] назвала меня и сказала: «Поздоровайтесь с сэнсэем!» Все одновременно поклонились. Чувствовалось, что это очень дружная семья. В их поведении не было ни малейшей нарочитости, все делалось очень естественно. Едва подростки покинули комнату, как послышался шум, который наполнил просторный дом. Жена Отакэ пригласила меня подняться на второй этаж. Там я сыграл в го с одним из мальчиков. Жена Отакэ угощала меня одним блюдом за другим, я засиделся допоздна.
Среди шестнадцати членов семьи были и домашние ученики. Никто из молодых профессионалов не содержал в своем доме столько учеников. Разумеется, свою роль играли его известность и заработки, но все же главным была широкая натура Отакэ, привязанного к семье и без памяти любившего детей.
Во время матча с мастером «запертый» Отакэ каждый вечер звонил жене по телефону:
— Сегодня милостью сэнсэя мы продвинулись до такого-то хода…
Только это. Ни одного слова, которое могло бы намекнуть на положение в партии. Когда голос Отакэ, говорившего по телефону, доносился до моего номера, я не мог не испытывать к нему симпатии.
4
В день начала матча в павильоне Коёкан в токийском парке Сиба черные и белые сделали всего по одному ходу[6]. На следующий день партия продвинулась до двенадцатого хода, после чего матч перенесли в город Хаконэ. Мастер, Отакэ и все организаторы матча ехали одним поездом, а вечером мастер отдыхал за чашечкой сакэ. Игра по-настоящему еще не началась, все было впереди. Мастер говорил оживленно.
Большой стол в гостиной, куда нас привели, был отлакирован в стиле Цугару. Зашел разговор о лаке. Мастер сказал:
— Не помню, когда это было, но мне довелось видеть доску для го из лака. Не лакированную, а целиком из лака. Ее изготовил интереса ради один мастер из Аомори, потратил на нее двадцать пять лет. Подождет, пока один слой высохнет, и накладывает следующий. Поэтому работа и заняла столько времени. Чаши для камней и крышка для доски тоже из лака. Весь этот набор мастер из Аомори передал на выставку. Хотел получить за него пять тысяч йен, но покупателя не нашлось. Тогда он принес ее в Ассоциацию го и просил помочь продать за три тысячи. Не знаю, не знаю… Уж слишком тяжелая. Тяжелее меня. Весила килограммов пятьдесят.
Мастер посмотрел на Отакэ.
— Отакэ-сан как будто снова поправился, да?
— Шестьдесят килограммов…
— Хо-о! В два раза тяжелее меня. А ведь моложе меня в два раза.
— Мне уже тридцать, сэнсэй. Плохой возраст — тридцать лет. Когда сэнсэй изволил давать мне уроки, я был тощим как щепка, правда? — Отакэ вспомнил свою юность. — Тогда я заболел, и ваша жена выходила меня. Никогда этого не забуду.
Разговор перекинулся на горячие источники в провинции Синею, откуда была родом жена Отакэ, потом перешел на семейные темы. Отакэ женился в возрасте двадцати трех лет, в то время у него был пятый дан. С тремя детьми и тремя домашними учениками его семья насчитывала десять человек.
Он рассказал, что его шестилетняя дочь научилась играть в го, глядя на игру взрослых.
— Тогда я сыграл с ней с форой в девять камней, запись партии сохранилась.
— Хо-о! Девять камней? Молодец! — сказал мастер.
— Младшей четыре года, но и она уже понимает, что такое атари[7]. Есть у них способности или нет, пока не знаю. Будь они постарше…
Никто из присутствовавших не знал, что на это ответить.
Похоже, что и впрямь Отакэ — один из корифеев мира го — играет со своими крошечными детьми, и если уж отыщет искру Божию, то непременно сделает из них профессионалов. Считается, что способности к го проявляются в десятилетнем возрасте и, если в этом возрасте не начать серьезные занятия, больших успехов не добьешься. И все же рассказ Отакэ произвел на меня странное впечатление. Возможно, в нем говорила молодость. Тридцать лет. Игра уже полностью его захватила, а усталость от нее еще не пришла. Помню, я подумал тогда, что у него, наверное, счастливая семья.
Мастер завел разговор о своем доме в Токио, в районе Сэтагая. Дом занимал треть участка, и они с женой собираются продать его и купить новый, с большим садом. Они живут вдвоем. Домашних учеников у него больше нет.
5
Как только мастер выписался из больницы Святого Луки*, прерванная на три месяца партия была продолжена. Играли в гостинице «Данко-эн» в Ито. В первый день было сделано всего пять ходов — со сто первого по сто пятый, после чего возник спор по поводу следующего игрового дня. Мастер просил отложить доигрывание, так как был болен, на что Отакэ не соглашался и угрожал отказаться от участия в матче. Клубок противоречий запутался еще сильнее, чем в Хаконэ.
И партнеры, и организаторы матча безвылазно сидели в гостинице. Дни тянулись мучительно и попусту пропадали. Тогда-то мастер и предпринял поездку в Кавана, чтобы немного развеяться. Примечательно, что он сам предложил эту поездку, хотя по натуре был домоседом. С ним поехали его ученик Мурасима, игрок пятого дана, девушка-секретарь, которая вела запись ходов, трое профессионалов из Ассоциации го и я.
Едва мы вошли в гостиницу «Канко» в Кавана, как сразу же стало ясно, что делать здесь было нечего — разве что сидеть в вестибюле в креслах и пить чай.
Вестибюль представлял собой полукруглый, со всех сторон застекленный фонарь, выступавший из здания в сад, и напоминал то ли смотровую беседку, то ли солярий. Справа и слева от широкого, заросшего травой сада виднелись лужайки для гольфа, принадлежавшие командам «Фудзи» и «Осима». И сад, и лужайки вплотную подходили к морю.
Я с давних пор любил светлые и просторные пейзажи Каваны и надеялся, что скучавшему мастеру захочется ими полюбоваться. Я следил за выражением его лица, но мастер задумался, и трудно было понять, заметил ли он, какая красота его окружает. На других обитателей гостиницы он тоже не смотрел, лицо его оставалось непроницаемым. Ни слова не проронил ни о пейзаже, ни о гостинице. Как обычно, за него говорила жена. Она похвалила пейзаж и повернулась к мастеру, но тот не выразил ни согласия, ни протеста.
Мне хотелось, чтобы он побыл немного на солнце, и я пригласил его выйти в сад.
— Да-да, пойдемте. На улице тепло, тебе не повредит. Может, почувствуешь себя лучше, — уговаривала его жена. Мастер не возражал.
Стояла золотая осень, и остров Осима виднелся как бы сквозь дымку. Над морем завис коршун. На дальнем краю лужайки сквозь сосны проглядывало море. Там находилось несколько пар молодоженов, приехавших сюда в свадебное путешествие. Благодаря простору и свету они не выглядели безвкусно одетыми, как это нередко бывает с молодоженами в свадебном путешествии. Кимоно невест четко выделялись на фоне моря и сосен и, казалось, излучали свежесть. В Кавана приезжали отпрыски из богатых семей. Я почувствовал вдруг зависть, которая, впрочем, больше походила на сожаление, и обратился к мастеру.
— Молодожены…
— Им, должно быть, скучно, — проговорил мастер, и эти слова, сказанные безразличным тоном, мне потом не раз вспоминались. Я хотел пройтись по лужайке, посидеть на ней, но мастер стоял неподвижно, пришлось остаться рядом.
На обратном пути мы заехали на озеро Ицубеки. Крошечное озерцо, пустынное в вечерний час поздней осени, было на удивление красивым. Мастер вышел со всеми из машины и постоял немного, глядя на воду.
Мне так понравилось в Кавана, что на следующий день я пригласил съездить туда Отакэ в надежде, что это развеет его дурное настроение. Вместе с нами поехали секретарь Ассоциации го[8] Явата и корреспондент «Нити-нити симбун» Сунада. На обед мы сами приготовили себе сукияки[9] в деревенской хижине, стоявшей на территории гостиницы. Я хорошо знал Кавана, потому что бывал здесь раньше по приглашению Окуры Киситиро, основателя фирмы «Окура», вместе с танцевальными ансамблями, да и сам по себе.
Осложнения с матчем продолжились и после поездок в Кавана. Улаживать разногласия между мастером Сюсаем и Отакэ приглашали даже меня, хотя я был всего-навсего журналистом. Наконец 25 ноября матч продолжили.
Рядом с мастером стояла жаровня-хибачи, а сзади — еще одна, на которой кипел чайник, чтобы можно было согреться паром. По настоянию Отакэ мастер обмотал шею шарфом, который с изнанки выглядел тканым, а с лицевой стороны — валяным, и завернулся в какой-то плед, напоминающий женскую накидку. Этот плед он не снимал даже у себя в номере. Кажется, его лихорадило.
— Сэнсэй, какая у вас обычно температура? — спросил Отакэ, не отводя глаз от доски.
— Э-э… тридцать пять и восемь, тридцать пять и девять… Выше, чем тридцать шесть и один, никогда не бывает, — спокойно, будто смакуя слова, ответил мастер.
В другой раз, когда мастера спросили, какой у него рост, он сказал: «В юности, когда я проходил военную комиссию, во мне было метр пятьдесят один. Потом я подрос сантиметра на три, но с годами рост стал уменьшаться, сейчас во мне — метр пятьдесят два».
Когда в Хаконэ в разгар игры мастер заболел, врач, который его осматривал, сказал: «У него телочребенка-дистрофика. Что это за икры? В них совершенно нет мяса. Удивляюсь, как у него хватает сил двигаться? Ему нельзя давать полные дозы лекарств, только детские, как тринадцатилетнему».
6
Усаживаясь за доску, мастер, казалось, становился выше ростом. Конечно, свою роль в этом играли его мастерство, звание, умение держаться, но надо сказать, что у него было непропорциональное тело, крупная голова и вытянутое лицо. Нос, рот, уши были велики, а подбородок выступал далеко вперед. Все это хорошо заметно на снятых мною посмертных фотографиях.
Пока фотографии не были отпечатаны, меня очень беспокоило, как на них вышел мастер. Проявить пленку и отпечатать снимки я попросил в фотомастерской высшего разряда «Нономия», предупредил их, что на пленке снимки покойного мастера, и попросил обращаться с ней поосторожнее.
После Дней памяти Коё я ненадолго заехал домой, после чего мне вновь пришлось поехать в Атами. Перед отъездом я строго наказал жене переслать фотографии, как только она их получит, в Атами в гостиницу «Дзюраку». Ни жена, ни кто-либо другой не должны их видеть — снимки любительские, и, если покойный мастер получился на них плохо, лучше, чтобы ни одна душа не узнала об их существовании. В этом случае я не стану показывать фотографии ни вдове, ни ученикам мастера, а просто сожгу. К тому же у меня иногда заедал затвор фотоаппарата, и я не был уверен, что вообще что-то получится.
Жена позвонила мне как раз в тот момент, когда я вместе с другими участниками Дней памяти Коё вяло жевал сукияки из индейки на банкете в павильоне Бусё-ан. Она сказала, что жена мастера просит меня прийти и сфотографировать покойного. Дело в том, что утром, после прощания с мастером, мне пришла в голову эта мысль и я через свою жену, которая шла к супруге мастера выразить соболезнование, предложил свою помощь: если нужно, я сделаю фотографии или гипсовую маску. Маску вдова не захотела, а на фотографии согласилась, и моя жена позвонила, чтобы сообщить об этом.
Но когда пришла пора действовать, я вдруг испугался, что не сумею сделать хорошие фотографии. Поэтому я очень обрадовался, когда в павильон неожиданно зашел фотограф, которого прислали для съемки торжеств на Днях памяти. Я попросил его сфотографировать покойного мастера, и он сразу же согласился. Правда, вдове и другим вряд ли понравится появление постороннего фотографа, но я решил рискнуть — все-таки лучше, чем снимать самому. Увы, распорядители Дней памяти заявили, что не могут отпустить фотографа, и я не смог им что-либо возразить. Смерть мастера касалась только меня, мое настроение совершенно не совпадало с настроением участников Дней памяти. Тогда я попросил фотографа взглянуть, что с моим затвором. Он объяснил мне, что на худой конец можно сделать несколько снимков, прикрывая объектив ладонью. Потом зарядил в фотоаппарат новую пленку, и я на такси отправился в гостиницу «Урокоя».
В комнате, где лежал покойный, были закрыты ставни и горела лампочка. Вместе со мной в комнату вошли вдова и ее младший брат. Брат сказал: «Темно, не хватит света. Я открою ставни».
Я сделал десяток снимков. Чтобы не рисковать, я открыл затвор и действовал ладонью, как научил фотограф. Мне хотелось сделать снимки с разных сторон, однако атмосфера благоговения не позволяла бесцеремонно расхаживать вокруг тела, и я фотографировал с одного места.
На присланных из Камакура фотографиях моя жена написала на обороте фирменного пакета: «Только что получила из мастерской. Конверт не открывала. Тебе нужно зайти четвертого в пять часов в канцелярию храма насчет праздника».
Приближался весенний праздник сэцубун[10], и на церемонию разбрасывания бобов в храме Хачимана в Цуругаока на роль «старейшин» были приглашены камакурские литераторы.
Первое, что мне бросилось в глаза, едва я распечатал пакет, было лицо покойного мастера. Снимки получились хорошие.
Мастер казался на них спящим, и в то же время ощущался покой смерти.
Я фотографировал слегка присев, на уровне живота покойного, поэтому мастер был виден снизу наискось.
Знаком смерти было отсутствие подушки — из-за этого лицо хранило выражение глубокой скорби, которое подчеркивалось выступавшим подбородком и слегка приоткрытым ртом. Мощный нос казался настолько большим, что становилось немного не по себе. От складок закрытых век до погруженного в густую тень лба — все передавало ощущение скорби.
Свет от окна с полуоткрытыми ставнями падал на покойного с изножья, свисавшая с потолка лампочка также освещала нижнюю часть лица, изголовье было опущено, поэтому лоб находился в тени. Свет падал от подбородка на щеки и выступающие части лица: запавшие веки, надбровья, переносицу.
Присмотревшись, я заметил, что нижняя губа была в тени, а верхняя — освещена. Между ними лежала густая тень рта, в котором поблескивал один из верхних зубов. В коротко постриженных усах виднелись седые волоски. На правой, дальней, щеке были две большие родинки, от них падали тени. Получилась даже тень от набухшей вены на виске. Темный лоб пересекала поперечная морщина. В одном месте свет падал на стриженные ежиком волосы. Волосы у мастера были жесткие.
7
На правой щеке у него были две большие родинки, и волоски правой брови на снимке выглядели очень длинными. Их концы изгибались дугой и почти достигали линии смыкания век. И длинные волоски бровей, и большие родинки придавали мертвому лицу скорбное выражение.
Увидев эти длинные волоски в бровях, я с грустью вспомнил, как 16 января, за два дня до смерти мастера, мы с женой зашли проведать его в гостиницу «Урокоя». Его супруга обратилась ко мне, но сначала, как бы извиняясь, взглянула на мастера.
— Да, вот еще что… Я хотела сказать при встрече… Вы помните насчет брови?.. — Она еще раз взглянула на мастера, словно прося разрешения продолжить. — Это было двенадцатого числа. Было довольно тепло. Мы как раз собирались в Атами, он хотел побриться, и мы пригласили нашего парикмахера. Тот брил его на веранде, на солнце, и вдруг муж говорит: «Уважаемый! В левой брови у меня есть длинный волосок, говорят, знак долголетия. Вы уж его не трогайте». Так он сказал. А парикмахер отвел ладони от его лица и говорит: «Как же, как же, волосок на месте. У сэнсэя волосок счастья. Сэнсэй будет долго жить. Не беспокойтесь, все на месте».
А муж посмотрел на меня и говорит: «Про этот волосок господин Ураками даже в газете написал. У Ураками острый глаз, он замечает такие мелочи. Правда? Пока он не заметил этот волосок, я о нем и не подозревал». Вот так и сказал. И знаете, даже настроение поднялось.
Пока его жена говорила, мастер как всегда молчал, лишь тень пробежала по его лицу, словно от пролетевшей птицы. Мне стало неловко. Я и представить себе не мог, что мастер умрет через два дня после разговора о длинном волоске, который парикмахер пощадил как знак долголетия.
Конечно, не бог весть какое событие — заметить длинный волосок в брови у старика и написать об этом. Но писал я в очень трудный момент, когда казалось, что даже какой-то волосок способен повлиять на ход событий. В Хаконэ в гостинице «Нарая» я написал следующий репортаж[11]:
«Старого мастера Сюсая сопровождает жена, она постоянно находится с ним в гостинице. Жена Отакэ то и дело ездит из Хаконэ в Хирацука, где у нее трое детей. Старшему из них шесть лет. Больно смотреть со стороны, как страдают эти женщины. Их переживания были особенно приметны 10 августа, когда мастер играл впервые после болезни.
Жены мастера обычно рядом с ним во время игры нет, но в этот день она сидела в соседней комнате и внимательно за ним следила. На доску она ни разу не взглянула.
Жена Отакэ тоже не появляется в зале, где идет игра, но спокойно дождаться перерыва она не в силах. Она то стоит, то ходит по коридору, наконец, не выдержав, заглядывает к организаторам матча.
— Отакэ еще думает?
— Да… положение очень трудное…
— Я знаю… И к тому же он не спал.
Отакэ промучился всю ночь, пытаясь решить, допустимо ли играть с мастером, который еще не оправился после болезни. Всю ночь глаз не сомкнул, а утром все-таки пришел на игру.
В 12.30, когда партию следует отложить, — ход черных. Прошло полтора часа, а хода все нет. Об обеде никто не вспоминает. Госпожа Отакэ, конечно, не может усидеть в своей комнате. Она тоже провела бессонную ночь.
Единственный в семействе Отакэ, кому сегодня удалось поспать, — это Отакэ-младший, замечательный малыш восьми месяцев от роду. Спроси у меня кто-нибудь о характере Отакэ, я просто показал бы этого малыша — живое воплощение бойцовского духа и мужества отца. Сегодня на взрослых тяжело смотреть, и единственное мое спасение — крошка Момотаро.
В этот день я случайно заметил в брови у мастера Сюсая седой волосок длиной около дюйма. И этот длинный волосок на лице мастера с припухшими веками и вздувшейся веной стал для меня еще одним якорем спасения.
Атмосферу в комнате, где идет игра, можно назвать гнетущей. Я стоял на веранде и смотрел вниз на озаренный солнцем сад. Какая-то модно одетая барышня беззаботно бросала в пруд карпам кусочки печенья.
Казалось, я невольно стал свидетелем некоего тайного действа, и не верилось, что игра и это действо совершаются в одном и том же мире.
Обе женщины — жена мастера Сюсая и жена Отакэ были взволнованы, их лица побледнели, а выражение стало жестче. Когда началась игра, жена мастера, как обычно, покинула зал, но вскоре, вопреки обычаю, вернулась и стала наблюдать за мастером из соседней комнаты. Онода, игрок шестого дана, закрыл глаза и опустил голову. Журналисту Мурамацу Сёфу явно не по себе. Даже Отакэ не произносит ни слова и избегает прямо смотреть на своего противника.
Вот вскрывают конверт с записанным 90-м ходом белых. Мастер то и дело склоняет голову то вправо, то влево, 92-м ходом он пошел на взаимное разрезание. Свой 94-й ход он обдумывал 1 час 9 минут. Мастер то закрывал глаза, то смотрел в сторону, иногда наклонялся, словно преодолевая приступ тошноты. Похоже, ему нездоровится. Его облик не выражал обычной внутренней силы. Возможно, виной тому освещение, но контур лица мастера казался размытым, словно призрачным. Даже тишина в зале была какой-то необычной. Игроки сделали 95-й, 96-й и 97-й ходы. Стук камней о доску вселял смутную тревогу, словно эхо в пустынном ущелье.
Над 98-м ходом мастер вновь думал больше получаса. Он часто моргал, рот его был приоткрыт, а веером он размахивал так яростно, словно старался раздуть где-то в глубине своего существа пламя. Трудно понять, как можно играть в таком состоянии.
В это время в комнату вошел Ясунага, игрок четвертого дана. Переступив порог, он сделал церемонный поклон, но ни один из игроков его поклон не заметил. Когда мастер поворачивался в ту сторону, где сидел Ясунага, тот почтительно опускал голову.
Вся сцена выглядела так, словно какие-то демонические силы сошлись в ужасной битве.
Едва был сделан 98-й ход, как девушка-секретарь объявила время: 12 часов 29 минут. В 12.30 запись хода.
— Сэнсэй, вы устали, может быть, отдохнете?.. — обратился к мастеру Онода. Только что вернувшийся из туалета Отакэ присоединился к его просьбе.
— Отдохните, пожалуйста. Не церемоньтесь со мной. Я один подумаю над ходом и запишу его. Обещаю ни у кого не просить подсказки. — Впервые за весь день все рассмеялись.
Все сочувствовали мастеру и не хотели, чтобы он оставался сидеть за доской. Отакэ должен был лишь записать свой ход, поэтому особой необходимости сидеть у мастера не было. Он наклонил голову и некоторое время раздумывал, уйти ему или остаться…
— Пожалуй, еще немного посижу…
Но тут же встал и отправился в туалет. Вернувшись, он зашел в соседнюю комнату и затеял веселый разговор с Мурамацу Сёфу. Вдали от доски мастер выглядел на удивление бодро.
Оставшись один, Отакэ впился глазами в позицию белых в правом нижнем углу. Он думал 1 час 13 минут и уже во втором часу пополудни записал 99-й ход: нодзоки в центре доски.
В то утро, когда организаторы матча зашли в номер Сюсая и поинтересовались, где он сегодня хотел бы играть: во флигеле или на втором этаже главного корпуса, мастер ответил:
— Я пока не могу выходить на улицу и предпочел бы главный корпус. Но Отакэ-сан как-то говорил, что в главном корпусе ему мешает шум водопада. Спросите у него. Будем играть там, где он захочет».
8
Волосок мастера Сюсая, о котором я упомянул в репортаже, был седым и рос на левой брови. Однако на снимке покойного длинными получились волоски правой брови. Не могли же они вырасти после смерти! И потом, брови у мастера не были такими длинными. На снимке волоски были явно длиннее, а ведь фотография не может врать.
Я фотографировал аппаратом «Контакс» с объективом «Зонар 1.5», и хотя я плохо разбираюсь в технике съемки, все же вижу, что объектив сработал как надо. Ему ведь все равно: живые или мертвые, люди или предметы. Ему незнакомы ни восхищение, ни почтительность. Если я не напутал при съемке, то «Зонар 1.5» снял все точно. Благодаря объективу снимок покойного получился богатым и мягким по тональности.
До глубины души поразило меня то настроение, которым веяло от снимков и создавалось мертвым лицом мастера. Ведь лицо человека всегда что-то выражает, хотя у покойного за этим выражением не скрывается, конечно, никаких чувств. Мне даже стало казаться, что фотографии изображают человека не живого, но и не мертвого. Он получился как живой, только спящий. Нет! И это не так. Смотришь на снимок и понимаешь, что это покойный, но все равно чувствуешь в нем что-то, говорящее и о жизни, и о смерти. Возможно, это объясняется тем, что на снимках у покойного такое же лицо, как и у живых? Быть может, лицо напоминает о многом, что случалось, когда мастер был жив? Или все дело в том, что передо мной не само мертвое лицо, а лишь его фотография? Удивительно и то, что на фотографии лицо мертвого видно гораздо отчетливее и подробнее, чем воочию. И еще мне подумалось, что эти фотографии стали для меня символом чего-то тайного, на что непозволительно смотреть.
Потом я пожалел, что сделал фотографии покойного. Бездушный все-таки поступок. Нельзя сохранять мертвое лицо на фотоснимках. Хотя правда и то, что они напоминают о необычной жизни мастера.
Мастера Сюсая никак нельзя было назвать красивым, а его лицо — утонченным. Скорее оно было худощавым и грубоватым. Красотой не отличалась ни одна из черт его лица. Мочки казались расплющенными, рот был большим, а глаза, наоборот, маленькие. Благодаря долголетней практике, фигура мастера за доской выглядела непоколебимо спокойной, и что-то от этого спокойствия осталось даже на фотографии. Складки сомкнутых век выражали глубокую скорбь, как, впрочем, бывает и у спящих.
Стоило перевести взгляд с лица мертвого мастера на его грудь, как начинало казаться, что перед вами марионетка, у которой есть только голова, а тело задрапировано кимоно с панцирным узором. Это кимоно надели на мастера уже после смерти — оно не было подогнано по фигуре и там, где начинаются рукава, топорщилось. Создавалось впечатление, что тело мастера от груди постепенно сходит книзу на нет. Врач в Хаконэ сказал, что удивляется, как мастеру хватает сил передвигаться. И когда его тело выносили из гостиницы «Урокоя» в машину, по-прежнему казалось, что в гробу находится только голова и грудь. Я впервые увидел Сюсая, когда приехал писать о ходе матча, — уже тогда мне бросились в глаза его крошечные колени. И на фотографиях покойного господствовало лицо. Что-то жуткое было в этой отдельно лежащей голове. Возможно, так казалось потому, что на них было лицо, запечатленное в последний миг драмы, лицо человека, настолько захваченного своим искусством, что оно утратило свои реальные черты. Быть может, я запечатлел на этих снимках лик судьбы человека, отдавшего жизнь служению высшим идеалам. Искусство мастера исчерпало себя в последней партии — ею же завершилась его жизнь.
9
Вряд ли когда-нибудь церемония открытия обставлялась с такой пышностью, как в этом матче. Черные и белые сделали всего по одному ходу, после чего начался банкет.
Еще стоял сезон дождей, но в этот день, 26 июня 1938 года, вдруг выглянуло солнце, и облака были по-летнему легкими. Веранда во дворе павильона Коёкан в парке Сиба была омыта дождем. На редких листьях бамбука поблескивали солнечные лучи.
В парадном углу зала на первом этаже сидели мастер Сюсай Хонинобо XXI и претендент Отакэ, игрок седьмого дана. Слева от мастера Сюсая сидели Сэки-нэ XIII и Кимура. Оба они в разное время имели титул мастера сёги. За ними сидел Такаги, мастер рэндзю[12].
Всего в зале присутствовало четыре мастера. Все они были приглашены на церемонию открытия последнего матча Сюсая Хонинобо. Я, журналист, сидел рядом с мастером Такаги. Справа от Отакэ сидели издатель и главный редактор нашей газеты, секретарь и директор японской Ассоциации го, три престарелых профессионала седьмого дана, судья матча Онода и несколько учеников Сюсая.
Все собравшиеся были в парадных кимоно с гербами. Церемонию открыл главный редактор газеты, который сказал несколько подобающих событию приветственных слов. После его выступления воцарилась тишина — готовили к игре стоявшую посреди зала тяжелую доску. Мастер Сюсай слегка опустил правое плечо — его обычная поза за доской. Какие у него крошечные колени! Рядом с ними даже веер кажется огромным. Отакэ закрыл глаза и тихонько покачивает головой из стороны в сторону.
Мастер Сюсай поднялся и направился к доске. Благодаря вееру он напоминал самурая с коротким мечом со старинной гравюры. Сел за доску. Левую руку сунул за пояс, правую, слегка сжав кулак, поместил под подбородок. Занял свое место и Отакэ. Он поклонился мастеру, взял стоявшую на доске чашу с черными камнями и поставил справа от себя. Поклонившись еще раз, закрыл глаза и застыл неподвижно.
— Начнем? — сказал мастер. Его голос прозвучал негромко, но строго. Это означало «почему вы медлите?». То ли мастера раздражала театральная поза Отакэ, то ли в его словах проявились агрессивность и боевой дух… Отакэ спокойно открыл и снова закрыл глаза.
Позднее, в городе Ито, я узнал, что Отакэ перед игрой читает сутру Лотоса. Вот и сейчас, закрыв глаза, он, должно быть, пытался сосредоточиться. Вдруг раздался резкий стук камня о доску. Первый ход был сделан в 11 часов 40 минут.
Какое начало изберет Отакэ — новое или старое? Куда пойдет: в хоси или в комоку? Все ждали, какой ход он сделает. Первый ход черных был в пункт S16 (комоку), а это означало, что избрано старое традиционное начало. Первая загадка партии была решена.
Мастер смотрел на доску, сложив руки на коленях. Сохранилось много фотографий и кадров кинохроники, запечатлевших этот момент.
Все они изображают залитого ярким светом мастера — его губы так плотно сжаты, что кажутся выпяченными; сидящие вокруг доски люди исчезли в тени. Это была третья игра мастера, которую мне довелось видеть, и я уже знал, что мастер излучает за доской спокойствие, которое таинственным образом как бы охлаждает и очищает воздух вокруг него.
Прошло пять минут, и мастер, видимо забыв о записи хода, рассеянно взял камень, явно собираясь сделать ход.
— Сэнсэй, ваш ход будет только записан, — проговорил, обращаясь к мастеру, Отакэ. — Мне тоже порой кажется, что без поставленного на доску камня игра — не игра.
Сюсай поднялся и в сопровождении секретаря Ассоциации удалился в соседнюю комнату. Закрыв дверь, он записал на бланке свой ход и вложил бланк в конверт. Записанный ход считается недействительным, если его видел кто-нибудь, кроме самого игрока.
Затем мастер снова сел за доску.
— Воды, кажется, нет, — проговорил он и, послюнив два пальца, заклеил конверт.
На месте склейки мастер расписался. Отакэ поставил свою подпись чуть ниже. Этот конверт вложили в другой, большого размера, организаторы матча опечатали его и положили в сейф павильона Коёкан.
На этом церемония открытия закончилась. Обоих участников попросили еще раз сесть за доску, чтобы Кимура Ихэй смог сфотографировать их для заграничных агентств. Когда и это было сделано, все облегченно вздохнули. Несколько пожилых профессионалов подошли к доске и стали обмениваться замечаниями о камнях и доске. Кто говорил, что толщина камней шесть миллиметров, кто — пять, а Кимура, мастер игры в сёги, сказал:
— Камни высшего класса… позвольте потрогать, — и он взял несколько камней.
Кое-кто из профессионалов готов был предоставить для этой выдающейся игры свои прославленные доски.
После недолгого перерыва начался банкет.
Кимуре, мастеру сёги, было тогда тридцать четыре года, мастеру сёги Сэкинэ XIII — семьдесят один год, Такаги, мастеру рэндзю, — пятьдесят один по японскому счету.
10
Сюсай Хонинобо родился в 1874 году и несколько дней назад скромно, как и подобает во время войны, отпраздновал в узком кругу свое шестидесятичетырехлетие. Перед началом второго игрового дня он заметил: «Интересно, кому больше лет? Павильону Коёкан или мне?»
Он рассказал, что в этом зале играли такие, знаменитости прошлого века, как Мурасэ Сюхо, игрок восьмого дана, и мастер Сюэй из династии Хонинобо, к которой он и сам принадлежит.
Игра второго дня велась на втором этаже в зале, выдержанном в стиле конца прошлого века: от раздвижной перегородки до подъемного окна все было украшено изображениями осенних листьев в соответствии с названием: Коёкан — Дворец осенней листвы. Один угол был отгорожен золоченой ширмой, расписанной осенними листьями в духе школы Корина[13]. В нише стояли зеленые листья и маргаритки. Из большого зала в восемнадцать татами[14] была видна другая комната, поменьше, там тоже стоял огромный букет. Было видно, что маргаритки в том букете немного увяли. В зал никто не входил, не считая девушки с короткой стрижкой, которая приносила очередную порцию чая.
Отражение белого веера мастера беззвучно двигалось по черному лакированному подносу, на котором стояла охлажденная вода. Из журналистов присутствовал только я.
Отакэ был одет в кимоно с гербами из двухслойного шелка хабутаэ, поверх которого была накидка-хаори** из полупрозрачного шелка. Сюсай одет сегодня не так парадно. На нем хаори с вышитыми гербами. И доска сегодня другая.
Накануне черные и белые сделали всего по одному ходу — это была церемония открытия, а настоящая игра начинается только сегодня. Отакэ думает сейчас над третьим ходом, он то щелкает веером, то сцепляет руки за спиной, то водружает веер на колено, ставит на него руку и подпирает ладонью щеку. Вдруг я замечаю, что дыхание мастера становится шумным. Он широко разводит плечи и делает глубокие вдохи, но никаких признаков недомогания. Мне показалось, что он внутренне напрягся и сосредоточился, словно в него что-то вселилось. Сам мастер, похоже, не заметил, что с ним происходит.
Все это, однако, длилось недолго. Дыхание мастера постепенно становится таким же тихим и спокойным, как и прежде. Мне пришло в голову, что, возможно, таким образом проявил себя боевой дух мастера, учуявший сражение. А может быть, мне довелось увидеть, как на мастера сошло вдохновение. Или, наконец, это был момент внутреннего сосредоточения и я наблюдал вхождение Сюсая в состояние самадхи, в котором человек отрешается от собственного «я». Как знать, не в этом ли и состоит секрет непобедимости мастера?
Перед тем как сесть за доску, Отакэ церемонно поприветствовал мастера, а потом сказал:
— Сэнсэй, извините, боюсь, что мне придется часто отлучаться во время игры…
Сюсай в ответ проворчал:
— Мне тоже. Я и ночью встаю несколько раз… Это было забавно, потому что характеры Отакэ и мастера были совсем несхожи.
Когда я, да и не только я, работаю за столом, то часто пью чай и бесконечно бегаю в туалет, а иногда со мной случается и «медвежья болезнь». У Отакэ все это было доведено до крайности. Весной и осенью на квалификационных турнирах Ассоциации Отакэ ставил возле себя огромный чайник и большими глотками пил чай. У Цинь-юань[15], игрок шестого дана, излюбленный партнер Отакэ, во время игры тоже часто отлучался в туалет. Я как-то подсчитал: за те четыре-пять часов, которые длится партия, Отакэ вставал больше десяти раз. Иногда можно было видеть, как он еще в коридоре начинает развязывать пояс.
Подумав шесть минут, черные делают третий ход, и тут же:
— Извините, пожалуйста!
Отакэ быстро встал. После пятого хода снова:
— Извините, пожалуйста!
Мастер достал из кимоно сигарету и медленно раскурил ее, думая над пятым ходом. Отакэ то прятал руки в карманы, то скрещивал их перед собой или складывал на коленях, то снимал с доски невидимые пылинки и даже переворачивал поставленный противником белый камень. В том случае, когда лицевая и оборотная стороны белых камней различаются, лицевой считается та сторона раковины хамагури, на которой нет узора, однако на это мало кто обращает внимание. Но только не Отакэ. Когда мастер ставил белый камень оборотной стороной вверх, он аккуратно брал его и переворачивал.
Об игре с мастером Отакэ как-то раз полушутя отозвался так:
— Сэнсэй молчит, и я, хочешь не хочешь, втягиваюсь в молчанку. Какое уж тут настроение.
И еще:
— Для меня чем больше шума — тем лучше. От тишины я устаю.
У Отакэ была привычка во время игры шутить: не всегда удачно, иногда остроумно, но Сюсай делал вид, что не слышит его, и на шутки не отвечал. От подобного «боя с тенью» у Отакэ пропадал задор, и он, играя с мастером, держался тише обычного.
Быть может, достоинство, которое исходит от профессионала за доской, приходит с возрастом, или молодые игроки стали меньше обращать внимание на свои манеры? Как бы там ни было, Отакэ за доской производил странное впечатление: он то и дело подергивался, делал какие-то непонятные жесты. Однако сильнее всего меня поразил как-то один молодой игрок четвертого дана, участник квалификационного турнира Ассоциации. Пока его противник обдумывал ход, он разложил у себя на коленях литературный журнал и как ни в чем не бывало читал какой-то роман. После того как противник делал ход, он ненадолго отрывался от книги и делал ответный ход. Когда же тот начинал думать, снова углублялся в чтение. Говорят, его противник был до предела возмущен подобной бесцеремонностью. Впоследствии я слышал, что этот молодой игрок сошел с ума. Как знать, не проявлялось ли его душевное заболевание уже в той злополучной игре, когда он не мог спокойно ждать ответного хода?
Отакэ и его друг У Циньюань однажды обратились к гадателю с вопросом, что нужно для победы в го? Он ответил им так: «Выключайте сознание, пока противник думает».
Онода, игрок шестого дана, один из судей последнего матча мастера Сюсая, несколько лет спустя, незадолго до своей смерти, вдруг разгромил всех своих противников на большом квалификационном турнире, устроенном Ассоциацией. Его игра была великолепной, я бы даже сказал — пугающе великолепной. И за доской он держался не так, как обычно: при ходе противника тихо сидел с закрытыми глазами. Потом он объяснял, что таким образом старался преодолеть в себе жажду победы. После турнира он попал в больницу, где вскоре скончался от рака желудка, о котором и не подозревал. Кубомацу, игрек шестого дана, у которого одно время учился Отакэ, тоже незадолго до смерти показал выдающиеся результаты на болыиом турнире.
Сюсай и Отакэ были несхожи между собой во всем: они по-разному вели себя в напряженные моменты, разными у них были и неподвижность, и жесты, и реакции, непохожими были выражения лиц. Когда мастер погружался в игру, он, казалось, обо всем забывал. Как развивается партия, обычно можно понять по лицам и поведению игроков, но, глядя на мастера, понять ничего было невозможно. Впрочем, на игре Отакэ его нервозность не отражалась, напротив, она была исполнена силы — таков был его игровой стиль.
Отакэ был тугодум, ему вечно не хватало времени, но, когда он попадал в цейтнот и секундант начинал вести отсчет времени, за считаные минуты он успевал сделать десятки ходов. Его необычайное самообладание в такие минуты действовало на противника устрашающе.
Непоседливость Отакэ, судя по всему, настраивала его на сражение и, вероятно, играла ту же роль, что глубокое дыхание Сюсая. Но когда я глядел на узкие покатые плечи мастера, у меня сжималось сердце, и вовсе не из-за жалости. Я чувствовал себя так, словно украдкой подсмотрел какую-то тайну — приход вдохновения, о чем, кажется, не подозревал и сам мастер.
Когда я впоследствии вспомнил об этом, мои ощущения показались мне надуманными. Кажется, уже тогда у мастера начались боли в груди. Чем дальше продвигалась партия, тем стремительнее развивалась его болезнь. Вероятно, как раз тогда и проявились ее первые признаки. Я не знал, что у мастера больное сердце, и поэтому мое преклонение перед ним, пусть неосознанно, могло представить в моем воображении все именно таким образом.
Впрочем, в то время сам мастер вряд ли что-то знал О своей болезни. Сомневаюсь, что он замечал и то, как он дышит. Но в любом случае по его виду нельзя было догадаться ни о болезни, ни о возможных приступах, и он ни разу не прижал руку к груди, как это делают сердечники.
Над 5-м ходом Отакэ думал 20 минут, на 6-й мастер затратил 41 минуту, впервые надолго задумавшись. Сегодня в четыре часа пополудни нужно было отложить партию. Отакэ свой 11 — й ход сделал без двух минут четыре, и теперь, если мастер за оставшиеся две минуты не сделает ход, партия будет отложена при его ходе.
12-й ход белых мастер записал в 4 часа 22 минуты.
На ясном с утра небе начали понемногу появляться тучи. Эти тучи оказались предвестником сильнейшего ливня, вызвавшего наводнение на огромной территории от Токио до Осака.
11
Вторая встреча в павильоне Кёокан была назначена на 10 часов утра, и тут возникло первое недоразумение, из-за которого начало игры пришлось отложить до двух часов. Я был всего лишь корреспондентом газеты, и происходящее непосредственно меня не касалось, но я заметил какую-то нервозность организаторов; пришло несколько профессионалов из Ассоциации, и у них состоялось что-то вроде «совещания при закрытых дверях».
Утром у входа в павильон Коёкан я столкнулся с Отакэ, который тащил с собой большой чемодан.
— Отакэ-сан с багажом? — спросил я, на что тот с некоторым раздражением ответил:
— Да. Сегодня прямо отсюда едем в Хаконэ.
Я уже знал, что сразу после игры все поедут в Хаконэ, тем не менее Отакэ с большим чемоданом почему-то меня удивил.
Но Сюсай не был готов к отъезду.
— Мы едем? — сказал он. — В таком случае я должен сходить к парикмахеру.
Отакэ расстроился. И дело вовсе не в том, что он готов был продолжать игру до конца, не возвращаясь домой: партия могла затянуться месяца на три. Его расстроило то, что мастер нарушил условия матча, причем неясно было, сообщили ему эти условия в точности или нет. Кроме того, у Отакэ были основания беспокоиться о судьбе матча в целом — строгие условия, выработанные специально для этой партии, на первом же шагу были нарушены. То, что Сюсаю все как следует не объяснили, — явная оплошность организаторов. Однако тогда не нашлось смельчака, который сообщил бы такой высокой персоне, как мастер, об этом досадном промахе, и потому все наперебой принялись уговаривать молодого Отакэ уступить. Но он не стал этого делать.
О том, что отъезд назначен на сегодня, мастер не знал. Теперь ему это стало известно, и все то время, пока люди совещались то в одной, то в другой комнате, пока в коридоре то и дело раздавались шаги, пока искали Отакэ, который куда-то исчез, мастер сидел на своем месте в одиночестве и ждал.
Наконец уже после полудня было достигнуто соглашение: сегодня с двух часов до четырех — игра, а через два дня — отъезд в Хаконэ. Мастер сказал:
— За два часа не разыграешься. Лучше уж играть не спеша в Хаконэ.
Справедливое, но совершенно неосуществимое замечание. Как раз такие реплики мастера и стали причиной многих недоразумений, подобных сегодняшнему. О переносе игрового дня и речи быть не могло. В наши дни игра в го, как и многое другое, регламентирована до предела. То, что для матча выработали регламент, поражающий своей невероятной дотошностью, было сделано специально, чтобы воспрепятствовать старомодному деспотизму мастера и обеспечить партнерам равные условия игры, не давая обладателю титула Хо-нинобо никаких привилегий.
Для матча было принято правило «запирания», а оно-то как раз и требовало, чтобы сегодня же, не заходя домой, противники отправились из Коёкана в Хаконэ.
«Запирание» охраняет чистоту партии и состоит в том, что ее участникам до конца игры запрещено покидать место состязания и встречаться с другими игроками, дабы исключить всякую возможность подсказки. С другой стороны, нельзя не признать, что «запирание» способствует утрате уважения к личности, хотя доверие участников друг к другу при этом возрастает. Более того, поскольку, согласно регламенту, игра проходила каждый пятый день, партия могла растянуться на три месяца и потому возникала опасность вмешательства третьих лиц, а стоит только возникнуть сомнениям, как им уже не будет конца. Конечно, среди профессиональных игроков ценится совесть и соблюдение этикета, так что на играх с откладыванием вряд ли найдется безумец, который рискнет давать советы игрокам, и все же, если нарушения начались, бороться с ними почти невозможно.
В старости Сюсай за десять лет сыграл три серьезных матча, и каждый из них кончался для него болезнью, причем после третьего он умер. Все три матча были доиграны до конца, но из-за болезни мастера первый матч продолжался два месяца, второй — четыре, а третий — последний — целых семь месяцев.
Второй матч был сыгран за пять лет до последнего — в 1930 году[16]. Противником мастера был У Цинь-юань, игрок пятого дана. В середине игры, примерно после 150 ходов, положение белых казалось несколько хуже. И вдруг мастер сделал неожиданный великолепный 160-й ход, который принес ему победу с перевесом в два очка. Тут же распространился слух, будто бы этот «божественный» ход нашел ученик мастера Маэда, игрок шестого дана. Так оно было на самом деле или нет — неизвестно. Маэда все отрицал. Партия растянулась на четыре месяца, и ученики мастера, конечно же, внимательно ее изучали. Вполне возможно, что великолепный 160-й ход действительно отыскал Маэда. А если ход оказался таким сильным, то кто-то, пусть даже не сам Маэда, мог сообщить о нем мастеру. Но мастер, разумеется, мог найти этот ход самостоятельно. Как все было на самом деле, никто, кроме мастера и его учеников, не знает.
Первый из этих матчей был сыгран в 1926 году. Он стал кульминацией соперничества между Ассоциацией игроков в го и другой организацией профессионалов — «Кисэйся». В схватке сошлись предводители этих организаций — мастер и Кариганэ, игрок седьмого дана. В течение двух месяцев, которые длился этот матч, его наверняка тщательно изучали игроки обоих лагерей, но мне неизвестно, давали они советы играющим или нет. По-моему, подсказок не было. Строгость мастера во всем, что связано с его искусством, должна была заставить советчиков молчать.
Но и во время третьего, последнего матча, когда мастер попал в больницу и игра была прервана, не обошлось без слухов. Поговаривали, что мастер ведет какую-то интригу. Я был свидетелем матча от начала до конца, и меня эти сплетни изрядно возмущали.
После трехмесячного перерыва игра была продолжена в Ито. В первый день Отакэ думал над своим первым ходом 211 минут, то есть три с половиной часа. Организаторы матча были поражены. Он думал с 10.30 утра вплоть до часового перерыва на обед. После обеда над доской зажгли свет, осеннее солнце стояло довольно низко. Без двадцати три черные сделали, наконец, 101-й ход.
— Это тоби[17] можно было сделать за минуту, что-то я поглупел. Голова ничего не соображает, — сказал Отакэ с облегчением и засмеялся — три с половиной часа он думал, что делать: прыгать на R13 или продлеваться[18] на R12.
Мастер усмехнулся, но ничего не ответил.
Отакэ сказал правду: даже для нас 101-й ход был очевидным. Игра уже перешла в стадию ёсэ, то есть окончания. Белые образовали в правом нижнем углу большой мешок, и для вторжения в него черные имели, пожалуй, единственную точку — ту, куда был сделан 101-й ход. Кроме прыжка через один пункт черные могли продлиться, и, хотя колебания в выборе можно было понять, в конечном счете разница была невелика.
Почему же Отакэ не сделал столь очевидный ход сразу? Даже я, посторонний наблюдатель, устал ждать и начал уже злиться, но потом меня охватили сомнения. А что, если он тянет специально? Что, если это — тактический ход? Спектакль? Основания для таких подозрений были. Дело в том, что партия была прервана на три месяца. Неужели Отакэ за это время не успел проанализировать позицию? Незадолго до сотого хода черные и белые камни сблизились и начались мелкие локальные стычки: противники сошлись вплотную. Конечно, можно было еще найти ходы, достаточно сильные с точки зрения ёсэ, но все-таки проанализировать все варианты до конца было пока невозможно. Ни об одном из них нельзя было судить наверняка, а вариантов было множество. Но, несмотря на это, Отакэ вряд ли не изучал эту партию во время перерыва^ ведь над 101-м ходом он мог думать три месяца. И вдруг ему зачем-то понадобились еще три с половиной часа! Не маскировка ли это трехмесячного анализа? Столь долгое раздумье показалось подозрительным не только мне, но и организаторам матча и наводило на нехорошие мысли.
Даже мастер, когда Отакэ вышел из зала, тихо проговорил: «Ишь, какой въедливый!» Не знаю, как в тренировочных, но в серьезных играх Сюсай не позволял себе подобных высказываний в адрес противника. Кстати, Ясунага, игрок четвертого дана, близко знакомый и с мастером, и с Отакэ, сказал:
— По-моему, ни мастер, ни Отакэ не анализировали эту партию во время перерыва. Отакэ — человек педантичный до странности, он не стал бы анализировать игру, пока мастер лежит в больнице.
Возможно, так оно и было. А может быть, Отакэ потратил три с половиной часа не столько на 101-й ход, сколько на то, чтобы снова вжиться в эту партию, проникнуться ее духом, обдумать общее положение сторон и, насколько это возможно, наметить стратегию на будущее?
12
Сюсай в последнем матче впервые столкнулся с новыми правилами — с записью хода. При возобновлении игры на второй день из сейфа павильона Коёкан достали запечатанный конверт, игроки в присутствии секретаря Ассоциации убедились, что печати целы, после чего игрок, записавший ход, показал запись партнеру и сделал ход на доске. Точно такая же процедура повторялась в Хаконэ и, позднее, в Ито. Противник не должен был знать записанный ход.
По древнему обычаю, партию откладывали при ходе белых. Этим выражали почтительность по отношению к более сильному игроку, который обычно играл белыми и таким образом получал некоторое преимущество. Недавно, чтобы устранить такого рода неравенство, решили откладывать игру в назначенное время, например в пять часов, и последним делал ход тот игрок, который в это время думал над ним. Затем сделали еще один шаг и стали этот последний ход записывать.
В го, разумеется, лишь воспроизводили систему, которую уже давно применяли в сёги. Если ход противника известен, над своим ответом можно думать до следующей встречи, причем время на обдумывание может составлять несколько дней, которые не входят в контрольное время. Новые правила откладывания, как надеялись, помогут в какой-то степени уравнять противников.
Нельзя сказать, что последняя партия давалась мастеру легко и что он не пострадал от рационализма наших дней. Ведь сейчас игра до мелочей регламентирована, исчезло изящество го как искусства, утрачено почитание старших, да и взаимное уважение людей как будто уменьшилось. Прекрасные японские и вообще восточные обычаи забылись даже в го — всё сейчас рассчитывают, всё обставляют всевозможными правилами. Переход в следующий дан, который изрядно влияет на жизнь профессионала, подчинен ныне мелочной системе набора очков. В го воцарилась тактика, которую можно назвать «победа любой ценой»; над красотой игры, над вкусом думать стало некогда. Сегодня господствует стремление играть во что бы то ни стало на равных, даже если твой противник — мастер, и дело здесь вовсе не в Отакэ. Ведь го не только искусство, это еще и борьба, соревнование, и поэтому такой ход событий, вероятно, неизбежен.
Мастер Сюсай Хонинобо более тридцати лет не играл черными, он был первым, и возле него не было второго. При жизни мастера ни один из его соперников не поднялся до восьмого дана. Игроков своего поколения Сюсай полностью превзошел, и в следующем поколении не нашлось человека, способного с ним соперничать.
Колоссальным авторитетом Сюсая Хонинобо, должно быть, объясняется то, что и сейчас, через десять лет после его смерти, в мире го так и не решено, как должен наследоваться титул мастера. Сюсай был, пожалуй, последним из мастеров, которые почитали традицию го как образ жизни и искусства.
В сёги борьба за титул мастера показывает, что главным стали считать превосходство, а сам титул превратился в своеобразный «знак силы», в разыгрываемый участниками соревнований товар. Правда, мастера Сюсая тоже, пожалуй, можно обвинить в том, что он продал свою последнюю партию газете, причем за немалые деньги, пусть даже он не столько стремился к этому, сколько позволил газете втянуть себя. А может быть, все это просто означает, что пожизненная система, при которой, однажды достигнув титула мастера, человек оставался мастером до конца своих дней, система мастерских разрядов — данов и ученических — кю[19], как и система выдачи дипломов главами семейных школ, образующих замкнутый круг, система множества направлений в искусстве го — рухнула, как рухнули и прочие пережитки феодальной эпохи в Японии. Возможно, если бы мастеру Сюсаю пришлось защищать свой титул ежегодно, как это делают сейчас игроки в сёги, он умер бы раньше.
В старину, став мастером, игрок опасался за свой авторитет и, играя тренировочные партии, официальных встреч с соперниками старался избегать. Кажется, ни один из прежних мастеров не играл серьезной, официальной партии в возрасте 65 лет. Зато в буду идем вряд ли потерпят мастера, который не играет. Сюсай Хонинобо находился как раз на границе между старой и новой эпохами, какой бы смысл в эти слова ни вкладывать. Он пользовался духовным авторитетом, как мастер старых времен, и вместе с тем имел все материальные выгоды, доступные в наши дни. Свою последнюю партию мастер играл как раз во время борьбы «идолопоклонников» с «иконоборцами», возвышаясь над схваткой подобно чудом уцелевшему старинному идолу.
К тому же Сюсаю выпало счастье родиться в эпоху бурного развития страны после революции Мэйдзи. Взять, например, У Циньюаня. Ему не довелось встретиться с такими испытаниями, с которыми столкнулся в годы учебы мастер Сюсай. Допустим даже, что его талант выше, чем у мастера, — все равно, вряд ли он, один человек, может олицетворять собой современную игру. Имя Сюсая блистало в турнирах на протяжении трех эпох — Мэйдзи, Тайсё и Сева[20], с его именем связан нынешний расцвет го. Это имя вообще олицетворяло игру в го. Так как старый мастер венчал последней партией свою карьеру, она должна была стать шедевром, вызывающим восхищение, скрасить его уход, продемонстрировать торжество рыцарского духа, очаровать элегантным артистизмом. И тем не менее мастеру пришлось подчиниться общим правилам.
Когда устанавливается какой-либо закон, немедленно возникает желание его обойти. Если ввести правила, призванные стать преградой нечестной игре, среди молодых профессионалов наверняка найдутся такие, кто постарается использовать их нечестно. Все пойдет в ход — и контроль времени, и откладывание, и запись хода. По этой причине игра перестает быть чистым произведением искусства. Сюсай, садясь за доску, рисковал стать жертвой: ведь он совершенно не знал современных «технических уловок».
Мастер привык играть так, как было принято раньше, — используя преимущества своего высокого положения, когда старший, дождавшись выгодного для себя положения на доске, откладывает партию при своем ходе, причем сам назначает день доигрывания. Не было раньше и контроля времени. И все те вольности, которые были позволительны мастеру, противостояние которым закалило молодого Сюсая, вряд ли можно представить себе в наши дни.
Однако приверженность мастера к старомодному своеволию и его нежелание играть по новым правилам были всем известны. К тому же в матче с У Цинь-юанем, когда из-за болезни Сюсая партию пришлось отложить в невыгодном для него положении, дело дошло до сплетен. Вот почему на этот раз молодые профессионалы установили жесткий регламент и постарались ограничить привилегии мастера. Этим регламентом не занимались ни Отакэ, ни сам Сюсай.
Чтобы определить претендента на встречу с мастером, был проведен турнир с участием обладателей высших титулов в Ассоциации игры в го, а регламент встречи разработали еще до начала турнира. Отакэ, как представитель Ассоциации, старался приучить к этому регламенту мастера. Впоследствии, когда из-за болезни мастера возникали всевозможные осложнения, Отакэ то и дело угрожал бросить партию. Это выглядело нарушением обычая почтительного отношения молодого игрока к старому мастеру, недостатком сочувствия к больному человеку и вообще слабо обоснованной позицией. И хотя все это ставило организаторов партии в крайне трудное положение, у Отакэ находились в свое оправдание веские доводы. Правда, возникала опасность, что, позволив одну поблажку, придется позволить еще сотню, что благодушие, которое делает человека снисходительным, чего доброго приведет его к поражению. Такое благодушие, пожалуй, в серьезной игре не очень уместно. Отакэ, который решил выиграть любой ценой, не мог допустить, чтобы партнер навязывал ему свою волю. Мне порой даже казалось, что Отакэ при каждом проявлении своевольного характера своего противника с удвоенной силой настаивал на соблюдении регламента именно потому, что его противником был сам мастер.
Конечно, околотурнирная борьба и игра за доской — вещи разные. Разумеется, приходилось принимать в расчет все — и отведенное на игру время, и характер противника — и, уступая в мелочах, беспощадно сражаться за доской. Но, судя по всему, Сюсаю достался неудобный в этом смысле противник.
13
В спортивном мире болельщики склонны переоценивать реальную силу своих кумиров. Противоборство равных соперников, разумеется, тоже вызывает интерес, но разве не сильнее желание болельщиков следить за деяниями «сверхчеловека»? Грандиозная фигура НЕПОБЕДИМОГО МАСТЕРА одиноко возвышалась над прочими игроками в го. Сюсай Хонинобо уже не однажды участвовал в матчах, где на карту ставилась его судьба, и в таких матчах ни разу еще не проиграл. Его игра была мощной и до того, как он стал мастером, а игры, которые он вел, получив титул, уверили всех в его непобедимости. То, что он сам в нее верил, более того, хотел верить, — лишь усугубляло трагедию. По сравнению с Сэкинэ, мастером сети, который легко переносил поражения, мастер Сюсай вел более трудную жизнь. Известно, что в го у того, кто ходит первым, примерно семь шансов на победу из десяти, поэтому в проигрыше игравшего белыми мастера нет ничего удивительного, но широкой публике подобные тонкости понять трудно.
Дело здесь не только в огромной награде за победу, назначенной газетой «Нити-нити симбун». Сюсай придавал большое значение этой встрече самой по себе, жаждал победы и был настроен на боевую игру. Если у него и были какие-то сомнения, он вряд ли позволил бы им проявиться. Так или иначе, но с развенчанием непобедимости мастера, казалось, должна была закончиться и его жизнь. Он жил верой в свою необычную судьбу, и, пожалуй, можно сказать, что на этот раз его покорность судьбе сменилась противоборством с ней.
Как раз в тот момент, когда «безупречный мастер своего дела», «непобедимый мастер» после пятилетнего перерыва вновь вышел на сцену, изменился существовавший с незапамятных времен регламент проведения матчей. Когда вспоминаешь все это по прошествии времени, начинает казаться, что этот мелочный, но неодолимый регламент был творением посланца ада, а то и самого ангела смерти.
Случилось то, чего и следовало было ожидать. Условия матча были нарушены Сюсаем уже на второй день, в павильоне Коёкан, и вновь нарушены по прибытии в Хаконэ.
На третий день после павильона Коёкан, 30 июня, все должны были выехать в Хаконэ, однако из-за наводнения, вызванного ливневыми дождями, отъезд перенесли на 3 июля, а затем отложили до восьмого. Район Канто был затоплен, пострадал и район Кобэ. Даже в августе железнодорожная линия Токайдо была восстановлена не полностью.
Я жил в Камакура, поэтому пересел на речном вокзале на поезд, в котором ехал мастер. Поезд отправлялся из Токио в 3.15 и шел в Маибара. В Камакура он пришел с опозданием на 9 минут. В Хирацука, где жил Отакэ, поезд не останавливался, поэтому тот ждал его в Одавара. Едва состав остановился, как появился Отакэ — в синем летнем костюме, в панаме с опущенными спереди полями. С ним был все тот же большой чемодан, с которым он приходил в павильон Коёкан и в котором было все необходимое для отшельнической жизни в горах. Войдя в вагон, он сразу же заговорил о наводнении.
— Спасателям пришлось добираться до сумасшедшего дома, что расположен неподалеку от меня, на лодках. Сначала в ход пошли даже плоты.
От Мияносита до Огасима мы спускались на фуникулере, внизу бушевал мутный поток реки Хаякава. Гостиница «Тайсёкан» стояла на участке, который превратился в островок. Едва нас расселили по номерам, как Отакэ отправился к мастеру с приветствием по всем правилам этикета:
— Сэнсэй, вы, должно быть, очень устали с дороги.
В тот вечер Сюсай выпил немного сакэ и говорил, живо жестикулируя. Отакэ вспоминал о своем детстве. Немного спустя мастер предложил мне сыграть в сёги, но, заметив мои колебания/тут же сказал:
— Ну ладно, раз не хотите. А как вы, Отакэ-сан? Партия в сёги заняла около трех часов, выиграл Отакэ.
Утром парикмахер брил мастера в коридоре возле ванной комнаты. Вероятно, Сюсай готовился к завтрашнему сражению. Стул для бритья взяли первый попавшийся, на нем не было подголовника, какие бывают на парикмахерском кресле, поэтому жена мастера стояла позади и поддерживала его затылок.
Вечером приехали судья матча Онода и секретарь Ассоциации Явата, и мы сели играть в сёги и нинуки.
В нинуки — игре, которую называют также корейским гомоку, — мастеру не повезло, он проиграл несколько партий подряд и сказал, обращаясь к Оноде:
— Онода-сан силен, очень силен… — и поцокал языком.
Я сыграл партию в го с корреспондентом нашей газеты «Нити-нити симбун» Гои. Онода вел запись. Игрок шестого дана в роли секунданта — такой чести не удостаивался даже мастер! Я играл черными и выиграл с перевесом в пять очков. Потом эту партию опубликовал «Путь го», журнал Ассоциации.
За день все отдохнули от трудной дороги в Хаконэ. 10 июля должно было наконец начаться доигрывание. В этот день Отакэ казался совсем другим человеком. Он поджимал губы, раздраженно передергивал плечами, чаще, чем обычно, ходил по коридору, стараясь настроиться на игру. Его маленькие глаза с припухшими веками горели вызовом.
И тут от мастера поступило неприятное известие. Он заявил, что обе ночи плохо спал из-за шума реки. Его уговорили сесть за доску, которую отнесли в самый дальний номер гостиницы, где шум реки был не такой сильный, — нужно было сфотографировать противников для газеты, — но он дал нам понять, что гостиницей недоволен.
Вообще говоря, из-за таких пустяков, как недосыпание, игровой день не переносят. Профессиональные игроки в го строго соблюдают игровые дни — даже если умирают их родители, даже если они падают на доску от болезни. Примеров тому немало и в наши дни. Подобное заявление утром в день доигрывания было поступком недостойным, тем более для почитаемого всеми мастера. Конечно, для него это была очень важная партия, но не менее важной она была и для Отакэ.
И случай в павильоне Коёкан, и последний инцидент — все это были попытки нарушить регламент матча. Никто из его организаторов не имел непререкаемого авторитета, никто не мог приказывать мастеру и тем более заставить его подчиниться. Поэтому Отакэ забеспокоился, как пойдут дела дальше. Несмотря на это, Отакэ, ничуть не изменившись в лице, мужественно снес каприз мастера и только сказал:
— Это я выбрал гостиницу. В том, что сэнсэй не смог уснуть, — моя вина. Давайте переберемся в другое место, сэнсэй выспится как следует, а доигрывать начнем завтра, прошу вас.
Отакэ раньше бывал в Догасима и останавливался в этой гостинице. Он решил, что она подходит для игры, и остановил свой выбор на ней. Но из-за ливней в реке прибыло столько воды, что ее шум напоминал перекатывание огромных камней. В гостинице на островке посреди реки заснуть и впрямь было трудно. Сознавая свой промах, Отакэ чувствовал себя виноватым перед мастером.
И теперь я смотрел на спину Отакэ, одетого в легкое гостиничное кимоно, — в сопровождении корреспондента Гои он отправился искать гостиницу потише.
14
Утром все перебрались в гостиницу «Нарая». На следующий день, 11 июля, во флигеле гостиницы «Нарая» после двенадцатидневного перерыва игра возобновилась. С этого дня мастер целиком погрузился в игру, никакого своеволия больше не проявлял и был совершенно безропотен, словно отдал во власть игры всего себя.
Судей в последнем матче было двое — Оно-да и Ивамото, оба игроки шестого дана. Ивамото приехал одиннадцатого числа в час дня из Токио и, расположившись в кресле на веранде, рассматривал горный пейзаж. Согласно календарю, в этот день заканчивался сезон дождей, и с утра и в самом деле появилось солнце, на влажной земле шевелились тени от листвы деревьев, а в водоеме во дворе поблескивали золотые рыбки. Но когда началась игра, небо снова потемнело. Дул легкий ветерок, от которого чуть заметно колебались стебельки стоявшей в нише икэбаны. Сквозь шум реки и маленького искусственного водопада в парке слышался слабый стук — это работал каменотес. Комнату наполнял запах лилий из сада. Тишину зала, в котором шла игра, то и дело нарушала какая-то пичужка, порхавшая возле стрехи. В этот день было сделано 16 ходов — от 12-го до 27-го, который записали.
Через четыре дня, 16 июля, состоялось второе в Хаконэ доигрывание. В этот день девушка-секретарь сменила свое дешевое темно-синее в белый горошек кимоно на шелковое, выглядевшее по-летнему.
Хотя помещение называлось флигелем и стояло в том же саду, что и главный корпус, их разделяло расстояние примерно в квартал. У меня до сих пор перед глазами одинокая фигура Сюсая, бредущего по дороге к главному корпусу, куда мы ходили на обед. Мне редко доводилось смотреть на него сзади. За воротами флигеля дорога шла в гору. Чуть согнувшись, мастер поднимался по ней. На его маленьких ладонях, сцепленных за спиной, была заметна густая сеть мелких жилок.
Верхняя половина тела, несмотря на небольшой наклон, казалась неподвижной, а ноги — еще более худыми и ненадежными, чем на самом деле. Дорога была широкой, с одной ее стороны рос карликовый бамбук, из чащи которого доносилось журчанье ручья. Вот, собственно, и вся картина. Однако одинокая фигура мастера навевала какое-то глубокое чувство, от которого у меня навернулись слезы. В фигуре мастера, только что вставшего из-за доски и неспешно шагавшего по дороге, было тихое, печальное очарование не от мира сего. Я подумал, что к нему подходят слова «последний из людей эпохи Мэйдзи».
Вдруг Сюсай остановился и, глядя в небо, хрипло прошептал: «Ласточка, ласточка…»
Он стоял перед камнем с надписью, что в гостинице изволил останавливаться император Мэйдзи. Над камнем раскинула свои ветви индийская сирень, но цветов на ней еще не было. В старину гостиница «Нарая» предназначалась только для «благородных особ».
Следом за мастером шагал Онода — он чуть отставал, как бы не желая навязывать ему свой темп. Над прудом виднелась дорожка из выступающих над водой камней, по ним можно было перейти на другой берег. Как раз в это время на камнях стояла жена мастера, которая вышла его встречать. Каждый раз утром и вечером она провожала Сюсая до здания, где шла игра, и, когда по ее расчетам мастер садился за доску, быстро уходила. Когда наступало время обеда или партию откладывали, она приходила к пруду встречать его.
Я смотрел на идущего впереди мастера, и у меня возникло ощущение, будто бы он лишился какого-то внутреннего равновесия. Казалось, он еще не очнулся от игры — его прямое туловище пребывало в том же положении, что и за доской, а ноги двигались сами по себе, и это вызывало тревогу. Как будто в пустоте плывет некое воплощение высокого духа. Мастер думал о чем-то своем, но его фигура была совершенно такой же, как во время игры. Так иногда в комнате остается аромат цветов, которых в ней уже нет.
Хриплый голос Сюсая и слова «ласточка, ласточка» только сейчас натолкнули меня на мысль, что мастер в ту пору еще не выздоровел. Потом такое случалось с ним часто. Возможно, трогательность его фигуры в тот день и положила начало возникшей у меня привязанности к нему.
15
21 июля, в день третьего доигрывания в Хаконэ, я обратил внимание на печальное лицо жены Сюсая. Моя догадка подтвердилась: мастер был болен.
— Знаете, — сказала она, — у него здесь какая-то тяжесть… — и показала на грудь. — Начиная с весны уже несколько раз болело в этом месте.
Я узнал от нее, что у мастера пропал аппетит; накануне он отказался от завтрака, а в обед съел всего-навсего ломтик поджаренного хлеба и выпил чашку молока.
В тот день я заметил, как подрагивают впалые щеки Сюсая — неподвижность выступающего подбородка подчеркивала малейшее их движение. Я подумал, что он, как и все мы, устал от изнурительной жары.
Погода стояла сырая, хотя сезон дождей миновал, и лето запаздывало, но, начиная с 20 июля, первого летнего дня по лунному календарю, наступили жаркие дни. 21 июля прозрачная дымка затянула небо и горы, парило так, что не вспорхнула ни одна из черных бабочек куроагэха. Бабочки сидели на тигровых лилиях перед верандой. На каждом стебле у этих лилий было по пятнадцать-шестнадцать цветков. В саду, сбившись в стаю, каркали вороны. Все, даже девушка-секретарь, размахивали веерами. За все время игры такая жара стояла впервые.
— Ну и жарища… — Отакэ промокнул лоб бумажной салфеткой, вытер ею волосы. — И игра здесь тоже погорячее, ведь мы в горах… Горы Хаконэ…
Хребет Поднебесной — Горы Хаконэ…
Отакэ думал над 59-м ходом 3 часа 35 минут. Он стал обдумывать его еще до обеда, а сделал, когда обед давно уже кончился.
Сюсай заложил правую руку за спину и рассеянно пощелкивал веером в левой руке, которой опирался о подлокотник. Время от времени он рассматривал двор. Похоже, он чувствовал себя как дома и не очень страдал от жары. Усилия молодого Отакэ были заметны даже постороннему наблюдателю вроде меня, а мастер был спокоен, словно происходившее здесь лично его не касалось.
Впрочем, и у мастера на лице выступил пот. Вдруг он взялся руками за голову, затем прижал ладони к щекам.
— В Токио сейчас хорошо, — проговорил он. Немного помедлив, он вновь открыл рот, словно хотел что-то еще сказать, но неопределенно махнул рукой, мол, и не такую жару видал.
— М-да, стоило нам съездить на озеро, как тут же наступила жара, — отозвался Онода, недавно приехавший сюда из Токио. 17 июля, после первого дня доигрывания, мастер, Отакэ, Онода и другие большой компанией ездили рыбачить на озеро Аси.
После того как Отакэ сделал 59-й ход, занявший уйму времени, следующие три хода, словно раскаты эха, не заставили себя ждать, ибо были вынужденными для обеих сторон, после чего положение в верхней части доски стабилизировалось. Для очередного хода у черных имелся большой выбор, сделать его было нелегко, но Отакэ перенес игру в нижнюю часть, и 63-й ход занял у него не больше минуты. Похоже, это была давно задуманная комбинация, возможно, с далеким прицелом — провести разведку в зоне влияния белых в нижней части, а потом вновь продолжить игру в верхней и провести там атаку, и такую острую, на которую был способен только Отакэ. Стук камней о доску был очень энергичным, словно партнеры нетерпеливо делали долгожданные ходы.
— Хорошо, что жара чуть-чуть спала, — проговорил Отакэ, быстро встал и вышел из комнаты. Еще в коридоре он снял с себя верхние парадные штаны-хакама[21], а когда вновь вошел в комнату, штаны красовались на нем задом наперед.
— Была хакама — стала макаха, — пошутил Отакэ, тут же переодел штаны и крестообразным узлом искусно завязал пояс. Но вскоре снова побежал в туалет. Вернувшись и усевшись на свое место, он старательно протер салфеткой очки и сказал:
— За игрой раньше начинаешь ощущать, что наступила жара.
Сюсай ел мороженое. Было три часа дня. После 63-го хода черных он задумался на двадцать минут; видно, этот ход оказался для него неожиданным.
О том, что во время игры Отакэ часто отлучается по малой нужде, он предупредил мастера еще в самом начале игры в павильоне Коёкан. В прошлый раз, 16 июля, он выходил так часто, что мастер удивился:
— Что с вами? Вы чем-нибудь больны?
— Знаете, почки… слабые нервы… Только начну думать — и тут же тянет.
— Надо поменьше пить чай.
— Надо бы. Но стоит задуматься, как тут же хочется пить, — проговорил Отакэ и снова вскочил, бросив на ходу: — Извините, пожалуйста.
Эта слабость Отакэ была любимым «коньком» юмористов и карикатуристов из журнала Ассоциации го. Как-то даже написали, что за одну партию Отакэ проходит расстояние от Токио до станции Мисима на старом тракте Токайдо.
16
Откладывая партию, прежде чем встать из-за доски, партнеры долго выясняли, сколько ходов они сегодня сделали и сколько времени потратил каждый из них. Уже тогда чувствовалось, что мастер плохо схватывает ситуацию.
16 июля в 4 часа 3 минуты Отакэ записал 43-й ход. Когда же заговорили о том, что сегодня партия продвинулась на 16 ходов, мастер засомневался:
— Шестнадцать ходов? Разве?
Записывающая ходы девушка подтвердила, что сделано 16 ходов — с 28-го хода по 43-й. То же самое сказал противник мастера — Отакэ. Игра еще не покинула начальной стадии, на доске стояло всего 43 камня. Все было ясно с первого взгляда, и, хотя уже двое сказали, что было сделано 16 ходов, мастер, казалось, не мог в это поверить и стал пересчитывать поставленные сегодня камни, дотрагиваясь до каждого пальцем. Но и это, похоже, его не убедило.
— Если ставить их с самого начала, я бы понял, — проговорил он.
Вдвоем с Отакэ они убрали камни, поставленные в тот день, и стали по одному возвращать их на доску.
— Первый ход.
— Второй.
— Третий…
И так до 16-го хода, пока не выставили все камни.
— Шестнадцать ходов… Неужели так много? — как-то растерянно прошептал мастер.
— Сэнсэй быстро играет, — подхватил Отакэ.
— Я?! Вовсе нет!
Сюсай с отсутствующим видом продолжал сидеть за доской. Он и не пытался встать, и никто из присутствующих не осмеливался первым покинуть свое место. Немного погодя Онода сказал:
— Может сходим куда-нибудь? Развеемся?
— Давайте лучше сыграем в сёги, — сказал Сюсай, словно очнувшись. И рассеянность, и веселье мастера не были напускными.
Профессиональный игрок в го прекрасно помнит всю партию, а не только какие-то 16 ходов, сыгранные за день. И за обедом, и во сне он помнит все ходы до единого. Возможно, пунктуальный характер мастера не позволял ему успокоиться, пока он сам не выставит все камни. А быть может, свою роль сыграла его осторожность. Даже в этой старческой дотошности чувствовалась натура человека одинокого и не очень счастливого.
Спустя четыре дня, 21 июля, на пятом доигрывании было сделано 22 хода — с 44-го хода по 65-й, который и был записан.
Когда процедура записи закончилась, мастер спросил у девушки-секретаря:
— Сколько я сегодня потратил времени?
— Один час двадцать девять минут.
— Так много?
Сюсай явно был в замешательстве. Хотя на сделанные сегодня 11 ходов он потратил времени на семь минут меньше, чем его противник на один 59-й ход (1 час 35 минут), все равно было видно, что он оценивал расход времени иначе.
— Неужели так много… вы же быстро играете, — проговорил Отакэ.
Мастер повернулся к девушке.
— Боси?
— Шестнадцать минут, — ответила девушка.
— Цукэ-атари?
— Двадцать.
— А цуги?[22] — вмешался Отакэ. — Цуги заняло больше всего времени.
— Пятьдесят восьмой ход? — Девушка заглянула в протокол и ответила: — Тридцать пять минут.
Но мастер по-прежнему не верил. Он взял у девушки протокол и долго изучал его.
Стояло лето. Большой любитель ванны, я всегда старался после игры первым попасть в ванную комнату, но в тот день одновременно со мной там оказался Отакэ.
— Сегодня вы неплохо продвинулись, — заметил я.
— Сэнсэй быстро играет и к тому же без ошибок. Кому дано — тому прибавится. По всему видать, игра закончена. — Отакэ усмехнулся.
Но он и не думал сдаваться. С игроками за пределами игрового зала Отакэ встречаться не любил. В те дни у него был такой вид, будто он принял какое-то важное решение. Возможно, задумал и рассчитал какую-то жестокую атаку.
— Мастер быстро играет? — удивился судья Онода.
— С такой скоростью можно играть на квалификационном турнире в Ассоциации — вполне уложились бы в одиннадцать часов. Впрочем, трудновато, — сказал Отакэ. — А это боси^. Такой ход быстро не сделаешь…
Расход времени при четвертом доигрывании был таков: белые потратили 4 часа 38 минут, черные — 6 часов 52 минуты; после пятого доигрывания, 21 июля: белые потратили 5 часов 57 минут, черные — 10 часов 28 минут. Разница в расходе времени все увеличивалась.
31 июля, после шестого доигрывания, расход времени у белых составил 8 часов 32 минуты, у черных -12 часов 43 минуты. После седьмого доигрывания 5 августа белые потратили 10 часов 31 минуту, черные — 15 часов 45 минут.
Однако после десятого доигрывания 14 августа разрыв несколько сократился: у белых — 14 часов 58 минут, у черных — 17 часов 47 минут. В тот день при откладывании мастер записал свой сотый ход, сразу после чего его положили в больницу Святого Луки. При доигрывании 5 августа, когда мастер обдумывал свой 90-й ход, он почувствовал вдруг боль и, превозмогая ее, потратил на этот ход 2 часа 7 минут.
Когда 4 декабря партия была завершена, разница в расходе времени между партнерами оказалась на удивление большой: мастер Сюсай потратил на игру 19 часов 57 минут, Отакэ — 34 часа 19 минут.
17
19 часов 57 минут — почти такое же время, которое отводится обоим игрокам на одну обычную партию. А ведь мастер не использовал и половины! У Отакэ после затраченных 34 часов 19 минут в запасе оставалось около 6 часов.
В этой партии роковым оказался 130-й ход Сюсая, который и привел его к поражению. Если бы не этот ход, игра шла бы на равных или с минимальным перевесом одного из противников. Однако в трудном положении оказался бы Отакэ, и он наверняка бы израсходовал свой сорокачасовой лимит. После злополучного 130-го хода перед черными забрезжила надежда.
И Сюсай, и Отакэ принадлежали к породе упрямых и терпеливых тугодумов. Хладнокровие, с которым Отакэ расходовал почти все отпущенное ему время, а потом за какую-нибудь минуту делал сотню ходов, могло испугать любого противника. В свою очередь, мастер не привык к ограничениям, которые накладывает контроль времени, и вряд ли владел искусными приемами его использования. Вероятно, сорокачасовой лимит ввели специально для того, чтобы свою последнюю в жизни официальную партию он мог играть без оглядки на время.
И раньше в официальных играх с участием мастера лимит времени бывал чересчур велик. Во встрече с Ка-риганэ, игроком седьмого дана, в пятнадцатом году эпохи Тайсё (1926 год) каждому из игроков было отведено по 16 часов, и Кариганэ просрочил время. Впрочем, мастер все равно выиграл бы с перевесом в 5–6 очков. Игра еще не была окончена, а уже поговаривали, что Кариганэ пора сдаваться. В матче с У Цинь-юанем каждый из партнеров имел по 24 часа.
Однако 40 часов, отведенные каждому из партнеров в последнем матче, не шли ни в какое сравнение даже с этими огромными лимитами и в четыре раза превышали обычную для профессионалов норму. Сама идея контроля времени превращалась тем самым в фикцию.
Если предположить, что побивший все рекорды сорокачасовой лимит был предложен самим Сюсаем, это означало бы, что он добровольно взвалил на себя тяжкий груз. В конце концов мастер заболел, но был вынужден, жестоко страдая от болей, терпеть многочасовые раздумья противника, который израсходовал более 34 часов.
В том, что доигрывания были назначены на пятый день, угадывалось желание устроителей пощадить престарелого мастера, но это желание сослужило ему плохую службу. Допустим, оба партнера израсходуют свои лимиты времени полностью — это составит 80 часов. Первоначально предполагалось играть по 5 часов в день. Значит, потребуется 16 доигрываний. Если бы расписание игр соблюдалось до конца, партия растянулась бы на три месяца. Но какая нелепость — рассчитывать, что игрок сможет равномерно распределить свои силы на три месяца и столь долгое время пребывать в постоянном напряжении! Подобная нагрузка сломит даже самого сильного игрока. Ведь на протяжении всей игры оба противника помнят позицию на доске, будь то во сне или наяву, и думают об игре. Получается, что за четыре дня отдыха игрок не столько набирается сил, сколько устает.
Для больного мастера этот четырехдневный «отдых» оказался дополнительным бременем. И сам Сюсай, и организаторы матча — все хотели закончить игру хотя бы на день раньше, и речь шла вовсе не о том, чтобы угодить мастеру. Все понимали, что он вот-вот сляжет.
Мастер почувствовал себя плохо еще в Хаконэ. Как-то его жена с грустью сообщила мне, что мастер хочет, чтобы все это побыстрее кончилось, кто бы ни стал победителем.
— Никогда в жизни он не говорил ничего подобного, — промолвила она.
А в другой раз, опустив глаза, сказала одному из организаторов:
— Пока тянется эта партия, он не поправится. По-моему, если прекратить игру, ему сразу станет легче. Но разве он сможет изменить своему искусству?.. Извините, не следует принимать мои слова всерьез. Просто когда тяжело, всякое в голову лезет…
Это были откровенные слова. Вероятно, мастер нередко слышал их во время семейных разговоров, но он-то уж во всяком случае был не из тех, кто стонет и жалуется. За пятидесятилетнюю карьеру профессионального игрока он одержал благодаря своей выдержке немало побед. И уж конечно, мастер никогда не выставлял напоказ свою боль и страдание.
18
Как-то раз, когда игру перенесли в Ито, я спросил мастера, собирается ли он после окончания матча снова лечь в больницу или, как обычно, вернется в Атами. Мастер ответил с неожиданной откровенностью:
— М-да, дотяну я до конца партии или нет — это большой вопрос. Вообще-то я и сам удивляюсь, что еще жив. Ведь я не размышляю ни о чем серьезном, верующим себя тоже не назову… Долг профессионала? На нем далеко не уедешь. О какой-то необычной душевной силе тоже говорить не приходится… — Он произносил слова медленно, слегка наклонив голову. — Возможно, все дело в том, что у меня крепкие нервы? Доскональность? Дотошность? Пожалуй, добрую службу мне сослужила дотошность… Вы, конечно, знаете, что в Токио и в Осака в это слово вкладывают разный смысл. В Токио «дотошность» означает «тупость», а когда в Осака говорят о живописи «доскональная», это означает «совершенная». Об игроке в го тоже говорят: «играет досконально».
Он говорил неторопливо, словно смакуя слова, и я с удовольствием его слушал.
Мастер редко позволял себе выражать какие-либо чувства. Не в его характере было придавать какое-то особое выражение своему лицу или голосу. Я общался с Сюсаем довольно долго, и чем больше его видел, тем больше мне нравились его внешне невыразительные жесты и слова.
С тех пор как Сюсай завоевал в 1908 году право на титул Хонинобо, его поклонник Хироцуки Дзэккен стал поддерживать его во всех начинаниях и даже работал у него секретарем. Он писал, что за тридцать с лишним лет работы он ни разу не слышал от мастера ни просьбы, ни благодарности. Из-за этого мастер прослыл холодным и жестким человеком. Дзэккен пишет, что все слухи о недостаточной щепетильности мастера в денежных делах — полнейшая выдумка, и он может это доказать.
Во время последней партии мастер тоже не проявлял особой приветливости. Но это вовсе не означало, что он кичится своим высоким титулом, просто такой у него характер.
Когда причастные к игре в го люди приходили к нему за советом, мастер бывало лишь протянет: «М-да-а…» — и надолго замолчит; что он имел в виду — приходилось только догадываться. Я подумал, что эта манера порождала массу недоразумений: на человека, носящего высший титул, не очень-то повлияешь. Его жене нередко приходилось выступать перед гостями в роли то помощника, то посредника. Когда Сюсай замолкал и сидел с отсутствующим видом, его жена сразу же принималась хлопотать, стараясь сгладить неловкость положения.
Такая особенность мастера, как заторможенность нервной системы и интуиции, медлительность или, как он выразился, «дотошность», часто проявлялась в его отношении к партиям, сыгранным для развлечения. Я уж не говорю о сёги или рэндзю, но, даже играя на бильярде и в маджонг[23], он думал так долго, что наводил уныние и на самых терпеливых партнеров.
Мне довелось несколько раз наблюдать, как в гостинице «Хаконэ» мастер и Отакэ играли на бильярде. Мастеру случалось набирать и по семьдесят очков. Отакэ, как и подобает профессионалу го, скрупулезно вел счет, приговаривая: «У меня — сорок два, у вас — четырнадцать…» Мастер бесконечно раздумывал перед ударом и, даже встав в позицию, подолгу вертел в руках кий, примериваясь и так, и эдак. Считается, что в игре на бильярде проявляется темперамент человека: это видно и по его движениям, и по скорости катящихся шаров. Так вот, Сюсай почти не двигался. Кончик его кия еле-еле ползал, что заметно раздражало зрителей. Однако я, наблюдая эту картину, проникся к мастеру еще большей симпатией.
А когда он играл в маджонг, то делал себе длинные полоски, несколько раз складывая бумажные салфетки, и располагал на них костяшки. Я долго разглядывал эти ровные полоски и безупречные ряды костяшек, потом спросил у мастера, к чему такая аккуратность. Он ответил:
— Знаете ли, когда расставишь их вот так, на белой бумаге, все костяшки отлично видны. Попробуйте-ка сами.
Казалось бы, быстрый темп, с которым обычно играют в маджонг, должен был расшевелить мастера, но он все равно думал невероятно долго и ходил так медленно, что его партнеры скучали и наконец теряли к игре всякий интерес. Тем не менее мастер не обращал внимания на всеобщую скуку — он был всецело погружен в свои думы. Не замечал и того, что играть с ним садились без особой охоты.
19
Мастер как-то раз следующим образом отозвался об игре любителей:
— В сёги или, скажем, в го характер человека по игре не поймешь, хотя говорят, что игра раскрывает характер… Если разбираешься в го, подобная чепуха и в голову не придет.
Сюсай терпеть не мог тех полузнаек, которые любят порассуждать об игре в го.
— Я, например, никогда не интересуюсь своим партнером, для меня главное — игра, я думаю только о ней.
2 января, за полмесяца до своей кончины, Сюсай участвовал в открытии турнира в Ассоциации, где надо было сделать несколько ходов в коллективной партии. Собравшиеся в тот день в Ассоциации профессионалы подходили по очереди к доске, делали по пять ходов и уходили.
Эта церемония была чем-то вроде обмена визитными карточками. Поскольку игра могла затянуться надолго, рядом начали еще одну партию. На второй доске уже было сделано 20 ходов, перед ней в ожидании партнера стоял Сэо, игрок первого дана. И тут подошел мастер. Каждому из партнеров предстояло сделать по 5 ходов — с 21-го по 30-й. Продолжать игру после них было уже некому — ее так и прервали на ходе мастера. Достаточно сказать, что последний, 30-й ход мастер обдумывал 40 минут. А ведь партия была несерьезная, затеяли ее исключительно ради церемонии, от игрока всего-то и требовалось — легко, без напряжения сделать свои ходы.
В середине последнего матча мастера положили в больницу Святого Луки, и я навестил его. Мебель в больничных палатах была большого размера, рассчитанная на рослых американцев. Вид щуплой фигурки мастера, чинно сидящего на огромной кровати, вызвал у меня смутную тревогу. Отеки на его лице были почти незаметны, щеки чуть порозовели, во всем облике чувствовалась какая-то легкость, будто он вновь обрел душевный покой; теперь он казался простым добрым старичком, ничуть не похожим на того мастера, каким все его знали.
Тогда же в больницу пришли корреспонденты из других газет, освещавших ход последнего матча. Они рассказали о том, какой огромный интерес вызвал у читателей еженедельный конкурс, победители которого получали премию. В субботних выпусках читателям предлагали угадать следующий ход и просили присылать свои прогнозы. Я тоже вступил в разговор:
— На этой неделе задача — угадать девяносто первый ход.
— Девяносто первый? — Сюсай внезапно преобразился. Вот досада! Мне не следовало заводить разговор о го, но я не удержался…
— Перед этим белые прыгнули через один пункт, а черным, говорят, надо делать ход вверх, наискосок.
— А-а… там? Всего два хороших хода — косуми[24] и ноби. Кто-нибудь обязательно угадает.
Как только мастер заговорил об игре, он как-то сразу выпрямился, поднял голову, подравнял колени. Это была поза бойца за доской, в ней угадывался безукоризненный, холодный авторитет. Обратившись в уме к отложенной партии, мастер надолго обо всем забыл. Сейчас, как и во время январской коллективной партии, в его поведении не было и тени фальши. В этой-то естественности и было все дело, а вовсе не в боязни уронить свой авторитет из-за неудачного хода и не в упоении своим высоким титулом.
Что и говорить, не позавидуешь молодому игроку — партнеру мастера хотя бы в сёги, который вставал из-за стола вконец обессиленным, в чем я мог несколько раз убедиться. Взять хотя бы партию с Отакэ в Хаконэ — с форой в ладью — она продолжалась с 10 утра до 6 часов вечера.
Второй случай произошел уже после последнего матча. Все та же токийская газета «Нити-нити симбун» устроила матч из трех партий между Отакэ и У Цинь-юанем. Сюсай взял на себя комментарий, а я был секундантом во второй партии. Как раз в это время посмотреть игру приехал Фудзисава Кураносакэ, игрок пятого дана, и тут же «попал в плен» к мастеру, который усадил его играть в сёги. Их партия началась утром, продолжалась до поздней ночи и закончилась в три часа утра! Говорили, что на следующее утро, увидав Фудзисаву, мастер тотчас извлек откуда-то доску для сёги.
Когда последний матч перенесли в Хаконэ, вечером, накануне очередного доигрывания, спортивный обозреватель «Нити-нити симбун» Сунада, который опекал мастера и жил в той же гостинице «Нарая», с улыбкой рассказывал:
— Я до смерти надоел мастеру. Уже четыре дня подряд только встану — приходит мастер и зовет погонять шары на бильярде. И гоняем, гоняем целый день до поздней ночи. И так каждый день. Все говорят, что он гений. Нет, не гений, он — сверхчеловек.
Как бы ни уставал Сюсай от игры, как бы ни выматывался, никто ни разу не слышал от него жалоб, даже жена. Как-то она рассказала о том, как мастер умеет погружаться в себя. Мне довелось слышать этот рассказ в гостинице «Нарая».
— Это было, когда мы еще жили в квартале Когаи-тё. Домик крошечный, все игры устраивали в комнате на десять татами, а соседняя, поменьше, служила гостиной, хотя это было неудобно, ведь среди гостей попадались и любители громко посмеяться, пошуметь… И вот однажды, когда муж играл с кем-то турнирную партию, вдруг приходит моя сестра показать своего новорожденного. Известное дело, малыш кричал без остановки. Я места себе не находила и даже собиралась попросить сестру уйти пораньше, но мы так давно не виделись… Как только сестра ушла — я к мужу с извинениями, дескать, мы шумели, мешали… а он, оказывается, ничего не заметил — ни прихода сестры, ни детского плача, ну совершенно ничего.
Помолчав, жена мастера добавила:
— Покойный Когиси говорил, что хочет стать таким, как сэнсэй, и каждый вечер садился перед сном на пол для занятий медитацией. Кажется, по системе Окада[25].
Когиси, о котором упомянула жена мастера, — это Когиси Содзи, игрок шестого дана, любимый ученик Сю-сая. Мастер хотел сделать его официальным наследником династии Хонинобо: «Только он и достоин!» — но в январе 1924 года Когиси в возрасте 27 лет умер. Престарелый мастер часто и по разным поводам вспоминал своего любимого ученика.
Нодзава Тикуто, имея еще четвертый дан, играл с мастером у него дома. Он тоже рассказывал похожую историю. Как-то раз домашние ученики расшумелись, и до комнаты, где проходила игра, донесся ужасный шум. Нодзава вышел к мальчикам и пригрозил им: «Смотрите, мастер вас отругает». А мастер этого шума даже не услышал.
20
— Сидим, допустим, за обедом. Он ест рис, а сам смотрит куда-то в пространство, внимательно смотрит — и ни слова. Наверное, размышляет над трудным ходом, — говорила нам жена Сюсая 26 июля, в Хаконэ, в день четвертого доигрывания.
— Когда ешь, а сам не думаешь о том, что делаешь, еда впрок не идет. Не зря говорят, что, если за едой не думать о еде, она станет ядом. Скажешь об этом мужу, а он только хмыкнет, и снова его мысли где-то далеко.
Жестокая атака черных на 69-м ходу, похоже, застала мастера врасплох — он думал над ответным ходом 1 час 44 минуты. Этот ход занял у него больше всего времени с начала партии.
Похоже, Отакэ подготовил эту атаку еще пять дней тому назад. Когда началось доигрывание, он размышлял минут двадцать, изо всех сил себя сдерживая — в нем бурлила искавшая себе выхода энергия. Так и навис над доской. Сделав 67-й ход, он на 69-м ходу так и грохнул свой камень на доску со словами: «Дождь ли это? Буря ли?» — и громко захохотал.
И словно нарочно в ту же секунду хлынул ужасный ливень — газон в саду намок в одно мгновение, дверь едва успели закрыть — в нее тут же забарабанили тяжелые капли. Отакэ довольно удачно пошутил, но, по-моему, в его смехе угадывалась нотка торжества.
Сюсай, увидев 69-й ход, вдруг неуловимо изменился в лице, словно по нему промелькнула тень птицы: оно стало чуть-чуть растерянным и симпатичным. Такое выражение на лице мастера нечасто доводилось видеть.
Позднее, при доигрывании в Ито, был момент, когда мастер вдруг сильно разгневался, увидев неожиданный ход черных. Он и раньше-то считал партию испорченной, а тут и вообще решил ее бросить, не доигрывая. Никак не мог дождаться перерыва и, как мне казалось, давал понять, что гневается. Но даже тогда сидевший за доской мастер совершенно не изменился в лице. Никто не заметил, что он вне себя от ярости.
Зная все это, нетрудно себе представить, что Сюсай воспринял 69-й ход черных как удар кинжала. Он немедленно погрузился в раздумье. Подошло время обеда. Когда мастер вышел из игрового зала, Отакэ, стоя над доской с камнями, сказал:
— Ход — лучше не придумаешь! Вершина! — и посмотрел на доску с таким сожалением, с каким смотрят на руины, на остатки былого великолепия.
Когда я назвал этот ход агрессивным, Отакэ весело засмеялся и сказал:
— Ну почему в агрессивности упрекают только меня?!
Сразу после обеда, не успев даже сесть за доску, мастер сделал ответный ход. Время на обед и послеобеденный отдых в контроль времени, разумеется, не входит, но и так было понятно, что мастер не переставая над ним думал. Изобразить, что это не так, посидеть для виду над доской, словно в раздумье, — все эти уловки были мастеру чужды. Весь обед он просидел, глядя куда-то в пространство.
21
Атака началась 69-м ходом, который позднее получил название «дьявольского». Впоследствии мастер признался, что это был один из тех знаменитых ходов, которыми прославился Отакэ. Ошибись белые в ответе — им было бы не собрать свои разрозненные силы, поэтому мастер потратил на обдумывание 70-го хода 1 час 46 минут. Десять дней спустя, 5 августа, он думал над 90-м ходом 2 часа 7 минут, этот ход оказался самым долгим в партии, но и 70-й ход не слишком ему уступал.
Если 69-й ход черных был «дьявольским», то 70-й ход белых, как заметил судья Онода, — «чудом борьбы за выживание». Этим ходом мастер предотвратил смертельную опасность. Отступив на шаг, он сумел устранить угрозу. Найти такой ход было, конечно же, нелегко. Натиск черных, который грозил решить исход игры, сразу же ослаб. Правда, они успели кое-что урвать, но белые, несмотря на свои «раны», развязали себе руки.
Ненастье, о котором Отакэ отозвался стихами «Дождь ли это? Буря ли?», оказалось шквалом — небо быстро потемнело, пришлось включить свет. Белые камни на доске отражались в ней, как в зеркале, сливаясь с отражением фигуры мастера. Неистовство бушевавшего на дворе шквала лишь подчеркивало уют зала, в котором шла игра.
Ливень закончился так же внезапно, как и начался. По горе еще полз туман, а со стороны Одавара ниже по реке небо прояснилось. Горы по ту сторону долины осветились солнцем, послышался треск цикад, кто-то распахнул двери веранды. Когда Отакэ делал 73-й ход, на лужайке резвились четыре черных щенка. Потом небо снова затянулось легкими облаками.
Рано утром пошел дождь. Незадолго до обеда Кумэ Macao, усевшись на веранде в кресло, проникновенно прошептал: «Как здесь хорошо! Даже на душе становится чище».
Кумэ недавно стал заведующим отделом науки и искусства в токийской газете «Нити-нити симбун» и прошлым вечером приехал на игру. Выдвижение писателя на такую должность — неслыханное событие. Игра в го находилась в ведении его отдела.
Кумэ слабо разбирался в го, поэтому большей частью сидел на веранде, поглядывая то на горы, то на соперников. Однако волны нервной напряженности игроков передавались и ему — когда Сюсай глубоко задумывался с выражением боли на лице, точно такое же выражение появлялось и на добром, всегда улыбающемся лице Кумэ Macao.
В понимании игры в го я недалеко ушел от Кумэ, но, постоянно наблюдая за игрой, терял порой ощущение реальности — мне казалось, что лежащие на доске камни сейчас заговорят, словно живые. Стук камня, когда его ставили на доску, отзывался эхом из другого мира.
Матч проходил во флигеле. Там было три отдельных комнаты — одна на десять татами, две других — на девять. В комнате, что побольше, на полу стояла икэ-бана из акации.
— Ветки того гляди упадут, — заметил Отакэ.
В этот день партия продвинулась на 15 ходов и был записан 60-й ход белых.
Пробило четыре часа — время записи хода, но мастер, казалось, не слышал ни боя часов, ни голоса объявившей об этом девушки-секретаря. Она наклонилась к мастеру, не решаясь повторить свои слова. Вместо нее мягко, как будят ребенка, заговорил Отакэ:
— Сэнсэй, вы уже решили, какой ход записать?
На этот раз Сюсай, похоже, услышал и что-то проговорил. Он охрип, голоса не было, и никто не понял, что он сказал. Решив, что ход для записи готов, секретарь Ассоциации достал конверт, но мастер продолжал сидеть безучастно и смотреть на доску.
Затем проговорил с видом человека, медленно приходящего в себя:
— Нет, еще нет.
После чего думал еще 16 минут. На 80-й ход белым потребовалось 44 минуты.
22
31 июля игра проходила в другом зале, на этот раз наверху. Точнее говоря, это была анфилада комнат в восемь, восемь и шесть татами. В одной из них в нише висел свиток кисти Рай Санъё, в другой — Ямаока Тэссю, в третьей — Еда Гаккай[26]. Эти комнаты находились как раз над номером Сюсая.
На веранде его номера пышно цвела гортензия. Сегодня на цветок снова прилетела черная бабочка — ее четкое отражение виднелось в воде. Возле козырька над входной дверью свисали тяжелые листья глицинии.
Когда мастер задумался над 82-м ходом, до игрового зала донесся плеск воды. Я выглянул в окно и увидел его жену — она стояла на камнях, по которым переходили через пруд, и бросала в воду кусочки хлеба. В воде, выхватывая друг у друга хлеб, плескались карпы.
В то утро жена Сюсая сказала мне: «К нам приехали гости из Киото, мне пришлось съездить в Токио встретить их. Там сейчас прохладно, хорошо. Но из-за этой же прохлады я беспокоилась, как бы он здесь не простудился».
Жена мастера еще стояла на камнях, как начал накрапывать дождь. Вскоре он превратился в ливень.
Отакэ не заметил, что пошел дождь, и когда ему сказали об этом, пошутил:
— У неба, должно быть, тоже почки шалят, — и выглянул в сад.
Лето было на редкость дождливое. С момента нашего приезда в Хаконэ ни один игровой день не обходился без дождя. Ясная погода и дождь то и дело сменяли друг друга. Вот и сегодня: пока Отакэ размышлял над 83-м ходом, цветы гортензии купались в лучах солнца, кромки гор сияли, как вымытые; но тут же вновь подул ветер и принес с собой дождь.
83-й ход черных занял 1 час 48 минут и побил рекорд белых, поставленный на 70-м ходу. Отакэ, упершись руками в пол, неотрывно смотрел на позицию с правой стороны доски, его колено сползло на пол вместе с подушечкой. Потом сунул руку за пазуху кимоно и застыл в напряженной позе. Это был признак долгого раздумья.
Партия подошла к средней стадии, когда каждый ход дается с большим трудом. Хотя территории белых и черных более или менее определились, точно подсчитать очки было пока невозможно. Настало время делать ходы, придающие границам четкие формы, после чего можно будет вести подсчет. Пора решать, что делать дальше — переходить к ёсэ (завершающая стадия) и оформлять свои территории, вторгаться на территорию противника или навязать ему борьбу на границах. Именно сейчас оценивают партию в целом и в зависимости от этой оценки выбирают дальнейшую тактику.
Мастеру Сюсаю прислал поздравительную телеграмму доктор Дюбаль, который когда-то изучал го в Японии и увез в Германию прозвище «немецкий Хони-нобо». Утром в газете появилось фото: оба партнера читают поздравление доктора.
Запись хода пришлась на 88-й ход белых, поэтому секретарь Ассоциации Явата быстро проговорил:
— Сэнсэй, юбилейный ход![27]
Мастер выглядел похудевшим, хотя казалось, что и щекам его, и шее уже некуда было худеть, но с того жаркого дня 16 июля он чувствовал себя бодро. В таких случаях говорят «кости да кожа — духу легче воспарить».
Никто не ожидал, что через пять дней мы увидим его прикованным к постели.
Впрочем, когда черные сделали 83-й ход, Сюсай вдруг вскочил, будто потерял терпение. Видимо, ему нужна была разрядка от усталости. 12.27, время обеда, но мастер впервые так встал из-за доски: словно оттолкнул ее.
23
— Я изо всех сил молилась богам, чтобы он не заболел, но, видно, веры не хватило, — сказала мне жена Сюсая утром 5 августа. — Так боялась, что он заболеет. Наверное, слишком боялась — вот и вышло все наоборот… Теперь только на богов надежда… — добавила она.
Мое внимание — внимание любопытного журналиста — было всецело приковано к герою матча —<Сюсаю. И когда я услышал слова его многолетней спутницы, они прозвучали настолько для меня неожиданно, что я не нашелся что сказать.
Вероятно, напряженная атмосфера, в которой пребывали участники матча, обострила хроническую болезнь мастера — он давно уже чувствовал боль в груди, но никому об этом не говорил.
Со 2 августа на его лице появились отеки, заболела грудь.
По регламенту 5 августа было игровым днем, но игра продолжалась всего 2 часа. Рано утром Сюсая должен был осмотреть врач.
— Врач? — спросил мастер и, когда услышал, что тот ушел по срочному вызову в поселок Сэнгокухара, добавил: — В таком случае начнем.
Усевшись за доску, мастер спокойно взял в руки чашку и принялся пить теплый чай. Потом сел прямо, сцепил руки и положил их на колени. Как всегда, его поза была исполнена достоинства, но на лице промелькнуло выражение, какое бывает у ребенка, готового расплакаться, если ему в чем-то откажут: напряженно выпяченные губы, распухшие щеки и веки.
Игра началась почти вовремя — в 10.17 утра. Как уже нередко бывало, утренний туман сменился проливным дождем, но вскоре небо посветлело.
Распечатали записанный 68-й ход белых. Отакэ сделал 89-й ход в 10.40, а вот 90-й ход белых задержался. Миновал полдень, приближалась половина первого, а ход еще не был сделан. Раздумья длились 2 часа 7 минут — мастер думал, превозмогая боль. За все это время он ни разу не шевельнулся. Вдруг все спохватились, что пора обедать.
Вместо часа, как обычно, обед продолжался два часа — мастера осматривал врач.
Отакэ тоже плохо себя чувствовал — он рассказывал, что принял три лекарства подряд и выпил сосудорасширяющее. В какой-то момент Отакэ потерял за доской сознание и упал.
— Кровь совсем в мозг не поступает… Так бывает, когда плохо идет игра или попадаешь в цейтнот, когда скверно себя чувствуешь или когда то, другое и третье навалятся все сразу.
О болезни мастера он сказал так: «Я вообще-то не хотел играть, но сэнсэй заявил, что продолжит игру во что бы то ни стало».
После обеда перед возвращением в игровой зал Сюсай придумал наконец ход, который надо было записать. Когда Отакэ зашел проведать его и сказал: «Сэнсэй, должно быть, очень устал», мастер неожиданно сказал: «Я слишком требователен. Прошу извинить меня».
Игру возобновлять не стали.
В разговоре с заведующим отделом науки и искусства нашей газеты Кумэ Macao мастер, потирая грудь, сказал:
— Лицо распухло — полбеды, главное — вот здесь что-то неладно. То дыхание перехватывает, то сердце начинает колотиться, то что-то мешает в груди… Мне нравится думать, что я по-прежнему молод, лет в пятьдесят я почувствовал свой возраст.
— Дух побеждает годы, — сказал Кумэ.
— Сэнсэй, я тоже почувствовал свой возраст, а ведь мне всего тридцать, — сказал Отакэ.
— Рановато, — ответил мастер.
Мастер какое-то время посидел в комнате отдыха вместе с Кумэ и другими гостями и рассказал старую историю о том, как в молодости приехал в Кобэ и во время экскурсии на военный корабль впервые в жизни увидел электрическую лампочку.
Затем встал и со смехом сказал:
— Врач запретил мне бильярд. Может быть, сыграем немного в сёги?
Хотя мастер говорил «немного», дело обычно затягивалось. В тот день Кумэ сказал рвавшемуся в бой мастеру:
— Сыграем лучше в маджонг, от него не так устаешь.
За обедом Сюсай съел немного каши с солеными сливами.
24
Известие о болезни Сюсая достигло Токио. Наверное, Кумэ поэтому и приехал. Приехал также его ученик Маэда Нобуаки, игрок шестого дана. Судьи последнего матча Онода и Ивамото 5 августа были оба на месте. Заехал к нам и мастер игры в рэндзю Такаги. Пришел отдыхавший в Мияносита Дои, игрок в сёги восьмого дана. С прибытием каждого из них обстановка все больше оживлялась.
Сюсай последовал совету Кумэ и вместо сёги играл в маджонг с Кумэ, Ивамото и журналистом Су надой. Эти трое держались напряженно, словно боялись причинить мастеру боль, но он с головой ушел в игру и подолгу думал над каждым ходом.
— Если вы будете так серьезно думать, у вас снова распухнет лицо, — с беспокойством шепнула ему жена, но он как будто не услышал.
Здесь же Такаги Ракудзан научил меня играть в быстрое рэндзю. Такаги был знатоком всевозможных игр, он быстро овладевал секретами новой игры и стремился научить ей окружающих. В тот день я узнал от него о новой игре «красавица в шкатулке».
После ужина мастер с секретарем Явата и журналистом Гои сели играть в рэндзю без двух и играли до поздней ночи.
Маэда ушел еще днем, немного поговорив с женой Сюсая. Мастер был его учителем, а Отакэ — побратимом, и он не хотел давать повод к кривотолкам. Возможно, вспомнил, как во время матча мастера с У Ци-ньюанем поползли слухи, что якобы это он подсказал мастеру решающий 160-й ход.
На следующее утро из Токио по приглашению нашей газеты прибыл осмотреть мастера доктор Кава-сима. Диагноз был таким: «неполное закрытие большого артериального клапана».
Когда осмотр закончился, Сюсай остался сидеть в кровати, но тут же затеял игру в сёги. На этот раз его партнером был Онода. Игру мастер начал, как обычно, ходом «серебряного генерала». Когда партия была окончена, Такаги и Онода сыграли в корейские сёги, а мастер, опершись о подоконник, следил за игрой. Затем, словно потеряв терпение, сказал:
— Давайте сыграем в маджонг. Не хватало одного человека.
— Может быть, Кумэ-сан? — сказал мастер.
— Кумэ-сан поехал провожать доктора и сюда не вернется.
— Ивамото-сан?
— Ушел.
— Ушел? — устало переспросил мастер. Острое чувство его одиночества передалось и мне. Мне тоже надо было уезжать в Каруидзава.
25
Доктор медицины Кавасима из Токио и доктор Окасима из Мияносита после переговоров с представителями газеты «Нити-нити симбун» и Ассоциации го позволили мастеру Сюсаю продолжать игру, как он того и хотел, но при условии изменения регламента: вместо одного игрового дня в пять дней и пяти часов игры в день играть раз в три-четыре дня и не более двух с половиной часов в день. При таком режиме мастер будет меньше уставать. До и после каждой игры он обязан пройти медосмотр.
Это решение было, пожалуй, единственным способом облегчить страдания мастера и завершить партию. Конечно, можно считать ненужной роскошью двух-или трехмесячное пребывание на курорте ради одной партии в го, но напомню, что в этом матче буква в букву соблюдалось правило «запирания», не позволяющее оторваться от игры в го. Четыре дня между игровыми днями позволили бы отдохнуть от игры и расслабиться, если бы игроки уезжали домой; но, сидя взаперти в гостинице, в которой проходит матч, отвлечься от него было невозможно. Нетрудно выдержать «запирание» несколько дней и даже неделю, но два или три месяца превратились для шестидесятичетырехлетнего мастера в настоящую пытку. В то время «запирание» стало уже обычным, поэтому никому не приходило в голову считать его жестоким, даже если один из участников стар или срок «запирания» слишком велик. Более того, сам Сюсай, похоже, рассматривал марафонские условия последнего матча как своего рода увенчание лаврами.
Но слег, не выдержав и месяца.
И вот условия игры изменены. Для Отакэ эти изменения были важным событием. Если игра продолжается на условиях, которые не были оговорены в самом начале, он вправе от нее отказаться. Разумеется, Отакэ не сказал ни слова, а лишь заметил: «За три дня мне не отдохнуть, а два с половиной часа игры в день — это слишком мало».
Он уступил и попал в трудное положение человека, которому предстоит сражаться с больным стариком.
«Будет ужасно, если вдруг окажется, что сэнсэй заболел из-за меня… Я не хочу играть, но сэнсэй настаивает… ведь этого никому не объяснишь… Все думают, что наоборот… И потом, если игра продолжится и сэнсэю станет хуже, я буду считать себя виноватым. Ну и положение! Я оставлю грязное пятно в истории го… В конце концов, нельзя же подталкивать человека к беде. С точки зрения простой человечности, сэнсэю необходимо как следует отдохнуть, подлечиться и только после этого продолжать партию, разве не так?»
Что ни говори, а сражаться с тяжелобольным человеком нелегко. Выиграешь — скажут, что помогла болезнь, проиграешь — еще хуже. Исход партии пока не ясен. Сюсай забывает о своей болезни, едва садится за доску, а вот Отакэ забыть о болезни противника далеко не просто. Фигура мастера обретала трагизм. В какой-то газете написали, будто Сюсай сказал, что настоящий профессионал продолжает борьбу до конца — пусть он даже умрет за доской. Великий мастер приносит себя в жертву искусству. Нервный и впечатлительный Отакэ должен был играть, не выказывая ни раздражения, ни сочувствия болезни своего противника. Газетные обозреватели заявляли, что негуманно заставлять больного человека продолжать игру. Однако организовавшая матч газета «Нити-нити симбун» побуждала мастера во что бы то ни стало продолжать игру. Партия публиковалась в газете из номера в номер и вызывала у читателей огромный интерес. Мои репортажи пользовались успехом, их читали даже те, кто не умел играть в го. «Если прервать игру, что же будет с баснословной наградой победителю? — нашептывали некоторые. — Вот истинная причина, по которой мастер рвется в бой».
На мой взгляд, все, конечно же, было не так.
Как бы там ни было, накануне следующего игрового дня, назначенного на 10 августа, все только и думали о том, как убедить Отакэ продолжать игру. Отакэ был упрям, не хуже капризного ребенка: ему говорят одно, он в ответ — другое. Отличался он и своеобразной несговорчивостью — сначала вроде бы согласится, перестает спорить, но все равно сделает все по-своему. И корреспонденты, и чиновники из Ассоциации го оказались никудышными дипломатами, их переговоры ни к чему не привели. Ясунага Хадзимэ, игрок четвертого дана, приятель Отакэ, хорошо знал его характер и потому вызвался уладить дело, но и у него ничего не получилось.
Поздно вечером из Хирацука приехала жена Отакэ с малышом на руках. Она уговаривала мужа, плакала. Слезы не мешали ей сохранять теплоту, душевность и логику речи. Ее манера убеждения ничуть не напоминала интеллектуальные беседы. Слова, как и слезы, шли от сердца, и я, свидетель этогол восхищался женой Отакэ.
Жена Отакэ была дочерью хозяина курортной гостиницы в городке Дзигоку-дани в провинции Синею. История о том, как Отакэ и У Циньюань уединились в Дзигоку-дани и разработали там совершенно новую группу дебютов, широко известна любителям го. Я слышал, что жена Отакэ с юных лет была красавицей. О том, что домовитые сестры из Дзигоку-дани очень красивы, мне рассказал один поэт, которому доводилось спускаться в долину из Сига Такахара.
Когда я увидел ее в Хаконэ, она показалась мне неприметной услужливой женщиной. Я был несколько разочарован, но в облике матери с малышом на руках, настолько преданной семейным заботам, что ей некогда было следить за своей внешностью, оставалось что-то от ее детства в затерянной среди гор деревушке. В этой женщине сразу угадывался живой ум. А малыш, которого она держала на руках, был необыкновенным — таких замечательных детей мне видеть не приходилось. В восьмимесячном мальчике было своеобразное достоинство, казалось, в нем проявляется бойцовский дух отца. Малыш был светлокожим, от него веяло свежестью.
Через двенадцать лет после описываемых событий жена Отакэ как-то при встрече со мной сказала: «Вот это и есть тот самый мальчик, о котором вы так хорошо написали». Она повернулась к подростку и объяснила ему: «Когда ты был совсем маленьким, господин Ураками похвалил тебя и написал о тебе в газете».
Отакэ сдался. Он не мог упорствовать, когда жена с ребенком на руках уговаривала его и проливала горькие слезы. Отакэ очень любил свою семью.
После того как Отакэ согласился продолжать игру, он всю ночь не мог уснуть. Он страдал. В пять часов утра, тяжело ступая, он ходил взад и вперед по гостиничному коридору. Нарядившись в такой ранний час в кимоно с гербами, Отакэ лег на диван в большом зале, недалеко от входа, и безуспешно пытался уснуть.
26
Утром 10 августа состояние Сюсая не ухудшилось, и врач разрешил ему играть. Однако его щеки ввалились, слабость бросалась в глаза. Когда у него спросили, где будет сегодняшняя игра, в главном корпусе или во флигеле, он ответил: «Я уже не могу ходить, так что…» Но еще раньше Отакэ жаловался, что в главном корпусе ему мешает сосредоточиться шум водопада, и поэтому мастер в конце концов сказал, что играть они будут там, где захочет Отакэ. К счастью, водопад оказался искусственным, поэтому его решили отключить и играть в главном корпусе. Когда я услышал слова мастера, меня охватило смешанное чувство грусти и раздражения.
С головой погрузившись в партию, Сюсай словно покидал этот мир, все передоверив организаторам. Когда из-за его болезни возникали осложнения, мастер оставался равнодушным, будто все это его не касалось.
10 августа, впервые за весь матч, установилась по-настоящему летняя погода. Накануне светила яркая луна, а утром — жаркое солнце. Тени стали резкими, облака сияли. Шелковица распустила свои листья. На черной накидке-хаори Отакэ пояс казался ослепительно белым.
— Все-таки хорошо, что погода наконец установилась, — сказала жена Сюсая. Она заметно похудела. Жена Отакэ от недосыпания была бледна. Их уставшие лица осунулись, и лишь глаза светились беспокойством. И та, и другая не находили себе места в тревоге за мужей, каждая была поглощена своими заботами.
Летний свет, врывавшийся в комнату, был таким ослепительным, что мастер, сидевший спиной к улице, превратился в какой-то темный зловещий силуэт. Никто из присутствовавших не поднимал головы и не смотрел на него. Даже Отакэ, который обычно любил пошутить, в тот день не проронил ни слова.
Неужели даже в таких условиях необходимо продолжать матч? Ведь это неминуемо отразится на игре! Мне было жаль мастера. Писатель Наоки Сандзюго[28] незадолго до своей безвременной кончины писал в необычном для него романе под названием «Я» следующее:
«Завидую тем, кто играет в го. Ведь игра в го, если считать ее бесполезным пустяком, бесполезна, как ничто другое, если же высоко ценить ее, то по ценности ничто с ней не сравнится».
Помню у Наоки дома жила сова, с которой он разговаривал: «Ну, как ты? Не устала от одиночества?» Сова терзала валявшуюся на столе газету, рвала ее в клочья. В газете была напечатана партия мастера Хо-нинобо и У Циньюаня, которую из-за болезни мастера так и не удалось закончить. Наоки размышлял об удивительных чарах игры в го, о чистоте борьбы в этой игре, а также старался определить ценность своего литературного труда «для масс». И вдруг безо всякой связи с предыдущим сказал:
«Я очень устал. Сегодня до девяти вечера я должен написать тридцать страниц, а уже пятый час. Ну и что? Почему бы не повозиться денек с совой? Ведь я работаю не для себя, я работаю ради журналистики и ради семьи. И та и другая ко мне равнодушны».
Наоки Сандзюго и познакомил меня с мастером Хонинобо и У Циньюанем.
В облике Наоки незадолго до смерти было что-то потустороннее, и вот сейчас в сидевшем перед нами мастере тоже было что-то не от мира сего.
Тем не менее в тот день партия продвинулась на 9 ходов. Когда Отакэ думал над 99-м ходом, настало время записи хода — 12.30. Сюсай отошел от доски, оставив Отакэ в одиночестве. Неожиданно, впервые за весь день, послышался смех. Мастер, спокойно затягиваясь сигаретой, сказал: «Когда я был учеником, с сигаретами было трудно, я курил трубку… Если в, трубку попадала какая-нибудь труха из кармана, все равно курил, она не мешала».
Подул свежий ветерок. Так как мастера возле доски не было, Отакэ сбросил накидку-хаори.
Когда партия наконец была отложена и все разошлись по своим номерам, мастер, к моему удивлению, сел играть в сёги. Его партнером был Онода. За сёги последовала партия в маджонг.
Я не смог усидеть в гостинице и сбежал в «Беседку блаженства» в Тоносава. Там я написал очередной репортаж и на следующее утро уехал в Каруидзава, где с семьей снимал летнюю дачу.
27
Мастер, казалось, был одержим игрой. Было очевидно, что сидеть и играть в наглухо закупоренной комнате вредно для его здоровья, но он, несмотря на плохое самочувствие, не придавал этому никакого значения. Возможно, для того, чтобы отвлечься от партии в го, мастеру требовалась игра, и ничто другое. На прогулки он не ходил.
Люди, для которых игра — профессия, чаще всего любят и другие игры, но у Сюсая отношение к ним было особенным. Он играл не для развлечения и не чувствовал меры. В игре он был упорен, и казалось, мог играть без конца, изо дня в день, не зная отдыха. Он не отвлекался от игры, не выказывал никаких признаков скуки, — демон игры терзал его неотступно. Видеть это порой было страшно. Играл ли он в маджонг или на бильярде, неважно: он забывал обо всем на свете, точно так же, как и за игрой в го. Партнеры его нередко тяготились, но сам мастер был невероятно серьезен, и упрекнуть его было невозможно. Это были не грезы наяву, как бывает у других людей — казалось, мастер мысленно уходил куда-то далеко-далеко.
Даже короткий промежуток после очередной партии до ужина мастер заполнял игрой. Если его секундант Ивамото задерживался за вечерней чашечкой сакэ, мастер, не в силах ждать, отправлялся за ним сам.
В первый же игровой день в Хаконэ, как только закончилась процедура записи хода, Отакэ, удалившись в свой номер, вызвал прислугу: «Нельзя ли принести сюда доску для го?» Вскоре из номера послышался стук камней: он, несомненно, разбирал партию. А Сюсай, переодевшись в легкое кимоно, направился в комнату организаторов, сел играть в рэндзю, без труда обыграл меня пять или шесть раз кряду, а потом сказал: «Эта игра, нинуки[29], одно баловство, неинтересно. Давайте, Ураками-сан, сыграем лучше в сёги. У вас, кажется, есть комплект?» Он быстро встал и пошел впереди меня. После меня он играл с Ивамото, дав ему фору — ладью, но закончить партию до ужина они не успели. А после ужина слегка выпивший Ивамото сидел вразвалку и похлопывал себя рукой по выглядывавшей из-под кимоно ноге. Он проиграл.
Из комнаты Отакэ и после ужина какое-то время доносился стук камней, однако вскоре он спустился к нам и тоже сел играть в сёги, сначала с журналистом Фуна-дой, потом со мной. Каждому из нас он дал фору и, судя по всему, был в хорошем настроении.
— Эх, как только сажусь играть в сёги, сразу же хочется петь, вы уж меня извините. Правда-правда, я очень люблю сёги. Почему я профессионал го, а не сёги? Непонятно. Я ведь в сёги научился играть раньше, чем в го, года в четыре. Научился-то раньше, а играю хуже. — Приговаривая так, он напевал детские и народные песенки, сыпал остротами и вообще довольно шумно веселился.
— Отакэ-сан играет в сёги лучше всех в Ассоциации, — заявил Сюсай.
— Разве? — удивился Отакэ. — Сэнсэй тоже очень силен. А вообще-то во всей Ассоциации го нет ни одного первого дана по сёги. Вот в рэндзю сэнсэй, наверное, всех сильнее. Я в рэндзю не особенно разбираюсь, играю по наитию. А у сэнсэя — третий кю!
— Подумаешь, третий кю; он все равно ниже первого дана. Профессионалы — те в самом деле сильны.
— А как играет в го Кимура, мастер игры в сёги?
— Примерно в силу первого дана. Но прибавляет в мастерстве.
Отакэ, продолжая играть с мастером в сёги, снова запел:
— Ля-ля-ля, тра-ля-ля… Поддался настроению и Сюсай:
— Ля-ля, ля-ля, ля-ля…
Такое с ним случалось редко. Но вот на доске ладья мастера превратилась в «дракона», и его положение заметно улучшилось.
В те дни в сёги играли весело, но, когда мастер заболел, атмосфера этих игр стала гнетущей. Даже 10 августа после доигрывания партии мастер рвался играть, словно сбежавший из ада грешник из китайских сказок.
Очередное доигрывание было назначено на 14 августа, однако мастер был очень слаб, болезнь его обострилась, и врач играть ему запретил. Организаторы с запретом согласились, не возражала и газета. Было решено, что 14 августа мастер сделает всего один ход, после чего в матче будет устроен перерыв.
Когда противники сели за доску, каждый из них потянул к себе свою чашу с камнями и поставил возле себя. Видно было, что чаша для мастера тяжеловата. Противники принялись восстанавливать позицию: каждый делал тот ход, который был в партии. Казалось, камень вот-вот выпадет из рук мастера, но постепенно его движения стали увереннее, а стук камней — громче.
Сюсай думал над своим ходом 33 минуты, причем за все это время ни разу не пошевелился. Мастер должен был его записать, и на этом сегодняшнее доигрывание заканчивалось, но неожиданно он сказал:
— Поиграем еще немного.
Видно, почувствовал себя лучше. Организаторы засуетились, посовещались и решили, что поступить надо согласно договоренности, то есть ограничиться одним ходом.
— Ну что ж… — Мастер записал сотый ход и долго смотрел на доску.
— Большое спасибо, сэнсэй. Вам надо поберечь себя… — сказал Отакэ. Сюсай лишь хмыкнул, вместо него слова благодарности произнесла его жена.
— Ровно сто ходов… А какой по счету игровой день сегодня? — спросил Отакэ у девушки-секретаря. — Десятый, говорите? Два раза в Токио, восемь раз в Хаконэ? За десять дней сто ходов… Выходит, в среднем по десять ходов в день.
Позже, заглянув к Сюсаю, я увидел, что он сидит молча и не отрываясь смотрит в сад, на небо.
Из гостиницы в Хаконэ мастер должен был сразу ехать в больницу Святого Луки, но говорили, что ему еще два-три дня нельзя ехать поездом.
28
С конца июля моя семья перебралась на дачу в Каруидзава, и мне пришлось ездить туда-сюда: то в Хаконэ, то в Каруидзава. Дорога в один конец занимала семь часов, приходилось уезжать с дачи накануне игрового дня. Отложенный ход записывали вечером, поэтому перед отъездом на дачу я ночевал в Хаконэ или в Токио. Все вместе занимало три дня, и, пока партию играли каждый пятый день, я мог провести с семьей два дня, после чего снова трогался в путь. Может показаться, что писать репортаж легче там, где идет игра; да и лето было дождливым, и усталость чувствовалась. Тем не менее после каждого игрового дня я наскоро ужинал и уезжал.
Я не мог писать ни о мастере, ни об Отакэ, находясь с ними в одной гостинице и даже в одном городке, поэтому я спускался из Хаконэ в Мияносита или в Тоноса-ва и ночевал там. Если бы я писал репортаж о матче рядом с ними, на следующий день мне было бы как-то неловко смотреть в их лица. Я работал на газету, которая организовала этот матч, и чтобы поддерживать интерес читателей, приходилось прибегать к различного рода уловкам. Любителям не понять всех тонкостей в партии профессионалов высокого класса. И вот для того, чтобы растянуть описание одного матча на шестьдесят-семьдесят выпусков, мне приходилось переносить «центр тяжести» на внешность партнеров, на каждый их шаг, каждый жест. Я следил не столько за партией, сколько за играющими. Ведь это они были главными персонами, а все организаторы, включая меня, всего лишь их слугами! Чтобы как следует осветить игру, в которой для любителя остается много неясного, необходимо испытывать чувство преклонения перед ее участниками. К партии у меня был не просто интерес, я восхищался ею как произведением искусства, и этим объясняется мое отношение к мастеру.
В тот день, когда из-за его болезни партию прервали, я уехал в Каруидзава в самом подавленном настроении. На вокзале Уэно я сел в поезд и забросил вещи в багажную сетку, как вдруг за пять-шесть скамей от меня поднялся высокий иностранец и подошел ко мне.
— Извините, это у вас доска для го?
— Да, как вы догадались?
— У меня есть такая. Отличное изобретение. Моя доска была сделана из металлического листа, к которому прилипали снабженные крохотными магнитиками камни — на такой доске очень удобно играть в поезде. Однако в сложенном виде распознать в ней доску для го было нелегко. Я чуть-чуть привстал.
— Сыграем партию? Го — очень интересная и занимательная игра, — обратился ко мне иностранец. Американец, но прилично говорит по-японски.
— У меня тринадцатый кю, — четко проговорил он, словно предъявляя счет. Доску он положил себе на колени. Так было удобнее — он был выше меня.
Я дал ему шесть камней форы. Он рассказал, что учился играть в Ассоциации го и ему доводилось играть кое с кем из японских знаменитостей. Формы он знал неплохо, но ходы делал поспешные и пустые. Поражения, казалось, нисколько его не волновали. Проиграв партию, он как ни в чем не бывало убирал камни с таким видом, словно не очень-то и старался. Американец выкладывал на доске заученные формы, получал отличные позиции, разыгрывал прекрасные дебюты, но у него начисто отсутствовал боевой дух. Стоило мне чуть-чуть нажать или сделать неожиданный ход, как все его построения бессильно разваливались, рассыпались. Все это напоминало попытки удержаться на ногах нетвердо стоящего человека — от этого я даже стал казаться себе каким-то агрессивным. Дело было не в силе или слабости игры, нет, — в ней начисто отсутствовало какое бы то ни было противодействие, не было напряжения. Японец, как бы плохо он ни играл, все равно проявляет упорство; в японце никогда не ощущаешь такой вот немощи. Мой противник начисто был лишен духа борьбы. Мне показалось даже, что мы принадлежим к разным племенам.
Таким вот образом мы играли более четырех часов — от Уэно до Каруидзава, и, сколько бы он ни проигрывал, это его ничуть не огорчало. Я готов был склониться перед его неистребимой жизнерадостностью. Рядом со столь наивной и простодушной слабостью я чувствовал себя злобным извращенцем.
Вокруг нас образовался кружок зрителей, привлеченных, должно быть, нечастым видом иностранца, играющего в го. Меня это несколько раздражало, чего не скажешь об американце, который проигрывал раз от разу нелепее — ему все было как с гуся вода.
Играть с таким человеком — все равно что переругиваться на едва знакомом языке. Возможно, и не следует слишком серьезно относиться к подобной игре, но, так или иначе, ощущения от нее совсем не те, что от игры с японцами. Я не раз думал о том, что иностранцу го кажется, должно быть, пустой забавой. По словам доктора Дюбаля[30], в Германии существует около пяти тысяч любителей игры в го. Все больше играли в го и в Америке — об этом часто говорилось в Хаконэ. Конечно, нельзя судить по одному новичку-американцу, но, честно говоря, игре западных людей и впрямь недостает стойкости.
Игра японца выходит за пределы понятий «игра», «соревнование», «развлечение» — она становится искусством, в ней чувствуется тайна и благородство старины. Титул мастера Сюсая — Хонинобо — происходит от названия башенки в киотском монастыре Дзюккодзи. По традиции мастер Сюсай тоже стал буддийским священником и в память первого Хонинобо, мирское имя которого было Санса[31], а духовное — Никкай, в день его трехсотлетия принял духовное имя Нитион. Играя с американцем, я все время чувствовал, что в его стране го не имеет корней.
Говоря о корнях, надо сказать, что го, как и многое другое, пришло в Японию из Китая, но по-настоящему развилось лишь в Японии. Искусство игры го в Китае и сейчас, и триста лет тому назад не идет ни в какое сравнение с японским. Го углубилось благодаря Японии. Немало культурных ценностей пришло к нам из Китая уже в совершенном виде, но в отличие от них игра в го достигла совершенства только в Японии. Го развивалось уже в новое время, после того как феодальное правительство в Эдо взяло игру под свое покровительство, хотя японцы научились ей тысячу с лишним лет назад. Это означает, что и в Японии дух го долгое время не развивался. В Китае игра в го считалась игрой небожителей, в ней скрывалось нечто божественное. Но догадка о том, что триста шестьдесят одно пересечение линий на доске объемлет все законы Вселенной, божественные и человеческие, родилась в Японии. История игры в го показывает, как Япония, заимствуя за границей какую-нибудь новинку, вдыхает в нее свою жизненную силу и превращает в истинно японское явление.
У других народов такие игры, как го или сёги, не входят в традицию. Вряд ли где еще возможна партия продолжительностью в три месяца, когда чистое время, отведенное на нее, составляет 80 часов. Игра в го, подобно театру но и чайной церемонии, стала составной частью японской традиции.
В Хаконэ я слышал рассказы о поездке мастера Сюсая в Китай. Их главным содержанием было где, с кем и с каким счетом прошла игра, и поэтому я решил, что в Китае есть довольно сильные игроки.
Когда я спросил:
— Значит, сильный китайский игрок играет примерно в силу японского любителя? — мастер ответил:
— Э-э… равны ли они по силам? Пожалуй, те чуть-чуть послабее… как наши любители… ведь в Китае нет профессионалов…
— Но если японские и китайские любители играют на равных, то, появись в Китае профессионалы, задатки ведь скажутся?
— Право, не знаю…
— Им есть на что надеяться?
— Пожалуй, но вряд ли это произойдет быстро…[32] Впрочем, у них есть очень сильные игроки, к тому же они любят играть на деньги.
— Но все же способности к го у них есть?
— Наверное, раз появляются такие игроки, как У Циньюань.
Я как раз собирался в ближайшие дни навестить У Циньюаня, игрока шестого дана, разобраться с его помощью в положении на доске, которое возникло в последней партии, а также познакомиться с его комментариями. Я хотел добавить их к моему репортажу.
Этот выдающийся человек родился в Китае, живет в Японии и в каком-то смысле олицетворяет собой «щедрость Неба», то есть везение. Талант У Циньюаня расцвел только после того, как он приехал в Японию.
Вообще говоря, в истории было немало примеров того, как выдающиеся в каком-нибудь виде искусства люди, уроженцы соседних стран, получили признание в Японии. В наши дни блестящий пример тому — У Цинь-юань. Его талант, который в Китае наверняка бы заглох, был воспитан, взлелеян и тепло принят в Японии. Талантливого мальчика «открыл» один японский профессионал во время туристической поездки по Китаю. Мальчик учился играть по японским учебникам. Иногда казалось, что в этом подростке проблескивает китайское понимание го, гораздо более древнее, чем японское. Словно мощный источник света, погруженный в глубокую грязь, У был гениален от природы. Если бы он с детства не получил возможности шлифовать свое мастерство, талант его не развился бы и в конце концов погиб.
Вероятно, и сейчас в Японии есть немало нераскрывшихся талантов. У отдельного человека и у нации судьба таланта бывает схожей. Немало духовных сокровищ ярко блистали в прошлом у того или иного народа, а ныне пришли в упадок. Наверняка много есть и такого, что на протяжении всей истории остается скрытым, а проявится разве что в будущем.
29
У Циньюань лечился в то время в санатории в Фудзими, к западу от горы Фуд-зи. После каждого игрового дня в Фудзими направлялся из Хаконэ журналист газеты «Нити-нити сам-бун» Сунада и записывал комментарии У к сделанным ходам. Я вставлял их в свои газетные репортажи. «Нити-нити самбун» обратилась за комментариями к У Циньюаню, потому что он, как и Отакэ, резко выделялся среди молодых профессионалов. Оба соперничали друг с другом и по силе игры, и по своей популярности.
У Циньюань заболел от перенапряжения в турнирах. Кроме того, он тяжело переживал войну между Китаем и Японией и даже написал очерк, в котором мечтал поскорее встретить день мира, когда японские и китайские ценители прекрасного смогут вместе поплыть в одной лодке по озеру Тайху. В санатории он читал китайские классические труды: «Шуцзин», «Зеркало бессмертных» и сочинения Лю-цзы[33]. В 1936 году он приезжал в Китай под своим китайским именем, японцы зовут его Курэ Идзуми.
Когда я приехал из Хаконэ в Каруидзава, уже начались летние каникулы; несмотря на них, в этом курортном городке находились студенческие отряды, проходившие военную подготовку. Нередко слышалась стрельба. Больше двадцати человек из числа знакомых мне литераторов были мобилизованы в армию, которая готовилась к захвату Ханькоу.
Я не попал в число мобилизованных, но и находясь в стороне от военных дел сообщал в своих очерках, что с давних пор в военное время игра в го приобретала особую популярность; существует немало историй о военачальниках, игравших в перерывах между сражениями в го; писал о том, что японский «путь воина» — бусидо — духовно переплетается с искусством, причем и то, и другое гармонично сочетается с синтоистским мировоззрением, а игра в го является прекрасным символом этого единства.
18 августа в Каруидзава по моему приглашению приехал Сунада, и мы с ним отправились из Коморо по железнодорожной ветке Комисэн. В поезде кто-то из попутчиков рассказал, что в горах у подножия Яцугатакэ ночью на железнодорожное полотно выползло множество каких-то насекомых, вроде сороконожек. Колеса поездов давили их и скользили, буксуя, словно по маслу. Вечером того же дня мы уехали с ночевкой на горячие источники Саги в Камису-ва, а на следующее утро отправились в Фудзими к У Циньюаню.
Номер У Циньюаня находился на втором этаже прямо над входом, в углу комнаты лежали два татами. У объяснял нам значение ходов, расставляя крохотные камни на малюсенькой доске, водруженной на маленькой подушечке, которая лежала на складном столике.
Шесть лет назад, в 1932 году, вместе с Наоки Сандзюго мы смотрели игру У Циньюаня против мастера на двух камнях форы, проходившую в парке Данкоэн в городе Ито. У Циньюань был одет тогда в темно-синее кимоно в белый горошек с узкими рукавами. Его руки с длинными пальцами, нежная кожа на шее напоминали утонченных, печальных дочерей из аристократических семейств. Сейчас к прежнему впечатлению добавилось ощущение достоинства, которое бывает у молодых монахов из аристократов. В форме головы и ушей угадывалась порода, но сколько-нибудь заметных примет гениальности не было.
У Циньюань быстро, без запинок комментировал партию; иногда, подперев щеку рукой, задумывался. За окном виднелась мокрая листва каштанов. Я спросил его, что он может сказать о партии в целом.
— Очень деликатная, я бы сказал даже, тщательная игра.
Профессионалы, не говоря уже о мастере, стараются избегать скороспелых прогнозов о партии, отложенной в средней стадии. Но я все-таки надеялся услышать от него не столько суждение об отдельных ходах, сколько оценку партии как произведения искусства, с учетом стиля игры Сюсая и Отакэ, то есть ее общую оценку.
— Замечательная партия, — сказал У. — Видите ли, для обоих это игра чрезвычайной важности, поэтому оба играют очень внимательно и жестко. Ни тот, ни другой не допускают ни одного просмотра, ни малейшей ошибки. Это большая редкость. Именно это делает партию такой прекрасной.
— Да-а? — Я был несколько разочарован. — То, что черные играют жестко и плотно, ясно даже мне, любителю, а что вы скажете о белых?
— Хм-м, мастер тоже играет жестко. Если один играет в жесткую игру, другой вынужден отвечать жестко, иначе ему придется плохо. Времени у них более чем достаточно, партия очень важная, так что…
В этом уклончивом и поверхностном ответе так и не прозвучала оценка, которой я добивался. То, что, отвечая на мой вопрос, он назвал игру «тщательной», быть может, слишком смело, не знаю…
Но поскольку я восхищался этой партией, мне хотелось услышать о ней более откровенное мнение.
Здесь же, в гостинице, оказался Сайто Рютаро из журнала «Бунгэй сюндзю», и на обратном пути мы с Сунадой завернули к нему. Сайто рассказал, что до недавнего времени жил рядом с У Циньюанем, в соседнем номере.
— Иногда среди ночи, в полной тишине, когда все вокруг спали, до меня доносился негромкий стук камней, и, признаться, становилось жутковато…
Еще Сайто рассказал, с каким достоинством У провожал гостей до самого выхода из гостиницы.
Едва закончилась последняя партия Сюсая, как я получил приглашение приехать вместе с У Циньюанем на курорт в Симогамо, что на юге полуострова Идзу, и там услышал от него рассказ, что он нередко играет в го во сне и порой даже находит сильнейшие ходы. Проснувшись, он обычно помнит позицию, которую видел во сне.
— Иногда во время игры мне кажется, что я где-то эту позицию видел. Быть может, во сне? — заметил однажды У.
Его противником во сне чаще всего оказывался Отакэ.
30
Перед тем как лечь в больницу Святого Луки, Сюсай, как мне передали, сказал:
— Из-за моей болезни партию придется отложить. Начнутся пересуды, дескать, у белых хорошая позиция, черные тоже стоят неплохо… а ведь игра еще не закончена…
В то время мастер действительно мог так сказать, но, видимо, его слова означали, что у партии есть глубинное течение, понятное только самим игрокам.
Мастер, похоже, был уверен в своей позиции. Потом, после завершения игры, я и корреспондент «Нити-нити симбун» Гои услышали от него неожиданные слова:
— Когда я ложился в больницу, я вовсе не думал, что у белых плохое положение. Не скажу, что не замечал ничего опасного, но ни в коем случае не считал партию проигранной.
99-й ход черных угрожал разрезать цепь белых камней в центре, соединение белых сотым ходом было последним ходом перед больницей. Позднее, комментируя партию, Сюсай сказал, что, если бы он на сотом ходу не соединился, а ограничил бы черных на правой стороне и тем самым предотвратил их вторжение на территорию белых, возможно, получилась бы позиция, не слишком для черных радостная.
— Сорок седьмой ход черных, который позволил белым занять хоси в нижней части, — лишняя перестраховка. Можно назвать его вялым.
Однако, если бы не надежный 47-й ход Отакэ, в этом месте осталась бы лазейка для белых, а именно этого Отакэ не хотел допустить. Так он и сказал впоследствии, когда участники игры делились своими впечатлениями. Кроме того, комментируя партию, У Циньюань отметил, что 47-й ход черных был правильным и обеспечил им непробиваемую позицию.
Я следил за игрой и, когда на 47-м ходу черные соединились, построив прочную стенку, а вслед за этим белые сделали ход в хоси в нижней части, ахнул: какая заявка на большую территорию!
Лично мне 47-й ход позволил почувствовать стиль Отакэ, его готовность к самой решительной схватке. Он заставил белых «проползти» по третьей линии, ходами, сделанными до 47-го, построил мощную стенку и наглухо «запечатал» белых на левой стороне. Такая игра демонстрирует всю скрытую мощь Отакэ. Он шагал твердо и не хотел рисковать, не собирался пасть жертвой боевого искусства противника.
Если бы в средней стадии игры, где-то около сотого хода, позиция и впрямь была «неясной» или игра слишком «тщательной», дело, скорее всего, закончилось бы разгромом черных. Но, видимо, это была лишь тактика, с помощью которой Отакэ укреплял свои позиции. По плотности построения черные превосходили белых, их позиция была надежнее, и впоследствии, когда они «с хрустом вгрызлись» в территорию белых, началась та игра, которую Отакэ особенно любил.
Иногда об Отакэ говорили, что в него перевоплотился мастер Дзёва[34]. Дзёва считается сильнейшим игроком старого и нового времени, и мастера Сюсая тоже нередко с ним сравнивали. Играл он очень плотно, главным для него была схватка, он предпочитал повергнуть противника силой. Его стиль можно назвать размашистым и жестоким. Дзёва создал блестящие партии, богатые рискованными ситуациями и неожиданными поворотами. Популярен он был и среди любителей. Поэтому от игры двух профессионалов, каждого из которых сравнивали с Дзёвой, любители ожидали череду жестоких схваток, запутанных позиций, живописной борьбы. Но эти их надежды не оправдались.
Возможно, Отакэ решил, что открытое столкновение в излюбленном стиле мастера Сюсая слишком рискованно, и потому поосторожничал. Он не давал втянуть себя в масштабные схватки и в трудные, чреватые осложнениями позиции, старался, насколько возможно, сузить поле для проявления искусства мастера, навязать ему свою игру. Позволив Сюсаю делать размашистые ходы, он спокойно готовился к будущей борьбе. Его надежная неторопливая манера вовсе не была пассивной, в ней угадывалась скрытая до поры до времени внутренняя мощь. В построениях Отакэ ощущалась непоколебимая вера в свое мастерство. Его стойкость и осмотрительность были исполнены силы, поэтому он неизбежно должен был перейти в удобный момент в сокрушительную атаку, призвав на помощь всю свою врожденную проницательность и целеустремлен ность.
Однако, как бы Отакэ ни был осторожен, мастер все-таки сумел навязать ему схватку. Белые с самого начала повели игру со вкусом и размахом и распространились на обе стороны доски. В левом верхнем углу на 18-й ход в мокухадзуси черные ответили в сансан. Это был новый, ранее неизвестный ход. Отакэ сделал его, несмотря на то, что это была последняя партия шестидесятичетырехлетнего мастера. В конце концов именно в этом углу и «собралась гроза». Если Отакэ хотел осложнить игру, это ему прекрасно удалось. Как и следовало ожидать, Сюсай не стремился к осложнениям и, вероятно из-за важности партии, старался вести «прозрачную» игру, избрав защитный вариант. Так и получилось: Отакэ вел «бой с тенью» и незаметно для себя оказался вовлечен в «тщательную» игру со схватками местного значения.
Действительно, при такой тактике черные неизбежно втягиваются в «тщательную» игру. Наверное, Отакэ хотел сохранить каждое возможное очко, что и позволило белым добиться перевеса. Мастер не выдвигал никаких далеко идущих планов, не делал и расчета на ошибку черных. Чем плотнее играли черные, тем с большей естественностью, подобно облаку, в нижней части распространялся контур позиции белых, и то, что игра постепенно приобрела красоту, видимо, объясняется совершенством мастера. Сила игры Сюсая с годами ничуть не уменьшилась, даже болезнь не нанесла ей ущерба.
31
Когда мастер выписался из больницы Святого Луки и вернулся домой в токийском районе Сэтагая, он обронил:
— Подумать только, я уехал из дому восьмого июля и не был здесь восемьдесят дней, все лето до самой осени.
В этот день Сюсай вышел прогуляться возле дома и прошел два-три квартала — самая далекая прогулка за последние два месяца. В больнице он все время лежал, ноги его очень ослабли. Выйдя из больницы, он лишь две недели спустя смог сидеть по-японски, на пятках.
— За пятьдесят лет я привык сидеть по-японски, вот так, прямо, а сидеть скрестив ноги мне трудно. В больнице я только лежал, поэтому, когда выписался, сидеть на пятках никак не мог. Такого со мной еще не бывало. Если до начала игры не научусь подолгу сидеть на пятках, беда. Изо всех сил тренируюсь, да пока не получается.
Наступил сезон скачек, которыми мастер увлекался, но у него пошаливало сердце, и после больницы он серьезно относился к своему состоянию. Тем не менее он не утерпел.
«Попробовал выехать в город, ведь это помогает готовиться к игре. Посмотришь скачки — и радостно на душе, откуда-то берутся силы — могу играть! А вернешься домой — опять слабость, будто вареный. Тогда съездил на скачки еще разок.
Теперь вроде ничто не должно помешать игре. Сегодня решили, что доигрывать начнем числа с восемнадцатого».
Эти слова мастера записал Куросаки, журналист «Токио нити-нити симбун». Упомянутое в репортаже «сегодня» — 9 ноября.
Последняя партия мастера была приостановлена в Хаконэ 14 августа и теперь, ровно через три месяца, должна была возобновиться. Приближалась зима, местом продолжения игры была выбрана гостиница «Дан-коэн» в городе Ито.
Сюсай с женой прибыл в «Данкоэн» 15 ноября, за три дня до возобновления матча. Его сопровождали бывший ученик Мурасима и секретарь Ассоциации Ява-та. Отакэ приехал 16-го.
На полуострове Идзу есть Мандариновая гора — Микан-яма, которая славится красотой, сейчас там желтели мандариновые деревья и дички-апельсины. 15 ноября было холодновато, небо затянули тучи, а 16-го заморосил дождь, радио сообщило, что во многих районах выпал снег. Однако 17-го наступила золотая осень, и в воздухе разлилась сладость. Мастер отправился на прогулку к святилищу Отонаси и пруду Дзёноикэ. Прогулки он не любил, так что этот поход был для него целым событием.
В Хаконэ перед началом партии Сюсай пригласил в гостиницу парикмахера. В Ито 17-го ноября он попросил подбрить ему усы. Как и в Хаконэ, жена мастера поддерживала ему голову.
— Хочу попросить вас закрасить мне седину, — обратился мастер к парикмахеру и посмотрел в окно на тихий послеполуденный сад.
Мастер еще в Токио покрасил волосы. Вообще говоря, красить волосы перед сражением — это плохо вязалось с Сюсаем, хотя, возможно, он занялся своей внешностью как раз потому, что в разгар партии ему пришлось слечь.
Мастер всегда стригся коротко, под ежик, а сейчас отпустил длинные волосы, сделал пробор, да еще перекрасился в черный цвет. В этом было что-то ненатуральное. На их фоне особенно бросалась в глаза его желто-коричневая кожа, обтягивавшая скулы.
Лицо Сюсая не было уже таким бледным и отечным, как в Хаконэ, но и вполне здоровым не выглядело.
Едва добравшись в «Данкоэн», я отправился навестить мастера и спросил, как он себя чувствует.
— Так себе… — безучастно ответил он. — Перед отъездом сюда я был на осмотре в больнице Святого Луки, так доктор Инада все время старался не смотреть мне в лицо. С сердцем что-то не в порядке, в плевре скопилась какая-то мокрота. Ко всему прочему местный врач нашел у меня бронхит. Простыл вроде…
— А-а…
Мне нечего было сказать.
— Старая болезнь еще не прошла, а к ней добавились две новых. Всего получается три.
Там же были люди из Ассоциации и из газеты:
— Сэнсэй, пожалуйста, не говорите ничего о своем самочувствии господину Отакэ…
— Почему? — мастер взглянул на них с подозрением.
— Господин Отакэ начнет нервничать, опять возникнут осложнения…
— Оно и верно… но скрывать как-то неудобно…
— Лучше бы вы не говорили с господином Отакэ на эту тему. Если скажете, что больны, он упрется, как в Хаконэ.
Мастер промолчал.
Если у него спрашивали, как он себя чувствует, он, нисколько не смущаясь, рассказывал о своем самочувствии кому угодно.
Мастер совсем бросил курить и перестал пить вечернюю чашечку сакэ. Он, который в Хаконэ почти не выходил из гостиницы, здесь, в Ито, регулярно гулял, старался побольше есть. Должно быть, и окраска волос была одним из проявлений его решимости довести партию до конца.
Когда я спросил мастера, что он собирается делать после окончания партии, уедет на зимний отдых в Агами, останется в Ито или еще раз ляжет в больницу, он сказал вдруг с доверительной интонацией:
— Говоря по правде, неизвестно, продержусь ли я вообще до конца… возможно, снова слягу…
И еще сказал, что доиграть до нынешней стадии и не заболеть ему удалось только благодаря привычке не обращать на свои болезни внимания.
32
В гостинице «Данкоэн» накануне игры сменили татами. Когда утром 18 ноября мы вошли туда, сразу же ощутили приятный запах свежих татами. Знаменитую доску го из гостиницы «Нарая» в Хаконэ привез Осуги. Когда мастер и Отакэ сели за доску и открыли чаши с камнями, оказалось, что черные камни покрылись легкой летней плесенью. Служащие гостиницы, включая горничных, кинулись на помощь и сообща протерли камни.
Конверт с записанным сотым ходом был вскрыт в 10.30. 99-м ходом черные атаковали, угрожая разрезать тройку белых камней в центре доски, сотым ходом белые, защищаясь от разрезания, соединились. В последний игровой день в Хаконэ был сделан только этот ход. После окончания партии мастер так его прокомментировал:
— Соединение белых на сотом ходе было последним ходом перед тем, как я лег в больницу, — тогда обострилась моя болезнь. К сожалению, этот ход оказался не совсем продуманным. Вместо него следовало бы прижать черных ходом в пункт 58. Это укрепило бы позицию белых в правом нижнем углу. Хотя черные и угрожали разрезанием в центре, вряд ли бы они на это пошли; а если бы и разрезали, все равно особого ущерба белым не причинили бы. Защити белые на сотом ходе свою позицию — черным не удалось бы так легко победить.
Тем не менее раскритикованный мастером сотый ход белых был не так уж и плох, сваливать на него проигрыш белых ни в коем случае нельзя. Отакэ сказал потом, что атаковал в центре в расчете на то, что мастер соединится. Да и все остальные были уверены, что белым следует соединиться.
Если говорить честно, записанный сотый ход белых наверняка был известен Отакэ еще три месяца назад. После этого ему не оставалось ничего другого, как вторгаться 101-м ходом в позицию белых справа внизу. Даже нам, любителям, было ясно, что для вторжения годится лишь один ход — тоби, который и был сделан. И этот очевидный ход Отакэ до 12 часов, то есть до обеденного перерыва, так и не сделал.
В обеденный перерыв Сюсай вышел во двор, что случалось с ним редко. Ветви слив и иголки сосен сверкали на солнце. Распустились цветы вечнозеленой аралии и лигуларии. Камелия под окном комнаты Отакэ выбросила один-единственный скомканный цветок. Мастер остановился и долго смотрел на него.
Во второй половине дня на раздвижную дверь-сёдзи игрового зала упала тень сосны. Прилетела белоглазка и защебетала неподалеку от нас. В пруду перед верандой плавали карпы. В гостинице «Нарая» в Хаконэ карпы были цветные, в этой — обыкновенные.
Отакэ все никак не мог сделать 101-й ход, и мастер, как и следовало ожидать, медленно, словно засыпая, закрыл глаза.
Ясунага, игрок четвертого дана, прошептал: «Да-а, очень трудная задача…», присел и тоже закрыл глаза.
В чем же здесь трудность? Я даже заподозрил, что Отакэ нарочно не хочет делать прыжок в пункт 1?13 и думает над другим ходом. Организаторы нервничали, а Отакэ впоследствии, когда участники партии делились своими впечатлениями, сказал, что колебался, не зная, делать ли прыжок в пункт Я13 или просто продлиться в пункт ИМ. Мастер тоже потом сказал: «Преимущества и недостатки этих ходов очень трудно оценить». Так или иначе, на первый ход после возобновления игры Отакэ потратил три с половиной часа, и это произвело на всех неприятное впечатление. Пока он раздумывал, осеннее солнце склонилось к западу и включили свет.
Мастер сделал 102-й ход за пять минут — белый камень врезался между двумя черными. Над 105-м ходом Отакэ вновь задумался и думал 42 минуты. За первый игровой день в Ито было сделано всего пять ходов и был записан 105-й ход черных.
Сюсай потратил в этот день не более десяти минут, Отакэ — 4 часа 14 минут.
Общий расход времени с начала партии у черных составил 21 час 20 минут и перевалил за половину выделенного им огромного ресурса в 40 часов.
Судьи Онода и Ивамото уехали на квалификационный турнир Ассоциации, в этот день их на игре не было.
В Хаконэ мне довелось услышать, как Ивамото сказал: «В последнее время Отакэ-сан показывает темную игру».
«Разве игра может быть темной или светлой?» — «Конечно, у каждой своя окраска. Когда говорят „темная“ игра или „светлая“ игра, с результатом это никак не связано. Я вовсе не хочу сказать, что Отакэ-сан стал играть слабее».
На весеннем квалификационном турнире Отакэ проиграл восемь партий подряд, зато на отборочном турнире, где решался вопрос о противнике Сюсая, выиграл все партии до единой. В этом был какой-то неприятный перекос.
Игра черных против Сюсая и впрямь не производила впечатления «светлой» и ассоциировалась с каким-то тяжелым существом, которое медленно выбирается из таинственного ущелья и издает хриплое ворчание. Словно, собрав последние силы, он всем своим телом наваливается на противника. Не было ощущения раскованности. Стиль игры оставлял такое впечатление, будто Отакэ тяжелой походкой догонял противника и вгрызался в него сзади.
Говорят, что игроков в го можно разделить на два типа. Одни играют с мыслью «мне мало, мало, мало…», а вторые — с мыслью «уже хватит, хватит…». Если это правда, то Отакэ относился к первому типу, а У Цинь-юань — ко второму.
Отакэ, игрок типа «мне мало», в последней партии, которую он назвал «слишком тщательной», не допустил явных промахов, но и с легкостью ни одного хода не сделал.
33
После первого игрового дня в Ито вновь возникли трения. Дело приняло такой оборот, что организаторы не смогли даже назначить следующий день доигрывания.
Как и в Хаконэ, Отакэ воспротивился попыткам изменить из-за болезни мастера регламент партии. Причем на этот раз Отакэ стоял на своем гораздо тверже, чем тогда. Видно, урок Хаконэ даром для него не прошел.
По первоначальным условиям после каждой игры полагалось четыре дня отдыха, пятый день был игровым. В Хаконэ этот порядок соблюдался. Четыре дня давалось на отдых, но, соблюдая правило «запирания», то есть безвыходного сидения в гостинице, престарелый мастер уставал еще больше. После того как болезнь Сюсая обострилась, начались переговоры о сокращении четырехдневного отдыха, на что Отакэ никак не соглашался. Лишь последнее доигрывание в Хаконэ было сдвинуто на день вперед, так что отдых перед ним продолжался три дня, но в тот день мастер сделал всего один ход. Несмотря на все попытки отстоять регламент, тот пункт, который обязывал играть с 10 часов утра до четырех пополудни, в конце концов был отменен.
Заболевание Сюсая вскоре перешло в хроническое. Когда он поправится, никто не знал, и, наверное, поэтому доктор Инада из больницы Святого Луки, с большой неохотой разрешивший ему поездку в Ито, сказал, что игру желательно закончить в течение месяца. В первый игровой день в Ито у сидевшего за доской мастера веки вновь были припухшие.
Из-за болезни Сюсая все хотели поскорее закончить матч. Газета тоже была готова завершить наконец последнюю партию, столь популярную среди читателей. Затягивать игру было рискованно. Ускорить ее можно было только за счет сокращения дней отдыха.
Отакэ на это не соглашался.
— Мы с Отакэ старые друзья, попробую уговорить его, — сказал Мурасима, игрок пятого дана.
Мурасима, как и Отакэ, приехал в Токио из Осаки в надежде стать профессионалом го. Мурасима стал учеником Сюсая Хонинобо, Отакэ пошел к Судзуки, игроку седьмого дана, но они с Отакэ остались хорошими друзьями и часто встречались в среде профессионалов. Похоже, Мурасима надеялся на то, что Отакэ поймет его тактичную просьбу и уступит. Однако слова Мурасимы о том, что Сюсай опять плохо себя чувствует, привели прямо к обратному результату — Отакэ наотрез отказался пойти навстречу. Он обвинил организаторов в том, что от него скрыли болезнь мастера и заставили его, Отакэ, играть с больным человеком.
Наверное, его раздражало и то, что Мурасима, ученик Сюсая, остановился в той же гостинице, где и все, и встречался с мастером, что нарушало чистоту игры. Когда Маэда, тоже ученик мастера и зять Отакэ, приезжал в Хаконэ, он ни разу не зашел в комнату Сюсая и даже жил в другой гостинице. Сама попытка изменить строгий регламент партии, ссылаясь на дружеские чувства, была ему неприятна.
Но больше всего Отакэ тяготила, пожалуй, перспектива вновь сражаться с больным мастером. То, что его противник носил титул мастера, ставило Отакэ в еще более трудное положение.
Переговоры зашли в тупик, и Отакэ заявил, что больше играть не будет. Как уже было в Хаконэ, из Хи-рацука приехала жена Отакэ и привезла с собой ребенка. Пригласили даже некого Того, массажиста. Того был хорошо известен среди игроков в го и всем своим знакомым советовал ходить к нему на процедуры. Сам Отакэ полагался на Того не только как на массажиста, он высоко ценил его житейскую мудрость. Во внешности Того было что-то от аскета. Отакэ, который каждое утро читал сутру Лотоса, глубоко верил в тех, кого уважал. К тому же он был человеком с обостренным чувством долга.
— Если Того скажет, Отакэ-сан обязательно его послушает. Кажется, Того-сан считает, что надо продолжать игру… — сказал кто-то из организаторов.
Отакэ посоветовал мне испытать на себе волшебную силу массажиста. Этот совет был исполнен доброжелательного участия. Когда я вошел в номер Отакэ, Того подошел ко мне, поводил ладонью возле моего тела и сказал:
— Всё в норме, без особых отклонений. Здоровьем вы не блещете, но жить будете долго.
Потом задержал ладонь возле моей груди. Я тоже прикоснулся к груди и почувствовал, что кимоно справа стало чуть теплее. Это было тем более удивительно, что Того не касался меня. Казалось бы, температура справа и слева должна быть одинаковой, но правая сторона была явно теплей. По словам Того, тепло выделяли какие-то больные клетки. Я никогда не жаловался на легкие; на рентгеновских снимках тоже все было в порядке, хотя иногда в правой стороне груди бывали неприятные ощущения. Быть может, отголоски незаметно подступившей болезни? И хотя мое недомогание позволило Того проявить свое лечебное мастерство, от ощущения тепла, проникшего сквозь кимоно, мне стало как-то не по себе.
Того сказал, что последняя партия — тяжелая миссия, выпавшая на долю Отакэ. Если он ее бросит, то навлечет на себя упреки со всех сторон.
Сюсай сам ничего не предпринимал, он только ожидал результатов переговоров, которые организаторы вели с Отакэ. Подробности переговоров никто1 мастеру не сообщал, поэтому он не знал, что дело зашло так далеко и что его противник собирается прервать партию. Его лишь раздражала пустая трата времени. Чтобы отвлечься, мастер поехал в гостиницу в Кавана, пригласил и меня. На следующий день я пригласил туда Отакэ.
Заявив, что бросает играть, Отакэ домой все-таки не уезжал и оставался в гостинице. Я чувствовал, что он хочет как-то успокоиться и готов уступить. Тем не менее договориться о доигрывании на третий день и окончании игрового дня в 4 часа удалось лишь
23 ноября. Соглашение было достигнуто на пятый день после игрового дня, который приходился на 18 ноября.
В Хаконэ, когда договорились о сокращении отдыха до трех дней вместо четырех, Отакэ сказал: «За три дня я отдохнуть не успеваю. К тому же два с половиной часа игры в день — это слишком мало. Я не успеваю войти в ритм».
На этот раз отдых был сокращен до двух дней.
34
Едва успели достичь компромисса, как снова наткнулись на подводные камни.
Узнав, что соглашение достигнуто, Сюсай сказал организаторам:
— Не будем тянуть время. Начнем с завтрашнего дня.
На что Отакэ заявил, что хочет отдохнуть и предпочитает возобновить игру послезавтра.
Мастер все это время пребывал в ожидании, что чрезвычайно его удручало и раздражало. Поэтому, когда было объявлено о возобновлении игры, он воспрял духом и захотел играть немедленно. За его желанием не скрывалось никакой задней мысли. Но Отакэ был дальновиден и осторожен. Из-за треволнений предыдущих дней он очень устал, а потому хотел собраться с духом и восстановить форму перед началом игры. В этом снова проявилось различие характеров обоих игроков. К тому же из-за напряженной обстановки последних дней у Отакэ разболелся желудок. И в довершение картины — ребенок, которого привезла его жена, простудился в гостинице, и у него поднялась температура. Отакэ, обожавший своих детей, впал в панику. Все это мешало начать доигрывание завтра.
Организаторы матча, заставившие Сюсая прождать столько времени напрасно, и на этот раз оказались не на высоте. Мастеру, которого все это касалось в первую очередь, даже не сообщили, что Отакэ по личным причинам требует отсрочки еще на один день. Назначенная мастером дата доигрывания в их глазах обсуждению не подлежала. Если какие-то пожелания мастера и Отакэ не совпадали, организаторы принимались переубеждать Отакэ. В конце концов тот рассердился. Если вспомнить, в каком нервном напряжении он находился в последнее время, можно было предположить, что переговоры окажутся безрезультатными. Так и вышло — Отакэ заявил, что продолжать игру отказывается.
Секретарь Ассоциации Явата и корреспондент «Нити-нити симбун» Гои молча сидели в номере на втором этаже. Вид у них был крайне удрученный. Дела плохи, им явно хотелось все бросить. Ни тот, ни другой особым красноречием не отличались — люди они были немногословные. После ужина, когда я сидел у них, в номер вошла горничная — она искала меня.
— Отакэ-сан разыскивает господина Ураками и ждет его у себя.
— Меня?
Это было полной неожиданностью. Оба мои собеседника молча посмотрели на меня. Я пошел вслед за горничной, и она привела меня в большую комнату, где в одиночестве сидел Отакэ. Несмотря на раскаленную жаровню-хибати в комнате было холодно.
— Извините, что побеспокоил вас, — заговорил Отакэ. — Сэнсэй так долго и так много помогает нам в делах, но я окончательно решил отказаться от доигрывания. В подобной обстановке я не могу играть.
— Как?!
— Поэтому я и хотел повидать вас и попрощаться… Я был всего-навсего журналистом; мое положение не обязывало никого официально со мной прощаться. Если уж Отакэ решил так поступить, это было знаком его особого расположения ко мне. Но в этом случае менялось и мое положение — отделаться ничего не значащими фразами я уже не мог.
И в Хаконэ, когда начались осложнения, я был сторонним наблюдателем, эти дела мало меня касались, я ни во что не вмешивался. Сейчас Отакэ не спрашивал у меня совета, а лишь известил о своем намерении. Но, оказавшись с ним лицом к лицу и слушая его, я впервые подумал, а не попробовать ли мне высказать свое мнение и выступить посредником?
В общих чертах я сказал примерно следующее.
Конечно, выступая противником мастера Сюсая в последней партии, Отакэ сражается самостоятельно — на свой страх и риск. Но при этом он сражается с ним не как частное лицо, а как представитель нового поколения профессионалов, как наследник всей истории игры в го. До того как Отакэ получил возможность сразиться с мастером, целый год шел отборочный турнир. Сначала, на уровне шестого дана, победителями вышли Маэда и Кубомацу, затем, на уровне седьмого дана, к ним присоединились Судзуки, Сэгоэ, Като и Отакэ, и они провели между собой турнир по круговой системе. Отакэ победил всех пятерых, включая своих собственных учителей — Судзуки и Кубомацу, о чем Судзуки очень жалеет. Когда-то Судзуки победил Сюсая, имея фору черного цвета, а встречи с ним на равных мастер избежал. И вот сейчас, когда Судзуки выпал шанс сыграть с Сюсаем, Отакэ выигрывает у него! А ведь из благодарности к своему старому учителю Отакэ мог бы позволить ему сыграть с мастером. Наконец второй его учитель Кубомацу, с которым Отакэ встретился в последнем туре и который, как и он, шел без поражений и выиграл уже четыре партии… Получается, что Отакэ добился игры с Сюсаем и как представитель двух своих старых учителей. Безусловно, современных профессионалов лучше представляет Отакэ, нежели такие патриархи, как Судзуки и Кубомацу. А его лучший друг и соперник У Циньюань! Он вполне достойно мог бы представлять современное го, но пять лет назад он уже играл с Сюсаем, используя в игре экстравагантный дебют из так называемых новых фусэки, — и проиграл. И хотя У Циньюань имел моральное право участвовать в отборочном турнире, он от участия отказался, потому что у него был тогда всего лишь пятый дан и выступать против Сюсая в последней партии игроку пятого дана было как-то неудобно. Среди матчей мастера был и сыгранный им лет двенадцать назад матч против Кариганэ, игрока седьмого дана. Это была, во-первых, борьба Ассоциации го, в которую входил Сюсай, с соперничающей с ней ассоциацией «Кисэйся», а во-вторых, Кариганэ был его заклятым врагом. Победил тогда мастер. А теперь «непобедимый мастер» играет свою последнюю официальную игру. Значение у нее совершенно иное, чем у матчей против Кариганэ или У Циньюаня. Если даже Отакэ победит, вопрос о новом мастере вряд ли встанет. Последняя партия — это стык разных эпох, точка смены одной эпохи другой. После нее в игре в го начнутся новые веяния. Бросить и не доиграть последнюю партию — это все равно что пытаться остановить ход истории. Ответственность, которая лежит на Отакэ, слишком велика; что же произойдет, если из-за своих личных эмоций и сиюминутных обстоятельств Отакэ откажется от игры? Отакэ, чтобы достичь возраста мастера, нужно еще тридцать пять лет: на пять лет больше, чем ему сейчас.
Если Отакэ вырос в Ассоциации го в период расцвета игры, то Сюсаю пришлось преодолевать огромные трудности. Быстрый прогресс игры после реставрации Мэйдзи и вплоть до наших дней во многом связан с Сюсаем Хонинобо. Как бы там ни было, в мире го он до сих пор остается человеком номер один. Разве не долг наследника — достойно завершить последнюю партию, символизирующую итог шестидесятичетырехлетней жизни мастера? Пусть в Хаконэ и проявились какие-то капризы больного человека, но ведь Сюсай тем не менее продолжал играть, мужественно перенося свои мучения. Не совсем поправившись, он все же приехал в Ито, чтобы закончить партию; приехал, закрасив свою седину, возможно, с риском для жизни. Если его молодой противник откажется сейчас от игры, сочувствие всех безусловно будет на стороне мастера, а Отакэ станет мишенью для нападок. Неважно, что у Отакэ есть веские причины, все равно ему придется оправдываться и отмываться от грязи, а истинное положение дел мир так и не узнает. Последняя партия войдет в историю, а вместе с ней — и отказ Отакэ продолжить борьбу.
На Отакэ лежит сейчас особая ответственность перед грядущими поколениями. Если он бросит игру, сразу же поднимется шум, возникнут кривотолки, появятся прогнозы, как закончилась бы партия, будь она доиграна, и наверняка поползут грязные слухи. Наконец, пристало ли молодому игроку чинить препятствия последней партии старого и больного мастера?
Я говорил сбивчиво, с повторами и остановками, но Отакэ был непоколебим. Конечно, у него были свои резоны, и, подчиняясь, делая одну уступку за другой, он все больше накапливал в себе недовольство. Вот и сейчас, если он уступит, его, невзирая ни на какие обстоятельства, заставят играть начиная с завтрашнего дня. А поскольку завтра он играть не в состоянии, не честнее ли не играть вообще?
— Хорошо, — сказал я, — а если отложить игру на день и начать доигрывание послезавтра, вы будете играть?
— Буду, но, по-моему, говорить об этом уже поздно.
— Значит, на послезавтра Отакэ-сан согласен? Мне важно было убедиться в согласии Отакэ. Я не сказал ему, что собираюсь поговорить с Сюсаем. Мы распрощались.
Когда я вернулся в комнату организаторов матча, корреспондент Гои лежал, подложив локоть под голову, и пытался уснуть.
— Что Отакэ-сан? Не будет завтра играть?
— Не будет.
Секретарь Явата, согнув полнеющую спину, подошел к столу.
— Но он сказал, что, если доигрывание перенесут на один день, он согласен играть. Не попросить ли мастера об этой отсрочке? — сказал я. — Позвольте, я попробую уговорить его.
Я вошел в номер Сюсая, сел на пол и заговорил:
— У меня огромная просьба к сэнсэю. Вообще говоря, у меня нет оснований для такой просьбы, возможно, я вмешиваюсь не в свое дело, но скажите, пожалуйста, не согласитесь ли вы перенести доигрывание на послезавтра? Отакэ-сан просит отсрочить начало на один день. У него болен маленький ребенок, здесь, в гостинице… высокая температура… Отакэ-сан переживает… Кроме того, у самого Отакэ-сан разболелся желудок…
Мастер выслушал меня с недоумевающим лицом и в ответ только коротко сказал:
— Хорошо, так и сделаем.
У меня вдруг выступили слезы на глазах. Все произошло слишком неожиданно.
Дело решилось мгновенно, но я не мог сразу же подняться и уйти, поэтому немного поговорил с женой Сюсая. Сам мастер не сказал больше ни слова ни об отсрочке, ни об Отакэ. Вообще-то, отсрочка игры на один день — не бог весть какое важное дело, но ведь мастер долго мучился ожиданием, и вот, назначенная на завтра игра вновь откладывается. Вряд ли это может быть пустяком для профессионала. Организаторы не посмели об этом даже заикнуться. Разумеется, мастер понял, что я пришел к нему с просьбой ввиду исключительной серьезности дела, но все равно его кроткое согласие тронуло меня до глубины души.
Я зашел к организаторам матча и сообщил о результатах своего разговора с Сюсаем, а потом отправился к Отакэ.
— Мастер сказал, что согласен на день отсрочки и что игру начнем послезавтра.
Отакэ, похоже, был ошеломлен. Я продолжал:
— Мастер пошел на уступку Отакэ-сан, поэтому сейчас, когда это особенно необходимо, пусть и Отакэ-сан сделает ему уступку.
Жена Отакэ, стоявшая возле постели больного ребенка, церемонно поблагодарила меня. В комнате царил беспорядок.
35
Очередная игра состоялась, как и договорились, через день, 25 ноября, то есть через неделю после первого игрового дня в Ито. Накануне приехали освободившиеся от осеннего турнира в Ассоциации судьи последней партии Онода и Ивамото.
Мастер, сидевший на узорчатой подушке с лиловым подлокотником, напоминал жреца. В династии Хонино-бо еще со времен ее основателя, которого звали Санса или Никкай, глава династии носил духовный сан.
Секретарь Ассоциации Явата как-то сказал:
— Нынешний мастер тоже имеет духовное звание, его храмовое имя — Нитион, есть у него и монашеское одеяние.
В комнате, где проходила игра, на одной стене висела каллиграфическая надпись кисти Хампо: «Моя жизнь — часть пейзажа». Глядя на слегка наклонившиеся вправо иероглифы, я вспомнил, что в какой-то газете прочитал о тяжелом состоянии здоровья доктора Такада Санаэ[35]. Другой свиток изображал «Двенадцать достопримечательностей города Ито» и принадлежал кисти Мисима Ки, писавшего под псевдонимом Тюсю. В небольшой соседней комнате висел свиток с китайскими стихами бродячего монаха Унсуя.
Рядом с мастером стояла большая овальная жаровня-хибати, отделанная павловнией. Чтобы он снова не простудился, за его спиной поставили еще одну жаровню, а на нее чайник, из носика которого шел горячий пар. Отакэ настоял на том, чтобы мастер, которого слегка знобило, повязал шарф и закутался в теплое кимоно на шерстяной подкладке.
Объявили записанный 105-й ход. Сюсай сделал ответный за две минуты, после чего Отакэ вновь погрузился в раздумья…
— Странное дело! — бормотал он, словно в бреду. — Не хватает времени. Поразительно… Сорок часов на шедевр — и не уложиться! Надо же… Такого еще не бывало. Растратил все время попусту… А ведь мог сыграть за минуты…
Стоял пасмурный день. За окном неустанно щебетала камышевка. Я вышел на веранду немного размяться. Возле фонтана вопреки сезону расцвели два цветка рододендрона. На ветках были и почки. К веранде подлетела трясогузка. Издалека доносился шум мотора — это насос качал воду из горячего источника.
Отакэ потратил на 107-й ход 1 час 3 минуты. 101-й ход открывал атаку на позицию белых внизу и принес черным очков четырнадцать-пятнадцать. 107-й ход расширил территорию черных слева и принес им около двадцати очков, но при этом черные упустили инициативу. Всем нам, наблюдавшим за игрой, показалось, что черные смогут удержать свои приобретения, и мы восхищались этими двумя ходами.
Однако сейчас инициатива перешла к белым. Сюсай сидел с суровым выражением, прикрыв глаза. Дыхание его было тихим и размеренным, лицо — медно-красным от прилива крови, щеки слегка подрагивали. Похоже, он не слышал ни шума ветра, ни доносившегося с улицы грохота барабанов. Свой ход он сделал через 47 минут.
В Ито это был единственный случай, когда мастер надолго задумался. На ответный ход Отакэ потратил 2 часа 43 минуты и записал его при откладывании. Всего в этот день было сделано четыре хода. Расход времени у Отакэ составил 3 часа 43 минуты, у мастера — 49 минут.
— Могло случиться все что угодно, — сказал Отакэ, уходя на обед, — убийственная ситуация.
Сказано это было полушутя-полусерьезно. 108-м ходом белые атаковали позицию черных в левом верхнем углу и начали «стирать» их территорию в центре. Помимо этих двух целей достигалась и третья — защита территории белых слева. Исключительно сильный ход. У Циньюань так его прокомментировал:
— Сто восьмой ход белых — невероятно сложный. Осталось только дождаться, к чему он приведет.
36
После двухдневного отдыха, утром третьего игрового дня, и Отакэ, и Сюсай пожаловались вдруг на боли в желудке. Отакэ сказал, что проснулся из-за болей в 5 часов утра.
Когда был вскрыт и сделан записанный 109-й ход, Отакэ вскочил и ушел, снимая на ходу верхние парадные штаны-хакама, а когда вернулся, оказалось, что ответный ход белых уже сделан. Он удивился:
— Уже?
— Извините, что позволил себе без вас… — сказал мастер.
Отакэ, скрестив руки на груди, прислушался к шуму ветра:
— Кажется, дует когараси… Самое время — сегодня двадцать восьмое.
Дувший накануне вечером западный ветер к утру стих, но все же нет-нет да и проносился снова.
108-й ход угрожал позиции черных в левом верхнем углу доски, поэтому Отакэ защитился двумя ходами, и теперь его группе в углу гибель не грозила. Если бы он этого не сделал, ее ожидала бы гибель или ко-борьба[36]. В этом случае возникла бы очень трудная, богатая разветвленными вариантами позиция, какие встречаются в задачах на выживание групп.
— Чтобы выжить в этом углу, нужно сделать еще пару ходов. Мой старый должок, обросший процентами, — сказал Отакэ, когда вскрыли конверт с записанным 108-м ходом. После 109-го и 111-го ходов белых все опасности были устранены и напряженность в этом углу полностью снята.
В этот день игра продвигалась на редкость быстро: еще до 11 часов было сделано пять ходов. Однако 115-й ход означал завязку решающего сражения — черные пошли в атаку, стремясь ограничить и обкусать намечавшуюся большую территорию белых в центре, поэтому, естественно, Отакэ снова задумался.
Ожидая, пока черные сделают ход, Сюсай принялся рассказывать о ресторанчиках в Атами, славившихся приготовлением угрей, — «Дзюбако», «Саваси» и других. Он рассказал также о том, как ему приходилось ездить в Атами в те времена, когда железная дорога доходила только до Иокогама, а дальше надо было передвигаться в паланкине с ночевкой в Одавара.
— Мне было тогда тринадцать лет… Лет пятьдесят тому назад…
— Давненько… Мой отец тогда только-только родился, — рассмеялся Отакэ.
Пока Отакэ думал над ходом, он три раза вставал и, жалуясь на желудок, выходил. Пока его не было, мастер сказал:
— Какой усидчивый — уже больше часа думает.
— Без малого час тридцать, — отозвалась девушка-секретарь. В этот миг загудела полуденная сирена. Девушка по секундомеру, которым явно гордилась, следила, сколько времени длится гудок.
— Ровно минуту, на пятьдесят пятой секунде начнет затихать.
Вернувшись на свое место, Отакэ принялся растирать на лбу салометиловую мазь. Потом, хрустнув пальцами, положил рядом с собой лекарство для глаз. Было такое впечатление, что до перерыва он свой ход не сделает. Однако спустя 8 минут вдруг раздался щелчок камня о доску.
Мастер, который сидел опершись о подлокотник, хмыкнул. Он выпрямился, сжал губы и впился взглядом в доску, словно собираясь просверлить ее насквозь. Толстая кромка припухших век придавала его пристальному взгляду чистоту и блеск.
115-й ход черных был очень агрессивный, и теперь белым приходилось изо всех сил защищать свою территорию в центре доски. Подошло время обеда.
После обеда, не успев сесть за доску, Отакэ сразу же удалился в свой номер, где смазал себе горло каким-то лекарством с резким запахом. Потом закапал в глаза капли и вооружился двумя грелками.
116-й ход занял у белых 22 минуты, но последующие ходы вплоть до 120-го были сделаны быстро. На 120-м ходу белым по всем тактическим канонам следовало защищаться мягко, но Сюсай, напротив, жестко прижал черных, не побоявшись образовавшегося при этом «пустого треугольника».
Ситуация на доске была очень напряженной. При мягкой игре белые рисковали потерять несколько очков, но в этой партии такая потеря была бы непозволительной роскошью. То, что над тончайшим ходом, который мог решить судьбу партии, мастер думал не более минуты, вселяло в противника ужас. Похоже было, что после 120-го хода мастер принялся за подсччет очков, сопровождая счет кивками. Это зрелище сильно действовало на нервы.
Исход игры мог зависеть от одного очка. Если уж белые завязали жестокую схватку из-за пары очков, черные тоже были вынуждены сражаться вплотную. Отакэ сидел скорчившись, как от боли, на его круглом детском лице впервые проступили голубые жилки. Он шумно и с раздражением обмахивался веером.
Даже мерзнувший мастер раскрыл веер и стал им нервно размахивать. На обоих тяжело было смотреть. Наконец мастер облегченно вздохнул и принял более свободную позу.
— Стоит задуматься, как сразу же теряю ощущение времени, — сказал Отакэ, чья была очередь ходить. — Уф, даже жарко стало, простите.
С этими словами он снял накидку-хаори. Его примеру последовал мастер. Он двумя руками отогнул воротник кимоно и высвободил шею. В этом жесте было что-то комическое.
— Снова тяну время. Какая жалость! Чувствую, что сделаю сейчас плохой ход, испорчу все, — приговаривал Отакэ, словно удерживая себя от неверного хода. Продумав 1 час 40 минут, в 3.43 пополудни он наконец записал 121-й ход.
За три игровых дня после возобновления партии в Ито противники сделали 21 ход, но расход времени у черных составил 11 часов 48 минут, тогда как белые потратили всего 1 час 37 минут. Будь это обычная игра, Отакэ давно бы уже исчерпал лимит времени.
Такая огромная разница в затратах времени наводила на мысль о большой психологической и физиологической разнице между Отакэ и мастером. А ведь мастер имел славу утонченного игрока, не жалеющего времени.
37
По ночам дул западный ветер, но утром 1 декабря, очередного игрового дня, погода стояла такая ясная, что казалось, будто воздух так и струится.
Накануне Сюсай играл в сёги, затем отправился в город и немного поиграл на бильярде. Вечером играл в маджонг с Ивамото, Мурасима, секретарем Ассоциации Я вата и другими.
В игровой день Сюсай встал раньше восьми и вышел в сад. Там летала красная стрекоза.
Комната Отакэ находилась на втором этаже. Под его окнами рос клен, крона которого наполовину оставалась зеленой. Отакэ встал в полвосьмого. Он снова пожаловался на боли в желудке и сказал, что они его доконают. На столе у него стоял добрый десяток флакончиков с лекарствами.
Старый мастер кое-как оправился от простуды, зато начались нелады со здоровьем у молодого Отакэ. Отакэ был куда более нервным, чем Сюсай, хотя внешне могло показаться наоборот. Покинув игровой зал, мастер старался не вспоминать о партии, с головой погружался в другие игры и в своем номере к доске го и камням даже не прикасался. Отакэ все дни отдыха проводил за доской, тщательно анализируя отложенную партию. Дело не только в разнице возрастов, в этом сказывалось, должно быть, различие характеров.
— Вы слышали, вчера вечером прилетел «Кондор»?[37] — сказал мастер, заходя утром 1 декабря в комнату организаторов матча. — Колоссальная скорость…
На полупрозрачную бумажную перегородку сёдзи падали утренние лучи.
Но перед началом доигрывания случилось происшествие.
Секретарь Явата показал участникам конверт с записанным ходом, вскрыл его и, подойдя к доске, принялся искать на диаграмме записанный 121-й ход черных. Казалось, он не мог его найти.
Во время записи хода при откладывании игрок не показывает его никому: ни противнику, ни судьям. Он сам наносит ход на бланк диаграммы и вкладывает его в конверт. При последнем доигрывании Отакэ вышел в коридор и там записал ход, после чего оба противника приложили к конверту свои печати. Этот конверт вложили в другой, большего размера, который был опечатан секретарем Яватой. До утра сегодняшнего дня конверт хранился в сейфе гостиницы. Ни мастер, ни Явата не знали, какой ход записал Отакэ. Однако возможностей для хода было не так уж много, мы пытались угадать его и в общих чертах предполагали, на каком участке доски он будет сделан. С большим волнением мы ожидали 121-й ход — он должен был стать кульминационным.
На диаграмме записанного хода не могло не быть, и Явата лихорадочно ее просматривал, но все никак не мог его найти. Наконец ход отыскался.
— А-а… — пронесся ропот удивления. Черный камень стоял на доске, но я со своего места не мог разглядеть, где именно. Когда же наконец увидел, смысл этого хода все равно остался мне непонятен: камень был выставлен на верхней стороне доски далеко от основного поля сражения, где борьба была в самом разгаре!
Даже мне, любителю средней силы, было ясно, что этот ход сильно похож на ко-угрозу, и у меня вдруг защемило в груди от дурного предчувствия. Неужели Отакэ решился использовать процедуру откладывания как средство борьбы? Это было бы слишком низко, слишком подло.
— Я полагал, что ход будет в центре доски… — оправдывался Явата, с натянутой улыбкой отходя от доски.
Черные стремятся уничтожить влияние белой группы внизу справа, которое грозит превратиться в неприступную позицию, и завязывают борьбу в центре доски, а значит, в разгар этой борьбы, по логике, не должны делать ход в другом месте. Неудивительно, что Явата искал записанный ход сначала в центре, а потом внизу справа и не находил его.
В ответ на 121-й ход черных Сюсай сделал «глаз»[38] в группе белых в верхней части доски. Если бы он его не сделал, белая группа из восьми камней неминуемо погибла бы. Не ответить на такой ход черных было все равно что не ответить на ко-угрозу во время ко-борьбы, это означало бы проигрыш.
123-й ход был сделан за 3 минуты, он продолжал атаку в центре доски: предварительный удар справа и снизу. 127-й ход продолжил атаку в центре. 129-м ходом черные ворвались в расположение белых с разрезанием. Еще раньше, на 120-м ходу, мастер построил «дурной треугольник», по нему-то и пришелся удар.
У Циньюань так прокомментировал ситуацию:
— Белые на сто двадцатом ходу сыграли жестко, поэтому и черные отважились на жесткую игру — я имею в виду ходы со сто двадцать третьего по сто двадцать девятый. Такую манеру, как у черных, можно встретить в партиях, проходящих в ближнем бою, когда игра идет вплотную. Это проявление боевого духа игрока.
И вот в этот-то момент мастер оставил без внимания убийственное разрезание черных, не ответил на него, а перешел в контратаку справа внизу, стремясь придавить черных к краю доски.
Я опешил. Это был совершенно неожиданный ход. Я ощущал в мышцах напряжение, словно и меня ненароком задел злой дух, овладевший мастером. Неужели на 129-й ход черных, ход первостепенной важности, мастер так странно ответил, видя, что осталась щель для вторжения черных? Или он захотел сбить их с толку и втянуть в эндшпильную контригру? Или, наконец, искал бешеной схватки, в которой сам получаешь ранения, но и противника валишь с ног? Казалось, что 130-й ход продиктован не столько боевым духом, сколько яростью.
— Милое дело, милое дело… — повторял Отакэ, — вон оно как обернулось.
Он задумался над следующим ходом. Незадолго до перерыва опять проговорил:
— Потрясающая вещь получилась. Страшный ход. Просто потрясающий! Я сделал глупость, и теперь мне выкрутили руку…
— Как на войне, — печально проговорил судья Ивамото.
Он, конечно, имел в виду, что на войне нередко возникают случайности, которые и решают твою судьбу. Таким оказался 130-й ход белых. Все планы игроков, все их расчеты, прогнозы профессионалов, не говоря уж о любителях, все было опрокинуто этим единственным ходом, все полетело кувырком.
Любитель, я еще не понимал, что 130-й ход белых означает проигрыш «непобедимого мастера».
38
Тем не менее я чувствовал, что произошло серьезное событие. Не помню точно, сам я пошел вслед за Сюсаем, когда тот направлялся на обед, или он позвал нас. Не успели мы зайти в его номер и рассесться, как мастер негромко, но решительно сказал:
— Все, партии конец! Своим записанным ходом Отакэ-сан убил ее. Все равно что на готовую картину посадить кляксу… После этого хода мне сразу же захотелось бросить играть. Последняя капля… Я решил, что партию лучше бросить, но потом передумал.
Не помню, кто присутствовал тогда при разговоре — Явата или Гои, а может, оба сразу, помню только, что все молчали.
— На его ход возможен только один ответ. Решил таким образом выкроить себе два дня на обдумывание. Пройдоха! — сказал, словно плюнул, мастер.
Все молчали. Невозможно было ни поддакивать Сюсаю, ни защищать Отакэ. Все мы сочувствовали мастеру. Тогда я еще не понимал, что мастер был так разгневан и одновременно разочарован, что хотел отказаться от дальнейшей игры, но при этом ни лицом, ни жестом не выдал своих чувств. Никто из присутствовавших не заметил бурю в душе мастера.
Правда, когда Явата слишком долго не мог найти записанный ход, а потом наконец нашел и поставил камень на доску, он тем самым отвлек на себя общее внимание — на мастера никто не смотрел. Однако он без раздумий, меньше чем за минуту сделал следующий ход. За считаные секунды мастер сумел взять себя в руки, причем выдержка не изменила ему в течение всего игрового дня.
Я был потрясен, когда услышал гневные слова Сюсая. А ведь он провел доигрывание как ни в чем не бывало! И тогда я открыл для себя нового мастера, который с июня по декабрь играл свою последнюю партию, — мне показалось, что я его понял.
Мастер был творцом, он создавал эту партию как произведение искусства. И вот в момент, когда картина уже почти готова, когда напряжение достигает наивысшей точки, на картину шлепается вдруг капля туши. То же самое в го — черные и белые камни ставятся на доску друг за другом, по порядку, постоянно сохраняя при этом замысел и структуру творения. Здесь, как в музыке: выражает себя дух, во всем царит гармония. И вдруг в плавный ход мелодии врывается фальшивая нота, дуэт сбивается на немыслимые рулады — и все пропало! В игре в го бывает, что просмотр или явный «зевок» кого-то из участников портит всю игру, которая, не случись этого, могла бы войти в число знаменитых партий. Что ни говори, а 121-й ход Отакэ оказался для всех неожиданным, всех поразил и вызвал недоумение. Плавное течение и ритм партии были внезапно прерваны.
Этот ход возмутил не только профессионалов, но и любителей. 121-й ход показался нам каким-то неестественным и никому не пришелся по душе. Однако позже среди профессионалов появились защитники игры Отакэ, считавшие, что в тот момент черным следовало играть именно так.
Несколько позже, делясь своими впечатлениями от матча, Отакэ сказал:
— Я рано или поздно хотел сделать этот ход.
У Циньюань высказал мнение, что белым следовало раньше сыграть в пункты Е19 и Р19. Затем добавил:
— На сто двадцать первый ход белые могли бы ответить ходом в Н19, чтобы обеспечить своей группе жизнь. В этом случае угроза черных оказалась бы малодейственной.
Вот так непринужденно, лишь слегка затронув этот болезненный вопрос, У Циньюань объяснил значение 121-го хода черных. Без сомнения, Отакэ думал точно так же.
Однако поскольку был разгар схватки в центре доски и этот ход записывался при откладывании, он рассердил мастера и посеял сомнения в болельщиках. Но, в конце концов, если записываемый ход, последний за весь игровой день, трудно найти и если в спешке записывается ход, подобный 121-му ходу, это все равно означает выигрыш времени. Такой ход позволяет не спеша обдумать ситуацию на главном поле сражения, причем на обдумывание остается целых два дня. В Ассоциации встречаются игроки, которые даже на крупных соревнованиях, попадая в цейтнот, делают ко-угрозы на дальних участках доски, когда им уже считают секунды. Они стремятся хотя бы на минуту продлить жизнь своим группам. Встречаются и такие игроки, которые искусно обращают в свою пользу даже процедуру записи хода. Новые правила порождают новую тактику. Когда возобновились доигрывания в Ито, игру четыре раза подряд откладывали при ходе черных. Вряд ли это случайность. Сам мастер был настроен по-боевому. Тогда же он сказал:
— Я не хотел смягчать свой сто двадцатый ход.
121-й ход черных был следующим.
Так или иначе, но факты неумолимы: 121-й ход Отакэ в то утро возмутил или, правильнее сказать, потряс мастера.
Когда после окончания партии Сюсай делился своими впечатлениями, он не сказал об этом ходе ни слова.
Однако через год в комментариях к «Избранным партиям» в «Полном собрании трудов мастера го» было написано так: «121-й ход — своевременная угроза. Надо сказать, что эффективность этой угрозы была бы гораздо слабее, если бы черные промедлили и позволили белым сделать ходы в Е19 и Р19».
Раз уж сам Сюсай оправдал своего противника, то наши претензии к Отакэ тем более отпадают. Мастер разгневался потому, что для той ситуации ход был очень уж неожиданным. Сомнения в порядочности Отакэ оказались ошибкой, которую вызвал гнев.
Не исключено и другое: Сюсай нарочно прокомментировал так 121-й ход черных, чтобы положить конец кривотолкам. Однако «Избранные партии» вышли в свет через год после окончания последней партии и за полгода до смерти мастера, поэтому не исключено, что он оправдал 121-й ход, зная, какие нападки тот навлек на Отакэ.
Почему «рано или поздно» Отакэ превратилось в «своевременно» Сюсая? Для меня это навсегда осталось загадкой.
39
Загадкой остался и 130-й ход Сюсая, который стал причиной его поражения.
Над этим ходом мастер думал 27 минут и сделал его в 11.34. Конечно, думать почти полчаса и ошибиться — это случайность, но почему же мастер не думал дольше и не дождался перерыва на обед? Если бы он отошел от доски и часок отдохнул, быть может, ошибки удалось бы избежать. Бес его бы не попутал. У белых оставалось в распоряжении целых 23 часа, час-другой никакой роли не сыграли бы. Но мастер не хотел превращать в средство борьбы обеденный перерыв, и поэтому на него пришелся 131-й ход черных.
130-й ход белых похож на эндшпильную контратаку. Отакэ об этом ходе сказал, что ему будто бы «выкрутили руку». У Циньюань дал похожий комментарий:
— Болевая точка черных нащупана превосходно. В момент разрезания на сто двадцать девятом ходу белые своим сто тридцатым ходом создали сильную угрозу.
172 Однако при всем при том белым нельзя было пренебрегать убийственным разрезанием черных и не отвечать на него. Если в момент наивысшего напряжения в схватке один из противников на что-то отвлекается — он погиб.
С самого начала доигрывания в Хаконэ Отакэ действовал осмотрительно и наверняка, на удар отвечая ударом, на упорство упорством. Разрезание на 129-м ходу было взрывом таившихся под спудом сил, накопленных черными за всю игру. Когда белые сделали 130-й ход в стороне от основного поля борьбы, мы все испугались, но Отакэ и не дрогнул. Белые возьмут в плен четыре камня на правой стороне, зато черные в отместку разрушат их позицию в центре. Отакэ не среагировал на 130-й ход и своим 131-м ходом «продлился» от 129-го камня, так что мастеру пришлось на 132-м ходу возвратиться к борьбе в центре. Если бы белые 130-м ходом защитились от разрезания в центре, все, наверное, обошлось бы.
Сюсай в своих комментариях пожаловался:
— Сто тридцатый ход — роковая ошибка. Белым следовало немедленно разрезать в Р11 и посмотреть, как ответят черные. Если бы черные пошли, например, в Р12, в этой позиции сто тридцатый ход был бы хорош. После сто тридцать первого хода черных, например в S12, белые, уже не опасаясь удара в Q8, могут спокойно защититься ходом в пункт Q9. К тому же какие бы варианты мы ни рассматривали, все они приводят к более сложным позициям, чем в партии, и к близкому бою.
Атака черных 133-м и следующими ходами нанесла белым поистине смертельную рану. Белые пытались исправить положение, но нельзя сделать то, что сделать невозможно.
Ход, решивший судьбу партии, мог означать и то, что Сюсай надломлен психологически и физически. Мне, любителю, казалось, что выглядевший сильным и опасным 130-й ход означает попытку мастера перейти от защиты к атаке, но в то же время оставалось ощущение, что мастер потерял терпение и пытается сорвать свой гнев. Говорят, этот ход был бы прекрасным, если бы белые предварительно провели разрезание. Возможно, фатальный 130-й ход был отзвуком утреннего гнева Сюсая на записанный ход Отакэ. Трудно судить наверняка. Сам мастер вряд ли сознавал поворот судьбы, вызванный его душевным состоянием или вмешательством злого рока.
Едва мастер поставил на доску 130-й камень, как откуда-то издалека послышались звуки бамбуковой флейты. Исполнение было виртуозным и немного смягчило бушевавшую на доске бурю. Сюсай прислушался.
С высокой горы я в долину смотрел. Там дыни в цвету, баклажан уж созрел…
С этой песенки обычно начинают учебу на флейте сякухати[39]. Есть еще флейта, похожая на сякухати, но имеющая на отверстие меньше: так называемая «одно-коленная флейта». По лицу мастера было видно, что он погрузился в воспоминания. Над своим 131-м ходом Отакэ начал думать еще до обеда и потратил на него 1 час 15 минут. В 2 часа он взял было камень, снова задумался, но минуту спустя все-таки поставил его на доску.
Увидев 131-й ход черных, мастер не изменил позы, лишь вытянул шею и забарабанил пальцами по краю жаровни-хибати. Его колючие глаза бегали по доске. Он подсчитывал очки. Подрезанный 129-м ходом «дурной треугольник» на 133-м ходу был подрезан с другой стороны, и три белых камня попали в атари. Затем до 139-го хода одно атари следовало за другим, и черные, угрожая взять камни, выстроили длинную стенку. Произошел тот самый поворот в игре, который Отакэ называл землетрясением. Черные вторглись в самую сердцевину мешка белых. Казалось, я слышу грохот разрушения белой крепости.
На 140-м ходу Сюсай задумался, продолжать ли бегство по прямой или взять два черных камня. Он часто-часто махал веером.
— Не знаю, вроде бы одно и то же. Не знаю, — бессознательно прошептал он. — Не знаю…
На этот ход у него ушло 28 минут. Вскоре принесли полдник. Сюсай взглянул на Отакэ.
— Угощайтесь мусидзуси[40].
— Знаете, у меня с желудком неважно…
— А вдруг еда поможет?
Увидев, что мастер сделал 140-й ход, Отакэ заговорил:
— Не думал, что вы будете этот ход записывать, а вы его еще и сделали. Очень быстро играете, сэнсэй, у меня просто голова кружится. Для меня это хуже всего.
Сюсай продолжал игру до 144-го хода, был записан 145-й ход черных. Отакэ взял камень и хотел поставить его на доску, но задумался, а тут подошло время прекращать игру. Пока Отакэ в коридоре заклеивал конверт, Сюсай сердито смотрел на доску и не двигался. Его нижние веки слегка распухли и, казалось, горели. Во время доигрывании в Ито мастер часто поглядывал на часы.
40
— Если удастся, постараемся сегодня закончить, — сказал мастер организаторам матча утром 4 декабря. Еще до перерыва на обед он обратился к Отакэ: — Давайте закончим сегодня. Отакэ молча кивнул.
Стоило только подумать, что партия, растянувшаяся на полгода, сегодня закончится, как у меня, верного наблюдателя, защемило в груди. Было ясно, что мастер проиграл.
Еще утром, когда Отакэ отошел от доски, Сюсай взглянул на нас, улыбнулся и сказал:
— Все кончено. Ходов больше нет.
Неизвестно, когда он успел пригласить парикмахера, но в то утро мастер явился на игру коротко постриженным и напоминал буддийского монаха. Прическа с пробором, с которой он приехал в Ито, закрасив седину, вдруг сменилась коротким ежиком. Это наводило на мысль, что мастер не совсем чужд театральности. Он выглядел помолодевшим, словно смыл с себя старость.
4 декабря на росшей во дворе сливе вдруг распустилась пара цветков. Было воскресенье. Начиная с субботы прибывали все новые и новые гости, поэтому игру перенесли в новый корпус. Я по-прежнему располагался в соседнем номере в самой глубине нового корпуса, два номера над ним с прошлого вечера занимали организаторы матча. Таким образом, поблизости не было посторонних и никто не мог потревожить мастера. Отакэ, занимавший номер на втором этаже, день или два назад перебрался вниз. Он сказал, что неважно себя чувствует и что его утомила беготня вверх-вниз по лестнице.
Окна нового корпуса смотрели прямо на юг, за окнами был широкий и просторный сад. Луч солнечного света проникал глубоко в комнату и падал рядом с доской. Пока вскрывали записанный 145-й ход, мастер внимательно, слегка наклонив голову, осмотрел доску. Брови сведены к переносице — он выглядел очень строгим. Отакэ явно предвкушал близкую победу — камни в его руках так и порхали.
Напряжение профессиональных игроков в го после того, как партия вступает в заключительную стадию ёсэ, совсем не такое, как в начале или середине игры. Кажется, что ощущаешь их нервную дрожь, и это ощущение усугубляется жестокостью схваток на доске. Игроки часто и шумно дышат, словно и в самом деле сражаются на мечах.
Иногда кажется, будто видишь вспышки духовного огня.
На этой стадии в других, не столь ответственных играх Отакэ способен был за минуту сделать десятки ходов. В этой партии он тоже, несмотря на запас времени в 6–7 часов, казалось, стремился использовать мгновенную реакцию возбужденной нервной системы и не упустить волну. Зато Сюсай несколько раз брал камень и, колеблясь, откладывал его.
Видеть такое разыгрывание ёсэ — все равно что наблюдать действие какого-то точного механизма или, если угодно, математического закона, — во всем присутствовала красота порядка и системы. Конечно, это было сражение, но сражение в прекрасных формах. Ощущение прекрасного усиливали игроки, которые ни разу не отвели взгляд от доски.
Со 177-го хода до 180-го переливающийся через край восторг буквально переполнял Отакэ, его полное круглое лицо казалось умиротворенным ликом Будды. Вероятно, им овладела экзальтация или что-то подобное, выражение на его лице было неописуемым. О болях в желудке он в это время наверняка забыл.
Незадолго до этого его жена, не в силах от волнения усидеть в комнате, ходила по саду со своим замечательным сыном-крепышом, вылитым сказочным героем, Момотаро на руках и не отрываясь глядела на окна игрового зала.
Как раз в тот момент, когда со стороны моря затих звук сирены, мастер сделал 166-й ход, после чего поднял вдруг голову:
— Есть место! Проходите сюда! Здесь есть место! — он сделал пригласительный жест, его голос звучал очень приветливо.
В этот день на судейство приехал Онода, только что закончивший квалификационный осенний турнир в Ассоциации. Собрались и другие организаторы матча — секретарь Ассоциации Явата, Сунада и Гои, корреспонденты газеты «Нити-нити симбун» в Ито и другие, — все они смотрели игру, все ближе и ближе подступая к играющим. В соседней комнате тоже толпились люди — их тени падали на бумажную раздвижную перегородку. Их-то мастер и пригласил войти в игровой зал.
Благодушное, как у Будды, лицо Отакэ мгновенно переменилось — это вновь было исполненное решимости лицо бойца. Маленькая фигурка Сюсая неподвижно застыла и от этого казалась настолько внушительной, что все вокруг притихли. Когда Отакэ сделал 191-й ход, мастер наклонил голову, приоткрыл глаза и придвинулся к доске. Наперебой щелкали веера обоих партнеров. На 195-м ходу наступил перерыв на обед.
После обеда игру продолжили на прежнем месте, в шестом номере старого корпуса. Небо затянулось тучами, вороны кричали не переставая. Зажгли висевшую над доской лампочку. Лампочка была в шестьдесят ватт, стоваттная давала бы слишком яркий свет. На доске виднелись тусклые отражения черных и белых камней. Желая как-то украсить последний игровой день, хозяин гостиницы заменил картину в нише-токонош — теперь там висели парные пейзажи кисти Кавабата Гёкусо. Под ними стояла статуэтка Будды, восседавшего на слоне, а рядом блюдо с морковью, огурцами, помидорами, грибами, петрушкой и другими овощами.
Говорят, что, когда какая-нибудь важная игра, вроде последней партии, подходит к концу, от волнения ее трудно становится смотреть. Однако мастер не проявлял ни тени беспокойства. По его виду невозможно было заподозрить, что он проиграл. После 200-го хода у него разрумянились щеки, впервые за день он снял шарф. Пожалуй, он все-таки слегка возбудился, но его движения ничуть не изменились и были такими же, как всегда. Когда на 237-м ходу партия закончилась, мастер Сюсай Хонинобо был совершенно спокоен.
И когда он молча поставил камень на нейтральный пункт, Онода произнес:
— Кажется, пять очков?..
— Да… пять очков… — проговорил мастер, поднял тяжелые веки и перестал оформлять свои территории для подсчета очков. Последний ход был сделан в 2.12 пополудни.
На следующий день, когда участники комментировали партию, Сюсай с улыбкой сказал:
— Я прикинул, что будет очков пять, еще до оформления территорий, правда, у меня получилось 73:66, но если оформить территории, возможно, получится немного меньше. — Он сам переоформил территории, и счет оказался 56:51.
До тех пор пока черные не воспользовались 130-м ходом белых и не испортили их большую территорию, никто бы не смог предсказать такую разницу. Мастер сказал, что уже после 130-го хода где-то примерно на 160-м ходу он упустил возможность разрезать цепь противника без потери инициативы в R9 и тем самым упустил шанс сократить разрыв в счете. Анализ показал, что это разрезание сокращало его до трех очков — при все том же злополучном 130-м ходе. Значит, 130-й ход был на самом деле не так уж плох. Не случись, как выразился Отакэ, «землетрясение», чем, интересно, закончилась бы партия? Проигрышем черных? Мне, любителю, трудно судить, но в том, что черные проиграли бы, я очень сомневаюсь. Зная решимость Отакэ, я почти уверен, что он победил бы даже в том случае, если бы ему пришлось для этого грызть камни.
Можно, пожалуй, сказать, что шестидесятичетырехлетний Сюсай хорошо играл до тех пор, пока, страдая от болезни, не уступил инициативу клещом впившемуся в него Отакэ, в то время лучшему из новых профессионалов. Мастер не воспользовался оплошностью черных и не изворачивался — просто ход событий на доске вовлек его в ближний бой, а для ближнего боя у него, вероятно, не хватило по причине болезни энергии.
«Непобедимый мастер» проиграл свою последнюю игру. Кто-то из учеников сказал: «Мастер считал, что только со вторым человеком, то есть с тем, кто идет следом за ним, следует играть в полную силу». Не знаю, говорил ли Сюсай эти слова, во всяком случае, всю свою жизнь он поступал именно так.
Когда наутро после заключительного игрового дня я вернулся домой в Камакура, я не в силах был сразу взяться за обработку моих шестидесятидневных репортажей и, словно сбежав с поля боя, отправился развеяться сначала в Исэ, а потом в Киото.
Сюсай еще какое-то время оставался в Ито, как я слышал, поправился на четыре фунта, его вес достиг 28 килограммов. Он несколько раз навещал там госпиталь, где лежали раненые солдаты, давал сеансы одновременной игры на двадцати досках.
С осени 1936 года гостиницы на курортах, уже стали занимать под военные госпитали.
41
Через год с небольшим ученик Сюсая Такахаси, игрок четвертого дана, открыл в своем доме в Камакура частную школу го. На открытии школы присутствовал Сюсай в сопровождении двух своих учеников — Маэда и Мурасима. Это случилось 7 января. В этот день я встретился с мастером впервые после матча.
Сюсай сыграл две учебные партии, но выглядел при этом так, словно играть ему было очень тяжело. Камни в руке он держал как-то вяло, на доску их ставил без энергии — не было слышно характерного щелчка. Во время второй партии он порой так глубоко вздыхал, что движение вздоха передавалось его плечам. Веки у него немного опухли — не настолько, чтобы это бросалось в глаза, но я сразу же вспомнил мастера в Хаконэ. Он так и не оправился от своей болезни.
В день открытия школы Сюсай играл партии с любителями, поэтому особыми осложнениями игра не грозила, но мастер сразу же достиг состояния полной отрешенности. Когда настало время идти ужинать в гостиницу на море, вторую партию прервали на 130-м ходу. Партнером мастера был довольно сильный любитель первого дана, получивший четыре камня форы. В средней стадии игры черные начали показывать когти и разрушили большой мешок белых, так что белым пришлось туго.
— А черные играют неплохо, ничего не скажешь, — заметил я, обращаясь к Такахаси.
— Да, черные побеждают. Стоят прочно. А белым трудно, — ответил Такахаси. — Мастер изрядно сдал, играет теперь не так, как прежде. Ослаб после последней партии.
— Он как-то сразу постарел.
— А ведь недавно был совсем бодрым стариком… Если бы он победил тогда, все было бы иначе…
Когда мы прощались перед гостиницей, я сказал мастеру:
— Мы с вами увидимся в Атами.
Сюсай с женой 15 января приехали в Атами и остановились в гостинице «Урокоя». К тому времени я уже несколько дней жил в гостинице «Дзюраку». 16-го числа после обеда мы вместе с женой сходили в «Урокоя». Мастер немедленно достал сёги, и мы сыграли две партии. Я проиграл обе, хотя играл с форой. Мастер предложил пообедать и поговорить, но я сказал, что сегодня очень холодно; в другой раз, когда будет теплее, я с удовольствием приглашу его в ресторанчик Дзюбако или Тикуё. Мастер любил поесть жареных угрей. Снег в тот день так и искрился.
После нашего ухода Сюсай, как я узнал, купался в горячем источнике. Его жена поддерживала его сзади за подмышки. Вскоре, уже в постели, у мастера начались боли в груди, он стал задыхаться. Сутки спустя перед рассветом он умер. Об этом мне сообщил по телефону Такахаси. Я открыл ставни — солнце еще не взошло. Я подумал, не повредило ли здоровью мастера наше позавчерашнее посещение?
— Мастер так уговаривал нас пообедать… — сказала жена.
— Да…
— Его супруга тоже просила остаться, а мы ушли… Я в тот же день подумала, что надо было остаться. Ведь она даже горничной сказала, что мы будем обедать вместе с ними.
— Я боялся, что он простудится…
— Не знаю, понял ли он тебя правильно, ведь он в самом деле хотел, чтобы мы остались. Возможно, мы обидели его тем, что ушли.
— Если сказать честно, мне вовсе не хотелось уходить. Лучше было бы не мудрить, а просто остаться. Кажется, он чувствовал себя одиноким.
— Он всегда был одинок.
— Было холодно, а ведь он проводил нас до крыльца.
— Хватит… Как ужасно, что люди умирают. Покойного в тот же день отвезли в Токио. Когда его, завернув в плед, несли от крыльца гостиницы до машины, он выглядел таким крошечным, что казалось, будто у него вообще нет тела. Мы стояли поодаль, ожидая отправления.
— Нет цветов! — вдруг спохватился я и сказал жене: — Где-то здесь была лавка. Сбегай поскорее, купи. Только быстрее, машина вот-вот тронется.
Жена вскоре вернулась с цветами, и я передал букет сидевшей в машине жене мастера.
Литературно-художественное издание
Ясунари Кавабата МАСТЕР ИГРЫ В ГО
Ответственный редактор Антонина Балакина
Художественный редактор Егор Саламашенко
Технический редактор Елена Траскевич
Корректор Мария Дылева
Верстка Максима Залиева
Подписано в печать 18.09.2009. Формат издания 84x108 7,2. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,08. Тираж 6000 экз. Изд. № 90383. Заказ № 1724.
Издательство «Амфора». Торгово-издательский дом «Амфора».
УДК 82/89 ББК 84(5я) К 12
YASUNARI KAWABATA Meijin
Перевод с японского под редакцией Б. Останина
Издательство выражает благодарность The Wylie Agency (UK) Ltd за содействие в приобретении прав
Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»
Кавабата Я.
К 12 Мастер игры в го: [роман] / Ясунари Кавабата; [пер. с яп. под ред. Б. Останина]. — СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2009. - 185 с.
ISBN 978-5-367-01171-5
Ясунари Кавабата (1899–1972) — один из крупнейших японских писателей, чье творчество отмечено множеством престижных наград, а также Нобелевской премией по литературе.
В книгу вошел самый известный его роман «Мастер игры в го», который сам автор считал ключевым своим произведением.
УДК 82/89 ББК 84(5я)
ISBN 978-5-367-01171-5
The Heirs of Yasunari Kawabata, 1951
Издание на русском языке, оформление.
ЗАО ТИД «Амфора», 2009