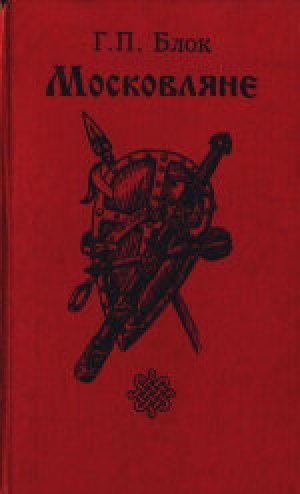
Георгий Петрович Блок
МОСКОВЛЯНЕ
Исторический роман
Художники Елена Сапожкова и Алексей Акатьев
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Сосновая грива
I
Лесным, недавно проторенным, но теперь уж почти безопасным путем возвращается князь Владимир Всеволодович Мономах[1] с малой дружиной из Суздаля в Киев.
Ему за шестьдесят, однако стариком его никак не назовешь. Он прям и широкогруд. Твердый взгляд больших, очень ярких темно-карих глаз полон жизни. О привычке к степным непогодам да к лесным ночлегам говорит ровная смуглость тонко очерченного лица с резкими морщинами. В легких волосках широкой седой бороды засели две-три лапки желтого березового семени.
Одежда на нем простая — походная, поношенная. Красный бархат высокой круглой шапки повыгорел. Ее бобровая оторочка где посвалялась, где повытерлась.
Поводья опущены. Конь, щеголевато перебирая тонкими ногами, мерно ступает по закаменевшей глине тесной лесной дороги.
После долгой июньской засухи ночью прошла гроза. Но дождя выпало мало, глина не размякла, и только местами в глубоких колеях стоит мутная, телесной окраски вода. Солнце прячется за пестрыми трепаными облаками. Утренний воздух прохладен и душист. Коротко знаком и сердечно мил князю Владимиру Всеволодовичу этот крепкий дух частого елового леса. Вся жизнь прошла в таких путях. Принимался он нынче весной, когда писал поучение сыновьям, подсчитывать дальние свои походы, насчитал восемьдесят три и бросил, сбившись со счета. Чего считать? Чай, никто и так не осмелится назвать домоседом и лежебокой…
Хорошо в лесу! Сощурились, заволоклись очи…
Но вот отчего-то нахмурился, легонько стегнул плетью своего вороного по искусанному слепнями атласному плечу и подобрал поводья. Вороной пошел бодрее, обиженно дергая острыми ушами.
Сколько раз замечал, что на тихой езде лезет в голову безлепица. Сыновей учил обороняться в пути от праздных мыслей, а сам на старости лет то и дело им поддается!
Всплыл вдруг в памяти очень давний день, самый страшный, пожалуй, из всех пережитых.
Мономаху едва исполнилось пятнадцать лет, когда его родной отец и два дяди, сыновья славного на весь мир князя Ярослава, внуки великого Владимира, перед которым трепетала древняя, тогда еще могущественная Византия, были наголову разбиты степными грабителями — половцами, в первый раз подступившими к Киеву.
Победители, увлеченные грабежом и поджогами, рассыпались по окрестным селам. Истребить разбойников по частям было бы теперь легко, если бы князья согласились раздать киевлянам оружие из своих запасов и коней из своего табуна. Народ, не мирясь с поражением, требовал этого настойчиво, но князья побоялись вооружать горожан. Поднялся мятеж. Перепуганные князья едва спаслись позорным бегством из родного города, захватив с собой и юношу Владимира.
С этого началась мужеская жизнь Мономаха. Он вступил в нее с сознанием унижения, с чувством стыда.
В молодости сердце немилостиво, совесть пряма, а ум неопытен. Юный Мономах тут же, на первом перегоне от Киева, бесповоротно осудил отца и признал себя обязанным искупить его срам. Что делать и как делать, он, разумеется, еще не знал. Поступать во всем не по отцовскому, а по дедовскому обычаю, не искать опасной новизны, к которой склоняли отца корыстные советчики, а воротить добрую старину — таково было первое решение. Оно на всю жизнь осталось для Мономаха путеводным.
Избыток сил толкал к дерзким подвигам. Он был из тех, кому жизнь не в жизнь, если нет трудных задач, ловких соперников и жестоких опасностей. Как всякий юноша, он не сомневался в своем счастливом жребии. Он привык сознавать себя сыном великого народа и будущим соправителем огромной, кипящей богатством страны, которая ведома и слышима во всех концах земли. Он отдавал себе отчет в ее мощи и любил ее гордой и деятельной любовью. Ему хотелось власти над людьми и долгой славы.
Вот тогда-то, бежав из Киева, и совершил он свой первый поход в Залесье.
Ростово-Суздальское залесье с его древними русскими городами, возникшими еще до Рюрика, считалось владением Мономахова отца, Всеволода Ярославича, уже тринадцатый год. Однако для него это был пока лишь заглазный и мало ценимый придаток к его главной, Переяславской волости, расположенной под Киевом. Теперь же, когда из-за половцев Переяславская волость стала на время недоступна, Ростовская земля приобрела вдруг новое значение.
Этот далекий тыл нужно было оберечь от опасностей внешних и внутренних. Там под боком мордва, а за ее спиной, на Волге и на Каме, — жадные до наживы булгары. Туда еще с давних времен изгоняли неугодных князьям бояр, которые, сплотившись с местными коренными вотчинниками, образовали значительную и недружелюбную силу. Залешане и в городах и в селах стонали под боярским ярмом. Мятежи достигали там иногда таких размеров, что самому Ярославу пришлось двинуться туда однажды с дружиною на выручку тамошней знати, избиваемой голодной челядью. Последние киевские происшествия могли вызвать опасный отклик в этой беспокойной среде. Потому-то и послан был туда Владимир.
Но мог ли опасливый Всеволод Ярославич приказать еще не испытанному в боях любимому сыну идти в Ростов не обычным, окольным речным путем, а прямой дорогой, посуху, через глухие леса, которыми владели хоть и родственные по крови, но враждебные вятичи, закоснелые язычники? Это значило бы посылать юношу на такой подвиг, который в те времена считался посильным разве только богатырям.
Мономах совершил этот подвиг. И, сделав так, поступил по своей воле, вопреки наказу отца, чтобы, дав простор молодой удали, поскорее оправдать себя в собственных глазах.
Вот почему теперь, спустя пятьдесят лет, как, впрочем, и всегда на этом пути, так встревожена была его память.
II
Прогнав из головы безлепицу, Мономах привычным усилием послушного ума собрал растрепавшиеся мысли. Прохлада лесного бессолнечного утра располагала к трезвым оценкам.
Что говорить — много сделано за полстолетия. Сбылось, кажется, все, о чем мечтал смолоду.
Если золотой киевский престол достался Мономаху лишь на склоне дней, так ведь только оттого, что сам не захотел брать его раньше, чтобы не ввязываться в кровавые споры со сварливой княжеской братией. Но и задолго до того, когда съезжались, бывало, русские князья для устроения мира и когда в знак любви и родства рассаживались все на одном ковре, Владимиру отводилось на этом ковре почетнейшее место. И когда, дав другим откричаться, он принимался говорить своим ровным голосом, никто не смел его перебить; даже ветер как будто унимался, переставая трепать шелковые полы княжого шатра.
А утвердившись в Киеве, Владимир сразу заставил вспомнить забытое после Ярослава старейшинство матери городов русских. Под тяжестью мягкой руки Мономаха присмирели завистливые князья, притихло ненасытное боярство, примолк строптивый Новгород. Вольнее вздохнул изнуренный смерд.
Владимир знал, что добытой власти не упустит, пока жив, а умирая, без препятствий передаст потомству: для того нынче весною и перевел в Белгород старшего и лучшего из сыновей, чтоб был вблизи и в смертный его час сразу перенял киевский престол.
Отцово наследство расширил и укрепил за своим родом, рассадив по всем городам сыновей, а владения двоюродных братьев, опасных родовым старшинством, замкнул в полукольцо своих земель.
Половецкой беде положил своими победами конец. Загнал грабителей за Дон и надолго отбил у них охоту соваться к Киеву.
Кого только не рубил этот старый меч! Все самые сильные враги сокрушены и один за другим сошли в могилу.
Да, все это так, былой позор искуплен: и крепкая власть и подлинная, летописная слава — на многие века; молва о победах Мономаха прошла по всем западным странам, докатилась до Рима. Но легко ли досталось, дешево ли обошлось?
Людская злость страшнее звериной. Когда-то, в молодости, вязал своими руками диких жеребцов. Тур поднимал на рога. Лось топтал. Вепрь отодрал от бедра меч. И доныне, даже вот и сегодня (верно, к ненастью), ноет левая нога, помятая медведем. Что все это по сравнению с теми страхами и обидами, каких натерпелся на своем веку от людей! Да не от чужих, а от своих же кровных — от братьев, от князей!
Сколько пролито крови! В одной только княжеской семье на памяти у Мономаха умерло не своей смертью восемь человек. И какой смертью: кого греки опоили ядом в Тмутаракани, кого чудь замучила в дальних северных лесах, кого прикололи сонного на возу, кого ослепили. А бояр и простого народа что полегло и в битвах с половцами, и — еще того более — в княжеских усобицах! И мало ли казнено и уморено по тюрьмам!
«На сей крови, — размышлял Мономах (он был начитан и привык думать книжными образами), на сей крови рассыпанная храмина Русской земли собрана опять, кирпич за кирпичом, и вознеслась без малого до прежней, Ярославовой высоты. Но и тогда, при Ярославе, не была прочна. А теперь? Надежен ли, клеевит ли раствор извести, скрепивший кирпичи?»
Владимир Всеволодович с гордостью, но и с горечью признавался себе, что этим скрепляющим раствором был прежде всего и больше всего он сам, пожалуй даже только он. Он знал цену своей упорной воле, своей неутомимости, быстроте и изворотливости. А чего стоили его красноречие, его образованность, его щедрость, а главное — его душевная забота о русской славе! Когда он говорил: «Не хочу я лиха, но добра хочу братии и Русской земле», он не лгал и не пустословил.
Но сегодня он жив, а завтра ляжет в гроб. Что тогда? Сумеют ли сыновья подпереть тощие своды неустойчивой храмины? Ревнуют ли о целости Русской земли?
«Оскудела в князьях эта ревность. И в князьях и в боярах, — рассуждал Мономах. — Ненасытство помутило умы: малое почитают великим, великое — малым. Все глядят врозь. Каждый тянет к своей вотчине, к своему городу. У каждого одна забота — как бы приложить дом к дому, село к селу. Разбогатеет, огородится в дубовых хоромах и думает: „На что мне Киев? Я и сам силен, обойдусь и без Киева. Зачем помогать Киеву людьми да деньгами? О Русской земле позабочусь, а свое потеряю“.
Таких одичалых безумцев не раз учил Мономах и суровым словом и крутым делом. При нем не больно-то смеют поднимать голос. А после него?
Размышляя так с возрастающей тоской, Владимир Всеволодович чувствовал: чего-то, быть может даже главного, что пуще всего сосет душу, он будто не смеет договорить. Но думать дальше было недосуг.
Лес заметно редел. Справа и слева подрагивали желтой искрой лиловые ковры иван-да-марьи. Впереди, между стволами, просвечивало поле. Добраться до первого ручья — а там привал и обед.
Вскоре на лужайке задымили костры.
Пообедав втроем с двумя воеводами, Мономах, по своему обыкновению, обошел перед отдыхом весь стан. Потом, присмотрев прохладное местечко под черемухой, сам разостлал кошму и удобно улегся на отдых. Но не распоясался, а привычным движением оправил длинный меч, с которым не расставался и во сне.
Кругозор мал: всего несколько пядей июньской спутанной травы. Плоские чашечки лютиков лоснятся яичным блеском, да покачиваются те безыменные мелкие цветики, что видны только ранним летом и так похожи на детские синие глаза.
Тишина травяного царства с крепкими запахами здоровой молодости, невнятные обрывки негромких людских голосов, жесткий шелест осинника — все такое свое, настоящее, древнее, прочное, русское, что старому скитальцу Мономаху становится вдруг легче на душе.
Небо над ним все еще пестрое, неприбранное, местами чересчур белое, из-за чего голубые полыньи кажутся неглубокими и тусклыми. Но полуденное солнце пробивается все чаще, посыпая древесную листву сверканьем битого стекла.
III
У одного из догоревших костров коренастый человек с бычьим загривком стережет княжескую коновязь. У него странное прозвище: Кучко. Его настоящего, крещеного имени никто не знает.
На вид ему лет тридцать с небольшим. Сидит под сосной, привалился литым плечом к стволу, грызет сладкий стебель травяной метелки и смотрит задумавшись вдаль. Он думает все о том же: о старом и о новом.
В кругу Мономаховых дружинников новое было не в чести. С ним мирились нехотя, только по крайней нужде. Здесь жили памятью о киевской богатырской старине. И сам князь и ближние его люди то и дело вспоминали и приукрашали в своих рассказах блаженные, на их взгляд, времена старого Владимира и Святослава, когда дружина кормилась, воюя иные страны, а свою землю, как хотелось им думать, блюла, не отягощая неправедными поборами, не обижая понапрасну ни худого смерда, ни убогой вдовицы. Покорит князь чужое племя, соберет с него дань — и поделится щедрой рукой с дружинниками. Вот где искали примеров.
Хоть сейчас покорять было как будто и некого, однако Мономах находил все же поводы делать так или почти так, как делали когда-то его предки.
Он был люб дружине как добычливый, но не скупой хозяин. Его окружал сонм верных учеников и восторженных почитателей. К их числу принадлежал и Кучко.
К тридцати двум годам Кучко накопил большой житейский опыт. Заокские страшные леса изъездил вдоль и поперек, хорошо узнав непонятный киевлянам вятический лесной обычай. В дальних походах — на звериной травле, в бою — всюду оказал себя твердым, деловитым и удалым. Мономах не раз поручал Кучку трудные дела, оценил его усердие и приблизил к себе.
Толковали, что Кучко родом из Суздаля, что при тамошнем князе, при меньшом Мономаховом сыне Юрии,[2] служил отроком, но накликал на себя опалу и отбежал к Мономаху. А отбежав, потерял залесскую вотчинку да заодно каким-то образом и молодую жену. Его старые счеты с князем Юрием всяк объяснял по-своему, и где в досужих дружинных сплетнях была правда, где ложь, никто толком не знал. Сам же Кучко своих дел никогда не открывал никому.
Когда однажды сам Мономах спросил его, женат он или холост, Кучко, как-то странно скривив толстые губы, ответил:
— Вдовый.
И залился таким темным румянцем, что Владимир Всеволодович не стал допытываться дальше.
IV
Мономах пробудился хмурый. Привиделся дурной сон: будто кто-то темный и неразличимый злорадно твердит все те же два слова: "Не воскреснет!"
Уж напоили и оседлали коней, уж затоптали последний костер, уж тронулись, уж растянулись длинной цепью по дороге, уж проехали больше часа, а у Мономаха всё стояли в ушах услышанные во сне слова. В них была непонятная связь с давешними лесными мыслями. И опять казалось, будто самого главного не смеет додумать.
Чтобы рассеяться, он подозвал Кучка.
Кучко был дорог Мономаху своей верой в него. Поэтому нужнее и приятнее всего бывал он в часы сомнений: учитель, теряя веру в себя, искал опоры в незыблемой вере ученика. Однако сейчас эта незыблемость почему-то не утешала, а скорее раздражала Владимира.
"Его потому тянет к старине, — думал он, — что старина ему по нраву и по плечу. Ему бы только бродяжить с дружиной да помахивать булавой. А до Русской земли есть ли ему дело? И смыслит ли, от чего ей прок, от чего вред?"
Он взглянул искоса на ехавшего рядом Кучка. Мясистый загривок придавал голове дружинника бычью неповоротливость. Вытянутое вперед лицо с грубыми складками толстой кожи говорило о косности упрямого ума, — так подумалось Мономаху.
С холма открылось вдруг целое море еще зеленой ржи. Она ходила широкой водяной зыбью.
— С этой нивы, — объяснил Кучко, — Ходота брал себе, бывало, каждый второй сноп. Лет двенадцать назад в здешних местах на лошадей напала язва. И людей перебрала. А Ходота свои табуны угнал и уберег. После на его конях орали и снопами расплачивались.
Ходота — это был вятический князек, с которым Владимир Всеволодович в давние годы не раз бился, расчищая лесную прямоезжую дорогу в Залесье.
— А ныне? — спросил Мономах.
— Ныне народ поправился, — ответил Кучко: — опять лошади завелись. Как Ходота помер, сын его прислал на другой год отроков за снопами. Однако воротились ни с чем.
— Что так?
— Кто их ведает? Вятичи разве скажут! Осмелели, верно, с тех пор, что мы тут ездим.
Набежал ветер. Горько и тепло пахнуло ржаным цветом и васильком. У самой дороги, на бугре, обросшем серебряной полынью, маячил уже потемневший от непогод, но еще свежий дубовый крест. Его поставили в память княжеского тиуна,[3] убитого здесь два года назад вятичами.
С этого места развертывался новый простор. Было ясно видно, как межа ржаного поля извилисто поднимается вверх по ручью, потом от крутого поворота ручья идет уже прямиком к кресту, от креста — к коровьему прогону, огороженному двумя крепкими заборами из елового жердья с обвисшей кое-где корой, затем вдоль прогона — на кудрявую ольху, от ольхи — на одинокую елку с неровно обрубленными нижними сучьями, а от елки — опять вниз, к речке. В этом угловатом полевом обводе, раздвинувшем сплошные леса, было столько строгого русского величия, что у Мономаха снова всколыхнулось то же сладкое чувство кровного родства с этой землей, какое испытал сегодня, перед обеденным сном. Мягкий ком подступил к горлу, и глаза согрелись старческой слезой.
Кучко показал рукой на окраину поля, где виднелись крыши какого-то села. А позади села, отступя от него, крутая сосновая грива, высоко выдаваясь над семьей других холмов, заслоняла собою часть бледной лесной дали.
— Там он и кончился, — проговорил Кучко.
— Кто?
— Ходота.
— Ты его тот раз живым не застал?
— Нет. На похороны угодил. Нагляделся тогда всласть на их непотребство. После того дня два кусок в глотку не лез…
— Грязно живут, что ли, вятичи-то?
— Не то чтоб грязно, а не по-нашему. Душу воротит от их житья. Добро бы чужие были — половцы ли, печенеги ли, булгары, — а то свои! Говорят по-нашему и с лица словно бы наши, а обычай хуже звериного.
В голосе Кучка послышалось такое волнение, что Мономах опять кинул в его сторону внимательный взгляд.
"Напрасно, пожалуй, я об нем давеча плохое помыслил. Что ему вятичи? А он вишь как разгорячился".
— Еще когда Ходота живой был, — продолжал Кучко, — меня из Суздаля к нему посылали. О мордве речь шла: беспокоила мордва их и нас. Я к Ходоте в то самое село, что у сосновой гривы, еще до обеда поспел. А Ходоте не до меня: он товар готовил на низ отправлять, на Волгу.
— Какой товар-то?
— Известно какой: мордовских девок нахватал десятка два, да своих полдесятка прикинул, да парнишек человек семь — всех в неволю продавал. А мне жаловался, что булгарский царь их мимо себя даром не пропускает: из каждого десятка одну девку, самую лучшую, себе берет. "Хоть бы ваш князь помог мне, — говорит, — от этого царя отбиться".
Ржаное поле кончилось. Направо от дороги нежно зеленел высокий лен. Он едва зацветал кое-где бледно-голубыми глазочками. А слева шумела темной ботвой хорошо выхоженная репа. Она вдавалась узким клином в лес, а широким краем подходила к самому лесу.
До села оставалось недалеко. За свежей луговиной с рядами недавно скошенной травы ясно обозначались высокие соломенные крыши приземистых срубов, колодец с журавцом, а за околицей, на взгорье, — одинокая круглая липа.
Навстречу шли две женщины — пожилая и молодая, очень похожие: верно, мать с дочерью. Обе в белых шерстяных шапочках с медными подвесками. У обеих на уши спущены медные кольца о семи лопастях. Обе легко, но твердо печатали дорожную пыль новыми тупоносыми лаптями. Обе, сойдя с дороги, смело оглядели всадников.
— Не боятся нас более? — полувопросительно заметил Мономах.
— Чего бояться? — отозвался Кучко, провожая женщин напряженным, мрачноватым взлядом. — Я же говорю: свои! Таких и в Киеве встретишь, и в Чернигове, и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в Ярославле, и в Устюге, и у нас в Суздале… Эй, доченьки! — крикнул он вдруг им вслед с неожиданно веселой развязностью.
Женщины обернулись.
— Откуда шагаете?
— С реки.
— А реку-то вашу как звать?
— Москва-река, — мягко выговорила молодая и так сверкнула зубами, что Кучко, втянув голову в плечи, только усмехнулся криво и беспомощно.
— Свои, — повторил он задумчиво. — И говорят по-нашему. Небось, тоже, как Ходота, деревянным болванам молятся, окаянные бабенки! Стыда в них нет, вот что, — заключил он, собирая толстую кожу на лице в деланно суровые складки.
— Ты давеча про Ходоту сказывал, — вымолвил с расстановкой Мономах, — как он своих людей в чужие края продавал, а меня каждое твое слово точно рогатиной в сердце толкало. Ты говоришь: свои. Нет! Пока в такой тьме ходят, они нам не свои и мы им не свои. Ты говоришь: стыда в них нет. А я говорю: не им, а нам стыдиться надобно. За их темноту мы в ответе. В самом сердце нашей земли живут нашей крови люди, мы их леса со всех сторон, как медвежье логово, заломали, а своими сделать не умеем!
"В самом сердце нашей земли" — эти слова вырвались у Мономаха нечаянно, сгоряча. Он резко оборвал речь, поймав себя на том, что, помимо воли, выговорил вслух как раз то самое, чего весь этот день и все предыдущие дни не решался додумать до конца.
V
Сердце нашей земли!
Но ведь в глазах Мономаха таким сердцем всегда был Киев. Как кровь со всех концов тела сбегается к сердцу, так к Киеву должны тянуть все волости Русской земли, только от Киева ожидая руководства и защиты. С этим убеждением Мономах родился и никогда не допускал мысли, что можно сомневаться в его справедливости.
А сомнения все-таки вкрались в душу, и бороться с ними делалось год от года все труднее. Русские волости росли, крепли и становились всё менее податливы на те обильные жертвы людьми и деньгами, каких требовал от них Киев. Мономах понимал, что, отказавшись от этих жертв, Киев захиреет, а домогаясь их, обречет на захирение волости. И тем не менее Владимир Всеволодович продолжал стоять на своем. Однако, вопреки всем его огромным и умелым усилиям, кровь не приливала, а заметно отливала от сердца. Оно билось все слабее. Вот в этом-то и не хотел признаваться упрямый стародум.
Он пытался внушать себе, что Киев обессилел лишь на время, что больше всего крови брали у него половцы, а с ними сейчас как будто покончено. Но уязвленная совесть не успокаивалась.
Киев, с сотнями церквей, с десятком рынков, с каменными дворцами, был одним из крупнейших, красивейших и просвещеннейших городов тогдашней Европы. Он соперничал с Царьградом. О нем много говорили и писали на Западе — с восхищением, с завистью и с тревогой.
Основой его военной силы была помощь подвластных ему княжеств, а главным источником богатства была мировая торговля. В руках киевского князя, или русского короля, как величали его иногда на Западе, был южный конец самой короткой, самой удобной, самой безопасной и потому самой оживленной водной дороги, которая соединяла Балтийское море с Черным, север Европы — с югом, Скандинавию — с Византией и Римом. Другим концом той же дороги владел Новгород. Многовековые старания восточного славянства спаяться в единое русское государство увенчались успехом только после того, как эти два русских города, подчинившись одной власти, вступили в военный и торговый союз.
В те давние уже годы, когда Мономах, еще молодой, совершал зимние походы на Ходоту, в Западной Европе произошло событие, важность которого современники поняли не сразу. Византийский император, доведенный до отчаяния набегами норманнских мореходов и азиатских кочевников, кидался во все стороны с мольбами о помощи и громогласно заявлял о своей готовности отдаться в руки западных латинян, лишь бы спасли его от варварского ига. От этого ига его спасли не латиняне, а друг и родственник Мономаха, русский князь Василько. Но латиняне не преминули тем не менее воспользоваться малодушием перепуганного императора. Предприимчивые правители Венецианской республики выговорили у него такие неслыханные торговые льготы, о каких никогда не грезили даже и природные византийские купцы.
Четырнадцать лет спустя, когда Мономах был всецело поглощен борьбой с вотчинными происками своих родичей-князей, понуждая их жить в едино сердце, за рубежом Русской земли разыгрались новые, еще более значительные события: первый крестовый поход, изгнание мусульман из Палестины и образование латинскими феодалами Иерусалимского королевства.
Владимир Всеволодович, шурин германского императора, двоюродный брат французского короля, тесть притязавшего на византийский престол греческого царевича, тесть венгерского короля и сват короля шведского, был превосходно осведомлен обо всем происходившем в Западной Европе. Тамошние дела были для него свои дела. Рассказы русских путешественников, успевших побывать в только что освобожденном Иерусалиме (а в их числе была и родная сестра Мономаха), отравляли душу тяжелыми предчувствиями.
Предчувствия не обманули.
Пути мировой торговли пролегли по-новому: передвинулись на запад. Чем раньше были Нева, Волхов, Ловать и Днепр, тем стали теперь Рейн и Средиземное море, утраченное немощной Византией и очищенное от разбитых крестоносцами сарацинов. Чем прежде был Киев, тем делалась ныне богатевшая не по дням, а по часам Венеция.
Днепр не обмелеет. Киевские горы не осыпляются. Зеленые дубравы не иссохнут. Не переведутся люди. Но старейшинство Киева падет и не восстанет. "Не воскреснет!" Мономах дернул тонкой бровью, вспомнив послеобеденный дурной сон.
"Пусть так, — размышлял он, — но как же все-таки взбрело на ум, как поворотился язык назвать сердцем Русской земли эту вятическую глушь? Уж если Киеву скудеть, так постоят же за целость и честь великого отечества другие древние, славные и сильные еще города: Смоленск, Новгород…"
VI
Тем временем княжеская запыленная дружина уж втянулась в вечереющее село. Владимир рассеянно смотрел по сторонам.
Румяные под закатным лучом срубы мало отличались от тех, к каким привык его глаз под Новгородом и под Смоленском, какие видел три дня назад под Суздалем.
Те же высокие шатры взъерошенных соломенных кровель, те же черные языки печной копоти над низенькими дверками и над крохотными оконцами. Так же порасщелились на солнце да на ветру рубленные в угол сосновые венцы. А из пазов между ними такими же белыми космами свисает болотный мох.
Женщины сошлись у колодца с такими же, как там, коромыслами и примолкли, заглядевшись на проезжих. Знакомым движением руки заслонили глаза от низкого солнца. Заметалась промеж конских ног бестолковая курица, и на шершавую еловую жердину забора с подтеками побелевшей смолы тяжело вспорхнул расписной петух. А над его кровяным гребнем ветка калины вынесла из огорода сливочные шапки горьких своих цветов.
В голове у Мономаха торопливые мысли набегали одна на другую, как мелкие волны.
Давеча, беседуя с Кучком о темноте вятичей, он думал о том, что и в Залесье свет брезжит только в городах, а по селам тьма далеко не всюду еще рассеяна. Да и в самом Ростове давно ли удалось наконец свалить в озеро последнего каменного истукана!
Наведываясь в Залесье, Мономах в каждый приезд что-то начинал, что-то кончал. Таков ли до него был Суздаль? Вырос невесть когда из болотной топи, слепился, как толковали, из сиротинских селищ, а ныне чем не город? Не Мономаховой ли рукой заложен там собор, украшенный не хуже киевских? Не его ли попечением навалили семисотсаженный вал вокруг тамошнего Печернего города? Не сам ли он почти силком пригнал туда из Киева печерских иноков и указал им место за речкой Каменкой, где строить обитель? Не доглядывал ли своим глазом за суздальскими гончарами, чтобы не ленились учиться кирпичному делу у киевских?
Сколько трудов положил на то, чтобы не особилась и не дичала Суздальская земля, чтобы через эти вот вятические немые леса перекликалась с Киевом, чтобы не забывала с ним родства! Даже речкам и малым ручьям давал памятные киевские имена — Ирпень, Почайна, Лыбедь — и сердился, когда называли их иначе.
Много пота утер за Русскую землю, а сколько еще недоделанных дел позалеглось!
Новое зрелище перебило его мысли. Правый порядок изб оборвался. Вместо них потянулся вдоль сельской улицы широкий ров, местами замытый дорожным песком, местами поросший ольхой. Кое-где в ямах стояла черная вода, подернутая ряской. За рвом лежал пустырь.
Островами лопуха и дремучей крапивы отчетливо обозначились места, где были когда-то строения. Пестрый дятел лепился к стволу голого вяза, выбивая гулкую дробь. А позади колыхался целый лес высокого плакуна. Из зыбкого облака его алых стрельчатых цветов торчала, покачнувшись набок, полуразобранная бревенчатая башня. В щели между верхними ее венцами уже успел посеяться березовый кусток. Его мотало ветром.
Это все, что осталось от хором Ходоты.
Мономах прикидывал в уме возраст старого вяза и думал о том, что уже не впервой, знать, пустеет это место. Ему хотелось вообразить, каково было тут, когда хаживали на вятичей прадед его Владимир и еще ранее Святослав, а до Святослава хазары.
"И Владимир старый и Святослав, — продолжал он размышлять, — наведывались в эти леса только изредка, мимоходом: соберут с вятичей дань и уйдут. А нам и детям нашим с вятичами жить. Чтобы сделать их подлинно своими, надобно понасажать сюда поболее своих дружинников, нарезать им здешней земли, настроить в лесах монастырей, наделить и их землей, огородом, звериными ловищами, рыбными озерами. А дружинник ли, монастырский ли игумен, как сядет на землю, сразу примется по-боярски соседей ломать: вот таких, что живут в этих срубах, что расчистили всем миром от леса то просторное ржаное поле. До тех пор свое ненасытство будет тешить, покуда не поднимет их против себя же. После того уберется боярин со страху в город, а в народе мигом появится какой-нибудь речистый соблазнитель, волхв (волхвы кругом так и вьются) и прельстит простецов, заставит вернуться к темным языческим обычаям. А там начинай все сызнова. Так-то вот оно и идет — петлями. Одно за другое цепляется, и одно другому перечит".
Так бывало не раз и в Ростовской земле, и в медвежьем углу под Ярославлем, и на Белом озере, и в Новгороде. Но других, более прямых путей к скреплению распадавшегося государства Мономах не мог придумать. Приходилось идти петлями.
И в городах, особенно в залесских, где только что побывал Мономах, дела складывались не лучше.
На Клязьме, например, вырос целый посад бежавших из Ростова каменщиков и боярских холопов. Их трудами Мономах, чтобы заслонить Залесье от опасной Рязани, срубил на этом месте город, назвав его в свое имя Владимиром, и, по усвоенному им обычаю, воздвиг в нем каменный храм. Раздумывая о будущем этого нового ростовского пригорода, Владимир не сомневался, что нить жизни завернется и тут все в ту же роковую петлю.
А Кучко рассказывал тем временем про похороны Ходоты: как натягивали новую одежду с золотыми пуговками на оцепеневшее тело, как пихали душистый шалфей в ледяной холод пазухи, как усаживали неповоротливый труп на скамью, подпирая парчовыми подушками. В этом зловещем обряде Мономаху померещилось сходство с тем, что сам он делал повседневно.
Жизнь около него, как всякая жизнь, неудержимо шла вперед. Неизбежные во всякой жизни петли внутренних противоречий неприметно свивались в могучую пружину, готовую внезапным толчком изменить весь ход событий. Мономах же упрямо глядел и тянул назад, не понимая, что света и жизни надо искать только впереди себя, что личное его прошлое, как и любимое им прошлое его страны, как всякое прошлое, вымощено одними только трупами, которых не поднимешь на ноги и не подопрешь парчовыми подушками.
Владимир любовался, какими развилистыми и крепкими еще на вид рогами уходит в вечернее небо изглоданный червями столетний вяз, которому никогда уж не зеленеть, и не примечал пробившихся на обочине дороги древесных сеянцев, которые непременно выживут, хоть и примяло их копыто княжеского жеребца.
Сейчас Мономах возвращался в Киев. Он предвкушал заранее, как еще издали замерцают на днепровских высотах золотые главы дряхлого города. Это с малолетства знакомое зрелище всегда казалось ему праздничным, всякий раз зажигая его взгляд напрасными надеждами.
И ничего, кроме тусклой, будничной суеты, не мог он разглядеть, когда смотрел пять дней назад на гонки свежих бревен, причаленных к песчаному берегу тихой Клязьмы, и на мокрых по пояс мужиков, которые, переругиваясь с плотовщиками, выкатывали из воды скользкое кряжье.
Это были те самые беглецы из Ростова, те ремесленные люди, что ютились кое-как в неприглядном, необжитом и еще непрочно сбитом пригороде, которому он, Владимир, в угоду старому семейному обычаю дал свое имя.
Там, в этом новом городе, в кладке построенного им храма, еще не закаменел известковый раствор. Там не притоптана еще по дворам луговая дерновина. Там крепко пахло сосновой щепой. Мономах не чуял, что этим смоляным запахом дышит на него будущее. Он не вел счета ни новым дернистым дворам, ни тайно копившимся в них новым силам. И, конечно, не предвидел, что вскоре доведен будет этот счет до такого заветного числа, когда жалкий посад обернется вдруг как в сказке, стольным княжеским городом, откуда всего через полсотни лет родной Мономахов внук будет властно навязывать свою волю и Киеву и Новгороду.
А ныне этому внуку, Юрьеву сыну, шел всего только шестой годок. Когда намедни в Суздале Владимир Всеволодович сажал его верхом себе на колено, шустрый парнишка забавлялся тем, что выщипывал волоски из широкой дедовой бороды. И как-то странно кривил шею.
Его звали Андреем.[4]
VII
За селом дорога вскоре расходилась надвое. Левая, более торная, шла вдоль опушки лиственного леса вниз, к приречным болотистым лугам, а дальше вела сухим берегом к броду. Правая, заросшая между колеями травой, спускалась по отлогой поляне, огибая разбросанные кое-где можжевеловые кусты, затем взбегала покатым подъемом вверх и вступала в вековой сосновый бор.
Этот бор выдавался над всей лесной окрестностью высоким островом. До него оставалось не более версты.
Мономах велел дружине ехать влево и стать ночным станом за рекой, а сам, позвав с собой одного из воевод да Кучка, взял вправо и пустил коня вскачь. Крутой лесной холм, царивший над другими лесными холмами, манил его к себе еще издали. И теперь старый князь, не раздумывая, рванулся туда, словно в надежде, что хоть там рассеются наконец обступившие его сомнения.
В частом бору уж собирались сумерки, и было до угрюмости тихо. На дороге, где летом, видать, не бывало езды, сплошной упругий ковер сосновой иглы глушил мерные броски двенадцати конских копыт.
Вдруг впереди, справа, сквозь непроглядную толчею векового краснолесья сверкнули огненные прорези. Последние, низкие лучи, брызгая промеж мелькавших голых стволов, бередили глаз и багряными бороздами кидались поперек дороги.
Когда перед княжеским жеребцом разинулся внезапно овраг и сосны, отойдя в стороны, распахнули необъятную лесную ширь, приплюснутый шар жидкого золота уж заводил нижний свой край за дальнюю трехголовую гору. Вся правая половина огромного неба пылала ровным янтарным заревом. Только одна распаленная прядь тончайших облачных волокон, взмывая куда-то вкось, горела в вышине жар-птицыным крылом.
Мономах стоял на изголови высокой горы. Он заглянул вниз.
Справа двадцатисаженная лысая суглинистая круча, проеденная водороинами, уходила из-под оголенных сосновых корней в топкий раздол. По его широкому дну, заросшему сочным быльём, шатая береговую осоку, качая длинные волосья плавучих трав, вилась черная речонка Неглинная. Впереди холма, чуть поодаль, лизнув кривую песчаную косу, где сиротливо белел лошадиный череп, Неглинная бесшумно вливалась в Москву-реку, которая плавным изгибом подступала к самой горе и обходила ее слева.
Левый склон, обращенный на полдень, был не так высок и крут, как правый, и менее дик. Островки мать-и-мачехи и полыни и жидкие кусточки желтого донника оживляли его жесткий, овражистый скат. А вдоль его подошвы, отделяя ее от реки, пестрел белой ромашкой сухой бугроватый луг, по которому пролегла разъезженная дорога к броду.
За Неглинной противоположный берег возносился широким откосом сплошного елового леса. Из-за его мохнатой стены, из заслоненного ею глубокого лога мягко поднимались и рытым бархатом уходили вдаль новые лесные гряды. За ними тонким пуховичком молочного тумана обозначался поперечный провал, куда ушла речка Пресня. А за ней, еще дальше, уж по-ночному синевшее лесное море замыкалось трехгорбым урочищем. Над ним рдела теперь только узкая кромка раскаленного ядра.
Левее, под обрывистыми бережками, Москва-река, отражая небесную огневую живопись, сияла пламенной щелью. Владимир Всеволодович, следя за ее течением, видел, как она, мало-помалу угасая, бежит куда-то очень далеко и, обогнув заложенные белой мглой луга, будто оттолкнувшись от высокого кряжа догорающих на закате кудрявых березовых гор, возвращается дугою назад, к нему под ноги.
Здесь, вблизи, ее гладь была ясна и зелена. Черными кистями колебались в ней вершины опрокинутых елей. За Москвой-рекой на просторной сырой луговине паслись спущенные в ночное лошади. Оттуда доносился скрипучий крик коростеля. Бродячие клочья болотного пара цеплялись за круглые ивовые кусты.
А за лугом шли и тут ряд за рядом сплошные леса: сосняки да ельники и вперемешку с ними — моховины, голые зыбуны, кочкарники, а там опять леса да леса, не замкнутые с этой стороны ничем, безбрежные.
— Усторожливое место! — сказал воевода.
Мономах молчал.
Кучко показал вниз по реке, на конец большого поемного луга. За лугом на прибрежной горке неясно различались в сумерках какие-то строения.
— На краю поймы, — объяснил Кучко, — с давних пор пристанище устроено для челнов. А насупротив пристанища, на взгорье, еще при Ходоте малый городец срублен. Ныне он запустел. Меж пристанища и городца речка Яуза в Москву-реку впала. Ее сейчас отселе не увидишь. Речушка тесная, да долгая: сквозь глухие леса сочится. В самом ее верху — болотный переволок с озерами. За тем переволоком сразу и Клязьма-река. А дальше, чай, и сам знаешь: Клязьмой спустишься до Оки, Окой — до Волги. А где Ока в Волгу впала, там на Дятловых горах и Абрамов город, что прежде мордовский был, а теперь булгарским сделался.[5] Ходота на булгарского царя жаловался, — добавил Кучко, — а и сам от того царя недалече отстал. Для того и городец срубил на той горке, чтоб булгарских гостей перехватывать, когда они Яузой товар спускать будут.
Мономах не вслушивался в беседу спутников. Все, что говорил Кучко про здешние пути, было для него не новостью. Но на этом московском мысу он еще не бывал. И при виде неоглядной, заметно уже потемневшей лесной пустыни, которую будто измяла чья-то сильная, но нежная рука, он впервые попытался связать в один еще не тугой узел все, что знал об этих таинственных дебрях и что думал о них.
Наметанный глаз воеводы не ошибся: место было и вправду на редкость усторожливое. Любого врага углядишь издалека, и от любого уберегут реки да кручи, непролазные топи да леса, где от века пашни не паханы и дворы не ставлены.
Но было еще и другое: знал Ходота, где рубить городец! Догадался старый, где способнее всего брать пошлину с проезжих гостей! Ведь именно здесь, вероятно, минуя захиревший Киев, сойдутся теперь ожившие за последние десятки лет торговые дороги из Балтийского моря к булгарам, на волжский низ, и через Рязань по Дону-реке в русскую Тмутаракань да в греческий Сурож.[6]
И земля своя, русская, куда ни погляди, на сотни верст вокруг. Вечерний туман, поднимаясь, доносил ее крепкий растительный запах.
Мало ли богатырей было в Киеве при дедах и прадедах! Мало ли сказано про них былин да сложено песен, памятных Мономаху с первых годов жизни! Но не странно ли, что только сейчас, у дверей гроба, только здесь, под этими черными соснами, стал проясняться по-новому потаенный смысл знакомых наизусть древних сказаний!
Подвиг у всех был тот же: что Илья, что Добрыня, что Алеша, что Ян-Кожемяка[7] — все, как один, и каждый по-своему, богатырствуя в Киеве, стояли за Русскую землю и добывали ей всесветную славу. Это так. Но кто же они, эти храбрецы, воспетые народом с такой мудрой любовью? Не княжеского роду, не боярского племени, а простого звания люди: смерды, холопы, ремесленники. А сошлись откуда? Отовсюду: кто из Ростова, кто из Новгорода, кто из Переяславля, кто из-под Мурома, где и посейчас живы, надо быть, их внуки и правнуки.
Народ знает свое дело и помнит свое родство. Как придет час встать за Русскую землю, за вдов, за сирот, за бедных людей, аукнется по старине Ростов, зыкнет с речного нагорья Муром, откликнется из-за лесов Чернигов, отзовется из-за озер Великий Новгород. Услыхав богатырскую переголосицу, мигом вскочат на лохматых коней и Микула, и Илья, и Добрыня, и Олешенька, не испугаются дальних дорог, найдут место, где съехаться и стать заставою.
Уж не сюда ли съедутся? Уж и впрямь не здесь ли сердце Русской земли?
VIII
Эти новые, еще нестройные домыслы только брезжили в голове у Мономаха расплывчивыми грезами. Надежды граничили с сомнениями, мешались с тревогами. Чтоб побороть их хоть на время (Владимир знал свой нрав), надо было от смутных мыслей перейти к решительным словам, от слов — к скорому делу.
Но поздние годы брали свое. Не было ни охоты, ни сил затевать новые большие дела. Свой старческий долг он свел к совершению лишь того, что признавал неотложным.
Так и сейчас, перекидав в уме все виденное и слышанное за день, он поставил себе только одну, малую задачу: закрепиться хоть как-нибудь на этом речном перекрестке. Мешкать нельзя. Не дожидаться же, чтобы угнездился в здешних соснах второй Ходота!
В это самое время Кучко обернулся к князю. И оторопел, увидевши, что тот уперся в него тяжелым, пытающим взглядом.
— Тебя вижу, да в тебе не вижу, — медленно проговорил Владимир как бы про себя, не отрывая от растерявшегося дружинника неподвижных глаз. — Верен ли? Стоишь ли милости?
Кучко неуклюже развел руками.
— Велико ль у тебя село под Суздалем? — уже другим голосом спросил Мономах.
— Не село, а пустоплесье, — угрюмо ответил Кучко. — И было-то невелико, а стало и того меньше. Всех хором на моем дворе только и было, что горница, горенка на мшанике да избушка воротная. А как держал их подле княжого села, то, покамест отлучался, тиун князя Юрия мои хоромы снес и место заорал: приорал к княжой ниве. Плакался я боярину, княж-Юрьеву огнищанину,[8] да у него разве найдешь управу?
— У него не найдешь, так у меня найдешь, — сказал Владимир. — За твою службу жалую тебя тут новой землицей. Садись, где поглянется: хоть у Ходоты на пустыре, хоть здесь, где сейчас стоим, — твоя воля. Копи на меня слободу: скликай охочих людей.
Кучко, неуверенно стягивая шапку с головы, смотрел на князя разиня рот и напряженно хлопал белыми ресницами. Быстрота Мономаховых решений всегда сбивала его с толку.
— Что заморгал? Думаешь шучу? Будем в Киеве, грамоту выправим. Или боязно тебе, что ли? А чего бояться-то? Не на сыром корню сядешь. Спроси вятичей, с каких пор их село стоит: чать, не одну сотню лет. А и здесь, под сосновыми кореньями, порыться, так найдешь людской след и того старше. Или с вятичами тебе не сошлось? Так ведь сам толкуешь: свои. А свой своему и ногой пнет — поможет. Да и то сказать: не одинком сядешь, а с челядью. Одному страшно, а оравушке все нипочем.
— Княже!.. княже!.. — бессмысленно лепетал Кучко, не веря счастью. — Твое ласково слово — что вешний день!
Он чуть с седла не сполз, неловко прижимая толстые губы к княжеской руке.
"Сейчас, на радостях, смотри как ко мне голубится! — подумал Владимир, глядя сверху вниз на его мясистую, побагровевшую от усердия шею. — А обживется на новоселках да обогатеет, тогда каков станет?"
Густым туманом завалило весь овраг, где текла Неглинная. Оттуда ударяло холодом.
Когда полчаса спустя Мономахов конь подступил, похрапывая, к броду и, раскидывая брызги, загрохотал по мелкой воде, была уже полная ночь. По всему небу разошлись вереницами длинные стада мелких облаков. За их прозрачными овечьими спинами кралось бледное медвежье солнышко — кривобокая луна.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Кучков двор
I
Вторая четверть XII века наполнена бурными, запутанными событиями. Они потрясли и залили кровью всю русскую равнину.
Основная их суть заключалась в ожесточившейся борьбе нового со старым, которую Мономах только задержал, но не остановил. Почти сразу после его смерти в развитии событий произошел резкий скачок: "учало оружье говорить".
Люди того времени не понимали, в чем истинный смысл происходивших больших перемен. Они не отдавали себе отчета в том, что исходной первопричиной этого большого было то очень, казалось бы, малое, чем каждый из них был поглощен в тесном кругу своих личных хозяйственных дел.
Пахарь, сменяя трехзубую деревянную соху на двузубую, которая брала глубже, думал только о том, что вспаханная такой сохой земля родит ему больше хлеба и что его семья будет, стало быть, сытее.
Кузнец, отковывая себе клещи, думал только о том, что чем шире будут растворяться губы клещей, тем удобнее будет захватывать ими железо и тем легче будет работать.
На такие и подобные мысли, не простиравшиеся дальше заботы о своем достатке и о своем удобстве, тратилась вся жизнь.
Когда она подходила к концу, итоги ее могли показаться ничтожными. Велик ли, в самом деле, исторический подвиг человека, который только того как будто и достиг, что сам дотянул кое-как до старости до поднял на ноги детей, обреченных на такую же внешне малозначительную жизнь, как и его собственная!
Так судили о себе и сами пахари и кузнецы.
Они умирали, но их сохи и клещи оставались жить. Сохи, клещи, топоры и молоты переходили от отцов к сыновьям. Сыновья вместе с отцовской рабочей снастью, вместе с отцовскими рабочими заботами и мыслями перенимали и отцовскую рабочую сноровку.
Как ни скромно было это трудовое наследство, оно не только не иссякало, а, наоборот, росло неприметно из поколения в поколение. Дедовская соха, попав в руки внука, бороздила землю уже не деревянными зубьями, а незнакомым деду железным лемехом. И за рукояти сохи внук брался не по-дедовски: по-иному расставлял локти, лучше деда оберегал себя от напрасной устали. К малым кузнечным клещам добавлялись новые, большие, с острыми крючьями на концах, более захватливые. Тем самым молотом, которым дед только плющил да гнул раскаленную железную крицу, — тем же молотом внук сваривал теперь две пластины в одну, чего не умели делать ни дед, ни отец.
Каждая такая перемена, взятая в отдельности, была как будто малозначаща. Зачастую она и вовсе ускользала от внимания, потому что достигалась не сразу, а исподволь, ценой очень долгих и по большей части бессознательных усилий. Но из совокупности этих-то именно крохотных изменений в способе сеять хлеб, рубить избу, шить шубу — из них-то, и только из них, складывались неприметно те огромные, неодолимые силы, которые, помимо воли человека, ломали весь ход его жизни, оплетали людей новыми между собой связями и рвали старые.
Эти-то силы и двигали историю.
Чем больше заводилось рабочей утвари, чем сподручнее становилась эта утварь, чем лучше выучивались люди владеть ею, чем спорее шла у них работа, чем прибыльнее она делалась — тем соблазнительнее было воспользоваться на даровщинку плодами чужой искусной работы, тем больше измышлялось способов, которыми одни люди заставляли других людей работать за себя и на себя, тем беднее оказывались те, кто работали, тем богаче — те, кто не работали, тем круче закипала борьба между теми и другими.
В этой борьбе — а она-то и составляла главное содержание истории — все было изменчиво. Менялось соотношение боровшихся сил. Менялся ход борьбы. Менялись приемы борьбы. Менялись предметы борьбы.
К половине XII столетия русское земледелие, за которым было уже многовековое прошлое, достигло такого высокого уровня, что стало завиднейшей приманкой для князей и бояр.
Чужим пахотным трудом князя и бояре пользовались с незапамятных времен, но в былую пору то был труд ленивых рабов, которые не щадили боярского коня, не берегли боярской сохи и были совершенно равнодушны к судьбе кинутого ими в землю боярского зерна. Несравненно большие выгоды сулил осмотрительный труд радеющего о своем хозяйстве вольного землепашца — смерда.
Вот это-то малое, но исправное и в свою меру доходное хозяйство смерда — оно-то и сделалось теперь одним из главных предметов борьбы.
Новый предмет борьбы требовал и новых приемов борьбы. Каких же?
Князь ли, боярин ли мог, разумеется, единым махом ограбить смерда начисто: отнять и коня, и соху, и все, что собрал смерд со своей кормилицы-нивы. Такие опыты производились не раз. Но это значило разрушить хозяйство смерда, а тогда терялась надежда получать с этого хозяйства каждогодный доход. Добыча от разового грабежа была слишком мала, чтобы покрыть столь далеко идущую потерю.
Можно было, не разрушая хозяйства смерда, обратить самого смерда в своего раба. Такие опыты производились тоже не раз. Но у раба не могло быть своего хозяйства, а как только хозяйство переставало быть для смерда своим, смерд переставал радеть об этом хозяйстве, и оно переставало приносить прежний доход.
Нужно было, значит, действовать иначе. Надо было, сохранив хозяйство смерда в целости и не угашая радения смерда о своем хозяйстве, завязать со смердом такие отношения, поставить его в такую от себя зависимость, чтобы он был вынужден отдавать даром либо часть своего рабочего времени, либо часть своего урожая.
Такие отношения со смердом были завязаны. Они называются ф е о д а л ь н ы м и отношениями. Такая зависимость смерда была установлена. Она называется к р е п о с т н о й зависимостью.
В XII веке феодальные отношения, завязавшиеся на Руси уже тремя, а то и четырьмя столетиями раньше, достигли такого развития и вширь и вглубь, что прежний строй государственной жизни стал для них тесен. Этим и вызывалась та борьба нового со старым, которую Мономах только задержал, но не остановил.
Князья и бояре с быстро возраставшей алчностью захватывали земли, прочно закрепляли их за собой и передавали по наследству сыновьям, внукам и правнукам. Главная ценность таких наследственных вотчин заключалась теперь не столько в своей запашке, сколько в запашке окрестных, зависимых от вотчины смердов.
Но присвоение их дохода, дело по-своему тонкое, требовало находчивости и гибкости, а главное — своего глаза. Отлучки, убыточные для смерда, становились все убыточнее и для тех, кто жил трудом смерда. Княжьё и боярство прирастало к земле.
Нельзя было, однако же, порывать и с городом.
Бояре — княжеские дружинники, а дружина всегда при князе, а князь неотделим от города.
В городе же — средоточие отставшего от земли, возмужавшего ремесла. Именно в XII веке в жизни русского ремесленника происходит знаменательный перелом: не довольствуясь работой на себя, на свое село, на соседнюю боярскую вотчину, ремесленник принимается работать и на неизвестного покупателя: на широкую продажу, на рынок.
Его отношения с боярином и князем меняются: он выходит из-под прямой их власти; но боярин и князь на этом не прогадывают — они ссужают вольного ремесленника сырьем и деньгами на новое обзаведение и наживаются пуще прежнего: дадут ногату,[9] а возвращай им две, дадут две — возвращай четыре! Рабочая зависимость заменяется для ремесленника новой зависимостью — долговой, кабальной, с которой до могилы не развяжешься.
Заодно с ремеслом продолжало крепнуть и землепашество. Избыток хлеба отвозился в город, вернее в разросшийся кругом городских стен посад, где все бойчее шла торговля. А в ее оборотах и прибылях князья и бояре — опять непременные участники.
Чтобы и в вотчину поспеть, и в городе ничего не потерять, нужно было подтянуть город ближе к вотчине — такова была едва ли не главнейшая задача, стоявшая перед правящей знатью. Возникновение в XII веке ряда новых городов и рост некоторых старых городов разрешали эту задачу.
Прошли времена, когда князь на свой счет кормил, одевал и вооружал дружинников, делясь с ними военной добычей. Теперь бояре-дружинники научились содержать себя сами, и притом неизмеримо богаче, чем содержал их, бывало, князь. Их зависимость от князя тем самым слабела, а их влияние на государственную жизнь росло.
Прошли времена, когда дружинники в поисках скорой наживы подбивали князя на дальние походы, "да и ты добудеши и мы". Теперь выгоднее оказывалось домоседничать. Рабочая сила ближнего смерда стала более ценным товаром, чем рабочая сила приведенного из далеких краев пленника. Своя земля, обработанная смердом, давала и князю и боярину больше, чем опустошение чужой земли.
Прошли времена завоеваний. Миновала нужда собирать десятки тысяч вооруженных людей, которые так устрашали некогда врагов Киевской Руси и которых можно было соединить только усилиями всех русских областей. В умах людей, стоявших у власти, иссякли мечты об углублении единства, о слиянии всех областей в одно могущественное, прочное, величавое целое.
Новые мысли, владевшие умами этих людей, влекли в обратную сторону — к разъединению.
Суровый проповедник укорял их в ненасытстве — они только усмехались в ответ. Голос поэта звал их "вступить в злат стремень за землю Русскую" — а им до того ли? Заглохшее в их сердцах сознание единства Русской земли не угасало в сердцах порабощенного ими народа: народ роптал. Но что им народный ропот, когда сила на их стороне!
Широкий круг, очерченный мечом прежних князей-завоевателей, дробился на множество мелких кругов. Средоточием каждого из таких кругов становился свой богатеющий город со своим князем и со своим боярством на своих богатеющих вотчинах.
В большинстве русских земель господствующая знать успела собрать к этому времени довольно средств, чтобы вместо глухого, тайного сопротивления, какое она оказывала Мономаху, повести открытую вооруженную борьбу за независимость от других волостей и главным образом, разумеется, от Киева.
Таков был внутренний смысл борьбы. Внешним же образом она чаще всего сводилась к попыткам овладеть Киевом. Но чем горячее схватывались из-за него князья, тем ниже падало его распорядительное значение.
К половине столетия итоги переходной поры выяснились уже достаточно отчетливо. Летописец обозначил их четырьмя печальными словами: "Раздрася вся земля Русская".
Когда отдельные части бывшей киевской державы обособились одна от другой, освободившись от киевской опеки, по-новому определились и их силы.
Наиболее истощенными оказались земли, расположенные по Днепру и его притокам.
Окрепла, наоборот, юго-западная окраина Руси — Галицкое и Волынское княжества.
Усилился и Новгород: смещение мировых торговых путей пошло ему впрок.
Третьей, наиболее громко заявившей о себе силой, решившей дальнейшую участь Русского государства, был Ростово-Суздальский край.
II
Здесь почти с самого начала столетия княжил один из младших Мономаховых сыновей — Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким.
Жизнь Юрия с первых же лет пошла особенным путем, не похожим на обыкновенный княжеский.
Мономах услал его в Залесье еще малым ребенком. Там и вырос Юрий — вдали от Киева, где все дышало прошлым, в разлуке с отцом, мечтавшим воротить это прошлое, в стороне от родичей-князей с их мудреными обычаями, с их упрямыми предрассудками, унаследованными от того же прошлого. Так и вступил Юрий в зрелые года — сыном своего века и своего края, свободным от ярма старины.
Он был первым князем, оседло поселившимся в Залесье: до него князья бывали здесь только наездами.
Доставшаяся Юрию волость издавна общалась с Киевом, с Новгородом, со Смоленском (со Смоленском особенно родственно) и с другими русскими землями. Близкими соседями Ростово-Суздальской области были волжские булгары. Через их посредство ее хорошо знал арабский Восток. Она обменивалась товарами с кавказским Югом. Сюда засылал гостей и европейский Запад. Но при всей широте и живости этих внешних связей внутренняя жизнь складывалась в Залесье иначе, чем на Днепре.
Города были не слабее и не беднее многих тамошних. Но городов было мало. Древний Ростов, богатый рыбными озерами да соляными варницами; более поздно окрепший Суздаль, вскормленный хлебородным Опольем, что раскинулось безлесным просветом по обоим берегам реки Нерли; подле них, на Клязьме, молодой, бодро входивший в силу Владимир; поодаль, на Волге, мал градок Ярославль; еще дальше на север, вверх по Шексне, старое Белозеро — вот и все города, какие застал Юрий в своей пространной, но еще малолюдной волости.
В городах и около них жизнь била ключом: изощрялись ремесла, ширилась торговля, тучнели пригородные нивы. Понаехавшие с князем бояре-дружинники богатели не по дням, а по часам, осев в земледельческом Суздале. С ними соперничало исконное местное боярство, угнездившееся главным образом в Ростове, где успело созреть и матерое купечество. Новоприезжие и туземные бояре состязались и между собой, и с духовенством, и с князем в захвате пахотных угодий, бортных лесов, бобровых гонов, рыбных ловель, соляных озер, а главное — в изобретении новых, все более коварных способов жить чужим трудом.
Начало феодальным отношениям было положено не здесь, а на Днепре и на Волхове, но тут, на берегах приростовских озер и Клязьмы, еще не тронутых войнами, не разоренных половцами, сыскалась более удобная почва для этих новых отношений. Ветхое отмирало здесь незаметнее, молодое нарождалось легче и росло быстрее. Людской быт день ото дня менял свой лик.
Однако так жили только города с ближайшими, зависимыми от них сельскими округами.
А дальше, за тесными пределами этих опрятно расчищенных и усердно возделанных округ, стояли непроглядные леса, где, по тогдашней поговорке, не сходились еще топор с топором и соха с сохой. Там, в малых и редких селищах, раскиданных лишь кое-где по глухим речкам и речушкам, люди вековали еще по-старому, по-бывалому. О городских новшествах туда и слух не проникал, а в укладе иных притаившихся в лесу деревень еще не совсем поизгладились следы былой принадлежности всех обитавших в деревне пахарей к одной, с годами разросшейся семье.
Для сбора дани с таких отдаленных, старобытных селений Юрию приходилось по временам выезжать самому, чего уже веками не делывали другие русские князья.
Юрий отлучался из города с неохотой.
За спиной оставался строптивый Ростов, привыкший исстари обходиться без князя. Ростовское боярство, упрямое и надменное, докучало напоминаниями о каких-то своих древних уставах и обычаях, будто бы нарушаемых Юрием: у нас, мол, того не бывало, у нас, мол, так не положено. Дерзкими голосами подтягивали боярам и ростовские купцы. Это раздражало, заставляло быть всегда настороже, стесняло движения.
Чтобы поразвязать себе руки, Юрий перебрался на житье в менее притязательный Суздаль, где окружил себя более податливыми людьми, обязанными ему, князю, своим благосостоянием. Но и эта новая, суздальская знать, осмелев от недавнего богатства, начинала тянуться, как и ростовская, к власти. Обуздывать ту и другую было не просто.
А тут еще под боком, в соседстве со своими княжескими злачными вотчинами, вскипали обидой крестьянские, или, как говорили в Залесье, сиротские, села, где в сумятице бурного хозяйственного роста одни, наживаясь, выживали других, где рядом с достатком плодилась и нищета, где и достаточный и нищий одинаково отчаянно бились в паутине еще непривычных феодальных пут.
А тут еще бередил сердце все более громкий стон и прямой ропот своих, столь нужных Юрию ремесленных людей, снедаемых завистью к городским, вольным, более сытым, чем они, рукодельникам, которых все прибывало.
Перед Юрием вставала во весь рост неотложная, труднейшая по своей новизне задача: создать крепкую государственную власть.
До этого не дошли руки у деятельного Мономаха. Над этим тщетно ломали себе голову южные союзники Юрия — предприимчивые галицкие князья. От этого отступились в позорном бессилии другие Юрьевы родичи — те, что пытались княжить в Великом Новгороде.
Юрий не смалодушествовал. Разрешить до конца не осиленную ими задачу ему не довелось, но за дело он принялся рьяно и не столько достигнутым успехом, сколько примером мужеской твердости показал потомству, как действовать дальше.
Могущество ростово-суздальских феодалов было еще слишком молодо, чтоб можно было его сломить. Да Юрий, зная цену молодости, и не хотел его ломать. Наоборот, он взращивал его, создавал себе в нем опору. Но чтобы это была действительно опора, надо было противопоставить воле сильных свою волю и, заглушив их задорные выкрики своим властным словом, заставить их ездить у своего стремени.
Это удалось Юрию. Он не ждал, как другие князья, чтобы городское вече голосами боярских и купеческих верхов подтвердило его полномочия, сказав: "А ты наш князь!" Юрий у веча не спрашивался. В его городах вече безмолвствовало. И когда приспевало, на его взгляд, время начать войну, чтобы зайти мечом булгарскую Каму, или ударить пятою Новгород, или напоить коня Днепром, Юрий Владимирович вступал в стремень уверенно: он знал, что как ни отяжелели от богатства его залесские вассалы, они покорно, по первому его зову, все как один всядут на-конь и двинутся, куда он поведет.
Трезвее других князей понимая потребности нового времени, он смелее их заглядывал в будущее. Скитальческие повадки Мономаха были ему не по нутру. Феодал с головы до пят, он прочно связал свою жизнь с жизнью своей волости и по-хозяйски заботился об ее мощи. Но, в противность другим феодалам, зорко берег ее целость, не допуская дробления.
Залогом безопасности и процветания Ростово-Суздальской области был пронизавший ее верхневолжский речной путь, давно облюбованный и новгородцами и булгарами. Стать полным хозяином этого пути, забрать в кулак оба его конца — такова наипервейшая, основная, дальновидная забота Юрия.
Свою княжескую деятельность он начинает с похода на беспокойных соседей — булгар, которые не раз обступали его города, воюя окрестные села и погосты, творя много зла.
Тяжелый взгляд Юрия все время прикован к Новгороду. То он бьет его вооруженной рукой, то сажает туда в князья сына, то прикармливает новгородских опальных, создавая себе будущих сторонников, то разоряет новгородский пригород Торжок, то перехватывает собранные новгородцами дани, то останавливает подвоз булгарского хлеба, в котором Новгород всегда нуждался, то протягивает свою действительно долгую руку далеко на север — на Двину, в лесное Заволочье, снабжавшее новгородских купцов драгоценнейшими мехами.
Эти весьма последовательные действия Юрия (его враги называли их пакостями) и рассорили его с киевской родней.
С родней были сложные счеты.
Спор шел о том, кто «старее»: племянник[10] ли, княживший в Киеве, или дядя, все грознее подававший голос из-за вятических лесов. Дядя (это был Юрий) жаловался, что племянник "снял с него старейшинство" и опозорил, не давая ему части в Русской земле, иначе говоря — под Киевом. Племянник хоть и признавал на словах, что дядя Юрий Владимирович "всех нас старей", однако на деле ни в грош не ставил его старшинство. В свое оправдание он настойчиво ссылался на то, что Юрий "с нами не умеет жити": это был оскорбительный намек на захолустную неблаговоспитанность суздальского дяди и на те жесткие правительственные навыки, которые усвоил Юрий в своем суровом залесском одиночестве.
Спор был явно бесплоден. Мириться, заключать союз на началах равноправия не хотел ни тот, ни другой. А слово «старейшинство» каждый из противников понимал по-своему.
Киевский племянник хоть летами был и моложе Юрия, однако держался старых, Мономаховых, отживших понятий и считал, что первенство принадлежит тому, кто владеет Киевом. Только Киев, думалось ему, может притязать на объединение вокруг себя всех русских земель.
Иной взгляд был у Юрия Мономашича. Мысли, бродившие у него в голове, были очень далеки от отцовских. Они были еще неясны, потому что были новы, а в новизне и была их сила.
Сила этих мыслей была в том, что их породила очень близко знакомая Юрию хозяйственная жизнь молодой, расправляющей плечи русской окраины, с каждым часом, как вешний поток, все более полноводная, рывшая себе новое русло.
Эти мысли были неясны и не могли быть ясны, потому что заключали в себе непримиримое как будто противоречие: в тех самых явлениях хозяйственной и общественной жизни, в которых сторонники старых воззрений видели только разрушительное начало и которые действительно повели к раздранию империи Рюриковичей на обособленные клочки, — в этих самых явлениях Юрий провидел начало созидательное и притом такое, которое одно только и способно было, по его мнению, восстановить нарушенное единство Русской земли.
Юрий понимал, что сколько ни любуйся призраками славного прошлого, из них все равно ничего не создашь. Мертвое не оживет, старое не помолодеет. Держава его предков, для своего, давно прошедшего, времени величественная, оказывалась на сегодняшнюю мерку несообразной и нескладной. Тяжелые, изъеденные ржавчиной цепи, которыми Киев пытался удержать при себе рвавшиеся прочь области, мешали их росту, законному и желанному. А ежели этому росту не мешать, то он же сам, расторгнув и истребив старые, омертвелые связи, он же породит новые связи, жизненно нужные, а стало быть, и прочные.
В самом деле, думал Юрий: чем богаче будут делаться обособившиеся области, тем настойчивее будет потребность сбывать друг другу свои избытки, тем властнее будет позыв к взаимному сближению.
По мере обогащения областей они будут становиться, конечно, все более лакомой поживой для внешних врагов, от которых в одиночку не всегда отобьешься. Сознание этой нарастающей со дня на день опасности превозможет феодальную рознь и заставит рано или поздно спаяться в одно государственное целое, способное удержать напор вражеского нашествия.
Юрий не загадывал, когда и как это произойдет, но предчувствовал, что сделается это не само собой и не путем мирного сговора. Кто-то положит почин, применив силу. Кто-то выше других взволочит свой стяг, чтоб виден был издалека, чтоб со всех сторон послышались покорные голоса: "Где увидим стяг твой, тут и мы с тобой!"
Кому достанется эта честь? И что напишут на стяге?
Не дедовские же предания! Этим пустым звуком никого не обманешь и никого не приманишь.
Нет, только тот добьется подлинного старейшинства, только тот воссоединит за своим щитом разъединившихся, чья рать будет многолюднее и послушнее, кто лучше ее вооружит, чья волость пышнее процветет, кто умнее наладит в ней государственный распорядок, кто настроит у себя больше городов.
В эту именно сторону и были направлены старания Юрия; такова именно и была их общая высокая цель.
Где быть сердцу Русской земли? Этот вопрос, который еще чуть брезжил в старческом сознании умного Мономаха, становился теперь главнейшим вопросом дня. Чтобы разрешить его, дяде с племянником предстояло помериться силами.
Юрий понимал неизбежность поединка, но не торопил его. И только под конец жизни, после того как киевский племянник подстрекнул новгородцев опустошить дорогие Юрию волжские берега и обезлюдить их, уведя много тысяч пленников, — только после этого Долгорукий, дав волю давно накипавшей ярости, вышел из лесов, двинулся на юг и не успокоился до тех пор, пока, искалечив и врагов и себя, не водворился наконец победителем в Киеве.
Там он и остался, там и умер. Но в этот чужой, враждебный, очень дорого доставшийся ему город его привело не праздное честолюбие, а верный расчет. Юрий был как нельзя более далек от желания возрождать былое значение Киева и приращивать к нему отпавшие земли. Но надо было обезвредить угасающий, однако по старой памяти все еще опасный очаг междоусобий: утверждение в Киеве всякой иной власти, кроме Юрьевой, угрожало бы безопасности и благоденствию его залесской вотчины.
Об ее мощи он не переставал заботиться и после овладения Киевом.
Ревниво оберегая ее рубежи, Юрий с первого же взгляда оценил те огромные военные выгоды, какие сулит обладание московским нагорьем. Оно было расположено на самом южном, передовом конце его волости и будто самой природой предназначено стеречь пути, которые вели в Залесье из Смоленска, из Чернигова и из Рязани.
Но тут Юрий натолкнулся на неожиданный отпор: поперек его дороги встал Кучко.
Это было за несколько лет до Юрьевых походов на Киев.
III
С великим рвением принялся Кучко за дело, порученное Мономахом.
На отданной ему по грамоте пустой княжеской земле он обязывался расчищать пашни и ставить в черном лесу дворы, призывая к себе для этого вольных охочих людей. За труды по обращению дикого леса, песков и кочек из пустого места в жилое эти собранные отовсюду добровольцы вознаграждались временной свободой от княжеского суда и от княжих поборов. Подсуден князю оставался на этот срок только сам Кучко. Но зато на доверенной ему пустоши он становился на время — на пятнадцать — двадцать лет — полным владыкой: надзирал за приглашенными им насельниками, разрешал тяжбы, карал за провинности, а с проезжих людей брал в свою пользу пошлину.
Он был предприимчив, знал до мелочей все местные обстоятельства и, очутившись в кругу вятичей, не стал заволакивать себе глаза высокомерным предубеждением.
Из их здорового, рослого и красивого племени взял он себе вторую жену. Она подарила ему двух молодцов-сыновей и красавицу дочку. У вятичей отстоялась к тому времени своя знать, и брачный союз с богатой вятичанкой не был бесчестьем для скромного еще в ту пору Мономахова дружинника.
Когда Кучко стал манить людей в укромные московские дебри, ни разу еще не хваченные войной, когда начал соблазнять истомленную бедноту надеждами на льготную жизнь, то в охотниках не оказалось недостатка. Пришли на клич и земляки его, суздальцы, и смоляне, и черниговцы, и новгородцы.
Староселы-вятичи дичились только на самых первых порах, а потом очень скоро зажили одной жизнью со слобожанами.
На глазах преображались вокруг обросшего соснами холма берега Москвы-реки, Неглинной и Яузы.
Пятнадцати лет не прошло, как во всем стали замечаться перемены. Уж в каком-то свежем срубе, сверкнувшем сквозь поредевшие деревья еще белыми, как вареная кость, венцами, визгливо завертелся гончарный круг. Уж о кудрявом кузнеце-любечанине, приютившемся в соседней избенке, пошли толки, будто умеет ковать еще не виданные вятичами конские удила. Уж Кучкова челядь не чиркала больше сохой-цапулькой его гладкую, бархатную, на совесть расчищенную ниву, а поднимала боярскую землю новым железным лемехом, который выковал тот же кудрявый кузнец. Уж не одной молодице испортил сон перебравшийся из-под Киева впалогрудый старик с половецкой сабельной отметиной поперек лысого лба: всякой хотелось вплести себе в волосы серебряные кольца его тончайшего изделия.
А сиротке Милуше, той самой, что каждый раз краснела до слез, когда мимо ветхой горенки, где жила она с матерью-вдовой, проезжал на ястребиную охоту старший Кучков сын, — ей, по бедности, недоступна была даже и мечта о таком бесценном украшении. Печально отставала она от подруг, когда те, пересмеиваясь, бежали пестрой стайкой к Яузскому пристанищу, в ивовый шалаш, где синегубый булгарин торговал бусами из горного хрусталя и красного сердолика. И уныло отмахивалась рукой от оборванного дурачка и заики Зотика, который славился тем, что с беспримерной меткостью бил тупоносыми стрелами речных бобров, водившихся тут во множестве, и навязывал всем чуть не даром их тронутые сединой шкурки.
За первым десятком лет миновал второй, и уж не в другие села, а сюда, в новые московские слободы, потянула вся ближняя вятическая округа, зная, что здесь легче найти и ловкого рукодельника, и нужный товар.
Даже такому захожему люду хорошо знаком стал теперь широкий в плечах пожилой человек с бычьей шеей и вытянутым вперед толстокожим лицом, который, невзирая на дебелость, еще проворно перебирал толстыми ногами и успевал за день побывать везде, вмешаться во всякое дело, свое и чужое, ввязаться в любой разговор, каждого закидать быстрыми вопросами и всем надавать не то советов, не то приказов.
На вопросы отвечали вежливо, советов слушались, приказы исполняли. Все знали, что с этим непоседливым говоруном надо жить если не в любви, так в ладу, что от его волосатых рук не уйдешь, без его помощи не обойдешься, без его защиты сгинешь, что величать его надо боярином, что в его имя все лесное поселение прозвано Кучковым.
Не без пользы для себя усердствовал Кучко. Лучшие пахотные земли, сенокосы, пастбища, борти, бобровые гоны и рыбные ловли достались ему. Проезжие купцы, число которых все росло, с неохотой, но исправно выплачивали ему торговую пошлину, называвшуюся мытом, в сторожевых избах — Мытищах, которые он поставил на Яузе, на Всходне и в других местах.
Немалый доход притекал и от судебной расправы. И по другим поводам (а иногда — в поисках его милости — и без всякого повода) несли к нему соседи на двор кто белку, кто куницу, кто соболя, а кто и денежный подарочек.
Кучко, привыкнув смолоду сознавать себя чуть ли не бедняком, убедился вдруг не без удивления, что стал несметно богат.
Но тут же заметил и другое: что состарился.
IV
так певал вполголоса Кучков холоп Истома, когда гонял на водопой стоголовый боярский табун. Пел, а сам оглядывался: не услышал ли кто его песни?
Кучко с годами делался все более запальчив и крут. Чуть кто поперечит — сейчас же нальется загривок кровью, глаза побелеют, а губы запрыскают слюной. А там, глядь, и замахнется резным кипарисовым посохом, отнятым когда-то у прохожего греческого монашка. Даже сыновья, оба уже женатые, поглядывали на этот посох с тревогой.
Не страшилась боярина одна только недавно взятая в дом молодая сноха Милуша, первая его подручница по всему обширному хозяйству.
Она была все так же тиха, как и в девичьи годы, когда жила с матерью-вдовой в горькой избушке на краю села. Но, распоряжаясь теперь всей Кучковой челядью, умела своим кротким, почти беззвучным голосом сказать невзначай такое, что у того же холопа Истомы мигом начинали трястись костлявые коленки. А она посмотрит на него ясным взглядом, усмехнется как-то вкривь одним волчьим зубком, мотнет вплетенными в волосы серебряными кольцами старикова тонкого изделия, поправит на шее золоченые бусы, купленные мужем у синегубого булгарина, и отойдет как ни в чем не бывало.
В боярской семье всем вкралась в душу: батюшка-свекор доверил ей все ключи, матушка-свекровка подарила лучшую соболью шубу со своего плеча, а муж, слывший до свадьбы буяном и гулякой, даже любимых ястребят забыл из-за ласковой жены. Только золовушка, Кучкова дочь, красавица Параня, упрямо отводила от снохи светлые свои глаза, отороченные густыми, как бобровая кисть, черными ресницами. Но ей шел всего лишь пятнадцатый год, и голоса в доме у нее еще не было.
Одно дело — своя безответная челядь, другое дело — соседи: слобожане и селяне. Управляясь с ними, Кучко хоть о своей прибыли никогда не забывал, однако помнил и Мономаховы хитрые уроки. Опасаясь гибельных людских побегов, он научился без убытка для себя соблюдать такую меру, чтобы за его хребтом соседям жилось все же хоть немного привольнее, чем около другого боярского или княжеского двора. Села и слободы, выросшие под его рукой на лесных вырубках — где в четыре, где в шесть, где в восемь дворов, — не клонились к убожеству. С их стороны он не ждал обиды и не расходовался на устройство кругом своей усадьбы на сосновом холме ни каменной ограды, ни бревенчатого тына.
"В чести — что в шерсти", говорит пословица. Боярину жилось тепло. Свои дебри и мхи он полюбил, как вторую родину, и, забыв бродячую молодость, сделался отъявленным домоседом.
Однако забот было довольно. Когда вечерами, перед сном, он отдавался мыслям о будущем, мясистые наплывы его низкого лба собирались в толстые складки и щетина бровей ходила ходуном.
Женив старшего сына по своему выбору, Кучко сам нашел невесту и меньшому. Она была смирна, но нехороша собой. Сколько боярыня, жалея сына, ни спорила из-за нее с мужем, тот, как всегда, настоял на своем.
— Жена — не пряник, а ржаной ломоть, — сказал он.
И боярыня смолкла, обиженно подобрав дряблые мешочки давно увядших щек.
Сыновья в дом глядят, дочь — из дому. По местным понятиям, зеленоглазая красотка Параня давно уж поспела замуж, а Кучко все держал ее в девках, приглядывая жениха себе по нраву.
Деловые заботы глодали пуще семейных.
Со смертью Мономаха жалованная грамота потеряла силу. Но Кучко сумел так притаиться в своем глухом углу, что о нем до времени не вспоминали. Иначе пошло дело, когда на киевский стол сел черниговский князь Всеволод Ольгович.[11] Юрий Владимирович, зная его алчность и коварство и предвидя столкновение, начал набирать себе в дружину боярских сыновей и в поисках средств для пополнения на военный случай казны принялся шарить долгой рукой по самым отдаленным углам своей волости. Кучко, не зная, на чью сторону склонится счастье, решил обезопасить себя с обеих сторон.
Больше всего боялся он, как бы не налез на его слободы сам Юрий, чего еще, по счастью, не бывало ни разу. Кучко понимал, что Юрий, если только выедет сюда сам, неминуемо отберет у него лучшие угодья, а заодно, чего доброго, и сыновей.
В предотвращение такой беды боярин, не дожидаясь княжеского спроса, стал сам, досадуя на себя за слабость и негодуя на Юрия, каждогодно посылать ему своих людей с данью.
Это обыкновенно происходило в начале зимы, по первому пути. Когда завизжат, бывало, по молодому, мягкому снегу полозья уходящих в Суздаль саней с кладью и когда Милуша, стоя в воротах, скажет провожатым, как всегда с улыбочкой, какое-то последнее наставительное словцо, старого боярина разбирала каждый раз такая злость, что, кажется, сам бы себе язык перекусил.
Однажды, после отправки обоза, Кучко под легким хмельком разговорился о своих огорчениях и страхах с проезжим черниговским игуменом, человеком спокойным, бывалым и обходительным. Игумен, пробирая пальцами мягкую бороду, ободряюще помаргивал большими умными глазами. Он намекнул невзначай, что близок к киевскому князю и что сейчас ездил в Ростов будто бы по какому-то княжому тайному делу.
После очень длинной и оглядчивой беседы порешили на том, что игумен добудет боярину в Киеве новую слободскую грамоту, а Кучко отблагодарит за это крупным вкладом в монастырь, где настоятельствовал игумен.
Вклад был внесен, грамота получена, но через год киевский князь Всеволод Ольгович помер; его заступил нанавистный Юрию племянник Изяслав Мстиславич. В Черниговской земле опять заварились княжеские усобицы; война подступила совсем близко, захватив южный край вятических лесов. Игумен, лишась покровителя, перебрался куда-то далеко — не то в Туров, не то в Пинск, — а Кучку предстояло, стало быть, снова посылать повозников в Суздаль.
На боярина навалилась тоска.
V
О смерти князя Всеволода Кучко узнал 1 сентября, в так называемый Семен-день, когда на боярском дворе, провожая минувшее лето, варили, по обычаю, пивр. Он ничего не сказал домашним о полученном из Киева дурном известии, но когда дочь принесла ему с погреба запотевший от холода ковш, он отвел его рукой и произнес угрюмо:
— Не до пива.
Параня, привычная к отцовым причудам, не придала этому, как и остальные, никакого значения. Одна только Милуша подумала про себя: "Старый ворон не каркнет даром — либо было что, либо будет что".
А когда вечером боярыня принялась корить мужа, что не бережется, что, распарившись в мыльне, долго просидел на крыльце с открытым воротом и без шапки, Кучко уставился бычьими глазами куда-то в угол пола и сказал:
— От кончины не посторонишься.
Прошло недели полторы. Наступили тихие дни бабьего лета, такие теплые и ясные, что даже старикам становилось временами по-весеннему легко на душе. Едко пахло моченым льном. На сжатом ржаном поле, что спускалось к речке Неглинной, поблескивала на солнце и отливала радугой тонкая паутина, и перелетные скворцы носились густыми безмолвными стаями.
Все были при деле. Меньшой Кучков сын, Иван, только что воротился с охоты и вдвоем с молодой некрасивой женой обдирал посреди двора убитых зайцев. А их лапки наперед отсекал и кидал для игры годовалой, похожей на мать дочурке. Старший сын боярина, Яким, повел приезжего из Суздаля друга на Васильевский луг показывать отцовский табун. Параня у себя в светелке низала на конский волос мелкий речной жемчуг. Старуха-боярыня пошла в поле, чтоб наблюсти, как девки дергают репу. А сам Кучко пересчитывал с Милушей сметанные на задах усадьбы хлебные зароды: их было около сотни.
Милуша, чистая, полная, нарядная, степенно ходила промеж высоких кладей и негромко подавала голос:
— Девять. Еще девять. Еще девять…[12]
При каждом возгласе Милуши Кучко чиркал концом кипарисового посоха по земле, проводя черточку, а сам тем временем прислушивался к мерным звукам молотьбы на дальнем гумне и думал о том, что когда кончит считать зароды, надо будет заглянуть туда, на гумно.
И еще размышлял о том, что Якимов приятель Петр, сын давно умершего Мономахова дружинника Замятни (Кучко знавал этого Замятню), — парень, видать, дельный, хоть и без отца вырос. И четверку лошадей продать ему не жаль. Недаром, конечно, так выхваливала давеча этого Петра боярыня, и недаром так смешно хмурится Параня, когда поминают при ней его имя.
Эти мысли были скорее успокоительны, как успокоительна была глухая, однообразная, плясовая стукотня цепов на току. В это погожее, безветренное утро все звуки приобретали мягкую утешительность. Кучко будто слышал, как стройно поет во много голосов его большое, налаженное хозяйство.
Он усердно чертил посохом по сыроватой земле, и тоска уже не так щемила душу. А при мысли о Паранином девичьем смущении он даже усмехнулся. Но улыбка никогда ему не удавалась: она сообщала его тугому, непослушному лицу беспомощно-плачущее выражение.
Милуша, обойдя кругом один порядок кладей, поворотилась, чтобы вдоль другого двинуться назад, вскинула глаза и остолбенела. У ног батюшки-свекра сидел на земле оборванный заика Зотик: весь сгорбился, точно сложился пополам, бросил лук, рассыпал стрелы, одной рукой держится, тяжело дыша, за грудь, другой размазывает пот по искаженному усталостью безволосому лицу.
Но не он испугал Милушу — с дурачка что возьмешь! — страшен был сам Кучко. Таким никогда еще не видывала боярина приметливая сноха.
Он стоял все там же, над рядами начерченных им бороздок, но весь словно осел и был иссиня-бледен. Остекленевшие глаза глядели куда-то поверх зародов. Посох, еще упертый концом в одну из черточек, заметно трясся.
Он будто не увидел подбежавшей Милуши и на ее вопросы не ответил ничего.
Она крепко схватила Зотика за оттопыренное ухо и, низко к нему нагнувшись, просвистела в самое лицо:
— Чего?
Заика, вытянув тощую шею, завалив набок голову, глядел на нее с ужасом и молчал.
Она прикрутила ухо так, что слезы пошли у него из глаз:
— Говори… затерзаю!..
— Князь!.. — захлебнулся дурачок. — Гюрги!.. Великая рать!..
На слове «рать» он заикнулся так, что чуть язык не проглотил.
Она не отпустила уха, покуда он не объяснил, что ходил на вершину речки Напрудной бить бобров и там с горы увидел вдалеке на дороге огромную княжескую рать. Передовой отрок наскакал на него и спросил, где ближе проехать на боярский двор. Зотик вырвался у него из рук, нырнул в лес и глухими, ему одному известными тропами с звериной прытью примчался сюда, чтобы сказать «дитятке» — так почему-то величал он всегда боярина. С тех пор, что Кучко подарил ему однажды в прощеное воскресенье свою старую лисью шапку, дурачок, не избалованный людской лаской, полюбил боярина на всю жизнь нежной любовью.
— Батюшко! — мягко вымолвила Милуша. — Идем скорей в хоромы: чай, успеем еще прибраться.
Кучко вдруг очнулся. Кровь разом кинулась ему в лицо. На любимую сноху взглянул с бешенством.
— Не пойду! — прохрипел он.
Она овладела собой и выговорила спокойно:
— Приневолят пойти, батюшко.
— Не дамся! В лес уйду!
— Сыщут, — тихо произнесла она. — Хуже будет, батюшко.
Он грубо отпихнул ее в сторону и нетвердым, но размашистым шагом пошел мимо зародов под гору, к ближнему березовому островку, что горел золотым осенним листом в низинке, на том берегу Неглинной.
Милуша, низко наклонив набок голову, проводила его косым затуманенным взором, потом, перекинув глаза на красное ухо Зотика, сказала:
— Ступай за ним, дурак. Доглядывай, чтобы чего над собой не сделал.
И, покачивая полными плечами, поплыла к дому.
VI
Крохотное слюдяное оконце девичьей светелки было едва отволочено — будто для прохлады. Из соседнего подкровелья просачивался пряный запах яблок, доходивших там на соломе.
Параня, не переставая низать жемчуг, видела, как брат Иван, покончив с обдиркой зайцев, натыкал в земляную крышу погреба развилков и распялил на них свежие шкуры. Заячьих было одиннадцать да одна лисья.
"И у меня одиннадцать волосков нанизано мелкого да один крупного", подумала Параня. Она была суеверна и привыкла загадывать на числа.
Потом Иванова жена, некрасивая, коренастая Дарьица, принесла лохань. Оба, Иван и она, мыли в ней обмазанные кровью руки. Солнышко играло в мутной, покрасневшей воде, и муж с женой весело перешучивались. Они жили ладно. Параня любила тихую Дарьицу. И любила их дочурку Липаньку, которая, забыв про заячьи лапки, тоже совала ручонки в лохань.
Потом въехали верхами брат Яким со своим приезжим другом, с несносным пересмешником — с Петром. И надо же, чтобы в это самое время вошла, как на грех, в светелку Паранина мамушка, чтобы похвастать новыми теплыми чоботами, какие справила себе к зиме! Когда мамушка ушла и Параня снова глянула в щелку, конюх уж уводил верховых лошадей, а Петр и Яким разглядывали Ивановы шкуры и что-то говорили Дарьице.
Паране чудилось, что даже эту тихоню и скромницу смущает Петрова цветистая красота. Он был дороден, румян, чернобров, и на вишневых губах всегда играла снисходительная усмешечка.
Очень хотелось услышать, что он говорит Дарьице, да не удалось, потому что волосок с иглой выскользнул из рук и мелкие жемчужинки раскатились слезинками по дубовым половицам. Пока Параня выбирала их ноготком из щелей и, по привычке, гадала, будет ли их больше или меньше одиннадцати, Дарьица с лоханью успела уже уйти. Петр, положив большие белые руки на плечи Ивану и Якиму, рассказывал им вполголоса что-то, видимо, забавное. Все трое громко смеялись, когда во двор вплыла постылая Милуша, покачивая на ходу полными плечами.
Она приостановилась около них и что-то тихо им сказала. Все трое мужчин разом изменились в лице.
Милуша быстро прошла в дом и увела с собой растерянного Якима. Иван бестолково засуетился, стал снимать зачем-то шкуры с развилков и все о чем-то спрашивал Петра. А Петр, не слушая его, стоял в оцепенении.
Румянец сошел у него с лица. Вишневые губы скривились. Наконец, решившись на что-то, он двинулся к конюшне. В это время во двор вскакало четверо незнакомых вооруженных всадников.
— Эй, молодцы, где хозяин? — странно резким, павлиньим голосом крикнул передовой, осаживая перед красным крыльцом страшного пегого жеребца. — Да это, никак, ты, Петряйка? Вот куда схоронился, мил дружок! А батюшка тебя спрашивал, да как серчал! А это чей? Кучков сын? Ну-тка, парень, зови отца.
Все было странно в приезжем витязе: никогда не виданная Параней высокая желтая кругловерхая шапка с бобровой оторочкой, густо зашитый серебром и золотом темно-малиновый плащ, который закрывал всю левую сторону его непомерно длинного тела со вздернутыми плечами, и неестественно маленькая голова, заносчиво откинутая назад и вбок. Он казался еще молод, немного старше Параниных братьев, — лет тридцати с небольшим. Острый клинышек бородки был светлее скуластого худого лица с крупными, преувеличенно мужескими чертами.
Параня так загляделась на него, что не заметила, как толкнула рукой раздвижную оконницу. Слюда блеснула на солнце, и взгляд девичьих глаз поник под пристальным взглядом других, таких голубых, что зрачка в них было не видать.
Она не догадалась, что это суздальский княжич Андрей, Юрьев сын, Мономахов внук.
Но сразу поняла, что в дом вступила гибель.
VII
Юрий налез на Кучковы слободы попутно.
Он шел большим походом на Козельск — выручать своего нового союзника, северского князя Святослава.[13] За ним лесными дорогами, растянувшись версты на четыре, скрипя колесами обозных телег, двигалась без малого вся его сила: не одна княжеская конная дружина, а и все пешие городовые полки — ростовцы, суздальцы, владимирцы, ярославцы и белозерцы. Зотик не ошибся: рать была и впрямь великая.
Беда грозила не только союзнику, но и самому Долгорукому. По наущению Юрьева племянника, нового киевского князя, в соседней, Северской земле творился неистовый военный грабеж: пылали жилые дворы и хлебные клади, тысячеголовые княжеские табуны угонялись в Киев. Южный край Суздальской волости, еще не укрепленный городами, самый уязвимый, был в явной опасности.
О дальнем Кучковом селе Юрий наслышался довольно. Дань, приходившая оттуда, была хороша, но самая исправность данника казалась подозрительной и давно уже наводила Юрия на мысль, что из москворецкого владельца можно бы выколотить и больше. Выступая из Суздаля в поход, он решил непременно к нему наведаться.
Подъезжая к Кучкову селу тою же дорогой, как некогда его отец, Юрий, подобно Мономаху, еще издали углядел возвышавшийся над всей окрестностью сосновый холм. Сына Андрея он отрядил вперед на боярский двор, а младшему сыну, Ивану, наказал дожидаться, пока подтянутся все полки и обозы, и велел расположить их станом на полях. Сам он тоже несколько позадержался, чтобы для большей внушительности нарядиться в боевой доспех, пока Андрей приготовит ему почетную встречу.
В Кучкову усадьбу он вступил торжественно, в сопровождении малой дружины, и прежде всего, ни на кого не глядя, проехал на самый край холма, к обрыву. Ему хотелось до разговора с боярином обозреть оттуда его села и слободы.
VIII
После всех подошел белозерский полк.
Князь Иван Юрьевич разместил его в том краю поля, где Кучкова челядь с утра молотила рожь.
Солому и жито белозерцы расхватали мигом, а людей отпустили домой. Взяв цепы на плечо, перестукиваясь их вислыми вальками, молотильщики всей артелью поплелись к усадьбе.
Боярский двор был окружен княжескими людьми. Кучковых челядников едва пропустили с задов. Однако же тощему холопу Истоме и его другу Третьяку удалось, отделясь от товарищей, проскользнуть между сараями и незаметно залечь в густых лопухах, откуда видно и слышно было все, что творится перед боярскими хоромами.
На Кучковом красном дворе чужих людей набилась целая толпа. Ближе к крыльцу держались княжеские дружинники — бояре. Их легко было отличить от других по долгополой одежде да по мечам, которыми все они были опоясаны. Младшие княжеские слуги, короткополые и без мечей, были вооружены кто копьем, кто луком, кто боевым топором.
На крыльце, где всего два дня назад отдыхал после бани сам Кучко, сидел теперь Юрий.
Сверкающая водяной рябью кольчуга обтягивала его огромное тело. Большое бледное лицо с орлиным, чуть кривоватым носом было совершенно неподвижно.
Около него, вздернув узкие плечи, вытянулся княжич Андрей. Он был на голову выше всех.
Перед Юрием стояли оба Кучкова сына, Милуша, Дарьица с Липой на руках, Петр и только что приведенная с поля боярыня.
— Глянь-ка, — шепнул Истома, — сама-то еле жива от страху.
— Все хороши, — ответил Третьяк, — и у парней ноги трясутся.
— Одной Милушеньке все нипочем.
— Ей что! На огне не горит, в воде не тонет.
Оба примолкли, услышав глухой голос Юрия:
— Как же ты, жена, не ведаешь, где муж?
Боярыня упала на колени и перекрестилась широким крестом:
— Вот те крест, княже: не ведаю!
— А и правда, где он? — спросил тихонько Истома.
— Чай, недалече, — буркнул Третьяк.
Опять глухо, как из бочки, раздался голос Юрия:
— Что мне твой крест! Сыновья другое врут: их послушать, так выходит, будто отлучился за тридевять земель. А она, — княжеский палец с золотым перстнем ткнул в сторону Милуши, — а она толкует, что дома.
— Не ждет баба спроса: сама все скажет, — усмехнулся Третьяк.
— Чего не знат, и то скажет, — отозвался Истома.
— Обыщи, княже, хоромы, обыщи двор! — всхлипывала боярыня, не вставая с колен.
— Не учи рыбу плавать! — оборвал ее князь. — Ищем.
Он замолчал, сощурив узкие глаза. Потом снова заговорил:
— Знал бы я, что эдак своего князя встречать будете, так я бы вперед себя тиунов послал, чтоб ваши села огнем пожгли, чтоб мечом вас посекли, чтоб конским хвостом пепел размели.
Боярыня, громко рыдая, бухнула головой Юрию в ноги.
— Сделай милость, княже! — заикнулся Яким Кучкович. — Взойди в избу, оттрапезуй, не побрезгай нашим хлебом-солью!
— Сделай милость! — вяло подтянул Иван.
Юрий презрительно усмехнулся, оттянув вниз углы большого рта:
— Того не бывало и не будет, чтоб князья к хоронякам да к бегунам в гости хаживали.
— Видать, не голодный, — шепнул Истома.
— Чай, не молотил, — ответил Третьяк.
В тяжелой тишине, воцарившейся после Юрьевой речи, серебряным колокольчиком прозвенел вдруг тонкий голосок Милуши.
— Чтой-то сорока так рассокоталася? — по-детски удивленно вымолвила она нараспев.
При этих словах годовалая Липанька, до тех пор спокойно переводившая глазенки с одного на другого, вдруг охватила руками шею матери, прижалась к ней щекой и разразилась такими отчаянными воплями, что старуха боярыня воспрянула с земли, всплеснула ладонями и уставилась на внучку с ужасом.
Князь, скосив прищуренные глаза, глядел на подгорный островок пронзительно желтого березового леса, над которым в самом деле сокотала кем-то вспугнутая сорока.
— Пошарь в острову, — приказал он негромко, полуобернувшись к Андрею.
IX
Через полчаса привели из лесу беглеца.
В воротах Кучко стряхнул с себя, как молодой, четверых княжих отроков и на середину своего двора вышел один, широко раскидывая толстые ноги, напружив шею, бодливо нагнув седую всклокоченную голову. Он был без шапки и без посоха. Левый рукав оторвался от плеча. Один из его провожатых то и дело сплевывал кровью.
— Уберите баб в избу, — распорядился Юрий.
Женщин увели. Наступило долго молчание. Князь, пощипывая редкую бородку, внимательно оглядывал старика. Он не видел его около тридцати лет. Кучко уперся глазами в землю.
— Где пропадал? — выговорил наконец Юрий почти ласково.
— Мало ль дел? — все не поднимая глаз, ответил Кучко.
— А князя встречать — для тебя не дело?
— Отколе было знать, что князь ко мне будет?
— А про то знал ли, что князь, когда захочет, тебя в дугу согнет, да и концы накрест сведет? Автамонов день[14] празднуешь? С гадами заодно в лес уполз?
Тут Кучко вскинул наконец кровяные глаза и дерзко оглядел Юрия с головы до ног.
— Я подле истинного князя, — отчеканил он раздельно, — подле твоего отца, не один год ездил. Навидался и других светлых князей. А ни от кого таких непотребных речей не слыхивал.
Юрий, звеня кольчугой, тяжело поднялся во весь свой громадный рост. Слышно было, как свистит его дыхание.
— Молчи, холоп!
— Холопом не бывал и не буду! — крикнул Кучко, дрожа всем телом. — Лучше смерть приму!
— Не долго ждать, — тихо вымолвил Юрий.
Его бородка тоже тряслась от бешенства. Он неловко вытянул из скрежещущих ножен длинный меч и, волоча его за собой острием по земле, подступил к боярину:
— Наперед волю мою выслушаешь. Вотчины твоей больше нет. Моя — вся земля, куда ходила коса и секира, мои — все угодья, моя — вся челядь.
— Моей вотчины тут не бывало, — ответил Кучко, не попятившись ни на шаг. — Мою вотчину под Суздалем твои воры-рядовичи[15] забрали. А здесь у меня моим потом да моей кровью слободы накоплены. Да не на тебя копил! Не твоя грамота, не к тебе и потянут.
— Чья грамота? — спросил Юрий, мягко подвигаясь еще на шаг вперед.
— Ходит-то как! — шепнул Истома. — Ног не поднимат: движком двигат…
Кучко ответил не сразу. Он с ненавистью снизу вверх заглянул князю в самые глаза, будто вычитывая в них что-то, и только затем громко произнес:
— Киевская. Вот чья.
Юрий повел плечами и обернулся к Андрею. Его было не узнать: глаза расширились, бледные щеки разгорелись. Он был прекрасен. Каким-то до странности простым и искренним голосом сказал он сыну, будто говоря с ним наедине:
— Слышь-ка, Андрей, да тут измена! Нашу суздальскую землицу, отчую да деднюю, из-под моей руки ворогам нашим сватать! Эдакой-то клин да с таким-то урочищем! — Он покачал головой. — Как же так, Андрей? Чего же мы мешкаем? Ты уж, сынок, здесь за всем пригляди. Володимерского полку одну сотню тут попридержишь на время. Да дворского не забудь поставить.
Он с трудом вложил меч в ножны. Отвернувшись от Кучка, он вел себя так, словно того уж и на свете нет.
— А с ним что? — спросил Андрей вполголоса, отойдя с отцом в сторону.
Юрий не поглядел на боярина, который стоял все на прежнем месте и с бессмысленным недоумением озирался по сторонам, точно не узнавая своего двора. Губы князя дрогнули брезгливостью, когда он ответил сыну:
— Осменник[16] Петрило его управит. Я скажу. — Потерев глаз кулаком, он добавил: — А сынов его, коли хочешь, да непутевого Петряйку бери себе в дружину. — Он вздохнул. — А не то как знаешь: они в твоей воле.
Потом, взглянув на сына в упор, поднял палец с перстнем:
— Только чтобы здесь и корешка их не оставалось. Слышал? — Голос его стал еще тише: — Сторожей при хоромах, да при амбарах, да при кладовых поставь поболее и повернее. Добра много. На себя усадьбу берем.
Когда ясное солнышко после полудня своротило с красных окон Кучковых хором, боярина казнили.
Все обошлось спокойно. Лишних свидетелей не было.
X
Весть о случившемся быстро облетела всю округу.
Люди сбежались даже из дальних сел, и под вечер множество народу толкалось на берегу Москвы-реки, у подножия холма.
Смотрели туда, где над самой кручей, на воткнутом в землю высоком древке с золотым двузубым навершием, полоскался на ветру еще никем на Москве не виданный княжеский стяг.
Его алый атласный клин, то вытягиваясь хоботом, то переливаясь волнами, пламенел на закате. По багряному полю шелками да золотой ниткой был искусно вышит большеголовый лев, поднявшийся в ярости на задние лапы.
А позади стяга, вне боярского двора, под вековыми соснами были раскинуты шатры. Всех наряднее и всех выше был один — просторный, теплый. Все его полы были мечены одним круглым знаком, похожим на колесо. По доносившемуся из этого шатра беспорядочному шуму голосов слышно было, что там пируют.
Старого князя народ не успел толком разглядеть. Лишь один раз выходил Юрий из шатра. Он снял доспех и был теперь в такой же, как у Андрея, высокой шапке, отороченной бобром. Медленно прошагал он на крутую изголовь холма и, взявшись рукой за древко своего стяга, долго простоял там молча, скашивая узкие глаза то на закат, то на полдень, то на восход, будто высматривая такое, чего другим не видать.
Зато на долготелого княжича все нагляделись вдоволь, пока он расставлял сторожей да устраивал на ночевку владимирский полк.
Видели, как уже под вечер он на своем пегом страшилище выехал далеко за околицу провожать четыре груженые подводы. На них увозили во Владимир старуху боярыню с обеими снохами, с дочерью и с внучкой.
Откинув назад и вбок маленькую голову, княжич долго смотрел им вслед, пока медленный их поезд тянулся мимо распряженных обозных телег и полковых костров, которыми мигало в сумерках все широкое Кучково поле.
Когда к ночи народ стал расходиться по домам, толки о сегодняшних событиях были самые различные. О старом не плакали, новому не радовались. Всего значения происшедшего не понимал никто. Больше удивлялись и гадали не без страха о неизвестном будущем.
Полнолицая Гончарова жена, коренная вятичанка, никогда еще не живавшая под князьями, все не могла уразуметь, на что Юрию чужие села, когда у него под Суздалем и своих, как толкуют, не перечесть.
— Что дивиться, миланька? — отвечала ей соседка, вдова киевского серебреника, ядовитая старуха, видавшая на долгом веку всякие виды. — Не с одного цветка пчелка мед берет.
Многих мужчин изумляло, что Кучко, человек хоть и вспыльчивый, да осторожный, будто сам натолкнулся на грех. Зачем было бегать? Поклонился бы князю, одарил бы как следует. Упрямая овца — волку корысть.
— Вот и главно-то! — горячился пожилой кудрявый кузнец. — Уперся, как бык в стену рогами. Распалил воробьиное сердце! А нам отдуваться.
Кузнец был родом из Любеча, где его двор из-за княжеских усобиц четыре раза выгорал дотла. Он четырежды отстраивал его заново, но после пятого пожара потерял терпение и перебрался в Кучковы слободы.
— Что ты? — возражал ему степенный суздалец Неждан, боярский бортник. — Разве князя поклонами да подарками удовольствуешь? У него свое на уме: что задумал, то сделает. Нам ли его нрава не знать?
Третьяк, укладываясь на сеновале спать и натягивая на себя вместо одеяла короткий посконный зипун, весь в дырьях, окликнул соседа:
— Истома, ой Истома! Чего у тебя в брюхе больно громко урчит? Будто жеребец ржет!
— Заурчит, когда за весь день только раз хлебца ущипнул! — отозвался из темноты сонный голос Истомы.
— Нда-а! — протянул Третьяк. — Кабы не дыра во рту, жили бы да жили, ни о чем не тужили… — Он зевнул. — На молотьбу-то погонят нас завтра, что ли?
— Не на молотьбу, так на другое. В покое не оставят. Что при боярине, что при князе — нашему брату все едино свету не видать.
Третьяк выдрал из бороды застрявший еще с утра репей и ничего не ответил.
Жалел боярина один дурачок Зотик. Он сидел на холодном земляном полу в своем чулане один-одинешенек, нюхал душистый кипарисовый посох, подобранный днем в березовом лесочке, слизывал со щеки соленую слезу и приговаривал шепотом:
— Дитятко!
В опустевшей Параниной светелке ночевал назначенный Андреем Юрьевичем чернобородый дворский — управитель новой княжой усадьбы, которую велено было с этого дня называть не Кучковой, а по имени реки — Московой.
От яблочного ли духа, который сочился из соседнего подкровелья, от вчерашнего ли меда, выпитого в теплом шатре, дворский пробудился утром со свинцовой головой. Поднявшись с пуховой девичьей постели, он приотворил слюдяное оконце и хмуро оглядел неметеный двор.
А сквозь тонкие веточки плакучей березы синело чистое осеннее небо, полное непонятных надежд.
Новое сильнее старого.
Про то, каков был Кучко и чем досадил князю, забыли скоро. Запомнили только, что выдала его сорока.
И долго еще, веками, держалось поверье, что сорока на Москве — птица проклятая и что сорочьей породе здесь не житье.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В гостях у Долгорукого
I
Киевский племянник перехитрил суздальского дядю. Узнав, что Долгорукий ломится сквозь леса в его сторону, он направил ему удар в спину: подстрекнул рязанского князя напасть на Юрьеву волость, оставшуюся без защиты.
Встревоженный этим известием, Юрий повалил из Козельска назад, в Суздаль. На этом пути он только мельком заглянул в свое новое московское сельцо. Выслушал бородатого дворского, отдал два-три распоряжения и, не ночуя, двинулся под мелким осенним дождем дальше.
Рязанский князь дорого заплатил за озорство. Юрьевы сыновья Ростислав и Андрей выгнали его из отцовских земель с великим для него уроном. А затем, дождавшись первых заморозков, ворвались по синему льду в его вотчину и заставили его бежать в половецкие степи.
Юрий ликовал: это была полезная проба сил перед киевским поединком.
Во время лихого рязанского наезда новые Андреевы дружинники, братья Кучковичи, Яким и Иван, показали себя первыми удальцами и крепко полюбились княжичу.
Не так угодил ему красавец Петр Замятнич. Он хоть и ни в чем не оплошал, однако же не проявил в бою ценимого Андреем отчаянного буйства. Так, по крайней мере, отозвался о нем сам Андрей, когда, вернувшись домой, рассказывал о своем походе жене, умной и злой булгарке.
Юрий, обезопасив себя с тыла, вспомнил наконец и о своем союзнике, северном князе Святославе, которого покинул осенью в Козельске на произвол судьбы.
Святославу приходилось плохо. Еще год назад он был благополучен и богат. Теперь враги разорили его до нитки, вчерашние друзья отступились, и он, как затравленный волк, прятался с голодной семьей в вятических лесах.
А между тем без этого союзника, хоть и доведенного до нищеты, Юрию было не обойтись. Северская земля служила заслоном от Киева. Святослав Ольгович был предприимчив, опытен и непримиримо зол на киевского князя. И Юрий решил его поддержать: дал людей и послал дары.
Когда же в самом конце зимы Долгорукий принялся, по обыкновению, пакостить Новгороду и отправился походом на Мсту, то дал боевое поручение и союзнику. Оно сулило выгоды им обоим. Юрий предложил Святославу, поднявшись по реке Протве, повоевать восточную окраину Смоленского княжества, которое досаждало Юрию притязаниями на какие-то дани с его Суздальской земли.
Оба набега удались.
Из обильного всякими товарами Торжка Юрий вытряс все что мог и возвращался домой в отличном расположении духа. Потемневшие на мартовском солнце дороги еле держали лошадей, которые надрывались, волоча то по голому навозу, то по шипучему месиву талого снега тяжелые возы военной добычи.
Еще с дороги Юрий послал к Святославу гонца с таким приглашением:
"Приди ко мне, брате, в Москову".
II
Московский дворский, встретив князя, и сам сбился с ног, и всю челядь засуетил.
Даже бывший Кучков бортник Неждан, не челядин, а вольный до тех пор слобожанин, и тот очнуться не мог от негаданных дел. Дворский дознался про него, что он первый на всю округу медовар, и теперь не отпускал домой, заставляя парить на вольном духу да переваривать на малине, на вишне и на гвоздике любимые Юрием питейные меды.
— Помилосердствуй — молил Неждан. — Дай хоть на час в липняк сходить. Весна, лес, того гляди, листвой окинется, а у меня свои борти еще не смотрены.
— Боярину служил, а князю не охоч служить? — ехидствовал дворский.
— Не служил я боярину! — объяснял Неждан, прижимая руку к широкой груди. — У меня с ним уговор был: я с его меду четвертую корчагу себе брал.
— Четвертую корчагу! — качал головой дворский. — Вишь ты, сколько княжого добра перебрал!
— Так ведь не княжого, а боярского…
— Было боярское, стало княжое. Ты — княжой закуп.
Закуп — это было страшное слово. Неждан понимал его значение. Закупом назывался человек, который, задолжав князю или боярину, терял свободу: он обязывался выполнять для них даром любую работу, пока не вернет всего долга. А за Нежданом не числилось никаких долгов.
— Какой я закуп, — с дрожью в голове говорил бортник, — когда за свою работу по уговору брал?
— А уговаривался, так и работай на князя.
— Сработаю, только пусти на часок в лес: пчела тужит.
— Пчелу жалеешь, а князя тебе не жаль?
Этого дворского с первого дня его появления почему-то всей душой возненавидел заика Зотик, хоть и не имел с ним ровно никаких дел. Дурачок по-прежнему бобровничал, к княжим хоромам не подходил, но каждый раз, как видел издали черную бороду дворского, весь ежился, и безволосое его лицо, не то мужское, не то бабье, не то молодое, не то старое, ощеривалось по-звериному.
В среду 2 апреля 1147 года, под вечер, Юрий позвал дворского и, сев на завалинку, обсудил с ним во всех подробностях, чем столовать ожидавшихся со дня на день дорогих гостей: князя Святослава с дружиной.
С юга, с Замоскворечья, тянул мягкий ветер-теплячок, и Юрий, неторопливо беседуя с управителем, следил, прищурясь, за первыми комарами, которые толклись перед ним столбом, золотясь на закатном солнышке.
По двору, выбирая сухие места, похаживал, заложив руки за тощую спину, старый иеромонах[17] в теплой скуфейке, насунутой на впалые глаза. Это был духовник Юрия, сопровождавший его в походе по случаю великого поста. Временами он останавливался и, наклонив горбатый нос, прислушивался к нежному свисту и клыканью только что прилетевших скворцов. Под свесами крыш еще стояли лужи, а кое-где долеживал и почерневший снег.
Пока князь справлялся, сдобрен ли мед инбирем,[18] пока объяснял, как замешивать в гороховую кашу маковый сок, пока высчитывал с дворским, сколько уйдет ведер клюковного киселя да сколько печь пирогов, рассольных и кислых, круглых и косых, духовник прислушивался к их беседе довольно равнодушно. Но когда с красных блинов да со щучьей ухи речь перешла сперва на глухарей, на гусей, на лебедей, на журавлей, а потом и на кабанину, на лосятину да на медвежатину, иеромонах не выдержал и воскликнул с негодованием:
— Грех! Или забыл, что ныне великой четыредесятницы пятая седмица?[19] Православные в храм поспешают, а ты взаместо поста чрево неистовство заводишь!
— Полно, отче, — спокойно отвечал Юрий. — Пост — не мост: можно и объехать. Не велишь ли гостей тяпаными грибами потчевать?
Монах сердито махнул рукой и отошел к оврагу.
Внизу, под его ногами, на Неглинной, теплился еще сплошной, но уже потемневший лед. А Москва-река вскрылась почти вся.
На берегу рыбаки стучали топором, прилаживая к челну железную козу для огня, чтобы в ночь выйти с острогой и налучить свежих щук к княжному столу. Когда топор смолкал, становилось слышно, как где-то за рекой, на болоте, бормочет в весеннем бреду водяная курочка.
III
Через два дня, в пятницу 4 апреля, когда солнце пошло уже на обед, в воротах княжого двора по густой грязи зачавкали копытами чужие кони. Это Святослав выслал передовых с отдарком Юрию.
Людей было пятеро: восьмилетний Святославов сын — княжич Олег (он был за главного посла), его кормилец — дряхлый старец, еле державшийся в седле, да трое наемных половцев. Наступила ростепель, гужом нельзя было проехать ни на полозу, ни на колесах, и послы пригнали верхами. Хвосты у лошадей были подвязаны, и на конских животах понасохла грязь.
За спиной у одного из половцев на конских забедрах смирно сидел, свесив пушистый хвост, какой-то пятнистый зверь, ростом и сложением похожий на собаку. Натянутый на голову клобучок закрывал ему глаза и уши.
Так как никакой другой клади у послов не было, то все поняли, что это и есть отдарок.
— Тяжелый поклон с легким даром! — смеялись Юрьевы бояре.
Союз с обнищавшим Святославом не вызывал сочувствия.
Хоть маленького князеныша и пораскорячило от непривычно долгой езды, однако же он скрепил все силы, чтобы не уронить своего посольского достоинства. В княжие покои он вошел с пылающими от смущения ушами, но довольно степенно.
Два половца внесли за ним на носилках пятнистого зверя. Клобучок сняли. Под клобучком оказалась кошачья голова. С затылка до холки шла короткая грива.
Это был пардус[20] — ловчий зверь. Они водились где-то в отдаленнейших пустынях, за Каспийским морем, и на Руси ценились чуть ли не на вес золота. Юрий, подобно отцу завзятый охотник, знал о них только понаслышке. Обзавестись пардусом было давней его мечтой. Более изысканного подарка Святослав не мог и придумать.
По знаку маленького Олега зверь мягко соскочил с носилок, подполз на брюхе к Юрию, стал ласково тереться о его ноги и замурлыкал.
Юрий, забыв от радости все на свете, хлопал себя ладонями по толстым бокам и заливался детским смехом.
Пришелся ему по нраву и курносый князек. Он насыпал ему в полу каленых орехов, наказал отрокам послаще накормить и его и провожатых и, громко шаркая подошвами, ушел в клеть, позвав с собой дворского, конюшего и ловчего.[21] Надо было на скорую руку, до приезда гостей, отдать еще несколько ответственных распоряжений: Юрий решил завтрашний день начать с охоты. В этой излюбленной княжеской потехе Святослав Ольгович, как слышно, понимал толк. Перед таким знатоком дела нельзя было ударить лицом в грязь.
Через час восьмилетний Святославов посол был уже на Москве-реке у перевоза и, стоя на мостках рядом с сумрачным Юрьевым духовником, ловил с ним вместе ершей на удочку.
IV
Вечером того же дня прибыл в Москву и сам Святослав с небольшой дружиной.
Он намеренно дождался сумерек, чтобы при въезде на Юрьев богатый двор не так кинулось в глаза убожество его дружинников.
Но на дружинников никто и не посмотрел, потому что все внимание встречавших оказалось поглощено нарядом приезжего князя. Его ожидали увидеть чуть ли не в лохмотьях, а он приубрал себя так, что суздальские бояре поразевали рты.
— На Протве нахватал! — шипели втихомолку некоторые.
Одеяние Святослава было не только роскошнее Юрьева — оно изобличало несравненно более тонкое знакомство со всеми самыми строгими правилами княжеского приличия.
Шапка, например, скроенная на тот же лад, что у Андрея и у Юрия (такие высокие шапки с круглым верхом могли носить только князья), но отороченная не вятическим бобром, а дорогим заволоцким соболем, была не из желтого сукна, как у Андрея, и не из синего, как у Юрия, а из огненно-красного бархата: для княжеской шапки это был, по киевским понятиям, единственно возможный цвет. Синяя же шапка рассматривалась в княжеском быту как дерзкое и не совсем, пожалуй, пристойное новшество. Но зато синий цвет считался как нельзя более уместным для так называемого корзна, то есть для княжеского плаща. И, в полном соответствии с таким пониманием дела, корзно на Святославе было васильково-синее, с золотой каймой, с золотыми кругами и узорами, с вышитым на левом плече золотым орлом, застегнутое золотою же пряжкой у правого плеча. Золота вообще было много: видневшееся из-под корзна оплечье (тоже непременный знак княжеского достоинства), витой, обходивший вокруг шеи и тяжело спадавший на грудь обруч кованой гривны, парчовые поручи, пояс с двумя свисавшими по бокам ремнями — все это горело золотом.
Никто не знал, каких жестоких лишений, какой унизительной суетни и даже уступок совести стоил злополучному Ольговичу этот ослепительный наряд, которым он силился скрыть свою нищету. Ее выдавала только болезненная дряблость измятого, угасшего, когда-то красивого лица: по ней видно было, что этот пожилой человек еще недавно был тучен и что хоть и крепится, но явно ослаб от непривычной худобы.
Юрию не терпелось поскорее приступить к давно обдуманной важной беседе. Гость горел тем же желанием, и притом в гораздо большей мере: для него дело шло о жизни. Тем не менее, считая, что торопливость князю не под стать, Святослав потратил более получаса на старательнейшее выполнение всевозможных обрядов и околичностей, обязательных, по его мнению, при встрече двух союзных князей: тут были и повторенные много раз поклоны и полупоклоны, и осторожные, чопорные объятия, и еще более чопорные лобызания в плечико, и учтивые расспросы о здоровье, а главное — чрезвычайно замысловатые величания, которые Святослав Ольгович, несмотря на беззубость, выговаривал с удивительной, недоступной Юрию легкостью и изяществом.
Когда дошло наконец до дела, то и тут Юрию немало досадила обременительная вежливость именитого гостя, а пуще всего его словесное искусство.
У князей было свое особое наречие, своя повадка в ведении разговора, свой способ управлять голосом. От всего этого Юрий поотстал. Он был по природе скорее молчалив, а когда необходимость заставляла говорить, старался изъясниться покороче, попонятнее да покрепче, не раздумывая над красотой выражений.
Святослав, наоборот, взвешивал и даже будто испытывал на вкус всякое свое слово и когда наконец произносил его, то и улыбкой, и взглядом, и наклоном лысой головы, и каким-то особенным придыханием давал почувствовать, что за прямым значением сказанного слова может укрыться еще и много других: ежели, мол, ты умом и душою подлинный князь, такой же, как я, тогда ты, верно, уразумеешь, что я хочу сказать, а не уразумеешь — твоя беда.
Святослав был годами старше Юрия, приходился ему троюродным братом и принадлежал по родственному счету к более знатной ветви Рюрикова дома. Эти свои три качества он все время неуловимо выпячивал. Юрий помнил о них и так, но его сбивало с толку, что Святослав — очевидно, неспроста — величает его то братом, то отцом, а иногда зараз и братом и отцом.
Слово «отец» было еще понятно Юрию: в устах Святослава, на его условном наречии, оно означало, что, вынужденный горестными обстоятельствами уплачивать необходимую дань новому порядку общественной жизни, он, Святослав, не только заключает с Юрием военный союз (у князей это называлось "войти в любовь"), но и признает скрепя сердце свою вассальную зависимость от ростово-суздальского князя.
Сложнее обстояло дело со словом «брат»: в одних случаях Святослав подчеркивал этим словом их действительное, кровное, довольно близкое родство, в других — общую принадлежность к княжескому заповедному кругу, который весьма резкой, непереходимой чертой отмежевывал себя от прочих слоев общества, даже и от самых высших. Но в каких случаях слову «брат» придавалось Святославом одно значение, в каких — другое и зачем вообще нужна такая словесная игра, этого Юрий так и не понял.
При всем том он хоть и поутомился от слишком вычурной беседы, однако же остался доволен ее итогами. Она убедила его лишний раз, что Ольгович бесспорно умен и, по всей видимости, не обманет.
Час был поздний. Трудная дорога и лесные вкрадчивые пары разморили Святослава. Юрия тоже клонило ко сну. Ужен вышел короткий и немногословный. Поднявшись из-за стола, князья сразу же разошлись спать, еле волоча обомлевшие ноги.
Холодную апрельскую ночь долго раздирал неистовый птичий крик. Потом он стал утихать. Как только в голом еще березовом острову за Неглинной примолк последний скворец, сразу со всех сторон слетелись приглушенные торопливые, тревожные голоса весенних ручьев.
В слюдяном оконце бывшей Параниной светелки мерцал огонь. Под треск неровно пылавшей лучины Юрьев духовник, положив на колено тетрадь, вписывал в нее что-то.
Иногда он вскидывал голову и сурово глядел на железный светец, куда была воткнута лучина. Потом опять приникал к тетради и принимался усердно выводить крупным уставом букву за буквой, слово за словом, строку за строкой.
Что он записывал? То ли, что припомнилось из времен молодости? То ли, что произошло сегодня?
События этого дня дали повод внести в позднейшую летопись первое упоминание о Москве.
Вошел в летопись и следующий день.
V
Следующий день вышел не в меру шумный.
Князья выехали в поле задолго до рассвета. Охота удалась на славу. Юрий сумел показать товар лицом.
Его гость, Святослав Ольгович, не раз за это утро чернел от зависти, любуясь, как взмывают в небо Юрьевы бесценные соколы, как, подтекая под свою летящую добычу, взгоняют ее все выше, как потом выныривают из-под нее вверх и бьют на лету — задним когтем под левое крыло. Когда один из соколов, лучший (Юрий выпустил его последним), расправился таким образом с поднятым собаками глухарем, распоров его в воздухе насмерть точно ножом, Святослав при всем своем самообладании не мог удержаться от восторженного крика.
Поиск ищейных собак и голоса гончих, подобранные один к одному лучше гусельных струн, очаровали его не меньше.
Внимательным глазом знатока приглядывался он к ловчему, к доезжачему, к выжлятникам, к сокольникам.[22] Все — молодец к молодцу, быстрые, бесстрашные, сметливые, послушные.
Охоты столь роскошной и так ловко слаженной Святослав не видал еще нигде. Он понимал, каких издержек требует эдакий ловчий путь. Другим князьям они были бы не под силу. А Юрий будто и не думал о нил. Его умелая хозяйская рука и широкий размах давали себя знать и тут.
Рассудок Святослава убеждал его, что он поступил в высшей степени благоразумно, укрывшись за щитом у этого чуждого ему во всем, неотесанного, ненавистного всей их чванной родне, но несомненно могучего человека. Однако щекотливое княжеское самолюбие упрямо спорило с рассудком и к концу охоты довело бы Ольговича до отчаяния, если бы не пардус.
Пардус затмил и соколов и псов.
Юрий только о нем и говорил и в лесу за завтраком, и на обратном пути. Потный, взлохмаченный, с пухом, паутиной и сосновыми иглами в редкой бороде, но помолодевший от свежего загара, с блестящими глазами, он приваливался к Святославу плечом, хлопал его по колену и шептал:
— Нет, ты послушай: ходит-то, ходит-то как! Сперва ползком крадется, тише змеи: былинки не пошевелит. И все обходами да перевертами. Остановится, шею вытянет, гриву взъерошит, ветер понюхает и опять поползет. А потом вдруг как сиганет! И уж до чего же скор! До чего же скор! На Великом лугу зайца русака шутя в три скачка взял. Волчицу старую с ног сбил! На моих глазах, ей-ей, не вру! А на Яузе-то за лосем-то как припустит — да хвать его за горло! А лось только храпанул, паханул туда-сюда своими сохами да тут и полег. Шутка ли — лось!..
Пардус, точно понимая, что речь о нем, смотрел на Юрия кроткими, преданными глазами и, лежа у его ног, тихонько мурлыкал.
Он устал, но досыта наелся сырой лосятиной и был очень доволен новым хозяином.
VI
Шум начался с полудня, после возвращения князей с охоты.
На москворецком берегу снова, как семь месяцев назад, топтался народ, и опять все глядели наверх, на гору. Еще громче, чем тогда, были доносившиеся с горы звуки пира. К ним прислушивались с еще большим вниманием и любопытством, потому что все творившееся на княжом дворе было скрыто теперь от глаз толпы высоким бревенчатым частоколом, которым Юрий приказал обнести свою новую усадьбу.
Неждана-бортника все еще не отпускали домой. Когда жена носила ему завтрак, то слышала от мужа, что к князю в покои сейчас не протолкнешься. Туда набились Святославовы голодные, ободранные дружинники, и Юрий из своих рук наделяет их подарками. Нежданова жена видела, как вышла из хором три половца, приехавшие намедни с маленьким Олегом, и тут же, на крыльце, скаля белые зубы, стали примерять короткие овчинные тулупчики новоторжского изделия.
— Нашел кого дарить! — выговорила вдова киевского серебреника, презрительно поджимая тонкие губы. — Чай, и сами сумеют взять.
— А про Милушу слыхала? — спросила бортничиха.
В Юрьевой дружине у бортничихи сыскался свояк-владимирец. Он успел рассказать все новости про Кучково семейство. Вдовая боярыня постриглась в монастырь. Иван Кучкович с Дарьицей живут хоть и не скудно, да тихо. При них и Параня. А у Милуши с Якимом дом — полная чаша: видно, ухитрились захватить из Москвы довольно добра. Во Владимире Милушу ласкает молодая княгиня, Андреева жена, булгарка, от которой муж за последнее время стал что-то отставать. Милуша будто с тех пор и привязала к себе княгиню, как научила ее поить Андрея какой-то заговоренной водицей. И старый князь Юрий, когда бывает во Владимире, привечает Милушу. А молодой князь воротит от нее лик. Оба брата, Яким и Иван, у Андрея в чести. Красавец Петр с Якимом по-старому в дружбе — водой не разольешь. После Пасхи, на красной горке будет свадьба Петра с Параней. Сама молодая княгиня их сосватала при Милушиной помощи. Только невеста печальна. Без матери скучает и часто плачет по отце.
— Девичьим слезам недорога цена, — заметила серебреница. — И без отца проживет.
— Еще и вотчину наживет, — подхватила бортничиха. — А нам каково, когда наших мужьев всех на княжую работу поставят? Бояре слезой откупятся, а мы — спиной!
В это время на холме громко грянули в бубны, и сразу вслед за тем раздался нестройный рев боевых труб. Все глаза опять устремились наверх. Детвора давно уж вскарабкалась на гору и прилипла ко всем щелям нового частокола. Теперь полезли туда и взрослые, в том числе и тощий Истома, за которым увязался убогий Зотик, слонявшийся без дела по берегу, как всегда, с луком и стрелами.
Истома знал, что со стороны Неглинной частокол попрогалистее. Он ползком прокрался туда, отыскал широкий просвет и втиснул в него лицо, прижавшись скулами к пахучим еловым бревнам. В двух шагах от него пристроился на корточках и Зотик.
С самого рассвета и до полудня Истома возил воду с реки на княжой двор. Пока он выливал ее из бочки в колоду, ему то и дело ударяли в нос и кружили голову валившие из поварни жирные съестные запахи — то вареной рыбы, то жареного мяса, то горячего теста. Напоследок знакомая стряпуха вынесла ему тайком бадейку подогретого пива и обломок пирога с луком. Тут у Истомы по всему животу разлилось тепло, а мысли закурчавились и побежали по новым стежкам. Когда же заглянул он сейчас в щель частокола, то и вовсе ошалел.
Весь красный двор был уставлен столами. Все столы были завалены такими горами всевозможных яств, каких Истома отродясь еще не видывал. К яствам со всех сторон тянулись руки. Какие-то рты глотали кусок за куском. А кому принадлежали руки и рты, этого Истома поначалу даже и не разглядел. Вокруг столов сновали слуги с блюдами, ковшами, братинами.
По ту сторону частокола, вплотную к нему, стояли бубенщики и трубачи. От их сапог крепко пахло дегтем. За ними колыхалась смутная человечья мешанина, где Истома различал временами лишь отдельные черты чужих лиц: то чью-то румяную жующую щеку, то чьи-то одеревенелые от хмеля морщины, то оскал чьих-то желтых зубов, то остановившийся глаз, подернутый пьяной слезой.
Перед бубенщиками высился на помосте небольшой стол, весь заставленный серебряной и золотой утварью, которая так и сияла на солнце. За этим столом спиной к Истоме сидели особо от всех оба князя. Он узнал их по высоким круглым шапкам. Их отделяло от Истомы такое короткое расстояние, что когда затихал порою людской гам, слышны даже становились отрывочные словечки князей.
Между ними в такой же, как на них, высокой шапке, на такой же, как под ними, резной скамье, накрытой подушкой, стоял маленький Олег. Отец придерживал его за плечи.
Юрий взял со стола большой, окованный серебром турий рог на серебряных же ножках. Это была заветная посудина, из которой дозволялось пить вино только князьям.
Поднеся рог к губам мальчика, Юрий медленно вылил вино в детский рот — все, до последней капли.
И тотчас же над самым ухом у Истомы оглушительно рявкнули страшные трубы, и бубны рассыпались неистовым звяканьем и трескотней.
Когда они утихли, Истома просунул руку сквозь частокол, дернул одного из бубенщиков за полу и спросил, в честь чего они гремели.
— Посвятанье справляют, — ответил тот.
— Кого сватали-то? — удивился Истома. — Тут и девок нет.
— Княж-Юрьеву дочь помолвили, — объяснил бубенщик, — за очи: отцы по рукам ударили.
— А жених кто? — полюбопытствовал Истома.
— Эвон жених.
Бубенщик мотнул подбородком в сторону восьмилетнего Олега, который, соскочив со скамьи, еле удержался на ногах. На нем лица не было.
Около охмелевшего мальчугана суматошился Юрьев чашник, ища глазами кормильца.
А дряхлому кормильцу было не до воспитанника. Хилый старикашка сидел в стороне на сосновом пеньке и с бессмысленно-хитрой улыбкой, подняв скрюченный палец, вытягивал тончайшим голосом какую-то замысловатую песню.
Как из-под земли вырос горбоносый Юрьев духовник. По случаю торжественного дня на нем поверх черной ряски была куцая накидочка, едва прикрывавшая его костлявые плечи. Она придавала его тощему стану что-то девичье. Монах сердито ухватил восьмилетнего жениха за руку и уволок в хоромы.
Все это будто во сне мерещилось Истоме. Выпитое натощак пиво продолжало горячить голову.
Князь Юрий наклонился к Святославу и спросил глухо:
— Силен ли обед?
— Силен, отец. Беда как силен! — вежливо отвечал гость.
— А каков мед? — продолжал допрашивать хозяин. — В меру ли наядренел?
Святослав развел руками, точно не находя слов.
— С эдаким медом и долото проглотишь! — вымолвил он наконец с такой преувеличенной выразительностью, что нельзя было понять, говорит ли он прямую любезность или под видом любезности дерзит.
Прислушиваясь к их словам, Истома все думал о своем. Какие-то до смешного простые, но никогда еще не приходившие на ум вопросы выскакивали один за другим, как пузыри на кипящей воде:
"Я пашню пашу, а голоден. Они не пашут, а сыты. Почему? Бревна для частокола я тесал, а меня за частокол не пускают. Почему? Загорись у них хоромы, напади на них враг — мне их выручать. А окажись я в беде — они на меня и не чихнут. Почему? Нас много, их мало, а мы перед ними шею гнем. Почему?.."
Юрий, подманив к себе дворского, говорил ему что-то через стол, навалясь на столешницу грудью. Дворский стоял лицом к Истоме, подобострастно выставив вперед черную бороду.
Бубенщики и трубачи зашевелились. Истома слышал, как один из них сказал другому, весело поколачивая его по плечу навощенным кистеньком, которым бьют в бубен:
— Вот нам и отдых! Велит гусельщиков звать, да свирельщиков, да смехословцев…
Вдруг что-то случилось. Дворский странно вскинул обе руки и, схватившись за глаза, упал. Пирующие повскакали с мест. Князья Юрий и Святослав поднялись на ноги.
Истоме не видно было, что делается за столом, куда свалился дворский. Слышны были только отдельные возгласы:
— Стрела!..
— В самое виденье угодила…
— Тупоносая…
— Помер?
— Нет, будто живой…
— А глаз-то пропал…
Истома оглянулся: Зотика рядом с ним не было.
Через час на княжом дворе словно позабыли про окривевшего дворского. Пир продолжался до вечера, пока в апрельском небе не зазеленели первые звезды. Трубы рокотали; гнусавили свирели; бренчали гусли; бубны тулумбасили, перекрывая пьяные возгласы; кованые каблуки, выколачивая глухую дробь, лихо били трепака.
VII
Неждан-бортник, воспользовавшись несчастьем своего мучителя, вырвался наконец домой. В сумерках в его чистую, пропахшую медом избу зашел сосед — кудрявый кузнец.
— Зотика теперь днем с огнем не отыщешь, — толковал Неждан. — Дурачку в наших дебрях каждая мышья нора знакома: схоронится, что барсук.
— Вот и главно-то! — кипятился кузнец. — Он схоронится, а мы в ответе. За его озорство с нас всех виру[23] сдерут. Шутка ли нашему-то сиротскому миру восемьдесят гривен выложить! Ты посчитай, какой на нас с тобой убыток ляжет.
— Не в том убыток, что гривну отдашь, — возразил Неждан, — а в том убыток, что одноглазый злее двуглазого себя окажет.
На полатях, свесив призрачно-тонкие ноги, сидел столетний дед, Нежданов отец. Он давно оглох и привык разговаривать втихомолку сам с собой.
— Я пропаду — и ты пропадешь, — бормотал он еле слышно, потряхивая паутинкой седых волос. — Ну и что? Земля-то наша не тобой жива и не мной. Земля народом сильна. Народ земле хозяин, вот кто. А народ вовек не пропадет. Все управит народ-то, вот как…
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Рубят город
I
Кучковой дочери Паране пришлось неожиданно для всех и для самой себя вернуться на родину, в Москву. Это случилось десять лет спустя после того, как отсекли голову ее отцу.
Старый князь Юрий, утвердившись в Киеве, почти не заглядывал с тех пор в любимое, заботившее его Залесье. Хотел удержать при себе и старшего сына, Андрея, но тот не пожелал оставаться в чужом, противном его сердцу, глохнущем городе, в затхлом кругу незнакомого, сварливого княжья, которое надменно посмеивалось над новоприезжим залесским родственником. Андрей, не сказавшись отцу, сбежал во Владимир. Говорили, будто на этот дерзкий шаг его толкнули братья Кучковичи.
Андрей Юрьевич, как и отец, был деловит и упорен, но более скор и менее опаслив. Вырвавшись уже в зрелых годах из-под Юрьевой опеки и вернувшись в Ростово-Суздальскую землю хоть и далеко еще не полноправным ее хозяином (Юрьев властный голос доносился туда и из Киева), Андрей без оглядки ринулся в самую гущу той общественной борьбы, которая издавна терзала их Залесскую волость. Еще резче, чем Долгорукий, оттолкнул он от себя ростовское боярство. Пренебрег он и новой суздальской знатью, выращенной его отцом и частично ушедшей за Юрием в Киев. Не страшась негодования боярских верхов, он избрал своей главной опорой тех простых, безродных деятелей, чьими руками был выстроен и чьими трудами процвел любимый Андреев город — Владимир из Клязьме.
Эти небогатые еще и невзрачные, но оборотистые купцы и ловкие рукодельники, щеголяя своей незнатностью, любили называть себя «мизинными», то есть самыми младшими, самыми маленькими людьми.
Им принадлежало будущее. Они это знали. Вперед, в будущее смотрел и Андрей. С ними, с мизинными людьми, связал он свою судьбу, и в этом был залог той созидательной силы, которая стала собираться исподволь в его беспокойных руках.
Но легче было бороться с чужой, враждебной волей, чем со своими понятиями и навыками, во власти которых была своя собственная воля. Родившись князем, воспитавшись насильником, Андрей был уверен, что жить — значит угнетать, угнетенный обязан кормить угнетателя: такими заповедями определялось руководившее Андреем второе, разрушительное начало, противоречившее первому, созидательному. Это противоречие свело его государственную деятельность к причудливому чередованию блистательных успехов с постыдными неудачами.
Пестро и шумно было на новом княжом дворе.
Тут всегда сновали во множестве стекловары, камнерезцы, деревщики, златокузнецы, серебреники, медники, оружейники, каменщики из далекого прикарпатского Галича и те особенно ценимые Андреем гончары, что обжигали цветные плиты для дворцовых полов. Кто здесь же и работал, кто сдавал сделанное, кто набивался на новый заказ. Работы хватало всем. Молодой город ширился, украшался и богател не по дням, а по часам.
Добудет ли где купец трубку тяжелой парчи, скаток узорчатого бархата или серебряное блюдо персидского чекана, он, прежде чем выложить такую приманку на свой торговый ларь, непременно похвастает ею князю, который хоть и расплачивался туго, однако любил скупать нужное и ненужное.
Всех этих людей — ремесленников и купцов — Андрей знал наперечет. Из них набирал он пеших бойцов — пешцев — в свое могучее городовое ополчение. А тем, кто оказывался особенно ему по душе, дарил оружие и коня. Такой милостник вступал тогда в его дружину. Ему открывался постоянный доступ в княжеские покои. Если удавалось ему и тут не оплошать, то вскоре жаловалась ему неподалеку от города и землица. А там он, не мешкая, прибирал к рукам соседей-крестьян не хуже заправского боярина.
Вперемешку с выходцами из местных низов толкались в тех же просторных хоромах и всякие пришлые разноземцы: булгары, греки, венгры, германцы, евреи, черкесы, половцы. И всех веселил забористыми прибаутками благодушный Андреев любимец и верный его спутник — краснолицый русский попик Микулица.
Андрей не терпел приезжего духовенства, засылаемого киевскими митрополитами, греками, ставленниками Византии, которая была ненавистна внуку Мономаха своими запоздалыми, оскорбительно надменными притязаниями на церковное главенство. Ему мечталось, что здесь, у себя на севере, он воздвигнет на своем, русском корню мощную церковную власть, к которой потянут и которой подчинятся прихожане всех русских храмов, не только северных.
В окружавшей Андрея разношерстной среде, столь отличной от старокиевской брезгливой знати, братья Кучковичи сумели за десять лет достигнуть выдающегося и прочного положения. Во время киевских трудных походов Юрия, где Андрей удивил всех неслыханной, отчаянной храбростью, граничившей с безумием, Кучковичи не отставали от него ни на шаг и завоевали его полное доверие. Андрей возвел их в самые высокие придворные чины: Якима — в чашники, а Ивана — в стольники,[24] вернул им старую суздальскую вотчину, отнятую когда-то у их отца Юрием, и широко наделил новыми угодьями под Владимиром. Без совета этих двух ближних бояр не решалось теперь никакое важное дело.
Милуша, раздобрев против прежнего вдвое, стала первой боярыней при княгине-булгарке, заправляла всем ее теремным хозяйством, держала в трепете ее челядь, доглядывала за ее детьми и была, как толковали, посвящена во все тайны своей скрытной и желчной госпожи.
Не обижен был и Кучков зять, Паранин муж, Петр Замятнич. Вышел и он в бояре — видимо, не без помощи Милуши. Как и она, Петр располнел, однако оставался еще статен, свеж и по-прежнему бело-румян. Князь Андрей Юрьевич приставил Петра к строительным делам, отдав под его власть всех палатных и стенных мастеров. Когда Долгорукий велел перенести на другое место город Переславль-Залесский, исполнение этой хлопотной работы поручили Петру. Под его же надзором рубили — опять по приказу старого князя — новый город Дмитров. А когда теперь Юрий распорядился из Киева укрепить таким же деревянным городом и Москву, Андрей поспешил послать туда все того же Петра Замятнича.
Во время частых и долгих отлучек мужа Параня жила во Владимире тихо, почти по-монашески. Желтолицая княгиня невзлюбила Параню с первого взгляда. В княжих покоях Кучкова сирота не показывалась. Со своего укромного приречного двора, обросшего вишнями и рябинами, она выходила редко — только вечерами, под праздник, когда водила двух дочерей ко всенощной. И в храме выбирала такое место, чтобы не видать ее было с хоров, где с нерусской суетливостью творила поклоны княгиня и откуда подпевал певчим Андрей. Его высокий, резкий, но верный голос вырывался из полнозвучного строя других голосов и, чуть дребезжа в клубах ладана, свечной гари и людского дыхания, улетал под купол, где по вогнутому парусом, закопченному образу евангелиста с тельцом извилистыми ручейками струился насевший на холодную стенку пот.
К двадцати четырем годам Паранина нежная красота достигла такого расцвета, что когда под глухое воркованье колоколов она медленно шла по улице, опустив бобровые свои ресницы, у всех встречных немел язык и сходила с губ улыбка. Ничьи, даже самые клеветливые, уста не находили повода сказать про нее дурное. Только дивились досужие соседки, зачем, невзирая на хороший достаток покладистого и нескупого мужа, одета она всегда будто по-вдовьи, в смирные, старушечьи цвета и отчего так печально и бледно ее строгое, безупречно прекрасное лицо.
II
— Рубят город!
Такой звонкой стукотни топоров, таких длинных, скрипучих обозов, волочивших по снегу толстые сосновые бревна, такого рабочего многолюдства и такого движения Москва еще не видывала и не слыхивала.
Во всех лесных поселках и слободках по обоим берегам Москвы-реки и Неглинной все головы шли кругом, и все разговоры неизбежно возвращались к одному:
— Рубят город!
Многоопытный Петр Замятнич принялся за дело умеючи и живо поднял на ноги всех местных жителей, способных держать в руках топор или заступ. Их привыкли уже звать московлянами. По всем избам были рассованы согнанные из разных мест плотники и землекопы.
Заика Зотик так и сгинул без вести в лесах; одноглазого дворского Андрей год назад услал зачем-то на Белое озеро. А бывший Кучков бортник Неждан был еще жив, крепок и никуда не отлучался из Москвы. Свои борти ему пришлось продать: работа на княжом дворе засосала так, что до собственных пчел руки не доходили.
Сейчас и Неждана, пользуясь зимним его досугом, заставили, как княжого закупа, взяться за топор. На полатях, где еще не так давно бормотал сам с собой его покойный отец, располагался теперь временный постоялец, правая рука Замятнича, плотницкий староста рязанец Батура.
По утрам, до рассвета, когда Неждан уже стягивал на груди надетый сверх полушубка холщевик, подпоясывался, обматывал шею шерстяной ширинкой[25] и протягивал руку за плетеным берестяным пещуром,[26] куда жена заботливо упихивала только что вынутые из печи ржаные сочни, а неторопливый подслеповатый Батура еще дохлебывал со вкусом красное топленое молоко, Неждану всегда бывало не по себе. За десять лет он привык считать себя жертвой неправедного насилия. Он знал, что и сейчас его продолжают вести к разорению, гоняя изо дня в день на чужую, тяжелую и бесприбыльную работу. Он хмурился, морщился, ворчал без причины на жену и, кряхтя, заправлял за пояс кленовое топорище.
Потом они выходили с Батурой на утренний жгучий мороз. Их нагонял сосед-гончар, муж полнолицей вятичанки. И у него за спиной тоже был топор.
Спустившись молча по обросшему елями Сивцеву вражку, они переходят по льду ручей Черторью и затем гуськом одолевают противоположный, очень крутой и скользкий берег. А там с безлесного верха открывается зрелище, которое каждый раз смущает, тревожит и даже пугает и Неждана и гончара.
На зимнем небе, обложенном окровенелыми перед восходом тучами, отчетливо синеет одетый снегом Московский холм. Он и не он. Чужой. И вся с детства знакомая окрестность стала оттого тоже чужая.
Вековой бор наполовину сведен. На полысевшем с одного бока бугре торчат местами одиночные, слишком долгие сосны с чересчур высоко задранной шапкой редкой хвои. Над ними полощется черная кисея галочьей стаи. Юрьев частокол тоже убран. Оголенные строения княжой усадьбы кажутся издали жалкими, беспорядочно жмутся друг к дружке, будто продрогнув на ночном ветру. Рядом с ними желтеет сруб еще не обвершенной церковки.
Древнее урочище, неряшливо загроможденное высокими стопами свежих бревен и полузанесенными снегом кучами диких камней-валунов, утратило, на Нежданов взгляд, всякое величие.
Мороз щиплет ухо. Неждан трет его жесткой рукавицей. Ему чудится, что у него отняли родину. Он растерян.
Но вот занялся пасмурный, тихий декабрьский денек, похожий скорее на ранний вечер. Белая муть задернула лесную даль, глушит звуки и мягчит душу.
Затюкали топоры. Заговорили человечьи голоса. Галочий пружинистый крик вонзается в низкое небо.
Неждан вырубает в промороженном, звонком бревне полукруглую выемку, или, на плотницком наречии, чашку. Через нее будет пропущен насквозь конец другого, поперечного бревна. Кленовое топорище, навощенное ладонью до блеска, Неждану по руке. Топор насажен крепко-накрепко и отточен так, что, наскочив на сук, режет его, как масло. Работа спорится. Неждан ничего не видит, кроме топора, бревна, отлетающих щепок да клетчатых отпечатков своих лаптей на снегу. Мороз не щиплет больше уха. Липкие от свежей смолы руки приятно разогрелись. Воздух по-зимнему душист и вкусен, как только что принесенное с погреба молоко.
Со всех сторон доносятся знакомые будничные говорки:
— Горбыль стеши, а сысподу смотри не подтесывай.
— Конец-то напрочь, что ли, отрезать?
— Пошто напрочь? Ты угол уступом вынимай: в закрой пойдет…
Чашка вырублена. Неждан отмеряет веревочкой, где рубить другую.
— А венцы все ли перемечены? — спрашивает кто-то кого-то за его спиной.
— Как не перемечены? Гляди: вот тебе первак, вот другак, вот третьяк, вот четвертак…
Неждан, не озираясь, узнает по голосам обоих.
Слышно, как подымают артелью что-то грузное.
— Ой, все враз! — запевает высокий молодой голос.
— Ой, дружно! — подхватывают недружные хрипуны.
— Ой, само пошло! — выносит молодой.
Пение оборвалось. Раздается гулкий удар бревна о бревно.
Из-под Нежданова топора опять полетели щепки. А в воздухе порхают редкие, безобидные снежинки.
Где-то поодаль Петр Замятнич с толком, не горячась, ругает обозников. Он туговат на ухо и потому перемежает речь частыми вопросами:
— Мне сухорослый сосняк надобен, понял? Чтоб в нем двадевяноста слоев было, понял? А вы, лодыри кособородые, взаместо красного леса наволокли с болота рыхлявого пресняка! Куда его девать, а?
— Найдем куда девать, — успокоительно бормочет Батура. — Чай, весь уйдет на дрань.
Все эти слова понятны и привычны Неждану. Он слышит их всякий день. Они будят в нем попеременно то сочувствие, то несочувствие и воссоздают в воображении хорошо известные образы. Он ясно представляет себе, как поигрывает кнутовищем рука упрямого обозного десятника, его кума, как ухает продавленный хрупкий наст в замоскворецком борке, где валят строевую сосну, как Замятнич ведет ногтем по обледенелому торцу, пересчитывая круговые слои дряблой болотной сосны.
От утренней хмури не осталось и следа. Неждан не сознается себе, что у него хорошо на душе. Ему почти весело от мысли, что заодно со всеми он, ни от кого не отставая, участвует в большом и нужном деле: молодые у него учатся, старики с ним советуются, а начальники ставят в пример. Но суть не в похвалах, а в том, что дело и впрямь нужное и большое.
Времена стали так беспокойны, что в необходимости крепкого города убедились все. Будет, по крайней мере, куда укрыть жен и детей, если набегут — неровен час! — новгородцы, смоляне, рязанцы или черниговцы. Князья до того перегрызлись, что всего можно ждать. Только самые заматерелые старухи шамкают беззубыми ртами, что живали-де при дедах-прадедах без оплота и дальше, мол, прожили бы эдак же. Но их никто не слушает.
— Ты чего отстал от обоза? — кричит кому-то Петр Замятнич.
— Пональнуло снегу под полозья, — отвечает сиплый голос княжого холопа Истомы.
— Пональнуло! — передразнивает Петр. — А у других отчего не пональнуло?
Истома вместо ответа закатывается таким долгим сухим кашлем, что Неждан вскидывает на него глаза. Изменился Истома за десять лет. Плечи свело, грудь ввалилась, спину выпятило коробом: не узнать человека.
Город будет невелик: от боровицкой изголови пройди шагов двести пятьдесят — и упрешься в стену. А работы много. Обносят двор не тыном и не частоколом, а тарасами. Это те же избяные, венчатые срубы, только без окон, без дверей и соткнутые в шип один с другим. Их сруби в угол, да для крепости набей доверху землей и камнями, да снаружи обмажь от пожара глиной, да от дождя покрой дранью, да поставь по трем углам города три подзорные башни, да еще между ними две проездные башни, да с напольной стороны выкопай перед тарасами ров, да насыпь вал, да одень крутость вала дерном, — словом сказать, хватит дела до самого лета, соображает хозяйственный Неждан.
— Эй, володимирцы! Что рассолодели? — акает озорной московский голос. — На солнышко-то, знать, веселей смотреть, чем на работу?
С владимирскими плотниками у московлян все время идут то шутливые, то сердитые перекоры. Владимирцы ведут стену вдоль Неглинной. Суздальцам и другим пришельцам доверили южный, москворецкий бок. А третью, самую опасную сторону крепостного треугольника взялись обработать сами московляне.
Они — лесные люди. Топором каждый из них владеет сызмала, как своими пятью пальцами. Им обидно, что залешане смотрят на них свысока и хвалятся более тонким будто бы плотницким искусством. Все три артели из кожи вон лезут, чтобы опередить одна другую по всем статьям. А Петр Замятнич коварно разжигает их выгодную для дела вражду. Так научил его действовать князь Юрий, который чуть не каждую неделю шлет из Киева гонцов, справляясь, как подвигается работа.
— Полно браниться, не пора ли подраться? — добродушно окают владимирцы в ответ на задирчивый оклик московлянина.
Неждан окидывает владимирцев беглым взором. Они и не думают солодеть. Их румяные лица с ледяными сосульками на усах воодушевлены и сосредоточенны. От угла, что глядит на Волоколамскую дорогу, они вывели стену уж шагов на сорок. А московляне от того же угла не прошли в свой конец и двадцати шагов. И тарасы у владимирцев, что и говорить, сбиты на совесть, будто для жилья.
"Удальцы! — размышляет Неждан. — Не для себя робят, а успевают не хуже нашего. Честь свою берегут, это так. Только ради одной чести не стали бы так усердствовать. Видно, наша забота им не чужая, и дело у нас с ними — одно…"
Эта мысль бодрит Нежданово сердце еще более, но додумывать ее до конца недосуг. У него нынче великий день.
Сговорив гончара и еще двух соседей, он подрядился с ними вчетвером исполнить работу, пугавшую других особенной сложностью: срубить проездную трехъярусную башню. Сегодня в обед они окончили заготовку всех двенадцати венцов, составляющих первую, нижнюю связь. Остается ее собрать.
Сколько себя ни проверяй, как ни мерь, а при сборке всегда могут вылезти наружу всякие промахи и изъяны. Любопытных же глаз будет довольно, и у всякого окажется в запасе колкое словцо.
Когда принялись собирать первый венец, натаскивая бревно на бревно и прилаживая их к вбитым в землю столбам, или, по-плотницки, стульям, появился еще один неожиданный помощник — кудрявый кузнец-любечанин. Не мог высидеть старик дома, не вытерпел, приковылял по своей доброй воле с топором и сразу же закипятился так, будто за всю постройку отвечает он один.
Пособлял опытной рукой и сам Батура, деловито помаргивая слезящимися на морозе крохотными глазенками.
Мешал и раздражал только Петр Замятнич. Его сдвинутая набекрень бобровая шапка высовывалась то тут, то там, а из слишком сочных и слишком красных губ так и сыпались назойливые вопросы:
— А не узок ли воротный проем?
— А под переводину что подставишь?
— А стулья обдеготил?
На дороге показался верховой. По мышастому мерину Замятнич сразу узнал с удивлением в укутанном всаднике княгинина ключника из Владимира. Шагая через бревна, он торопливо пошел его встречать.
Неждан вздохнул с облегчением, а гончар, провожая злыми глазами широкую в лопатках Петрову спину, проворчал ему вслед:
— Нашелся учитель! Думает, для его прохладства стараемся!
— Вот и главно-то! Мы тут день-деньской маемся, руки знобим, — подхватил кузнец, — а он…
И пошел, и пошел…
— Чей верх, того и воля, — остановил Неждан. — Несподручно теляти волка лягати.
Когда благополучно наложили двенадцатый, самый верхний, так называемый черепной, венец и, повтыкав топоры в бревна, отошли на несколько шагов, чтобы охватить общим взглядом весь собранный сруб, только тогда заметил Неждан, что декабрьская мгла наливается синевой уже по-ночному, что владимирцы и суздальцы разошлись почти все, что и плечи его, и поясница, и ноги, и каждый палец пронизаны смертельной, режущей усталостью и что он забыл съесть взятые из дому ржаные сочни.
Он протянул руку к обметанному снежным пухом берестяному пещуру, который вместе с отвесом лежал на стопке брусьев, и вдруг наткнулся глазами на горящий голодом взгляд Истомы. Он незаметно поманил его к себе и вытряхнул в подставленную холопом дырявую шапку весь окаменелый от мороза ком слипшихся лепешек.
Спускаясь с гончаром и Батурой под гору, к реке, Неждан оглянулся еще раз на свое дело. В вышине, врезаясь рубленными по-русски, ершистыми углами в глухую зимнюю ночь, белела коренастая основа первой боевой башни нового города Москвы.
На грубоватом лице Неждана не разгладилась сеть морщин. Близко поставленные, медвежьи глаза ушли еще глубже под брови, которые насупились еще более сурово, чем утром. Но теперь это было уж прямое притворство: он был горд своим новым детищем. Он был счастлив.
Они обходили по льду черную дымящуюся полынью в устье Неглинной, когда сзади, с горы, кто-то окликнул Батуру.
Его звали наверх, в княжие покои.
III
Батура воротился домой через час.
Неждан уже отужинал и, размякнув от сытости и от тепла, молчаливый, дремотно покачивался на лавке в красном углу. Ему мечталось только о том, как бы разуться, влезть на печь да завалиться спать. Но не хватало духу ворохнуться с места. Не разгулял его и рассказ Батуры о беседе с Петром Замятничем.
Зато так и впилась в рассказчика любопытная Нежданова жена. Однако, как ни налегала на малосообщительного постояльца, выведала только очень немногое. Нынче в ночь Замятнич уезжает зачем-то во Владимир вместе с княгининым ключником. Обещает вернуться через неделю. Велел челяди протопить к этому дню все верхнее жилье княжих хором, вымыть там полы и обмахнуть потолки и стены. На время своей отлучки все дела взвалил на Батуру, но второпях ничего толком не объяснил. Не дал даже обычного наряда на завтрашний день. Не понять, зачем и звал.
— А ключник чего?
— Ничего: сидит да молчит.
— А Замятнич каков?
— Чернее ночи.
— Ну-у?
— Вот те и ну.
IV
Петр Замятнич опоздал против обещанного только на день: вернулся на восьмые сутки и привез с собой все семейство — жену и двух дочерей. Для них и топилось верхнее жилье.
На следующее утро опять замелькала здесь и там боярская бобровая шапка. Все вошло, по-видимому, в прежнюю колею.
Ново было только одно: то среди владимирцев, то промеж суздальцев, то около московлян стали шнырять две справно одетые девочки. Одной было лет восемь, другой — не больше пяти. У обеих были шершавые щеки с ярким, яблочным румянцем и пухлые, слишком красные губы. А на переносье просвечивала тонкая голубая жилочка.
Он скоблили щепкой налипший на бревна снег, прятались друг от дружки за кучками камней, настойчиво угощали лошадей еловыми стружками и все время о чем-то говорили между собой деловитыми, писклявыми голосами. Поведение плотников и обозников убеждало их в том, что все творившееся тут делается только для их забавы. Когда не было поблизости бобровой шапки, кто-то сейчас же налаживал им качалку из доски, кто-то другой дарил целый набор свежих чурбачков, еще кто-то подсаживал на порожние дровни. Работа от этого ничуть не страдала, а шла, напротив, еще спорее.
Миновало уже четверо суток со времени появления девочек с яблочными щеками, а матери их не видал еще никто, даже вхожий в княжеские хоромы Батура.
V
Из всего, что оставила она здесь когда-то, покидая родное гнездо, уцелела, кажется, одна только береза — та, что стояла перед окном ее девичьей светелки и по весне так празднично убиралась, бывало, длинными сережками.
А самой светелки давно уже не было: на месте обветшалого отцовского дома выстроили года три назад высокий княжой терем. В его необжитых покоях было пустынно, и Параню пугал ночами гулкий треск полов, рассыхавшихся от жаркой топки.
Да и береза была уже не та. При постройке новых хором у нее пообломали с одного боку ветки, и ниже прежнего свесились ее тонкие плакучие косицы. Брат Иван, когда был еще в отроческих летах, вырубил на белой ее коре большой восьмиконечный крест. Покойный отец, увидев в этом дурную примету, отходил сына кипарисовым посохом. Теперь этот крест заплыл, утратил ясность очертаний, выпятился наружу и почернел.
Через неделю после приезда, когда на княжом дворе по случаю воскресного дня не было никого, кроме сторожей, Параня вышла наконец в первый раз из дому вместе с дочерьми. Отпросилась у мужа проведать бывшую свою мамушку, слепую старуху, доживавшую век в слободке на Яузе, под Гостиной горой.
Петр Замятнич предлагал запрячь санки, но Параня, сославшись на то, что отерпла в домашнем затворе, добилась позволения идти пешком, благо утро выдалось хоть и морозное, но безветренное и ясное. Муж не стал перечить, объяснив себе прихоть жены законным желанием подольше покрасоваться перед старыми подружками.
На такую догадку его навела необычайная старательность, с какой наряжалась Параня, отправляясь в недальний поход. Она надела свою лучшую беличью шубку, крытую лиловым бархатом, с частыми литыми пуговками и с плетенными из золотой бити петлями в пятьдесят шесть гнезд. А поверх белой парчовой шапочки, отороченной белкой же, набросила на голову и на плечи дорогой плат тяжелого серебристого шелка с травчатыми разводами. Это был подарок матери, которая умерла прошлым летом в одном из ростовских монастырей, приняв перед концом схиму.
Пока шли по засоренному щепой, заваленному лесом двору, дочери в два голоса наперебой объясняли Паране все. Свели даже к владимирским тарасам, на то место, где дяденька Батура потчевал их вечор медовой коврижкой; рассказали, как сердитый маленький дедка с курчавой бородой зашиб себе ногу, помогая дяденьке Неждану поднимать матицу на сруб проездной башни; уговаривали пойти той разъезженной дорогой со сверкавшими на солнце раскатами, по которой дяденька Истома возил их на дровнях, и огорчились, что Параня повела их не туда, а косогором, в сторону Кулижек.
Однако новый мир, куда вступили они теперь, был так чист, ярок, торжественно тих и так нов, что они сразу же забыли обиду и закидали мать вопросами:
— А это чей след? Заячий? А это тоже заячий? А зачем зайчики сюда бегают?.. А это не заячий? Лисий? А разве у лисички только одна лапка?
Параня отвечала рассеянно.
На Кулижках луговой кочкарник, мягко устланный глубоким снегом, был похож на кладбище. Слева гора замыкалась стеной заиндевелого леса. Весь белый, он закрывал поле, где в тот памятный осенний вечер — десять лет назад — так зловеще мигали полковые огни.
С Васильевского луга зимняя Владимирская дорога, по которой они шли, спускалась на лед Москвы-реки.
— А зачем вдоль дороги елочки натыканы? Чтоб не сбиться? А когда собьешься, тогда что? Тогда волк съест?
Параня не отвечала. При слове «елочки» все ее лицо залилось необычно ярким румянцем. Ей вспомнился невзначай подслушанный вчера разговор ее мужа с десятником Батурой. "Еловых вешек понавтычь на реке, вдоль зимника, — наказывал Петр: — рекой поедет". Она сразу поняла, о к о м шла речь, к т о поедет рекой.
На реке все было еще торжественнее и ярче. Оголенный местами сахарный наст горел стеклянным блеском, а в чешуйчатых наплывах тонкого снега вспыхивали разноцветные искры.
Параня искала глазами, но не могла найти то место у Яузского пристанища, куда мать водила ее в детстве к синегубому булгарину, в ивовый шалаш, — покупать золоченые бусы.
Здесь вырос теперь целый новый, чужой поселок. Из всех изб поднимались в бледно-розовое небо одинаково искривленные столбы белого, репчатого дыма. Незнакомый водовоз на обледенелой бочке с подсунутым под обледенелые веревки обледенелым черпаком ехал к огороженной елками речной проруби. У одного из домов стояли две тоже незнакомые женщины в давно не виданных Параней вятических шерстяных шапочках с медными подвесками перед ушами.
Дальше дорога сворачивала влево и шла по застывшему руслу Яузы, которую сейчас, зимой, можно было принять за узкую лесную просеку. С обоих берегов протягивались черные еловые руки в белых прорванных перчатках. Убитый копытами снег, перемешанный с замерзшим конским навозом, певуче поскрипывал под валенками.
Девочки в лесу развеселились и резво побежали вперед. Младшая споткнулась, упала на живот и расплакалась. Когда мать подняла ее, успокоила и, отряхнув с ее шубейки снег, двинулась дальше, вдали на дороге показались быстро приближавшиеся сани.
Шестерик крупных вороных коней, запряженных гусем, мчал тяжело качавшиеся на ходу сани с высокой спинкой и широкими плавниками отводов. Возницы не было. Лошадьми правили вершники, сидевшие на двух передовых конях. Снежные комья взлетали из-под копыт; смерч белой пыли взвивался за санями, где мелькала черная косматая шапка сопровождавшего их вскачь верхового. Позади, далеко отстав от саней, поспевали, тоже вскачь, еще другие всадники.
Таким порядком — все это знали — разъезжал по Суздальской земле только один человек — князь Андрей Юрьевич: знатные люди, даже духовные, путешествовали обыкновенно верхом.
Параня, взяв меньшую дочь на руки, сошла с дороги и едва успела обтоптать место для старшей и для себя, как раздался пронзительный выкрик странного, павлиньего голоса, и сани, поравнявшись с ней, внезапно остановились. От храпевших лошадей валил пар.
Из вороха пушистых мехов, запорошенных снегом, высунулось дерзко вскинутое назад и вбок скуластое лицо. Разгоревшись на холоду, оно поражало воинственным мужеством.
Перстатая оленья рукавица махнула верховому в черной шапке, чтобы попятился подальше от саней. На Параню смотрели глаза, такие сияюще синие на утреннем морозе, что зрачков было не видать.
Он что-то говорил, о чем-то спрашивал. Она слышала и не слышала, понимала и не понимала, удивляясь более всего тому, что его резкий голос способен понизиться до такого жаркого полушепота, что он умеет смеяться таким ясным смехом, похожим на песню.
Она стояла потупившись, крепко прижимая дочь к груди, и молчала. Сколько это длилось? Разве скажешь?
Только раз взмахнула она седыми от инея ресницами, вскинула на него, не размыкая губ, огромные очи и тотчас же опустила их опять. Капельки оттаявшего снега мерцали в светлой его бороде.
Теперь и он примолк.
Ей вдруг замерещились сочные губы Петра Замятнича, побелевшие, перекошенные от страха. Таким видела она своего мужа лишь однажды, давно, задолго до свадьбы, — за миг до того, как встретилась впервые со взором вот этих синих глаз без зрачков.
За все прошедшие с тех пор годы довелось только один раз заглянуть в эти глаза снова. Это было совсем недавно, за несколько дней до того, как муж неожиданно увез ее в Москву. Как-то вечером, выйдя за ворота своего владимирского дома, она вдруг оказалась лицом к лицу с князем. Он торопливо шел куда-то мимо их двора, сопровождаемый братом ее Якимом…
И вот сейчас она смотрела на обвислый угол медвежьей полости и, по старой, еще девичьей, суеверной привычке, считала про себя, ожидая, когда он заговорит снова: на чет или на нечет?
Но он не заговорил. Раздался опять павлиний выкрик. Угол полости подскочил на снегу. Сани дернулись и помчались дальше своей дорогой.
Мимо Парани мелькнула косматая кавказская шапка княжого ключника Анбала, его черные усы и сиреневый подбородок. Других всадников она не успела разглядеть.
На белой дороге, где лоснились свежие следы полозьев, будто проглаженные каленым утюгом, стало опять по-лесному тихо и по-зимнему глухо.
VI
За те трое суток, что князь Андрей Юрьевич прожил в Москве, Петр Замятнич не отходил от него ни на шаг с утра и до позднего вечера.
А Параня опять затворилась у себя наверху. Муж, попросив за нее прощенья у князя, объяснил, что она-де простыла, ходивши пешком на Гостину гору, и теперь хворает.
Не вышла она из дому даже и на третий день, когда архиерей, прибывший накануне из Владимира, освящал вместе с попом Микулицей и другим наехавшим духовенством только что достроенную первую московскую церковку Рождества Ивана Предтечи.
После обедни, отслуженной в новом храме, Неждан со своими подручными на глазах у князя и всех приезжих настилал накат на нижней башенной связи и так угодил Андрею степенной распорядительностью, что получил тут же из его рук серебряную гривну.
Неждан растрогался. Упав перед Андреем на колени, он рассказал по чистой совести, какая неправда тяготеет над ним вот уж десятый год, и обратился к князю с челобитьем, чтоб не числили его понапрасну княжим закупом.
Он говорил толково, веско и уважительно, но с каждым его словом Андреев синий взгляд бледнел все более. И когда Неждан, окончив недолгую речь, поклонился князю в ноги, тот только вздернул еще выше маленькую голову и ответил с холодным спокойствием, что бывший московский дворский творил не свою, а княж-Юрьеву волю, а раз князь-батюшка так рассудил, то для сына его решенье свято.
VII
В ночь перед отъездом во Владимир на Андрея напала, как видно, бессонница. Петр Замятнич, который и сам все это время спал, против обыкновения, будким сном, слышал из своей супружеской опочивальни, как князь у себя на половине ходит из покоя в покой. Потом заскрипели под Андреевыми ногами ступени лестницы, каждая по-своему, и тупо хлопнула обитая кошмой наружная дверь.
Петр понял, что Андрей вышел на волю.
А на воле было пустынно и неприютно.
С Занеглименья дул всю ночь острый северяк, гнал поземицу, заметал крыльцо, мрачно шумел в вышине, в черных вершинах сосен, и безутешно свистел, прорываясь сквозь еловое жердье, составленное шатром посередь двора.
Андрей, распахнув соболью шубу, выставлял на ветер жесткую грудь, разморенную томным жаром бессонницы. Но скоро озяб и зашел за угол Неждановой башни, куда не хватала метель.
Он не видел ничего, кроме белой сумятицы. Снежная пыль неслась вкривь и вкось: влево, вправо, вверх.
В какой полунощной глуши родился вихорь? Где небо? Где земля? И каковы же те просторы, где способна вскрутиться эдакая заверть!
Ни с чем другим не сравнимая, клокочущая тревога разбирала Андрея всякий раз, как доносилось до него сквозь леса дыхание дальних русских просторов. Они поразили его своей огромностью, когда он впервые обмерил их глазом на пути из Суздаля в Киев.
Идучи тогда с отцом в южный поход, он дивился, как младенец, что в городах и селах, какие попадались по дороге, все так несхоже с тем, к чему привык с детства: и речь как будто иная, и заботы у людей не те, и солома на крышах не по-залесски уложена, и повадка у народа другая. Не успеешь присмотреться к одному, как через трое-четверо суток опять увидишь новое: что город — то норов, что деревня — то поверье, что изба — то обычай!
Однако, по мере того как все дальше отъезжал от дома любопытный залешанин, все чаще открывалось ему под внешним несходством затаенное сходство, под чужим — свое. Стоило повнимательней вслушаться в невнятный будто бы говор — и становилось ясно каждое слово. Стоило ночь переночевать в незнакомом селе — и наутро уходил в путь, провожаемый родственными улыбками.
Пока добрались до Киева, Андрей успел утвердиться в мысли, что наперекор княжью и боярству, разодравшему Русскую землю на мелкие лоскутья, народ не забыл родства.
Но сумеет ли этот народ слепиться в одну громаду, стерев дробящие его различия? Управится ли с безурядицей, терзающей его, как терзает стиснутую стужей землю снежная непогодь? К чему прильнет? В чем найдет опору, чтобы отбиться от алчных, подступающих со всех сторон врагов-чужеродцев?
Андрей провел онемелой от холода рукой по мерзлым горбам бревенчатых венцов.
Первый сруб первой башни еще никем не знаемого города на лесном вятическом холме! Велик ли сруб? Хитро ли связан в углах? Метели, конечно, не уймет, но и не рассыплется под ее натиском, хоть с лица весь и побелел. За ним же хоть и в малом людстве, а оборонишься, как за щитом.
Великой силе противоставь хоть малую.
Среди всеобщего безурядья не отчаивайся, а уряди хоть то, что окрест тебя.
Собери около себя хоть немногих, но крепких и верных.
Не растекайся вширь: сожмись в кулак.
А наперед взнуздай самого себя!
Сквозь непроконопаченные щели слышались человеческие голоса: это беседовали ночные сторожа, кроясь от вьюги внутри башенного сруба.
Один голос, молодой и несмелый, говорил так тихо, что за гулом снежной бури Андрей не разбирал слов.
— Невеста — что лошадь, товар темный, — внятно отвечал ему другой, старческий, наставительный голос.
— Есть о чем тужить! — лениво протянул третий, равнодушный. — Не будет Маланьи — будет другая…
Опять что-то забормотал молодой и несмелый.
— А ты наперед спросись сам у себя, у своей совести, — продолжал назидать старик.
— Чего спрашиваться? — все так же лениво выговорил равнодушный. — Был бы хлеб да муж, а к лесу любая жена приобыкнет.
— Пошто мутишь парня? — рассердился старик. — Тебе чужая болячка — почесушка, а ему свое горе — велик желвак. Жена — не рукавица, с руки не скинешь.
Былые струйки метели, за которыми мелькал в ночи будто чей-то неясный темный облик, захлестывали угол башни и обвели Андреевы ноги быстро нараставшим кривым снежным гребнем, похожим на хвост кометы. Холод врывался под шубу и расползался по телу. Князь, передернувшись от озноба, шагнул к дому. Сотни морозных игл мгновенно впились ему в лицо.
Он снова вздрогнул, теперь уж по-иному — от неожиданности, — когда сквозь сощуренные, слипшиеся ресницы увидел косматую шапку и черные усы своего ключника Анбала.
— Чего шатаешься по ночам?
— Тебя стерегу, господине…
Отъезжая наутро во Владимир, Андрей строго-настрого наказал Петру Замятничу, чтобы к весеннему Юрьеву дню город был готов: князь-батюшка обещает прибыть к этому дню из Киева. Свои именины князь Юрий Владимирович желает справить нынче в полюбившейся ему Москве. А заодно хочет проверить своим хозяйским глазом, так ли ее отвердили, как он велел.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Тишина
I
Позади еще восемнадцать лет. Подходила к концу третья четверть XII века.
За эти годы в летописях нет упоминаний о Москве. Она была еще в стороне от той новой жизни, которая все круче закипала в быстро мужавшем городе Владимире.
Не сбылось желание старика Долгорукого справить именины в Москве. Ее новые стены, построенные по его приказу, так и не пришлось ему увидеть. Он умер в Киеве полгода спустя после их закладки.
Теперь полным самовластцем всей Ростово-Суздальской земли, заботливо укрепленной, обстроенной и обогащенной Юрием, стал его сын Андрей.
В продолжение первых десяти лет своего княжения Андрей Юрьевич, по примеру родителя, глядит только в два конца: на северо-запад и на северо-восток — на ближайших исконных соперников: на Великий Новгород и на Булгарское царство. Ему не до Москвы.
Тем временем созданный Юрием град мал древян на устье Неглинной, еще самой молодший из всех окрестных городов и пригородов, зорко сторожит со своих лесных высот южные рубежи обширной Андреевой волости и, пользуясь годами тишины, неприметно копит силы.
II
Параня так и осталась жить в Москве.
Только теперь никто не звал ее больше Параней. Да девичье полуимя совсем уж и не шло к строгому облику этой сорокалетней женщины, все еще несравненно красивой. В городе Москве, где Петр Замятнич поставил себе двор рядом с княжеским, все величали ее матушкой-боярыней. В кругу же посадских людей, чьи избы лепились к наружному боку московских стен, она слыла Кучковной.
Заходила о Кучковне речь и в покинутом ею Владимире. Там за ней укрепилось иное прозвище. Ее муж, боярин Петр, живал на Клязьме больше, чем на Москве, и был у всех на виду. Среди бывших соседок боярыни ее неожиданный и ничем не объяснимый отъезд из их стольного теперь города вызывал, конечно, частые пересуды. И когда нагнется бывало одна к другой, чтобы выговорить свою последнюю догадку о странной Параниной доле, то непременно начнет с таких слов:
— А наша-то м о с к о в л я н к а…
Все сходились на том, что не обошлось без Милушиного наговора. У Милуши с Петром как раз о ту пору, вскоре после отъезда Кучковны в Москву, пошла особенная любовь да дружба.
Но что же могла наклепать по-прежнему всесильная княгинина наушница Милуша на такую праведную затворницу и молчальницу, как Петрова жена?
А Кучковна будто из головы выкинула тихую Клязьму, где прожила под своими рябинами да вишнями первые девять лет замужества.
У нее доставало своих дел. Растила дочерей и с отцовской умелостью, но без его суеты и шума приглядывала за богатым хозяйством, какое Петр Замятнич завел под Москвой и доверил жене. Доброй земли у него понахватано было здесь вдоволь — в разных концах и всякими способами: где сам выдрал из-под леса, где купил, где выпросил у князя, где взял за долг, где выменял, где прибрал силой.
В досужие часы сидела боярыня с дочерьми у себя в терему или, если день выдавался погожий, на набережном рундуке (так назывался высокий, пристроенный к дому помост со спуском в сад, в сторону реки) и с ними в шесть рук либо вышивала, либо пряла. И вспоминала.
А что вспоминать? Своей жизни словно и не было. А чужая шла мимо. На Москве знатные люди бывали только проездом. Лишь про то и знала, что дойдет через них урывками.
Именно так — от мимоходцев — услыхала она когда-то, еще на самых первых порах своего московского житья, о смерти старого князя Юрия Владимировича Долгорукого, последнего Мономашича.
Был самый конец холодного и дождливого мая. Цвела черемуха. От только что достроенных московских стен шел бодрый дух свежего смоляного бревна (а теперь вон какие стали голубые да мшистые!). Параня жила еще тогда в княжом тереме и с его вышки часто видела в те ненастные летние дни, как паромщики переправляют с другого берега возы. Промокшая кладь на возах была невелика, а лошади тощие. С пристанища обозы сворачивали по грязи влево — на сверкавшую лужами Владимирскую дорогу.
Кучковне объяснили, что это тянутся из Киева остатки суздальцев, княж-Юрьевых ближних людей. После смерти Долгорукого, в самый день его похорон, в Киеве, как сказали ей, наделалось много зла: разграбили красный княжой двор и еще другой, Юрьев двор, за Днепром, особенно любимый покойным князем: он звал его раем. Киевляне совсем озверели: покололи многих суздальских бояр, посаженных Долгоруким под Киевом по городам и селам. Боярские дворы разбили и пожгли.
Подробности предсмертной болезни Юрия и его кончины Кучковна узнала вскоре после того, в Троицын день.
Ей и сейчас еще, спустя семнадцать лет, было хорошо памятно, как тогда в Предтеченской церкви, где только что отошла долгая обедня с вечерней, весело звонили на все голоса, а в княжих сенях, где Параня стояла у окошка, крепко пахло чуть повядшими молодыми березками, которыми по случаю праздника был убран красный угол. Нарядные вятические девушки, выходя из церкви, собирались пестрыми стайками, смеялись и перешептывались: верно, толковали о том, как ходили вечор на Пресню плести венки, крестить кукушку и кумиться между собой, целуясь сквозь тесьму.[27] Когда-то, в девушках, и Параня игрывала так в этот троицкий вечер.
На городской площади набралось в тот день много проезжих суздальцев, бежавших из Киева. Из них Кучковне сразу бросился в глаза один, уже пожилой, в темно-синей одежде ловкого киевского покроя. Затворническая жизнь приучила Параню к наблюдательности: в незнакомом стареющем щеголе ее поразило резкое несоответствие между приятной белозубой улыбкой холеного светлобородого лица и на редкость безобразными, короткопалыми руками. Разговаривая с Петром Замятничем, он все время помахивал у того перед лицом своими страшными культяпками, точно хвастая ими.
Петр беседовал с ним на дворе очень долго, то и дело приставляя ладонь к уху, что было у него признаком напряженного внимания. Потом повел к себе наверх обедать. Кучковна не выходила к столу. Вечером она спросила мужа, что это за боярин.
Замятнич уж хмурился в то время на жену и отвечал с неохотой. Но сказал все-таки, что это очень известный в кругу княж-Юрьевой дружины осменник Петрило. Старый князь Юрий за пять дней до смерти был у Петрила на пиру, а вернувшись с пира домой, сразу слег, лишился памяти и уж больше не вставал.
При имени Петрила густые ресницы Кучковны сперва метнулись вверх, потом опустились. Прекрасное лицо побелело. Она знала, что осменник Петрило — это тот, кто своей рукой отсек когда-то голову ее отцу.
III
Да, Петр в ту пору уж хмурился.
Это началось с того самого дня, как он тогда зимой (еще когда рубили город) неожиданно пригнал во Владимир с княгининым ключником и приказал жене не мешкая собираться с дочками на Москву. Зачем? Он так и не объяснил. И в лицо не стал смотреть.
А прежде как, бывало, заглядывал!
Кучковна, уйдя в старые воспоминания, положила веретено на колени и, оторвав глаза от пряжи, стала смотреть в заречную даль.
Даль была все прежняя — сплошь лесная: все та же ярь, да синь, да дичь, отступающая невесть куда все более бледными грядами. Будто чья-то широкая неопытная кисть намахала много неровных полос, пытая то одну, то другую тень и все жиже разбавляя краску.
Зато ближней округи было не узнать. Лиственные дебрицы прорезались множеством починков,[28] которые желтели сейчас поспевающей рожью и зеленели льном и конопелью. Сосняки поредели, дав место множеству новых мелких сел где в два, где в три двора.
Кончались петровки.[29] Был самый разгар сеностава. Вёдро в этом году было неверное, и люди торопились сушить да огребать.
С поднятого на сваи набережного рундука боярских палат, где сидела Кучковна, был хорошо виден весь заречный Великий луг. Своим наметанным глазом боярыня ясно различала, где проходят межи ее лугового клина. Он соседствовал с одной стороны с княжеским краем Великого луга, а с другой — с посадничьей поймой. На всех трех клиньях шла веселая рабочая, хорошо понятная Кучковне суматоха: на боярской пожне мужики уж метали высокие стога, у посадника[30] бабы сгребали сено в длинные валки, а у князя девки еще только ворочали. Княжой, заглазный двор всегда опаздывал против боярского и посадничьего, где хозяева сами надзирали за всем. Но за князем всяких угодий было впятеро больше, чем за ними, и, несмотря на частые убытки от нерадивого надзора, княжеские сенники, погреба и медуши ломились от добра.
Кучковна оглядела светлое небо, уложенное только по самым краям очень далекими, но крутыми тучками, и забеспокоилась: вчера весь день бусил дождь — как бы и сегодня не помочило. Кликнула дворовую девку, чтоб сбегала на Васильевский луг: успеют ли до ночи закопнить. У Замятнича и там был клин, еще больше, чем в Заречье.
Только вот в Остожье, что под Семчинским сельцом, князь Андрей Юрьевич не соглашался уступить боярину Петру ни одной копны, и Петр был за это в обиде на князя, о чем еще недавно говорил при жене с их суздальским сватом, не жалея поносных слов. Остоженское сено было суходольное, самое съедомое, как говорили конюхи. Кучковна это знала и сочувствовала мужу в его недовольстве. Дивилась только громкому неучтивству его речей про князя. Прежде так при чужих не говаривал.
К приступке, что вела на рундук, подошел старый бортник Неждан. Сняв шапку с седой головы, он объяснил боярыне, что осмелился воротить девку: сам, мол, только оттуда и все видел.
— А свое-то все ли сметал? — участливо спросила боярыня.
— Сметал. Да мое-то какое сено? Бурьян бурьяном. Зато уж твое, матушка, — один цветок!
Кучковна смотрела на Неждановы седые волосы, примятые шапкой к старой его голове, и опять вспоминала, как покойная мать возила ее еще малой девчонкой по заяузским лугам в бортяной липняк, что под Красным холмом. А лошадью правил вот этот самый Неждан, тогда еще весь рыжий, как подосиновый гриб. И давал Паране держать вожжи.
Как давно это было! Больше тридцати лет прошло…
Кучковна любила Неждана и по детской памяти, и еще той особенной, прочной любовью, какой привязываешься к тем, кому помог. По ее милости Неждан давно уж не княжой закуп, а боярский вольный слуга. По-прежнему, как было при ее отце, смотрит за их бортяными ухожами все в том же липняке под Красным холмом. Только теперь ему уж не взобраться на дерево. За него лазит двадцатилетний внук, крепкий веснущатый парень, рыжий, весь в деда.
За работу Неждан получает по-старому — медом. Однако менее, чем получал при боярине Кучке: не четвертую, а только шестую корчагу. Он и тому рад. Старику — он понимает — не та цена, что молодому. Да и времена не те. Людей понабежало много, дешевле стал труд.
IV
И Неждан любит боярыню. Ему по душе, что она хоть, на его взгляд, еще и молода (ему-то уж восьмой десяток пошел), а истинная хозяйка. И не потаковница, и с людей шкуры не дерет: знает середину. А бывает и ласкова.
Когда Неждан, идучи на боярский двор, переходит по двум жердочкам через глухой ручей Черторью у Сивцева вражка и видит старый ясень, на котором лет десять назад повесился княжой холоп Истома, то всегда помянет добром боярыню. Не оставила Истомина семейства: выкупила, отдала княжому огнищанину девять да еще девять ногат (шутка ли — трех овец могла бы купить или молодого жеребца!) и перевела к себе на двор убогую Истомину вдову-холопку со всеми ее четырьмя голодными ребятами. Вдовье дело — что говорить! — и на боярском дворе горькое: не задаром ржаной хлеб жует. А все жива. И детей подняла.
Перейдя ручей, Неждан, кряхтя и хватаясь руками за кустье, одолевает противоположный, очень крутой глинистый берег. Взобравшись на безлесный верх, старый бортник всегда останавливается, чтобы отдышаться. Впрочем, не только для того. Он с давних пор любит это место. Отсюда открывается зрелище, краше которого для Неждана нет ничего на свете.
Перед ним Московское взгорье, а на его вершине — новый город.
Надежно стыкнутые, туго набитые камнем, обмазанные глиной тарасы с годами поосели и будто срослись с землей. С трех углов в три конца смотрят узкими щелями оконных прорезов три подзорные башни. Прямо на Неждана глядят Боровицкие ворота. Их ставили в свое время владимирские плотники. Нежданов ревнивый глаз все ищет в них, по старой памяти, какого-нибудь изъяна. Но изъянов нет. Ничего не скажешь — хороши!
За Боровицкой проездной башней, с левой стороны, промеж древних сосен, что краснеют прямыми стволами, как восковые свечи, успел подняться молодой борок. Из него выступает невысокая деревянная звонница Предтеченской церкви.
А правее ворот, внутри города, громоздятся большие и малые срубы княжого двора с крытыми переходами и вышками теремов. Рядом торчат вырезные коньки боярских хором. Чуть полевее — острые тесовые кровли посадничьих палат с тремя высокими голубятнями. Подле них — новый дом княжого огнищанина, заметный свежей резьбой. А из-за него выглядывает шатровый верх напольной проездной башни, той самой, которую рубил когда-то он, Неждан.
Он и сейчас, проходя мимо, всегда обводит ее внимательным, отеческим взглядом. Не повредилась ли где? Нет. Какая была, такая осталась. Только пообветрилась да кое-где обомшала. Крепка. Складна. Не уступит Боровицкой.
Невелик треугольный город, а как изменил всю с детства знакомую Неждану окрестность! Словно не люди его поставили, а сам взошел из земли, чтоб вокруг себя дать всему свое место.
Недели две назад проезжал во Владимир какой-то большой смоленский боярин. Говорили люди, будто с вестями к князю Андрею от тамошних князей. Что-то много сейчас этих послов да гонцов взад-вперед заездило.
Так вот, ехал из Смоленска боярин, припоминает Неждан, простившись с боярыней и ковыляя к Боровицким воротам. На Смоленской дороге, не доходя Дорогомиловского перевоза, попал боярин Неждану навстречу (под Дорогомиловом, на бережках, Нежданов меньшой сын расчищает себе починок — ближе-то к городу все удобные заимки уж порасхватали, — так Неждан в воскресный день ходил сына проведать да посмотреть, все ли так делает, как надо). Только дошел Неждан до спуска к реке, тут и боярин на саврасом жеребце, а за ним поспевают от перевоза все его слуги, тоже верхами. Неждан шапку снял, сошел с дороги, чтобы их мимо себя пропустить. А боярин как выехал на гору, так и остановил жеребца. Слуги тоже коней осадили, стоят. Стоят и на город глядят. А город вдали, весь в летней зеленце, на солнышке так и играет. Боярину глаз не оторвать от стен, от башен, от теремов.
Потом оборачивается к своему ближнему человеку, усмехается эдак вкривь и говорит:
— Умен был князь Юрий! Гляди-кась, говорит, какое место приискал. Вот это, говорит, город! Всем городам город!
У Неждана со старым князем Юрием были свои, трудные счеты. Не жалостлив был Долгорукий, бог ему прости. Но в том не откажешь: умен. Временами и щедр. Как узнал, что город достроен, что уж вал насыпают, прислал из Киева наказ: всех городников одарить. Покойному Батуре тогда зараз десять лукон солоду отсыпали да сколько-то пшена. Боярину Петру Замятничу третью долю Великого луга отрезали, да Кучков бортяной липняк под Красным холмом вернули, да подарили бобровое ловище на вершине речки Напрудной. И Неждан свое получил. Однако из закупов и тогда не отпустили. Так бы и помер в княжой неволе, если бы не Кучковна. Ей-то, конечно, от Неждановой помощи не убыток, а большой барыш. А и ему добро сделала.
И она вспоминала сейчас о том же, пока глядела, как Неждан, опираясь на черемуховый посошок, ковыляет к Боровицким воротам.
Князю-то Андрею не сама она за Неждана челом била: ей с Андреем Юрьевичем так и не привелось больше говаривать с того самого дня, как встретила его ненароком зимой на Яузе.
Объяснила мужу, что без Неждана, мол, в хозяйстве не обойтись — не то что на всю округу первый бортник и медовар, а и под Ростовом такого не сыщешь: в их липняке любую пчелу по голосу признает. Петр и сам понимал, — разгорелся Неждана переманить. Однако, по своему обычаю, пошел не прямьем, а околом — через баб. Пошептался с Милушей. Так кланялась будто княгине, а может, и нет. Только Петр, как приехал после того на Москву, буркнул жене, на нее не глядя:
— Надо нового бортника найти: Неждана не дадут.
Кучковну досада взяла на мужа: в кой-то век его попросила, а он… Но ни слова не выговорила. А тут вскоре после Замятнича явился оттуда Прокопий.
Тонкие пальцы боярыни, крутя веретено, будто сбились со счета. Словно легкое облачко пробежало по белому лбу.
Да, Прокопий… Как это было-то?.. Кучковна помнила Прокопия во Владимире еще худым полонянником. Так звали людей, взятых в плен и тем самым попавших в неволю. Он тогда холостой был, и девки владимирские над ним смеялись: звали кощеем. То ли он был из Киева, то ли из Вышгорода, где княжил одно время Андрей, пока не сбежал от отца в Залесье. А потом на ее же глазах вошел кощей к князю в милость, женился, подобрел, побогател и мало-помалу стал Андрею Юрьевичу первым советчиком и первым другом. И посейчас так. Люди сказывают: князь без Прокопия шагу не ступит. В опочивальню уходит, а Прокопия у порога кладет. Только княгине-булгарке пришелся Прокопий не по душе. Да она кого любит? Разве вот только Петра Замятнича…
Приехал тогда Прокопий на Москву будто за каким-то княжим делом к посаднику. А Кучковне и ни к чему. Мало ль кто ездит? Только под вечер, уж в сумерках, стучится Прокопий к ней в дом. Она вышла, объяснила, что Петра, дескать, нет. А он говорит:
— Знаю, что нет. Я к тебе, боярыня.
Она кланяется, отвечает:
— Твоя слуга. Только ежели что по хозяйству, так время позднее: лучше бы с утра.
А он в половицы глядит, пояс перебирает и говорит:
— Нет, боярыня, не по хозяйству. Дозволь сейчас: мне в ночь назад ехать. А дело у меня к тебе не свое.
— Чье же?
— Княжое.
V
Кучковну отвлекли от воспоминаний соседские, посадничьи, голуби. Звеня и свистя белыми крыльями, поднялись почти разом со всех трех голубятен, слетелись в одну стаю и пошли кружить над Москвой, забирая всё выше и выше. И сразу же за частоколом раздался звучный женский смех. Это смеялась посадница.
"Старая, а перед гостями как жемчужится!" подумала Кучковна.
Впрочем, не такая уж и старая. Тогда же, как Прокопий-то приезжал, годов двенадцать назад, была еще хоть куда. А уж говорлива, а уж смешлива! И певунья, и плясунья, и голубятница. Пуще же всего любопытна: все-то ей надо знать. Да и за это как осудишь? Город-то малый: не считая воротников да дворовой челяди, во всем городе только три семьи — посадничья, огнищанинова да их, боярская. Да еще поп с попадьей, дьякон с дьяконицей, вдовый пономарь,[31] старуха-проскурня[32] — вот и все жители. И в посаде всего десятка четыре дворов. А с посадскими-то черными людьми посаднице дружить и непригоже.
До чего же распалилось у посадницы любопытство тогда-то, после того, как Прокопий у Кучковны побывал! Прибежала ни свет ни заря, напрямки расспросить не смеет, кругом да около ходит, а глазами так и рыскает по всем углам. Ушла ни с чем.
Ни одной боярской девки потом в покое не оставила: всех к себе на двор зазывала. И выведывала и выпытывала на все лады. А девки что могут сказать? Что видели? Что слышали?
Видели только, как вышла боярыня с Прокопием из клети в сени. Он в дорогу собирается, говорит:
— Не помяни меня, боярыня-голубушка, лихом.
А боярыня низко ему поклонилась, как в церкви, — в пояс, правой рукой пол достала и отвечает:
— Лихом не помяну: не твоя воля. О чем говорено, про то забудем, и никому того знать не надобно. Мои уста — могила. И свои замкни. Одно попомни: о Неждане-бортнике. Пускай не по моему челобитью на волю выйдет, а в батюшкину память. За пролитую кровь.
Тут Прокопий, ни слова не промолвив, отдал боярыне поклон большим обычаем и вышел.
— Неужто в ноги поклонился? — не верила посадница. — Это ей-то?
Вскоре после того к московскому княжому огнищанину пришел из Владимира приказ: Неждана в закупах больше не держать, отпустить на вольную волю.
Вернулись с неба голуби. На голубятнях стало суматошливо и бело. Под свесом кровли по узкой полочке один мохноногий воркун все ходил за пугливой голубкой, и приплясывал, и кружился сам вокруг себя, и, вздувая зоб пузырем, все что-то ей пел.
А за частоколом, на посадничьем дворе, было шумно. Собирали, слыхать, в дорогу чей-то поезд. Лошади фыркали, пятясь в оглобли. Конюхи перебранивались. Потом опять раскатился громкий смех посадницы. Что-то бубнили сдержанные мужские голоса. Наконец завизжали петли ворот (о, как хорошо знала Кучковна этот ржавый, вызывающий звук: сколько раз слышала его за долгие годы со своего опрятного, безлюдного двора!). Поезд тронулся. Затарахтели колеса. Что-то крикнула вслед посадница, что-то ответили уезжавшие гости. Опять взвизгнули петли. Полотна ворот легко захлопнулись, и стало тихо. Только зобастый воркун все наговаривал что-то своей пугливой голубке.
Кучковна едва успела приняться за брошенную пряжу, как по ступенькам рундука вспорхнула посадница. Пятый десяток давно пошел, полнота одолела, а все прытка и легка, будто нет и двадцати годов. Обдала мятными вихрями необъятного летника (от нее всегда пахло мятой) и опустилась колоколом на лавку. Перевела дух: вздынулись и поникли обтянутые шелком круглые плечи. Принагнулась, чтоб искоса заглянуть Кучковне в лицо, шаловливо тронула пальцем ее колено, рванула коротким русалочьим смешком и сказала:
— Ну, чего притворяешься?
Боярыня молча подняла на нее взгляд, полный недоуменья.
— Не лги, Паша! (Одна посадница звала Кучковну Пашей.) Не поверю! Лучше меня, небось, знаешь!
— Чего лгать-то? Что знаю?
— Да про своего-то! Про Петра!
— Что — про Петра?
Посадница прочитала на строгом лице Кучковны такую усталую тоску, что поверила: нет, не знает, не притворяется.
Посадница сощурила глаза. Глаза были светлые, всегда очень влажные, словно только что вынутые из рассола молодые грузди.
И завела издалека:
— Князь-то наш батюшка, Андрей-то Юрьевич, господь его храни, под старость лет до тех пор взблаговался, как и смолоду не благовал…
Под старость лет! Неужто он старик? Кучковна прикинула в уме: да, за шестьдесят уж, верно, перевалило. Не видела его лет пять или шесть. Последний раз не успела толком разглядеть издали со своего верха. Андрей похаживал по городской площади с хромым на обе ноги посадником, да с ее Петром, да с Прокопием, да с черноусым Анбалом. Были и еще какие-то новые, незнакомые Кучковне люди. Ни на кого не похожий. На голову выше всех. Еще не горбился, и маленькая голова с прежней надменностью откинута назад и вбок. Клинышек бородки стал совсем белый. А глаза… Когда он, по привычке, обмахнул беглым взглядом окна ее терема, Кучковна успела рассмотреть все ту же нестерпимую синеву. Старик!
— Всех как есть лучших отцовых слуг перебрал, — продолжала посадница, — да и не их одних! Кого услал в Ярославль, кого в Устюг, кого на Белозеро. А кого и в поруб кинул. А кому и голову прочь! Вашего-то суздальского свата… Сказывать ли?
— Говори.
— Посылал в Суздаль его схватить. Анбал туды ездил. Да, видать, упустил. Ушел куды-то ваш сват: толкуют — в мордву. А вотчину его и все животы князь на себя отписал.
Кучковна уронила веретено. Суздальский сват, тамошний первый боярин, — это был свекор ее меньшой дочери. А с ней-то что?
— А с Груней что? — спросила сама не своя.
— Не ведаю, Паша, и врать не стану.
Посадница вздохнула. Потом, задумчиво подняв редкие брови, стала размышлять вслух:
— В Суздале им, уж конечно, не живать. Чай, и Груне судьба под матернее крыло воротиться.
И меньшой не далось счастье! За чьи грехи такой ответ? Старшая, Гаша, уж как ладно жила с молодым мужем на их просторном владимирском дворе, под старыми рябинами и вишнями. А как проводила мужа в поход, так больше его и не встретила. Это был тот злополучный новгородский поход, когда Андреева рать, не добыв Новгорода, позорно попятилась назад и вся истаяла, как вешний снег, на ею же опустошенных новгородских полях. И продавали потом новгородцы пленных суздальцев по две ногаты человека, втрое дешевле овцы. С той поры уж четвертый год тоскует Гаша в материнском терему, обливает вдовьими слезами сиротку-сына. А теперь и до меньшой дошел черед.
— Да ты больно-то не тужи, Паша, — утешала посадница: — с дочерьми все веселее, чем одной. Да и твой-то Петр, чай, почаще станет наведываться, когда путь[33] ему дан такой.
— Какой путь?
— Неужто и впрямь не слыхала? Мостовой путь, вот какой. Петрила-то, осменника, помнишь?
Еще бы она не помнила! Ей ясно представилось медовое светлобородое лицо, щегольская киевская одежда и страшные, короткопалые культяпки.
Посадница опять перешла на шепот:
— Петрила больше на свете нет. Заковал его Андрей Юрьич в железа и услал в Судиславль. А туды едучи — на Волге-реке, на Костромской переправе, — Петрило как раз и утоп. То ли сам с парома кинулся, то ли пристава посадили старика в воду…
— Так Петру-то что ж?
— А твоему Петру удача. Перво-наперво он, сказывают, закручинился, что князь не велит ему больше в Боголюбове быть…
— Как не велит? — обомлела Кучковна.
— Ты и того не ведала? — лукаво удивилась посадница. — Чай, уж больше месяца, как воротился твой Петр во Владимир, на ваш прежний двор. А как старый-то осменник Петрило залился в Волге, так Андрей Юрьич, батюшка-то наш князь, с твоего Замятнича опалу снял, сказал милостивое слово и дал ему Петрилин путь. Теперь твой Петр — сам осменник: велено ему за всеми мостами глядеть да за всеми переправами. А это дело какое? К княжему двору более не привязан: знай себе плавай туды да сюды всеми реками. Так, чай, урвет времечко подолее с тобой пожить.
Гладкое лицо посадницы засветилось простодушной лаской. Серые, подернутые рассолом глаза уставились на Кучковну. А та не могла отвести взгляда от умолкнувших наконец губ.
VI
Кучкова дочь не отрываясь смотрела в румяный прорез говорливого женского рта, будто силясь не только услышать, а и увидеть, что скажет он еще. И боялась упустить конец непрочной нити, на которую хотела нанизать мешавшиеся мысли. А мысли выскальзывали и рассыпались, как, бывало, тот мелкий речной жемчуг, что набирала она когда-то на волосок неопытными девичьими пальцами.
Когда это было? Лет пятнадцать назад. Князь Андрей еще только достраивал себе тогда в Боголюбове каменные палаты, такие, слыхать, огромные да дивные, что съезжались смотреть их и ясы, и ляхи, и цареградские греки, и заморские фрязины.[34] Тогда же поманил к себе Андрей Юрьич в то же Боголюбово и мужа Кучковны, Петра, и старшего ее брата — Якима Кучковича, Милушина мужа, и младшего — Ивана Кучковича, уже в то время вдового. Все трое поставили себе там новые дворы рядом с княжеским (Кучковну ни разу туда не брали; она этих дворов и не видывала). А теперь, если верить посаднице, не велено Петру там быть.
Хромого на обе ноги посадника на Москве тогда, пятнадцать лет назад, еще не было: был еще по-старому дворский, потому что посад при городе в ту пору едва начинал строиться. Петр Замятнич усердно приглядывал за княжими городниками да за каменосечцами и в Боголюбове, и во Владимире, и на Нерли, но хоть в два месяца раз, а наезжал еще к жене. Тут, на Москве, года два спустя и застал его боголюбовский гонец с приказом крутиться в булгарский поход: князь Андрей Юрьевич доделывал отцово дело — бил старых врагов.
Кучковна помнит, как Петр, всегда при ней хмурый, выезжал в поход с их двора на своем грузном сером в яблоках мерине. И за ним десятка полтора слуг — кто с луком и стрелами, кто с копьем, кто с рогатиной. Зима только еще становилась. Из синей тучи падал не торопясь первый, редкий снег.
Вскоре после того по первопутку приехал на Москву новый посадник, вот этот самый, нынешний колченогий. Пока его выпрастывали из дорожных мехов, его жена (она знала Параню еще по Владимиру) проворно выскочила из саней — да прямо к Кучковне. И, еще вся красная с мороза, затараторила, вот как сейчас.
— А я тебе, — говорит, — радость привезла: князь в поход ушел, и братья твои, Яким да Иван, оба с ним, а твоего Петра в Боголюбове оставили.
— Зачем оставили?
— Как — зачем? Надобно же кому-то княгиню стеречь. Особливо когда на ее же родню, на булгар, пошли.
Говорит, а сама непонятно посмеивается, на Кучковну пристально глядит и прибавляет:
— Лучше сторожа не найти. Люди сказывают: княгиня сама себе такого выбрала. А твоя-то сношенька Милуша не знает, как и быть: провожать Петра в поход жалко — все-таки не чуженин, а свояк, и при булгарке его оставлять тоже неохота — как бы хлеба не отбил у нее, у Милуши, и княгине перечить нельзя. Выходит, как народ говорит: съесть погано, а покинуть жаль. Вот Милуша и сохнет.
Круглые плечи посадницы заколыхались от добродушного смеха. Потом взяла Кучковну за руки своими уже согревшимися мягкими руками и говорит:
— Кому сохнуть, а тебе жить да радоваться: к другим вернутся ли мужья из похода, нет ли — как знать, а твой все целешенек останется.
Да, остался цел. И верной жене за него как не радоваться!..
Вести, привезенные тогда, пятнадцать лет назад, посадницей, оказались правдой. Петр Замятнич с тех пор сделался и впрямь самым близким человеком при княгине и управителем всего ее большого имения. А в Москву, к жене, стал наведываться с этого времени не чаще раза в год.
Милуша из княгинина терема перебралась тогда же (то ли волей, то ли неволей) сперва к мужу, к Якиму Кучковичу, на его боголюбовский двор, а потом в одну из его вотчин, под Суздаль. Да там вскорости и померла; сказывали — удавилась.
Яким, став вдовцом, принялся погуливать, как в давние годы холостой молодости. И во хмелю, как передавали, бывал столь дерзок в речах, что сам князь Андрей не раз его вразумлял, грозя опалой.
Однако же Яким и другой Кучкович, Иван, сохраняли и в Боголюбове ту же силу, какой пользовались, бывало, во Владимире. Когда шесть лет назад снаряженная Андреем союзная рать взяла и разорила Киев, оба Кучковича и зять их Петр были в этой рати, как всегда, на первых местах. И все трое воротились в Боголюбово не без добычи.
Но то было шесть лет назад. Теперь же, видать, все пошло по-новому, а как — Кучковна еще не понимала. Суздальского свата хотели схватить! А он и мужу ее и братьям — первый друг. Где ж их былая сила?
Пока Параня думала об этом, посадницы и след простыл. Сбежала с рундука, оставив за собой приятный запах мяты. В саду подхватила на руки пятилетнего внучонка Кучковны (сама была бездетная), покружила его вокруг себя, нацеловала ему докрасна щеки, ловко поставила наземь и уплыла к себе.
VII
День выстоял без дождя.
Крутые тучки, обеспокоившие давеча Кучковну, так и прокурчавились на окраинах неба, не причинив вреда; только под вечер, будто отдохнув и обдумав, что делать, сползлись все к одному боку, в одну широкую глыбу. Подступая к Москве, туча становилась все выше и темнее, пока не задернула лиловым пологом весь закат. Из-за ее края выставился упругий бок другой, еще светлой тучи. Весь в перехватах и в нежных тенях, он был похож на кусок живой человечьей плоти. Было ясно, что там-то и копится гроза. Уж несколько раз недобрым голосом бормотал еще очень далекий гром. Ласточки, сникая почти до самой земли, кроили воздух тонкими серпами неподвижных крыл. А понизу бегал ветерочек, закручивал пыль на дороге и перебирал в канавах незабудки.
Кучковна, сложив пряжу, поднялась к себе наверх и глянула в окошко на Занеглименье. Рытый бархат лесов показался ей неестественно зелен. За провалом Пресни он начинал уж синеть по-ночному, а там, где даль замыкалась трехгорбым урочищем, только узкая огневая щель отделяла ее от олова отяжелевшей тучи.
Когда боярыня взошла на вышку своих хором, в эту щель брызнуло заходившее солнце и празднично озарило Великий луг. В их, боярском, клину вершили последний стог. Красная рубаха стогомета горела на солнце подвижным жгучим пятнышком. Посадничья пойма была вся исполосована яркими тенями от множества мелких копен. Там уж кончили работать, и народ, торопясь домой, толпился у телег. А на княжом краю еще шла суета, и на свежей зелени скошенной пожни тускнели большие острова раскиданного сена.
Кучковна глянула вниз. Резные коньки ее хором приходились у нее под ногами. С вышки вся внутренность города была как на ладони. Видно было, как пастух загоняет на посадничий двор запоздалое стадо; как долгобородый воротник к Неждановой башни закладывает на ночь ворота; как попадья и четыре поповны допалывают у себя на огороде репу, а поп стоит над ними меж гряд в белом подряснике, отмахиваясь от мошкары; как старуха-проскурня снимает с веревки белье; как княжой огнищанин, задрав голову, разглядывает верхи своих палат и, показывая рукой на новую резьбу, толкует что-то столярам. Свое-то сено, небось, все убрал, ястребок, а ежели половину княжого сгноит, велика ли беда? Князь на Москве когда еще побывает?
Князю не до москворецкого сена, размышляет Кучковна. Она привыкла думать, что он не только по внешности, но и мыслями и желаниями не похож на других людей. Будто затем и рост ему дан непомерный, чтобы поверх чужих голов засматривать синими глазами в такие дела, куда не проникает простой человеческий взор.
Когда ей случалось наблюдать Андрея — всегда издали — в кругу ростовских и суздальских бояр, тех, к кому больше всего льнул ее муж Петр и на чей лад старался устроить свою и ее жизнь, Кучковна, не слыша, о чем беседа у князя с боярами, угадывала, что им вовек не столковаться.
Ей ли, боярской жене, не знать, что у бояр на уме да на совести? Только обидчивая спесь да ненасытная забота, как бы чужим добром поживиться, а свое уберечь. Дальше своего тына не видят. Да и сама, хоть слывет жалостливой, разве не такая же? Яблочко от яблоньки недалеко откатывается…
А он, Андрей… Нет, он не такой!
Она его совсем не знает. Что сказал тогда, зимним вечером, когда столкнулся с ней невзначай лицом к лицу у ворот ее владимирского дома? И еще потом, недели две спустя, здесь, в Москве, на замерзшей Яузе? Она не запомнила слов. Да и по таким мимоходным словам как узнать человека?
А то, с чем от его лица приезжал Прокопий, этого она, конечно, не забыла. Но это было так не похоже на правду и так похоже на сон! А снам можно ли верить?
Среди тех, с кем зналась Кучковна, князя никто не любил и не хвалил. Есть ли у него друзья? Едва ли. Кругом одинокий. Как она…
Великий луг опустел. В княжом клину еще кое-где суматошились, а боярская и посадничья челядь скопилась уже вся у перевоза и перекликалась с товарищами на пароме, который, накренясь, весь набитый народом, только что отвалил от берега. Предгрозовой ветерок набрасывал на светлую воду там и сям беглые полосы тонкой ряби, точно задевая речную гладь острой теркой. До Кучковны доносились вместе с запахом свежего сена звуки веселых молодых голосов.
От томного ли сенного духа, от речных ли вечерних звуков, знакомых с детства, ей вдруг стеснил грудь такой приступ тоски, что Кучкова дочь даже застонала.
Смуглые руки, перехватывая тугую, намокшую вервь, подтягивали паром к московскому берегу. У обросших зеленой плесенью боков парома похлопывала теплая вода. От нее поднимался свежий рыбный душок, какой услышишь только в ту короткую пору, когда вода цветет.
На клочковатом пуху темной тучи жестко вычерчивался город. С реки он казался необычайно высок. Плывшие домой московляне не отрывали от него усталых, очарованных глаз. Скользнув взглядом по невзрачным соломенным кровлям своих глубоко врытых в землю избенок на подгородном берегу и над Кулижками, они пристально любовались сильным очерком дозорных башен, стрельчатыми макушками княжого терема и черным мхом древних сосен.
Верхи посадничьих голубятен торчали кривовато, вразброд, как недовколоченные гвозди. Рядом с ними над резными коньками боярских палат уходила в небо легкая остроконечная вышка. В самом верхнем ее проеме был виден неподвижный женский облик. Боярские рядовичи и холопы хоть и не различали издали, с парома, отдельных черт, а всё узнали свою госпожу.
Но никому из них не приходило в голову, что она, богатая, холеная, сытая, свободная и праздная, глядя со своей прохладной вышки на них, оборванных и потных от подневольной, даровой работы на ее лугу, — что она им завидует. Завидует всем — даже тому лохматому парню, который, облокотясь на перила парома, поплевывает в воду и раздумывает, что пора бы жениться, да кто за него пойдет, когда у него за душой ничего нет! В его руке — трехрогие деревянные вилы. Этими вилами он нынче весь день подавал боярское сено на стог. Даже вилы и то не свои, а боярские.
Солнце зашло. Все разом померкло. Из-за реки ударил ветер — туче в лицо. В зашатавшихся соснах пошли такие вздохи да шумы, что лучше бы их и не слыхать. А туча вырастала все выше, захватив уж полнеба, и вся, снизу доверху, обметалась, как ссадинами, последними багровыми отсветами ненастного заката.
Ночью над Москвой долго бесновалась гроза.
Дождь хлестал по бревенчатым стенам банным веником. При каждой молнии полыхали белыми зеркалами мокрые скаты крыш на всех пяти башнях. Гром катался в ярости по небу из конца в конец: то глухо колотился обо что-то, то раздирал огромные полотнища, то рассыпался мелкими трескучими осколками.
Было уж около полуночи, когда сквозь вой ветра, сквозь ровный шум ливня, сквозь непрерывные раскаты грома Кучковна различила вдруг еще какой-то новый звук, от которого сразу упало сердце.
Кто-то настойчиво бил кулаком в ворота ее двора.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Паучьи ноги
I
Эй почудилось, что это покойный отец: так похож стал на него с годами ее второй брат, Иван Кучкович.
Те же наплывы мясистого лба, то же высунутое вперед толстокожее лицо. Только борода длиннее и гуще отцовской. Кучковна не видала брата лет шесть или семь.
С бороды текла вода. Иван обжимал ее обеими пятернями и, щурясь тоже по-отцовски, утирал рукавом мокрые брови.
Отсыревшая восковая свеча тряслась у Кучковны в руке, трещала и мигала. При ее свете боярыня не сразу узнала двух спутников брата. Когда один из них, высокий и сутулый, подступил к ней, она разглядела, что это старый приятель ее мужа, ростовский знатный купец, известный огромным богатством.
А второй, низенький и очень тучный, все жался к двери, не снимал промокшего охабня[35] и не опускал высокого воротника, который закрывал ему лицо почти до глаз.
— Чего мнешься? — осиплым голосом сказал ему Иван. — Рассупонивайся. Бояться нечего, не в чужом доме.
Короткие руки толстяка нерешительно поднялись и стали обминать воротник. Кучковна ахнула. Это был суздальский сват, свекор ее меньшой дочери, Груни, тот самый, о чьем бегстве говорила давеча днем посадница.
— А мне сказывали — в мордву ушел… — вырвалось у боярыни.
— Молчи! — негромко остановил ее Иван. — Не бабье дело. Ты его не видала. И мы его не видали. Поняла? — Он выкатил на сестру белесые глаза. Потом прибавил другим голосом: — Вели их одежду высушить да коней покормить: им скоро в путь… В той глухой клети никого нет? Сходи-ка да проверь. Мы туда пойдем. А ты собери поужинать. Да смотри сама принеси, а холопьев не пускай. И постереги, чтобы мимо не шныряли да не слушали.
— А с Груней что? — не могла удержаться Кучковна.
— Жива покамест, — угрюмо пробурчал сват.
II
Глухая клеть, о которой помянул Иван Кучкович, называлась так оттого, что была без окон. Петр Замятнич, когда живал еще в Москве, любил отдыхать в этой клети от солнечного зноя и от мух. Теперь, без хозяина, этот дальний покой запустел. На вбитых в стену деревянных костылях висели собранные Петром в походах дорогие седла, отделанные серебром, костью и жженым золотом. Пахло пересохшей кожей и мышами.
Когда Кучковна, наскоро убрав со стола кучу серебряных стремян, усадила за этот стол нежданных гостей и затем, распорядившись всем, как приказал брат, сама подала им ужин, она застала их в споре: суздальский сват и ростовский купец убеждали Ивана Кучковича не мешкать на Москве до утра, а Иван упрямился.
— Напоим коней — и в путь, — твердил сват. — И в путь.
У него была хорошо известная Кучковне привычка повторять последние свои слова два раза.
— А как все трое уедем, так кто без нас с посадником столкуется? — говорил Иван, косясь на свата одним глазом. — Не будить же убогого старика среди ночи.
— Обойдемся и без посадника, — мягко, но горячо возражал тощий купец.
— То-то, что не обойдемся! — кипятился Кучкович, прыская по-отцовски слюной. — Или забыл, зачем князь Юрий на Москве город рубил? Невелик городок, а ко всей Залесской земле ключ.
— Да нам-то на что этот купец? — еще мягче прошамкал полным ртом купец.
С дороги он, видать, сильно проголодался и, не дожидаясь уговоров хозяйки, так и набросился на пирог. У него вовсе не было зубов. Когда он жевал, его маленькое птичье лицо то странно вытягивалось, то еще страннее сплющивалось, сталкивая стриженую седую бороду с горбатым носом. Эти два его лица, длинное и короткое, были так несхожи, что чудилось, будто у него в запасе две разные головы и он попеременно выбрасывает из сутулых плеч то одну, то другую.
— Как — на что ключ! — возмутился Иван и, совсем уж как отец, бухнул по столу обоими волосатыми кулаками. — Хорошо, ежели сумеем помешать нашему ироду окаянному, Андрею Юрьевичу, сложиться на рать…
Сложиться на рать — это значило: собрать войско, готовясь к походу. Кучковна плохо понимала слова брата.
Купец, продолжая жевать, опасливо взглянул на нее: можно ли, дескать, при ней такое говорить? Иван заметил этот взгляд и успокоил купца движением руки: своя, мол, не бойся, не выдаст.
— А ежели не помешаем, — продолжал Кучкович, — тогда где, по-твоему, та новая рать соберется? Всякий скажет: здесь, на Москве. А то где же? Новгородцы ли, смоляне ли, рязанцы — все по Андрейкину кличу сойдутся тут. Так уж заведено. Вот тут-то нам посадник и понадобится. Он — свой брат.
— Ежели не помешаем! — передразнил сват. — Затем и рыщем по лесам, чтобы помешать.
— А ежели кого из нас в лесах перехватят? — задорно выкрикнул Иван.
— О том и речь, — тихо и веско ответил сват, кольнув Ивана выразительным взглядом маленьких умных глаз.
Кучковна, зная нрав свата, видела, что он всех более растревожен, но владеет собой лучше товарищей. Тревогу выдавала только игра его левой руки. Эта вздутая рука, обтянутая пупырчатой кожей, то быстро постукивала отекшими пальцами, то расплескивалась звездой, то подбиралась в мягкую щепоть, похожую на жабу.
— О том и речь, — повторил сват. — В лесах перехватить мудреней, а здесь, в городе, проще. Оттого и говорим: не мешкай.
— А мне чего бояться? — вдруг совсем иным голосом заговорил Иван и ухарски расправил на две стороны пышную седеющую бороду. — Я не бегун. Пускай застанут здесь. С каких это пор брат сестру навестить не может?.. Подай-ка пива, — обратился он к Кучковне.
По дороге в кладовую, на крытых переходах, Кучковна приостановилась, чтоб отдышаться и опамятоваться.
Гроза ушла. Ветер улегся. За рекой еще вспыхивали бледные зарницы. По ровному шелесту листьев было слышно, что падает прямой некрупный дождь. Частые сосны тянулись в темное небо, как исполинский мох.
Это было знакомое и нестрашное. А там-то, там-то — в глухой клети! Хватит ли сил воротиться туда, к жабьим рукам, к обжоре о двух головах, к брату, который нынче так пугал Кучковну вдруг оказавшимся слишком полным сходством с отцом!
"Уж не поблазнило ли от грозы? Уж не оборотни ли явились? Или молонья ударила в батюшкину кровь и взмела из земли его тень?"
Она побежала по мокрым половицам, то и дело озираясь и крестясь частыми, мелкими крестами.
"А и я-то хороша! — думала она на ходу. — Что у них затеяно, не пойму, а сама словно с ними заодно. Узнал бы князь, что я их в своем доме хороню, что бы сказал?"
Когда она вернулась в глухую клеть, Иван еще сидел развалясь за столом, а двое других уже встали с мест, готовясь, видимо, к отъезду. Тощий купец старательно опоясывался. Оба, и он и сват, неотрез отказались от пива.
Свеча сильно мигала, и рогатые тени седел прыгали по стенам.
— Стойте! — вымолвил Иван, торопливо обтирая намокшие в пиве усы. — Главного-то и не сказал.
Он встал и, наклонясь над столом, тыча в лад своим словам указательным пальцем, заговорил таким наставительным и властным тоном, что Кучковна подумала: "Видно, он у них главный заводчик".
— Будешь у смоленских князей, — объяснял он свату, — ударь им челом от нас от всех: и от Якима и от Петра. А как дойдет до прямого дела, так со всеми князьями зараз не говори: они хоть и родные братья, а нрав у всех разный. Князю Мстиславу скажи так: "Нам, мол, княже, ведомо, что ты смолоду привык не бояться никого". Мстислав на лесть падок и задирчив. Так ты его сперва лестью умягчи, а там понемногу и задирай. Скажи ему: "Княже, не ты ли летась под Киевом загнал Андрееву рать за Днепр? Не ты ли остриг Андрееву послу голову и бороду?"
— Знаю, — хмуро кивнул головой сват.
— Знаешь, да не все, — огрызнулся Иван. — Скажи так: "Когда, мол, тот посол от тебя к Андрею воротился и Андрей его, остриженного, увидел, так у него от обиды да от стыда даже лицо потускнело". Скажи: "Стольник Иван Кучкович, чашника Якима Кучковича брат, при том был и своими глазами все видел". Дальше повороти речь так: "Коли Андрей в те поры испугался твоей дерзости, княже, понизил стяги свои и поворотил коня, так теперь, после летошнего киевского срама, испугается и того более. Перешлись, княже, с новогородцами. У новогородцев с нами, с залесскими боярами, одна душа. Андрей им своего сына, мерзостного Юрашку, в князья навязал. Так ты, княже, этого Андреева ублюдка прогони. Новогородцы только того и ждут. А тогда с ними заодно дерзни на Андрея, воюй Волгу: голыми руками всю возьмешь, до самого Ярославля".
— Да и от нас, от ростовцев, добавь, — вставил купец, кривя впалый рот: — что мы-де им, новогородцам, в том не помешаем, а поможем. И не мы одни. Наш город всех старше: на чем мы положим, на том и пригороды станут. А ежели наши орачи да каменосечцы, что под Андреевой рукой в нашем пригородке Владимире сидят, — ежели они против нас пойдут, так мы на них управу найдем. Довольно они над нами потешились.
— Ехать пора, — сказал сват, подаваясь к дверям. — Скоро светать начнет…
— Погоди, — остановил его Иван. — Только последнее слово скажу. — Он опять принялся наставительно тыкать пальцем: — К князю Роману ты с другого боку подходи. Роман тем хвалится, что больно кроток да совестлив. Так ты его стыдом пройми. Скажи ему: "Зачем срамишься, княже? В чьей воле ходишь? К кому пошел в подручники? Из чьей руки хочешь Киев брать? Из Андреевой! А давно ли тот же Андрей тебе, как последнему холопу, велел из Киева убираться? Или не знаешь, что для него ничей закон не свят? Старины не чтит. Отцову волю нарушил. Мачехе своей, княгине, природной греческой царевне, не велел в Русской земле быть. А с ней заодно прогнал и меньших своих братьев. Их волость беззаконно себе прибрал. Киев разорил и осквернил. Князьями помыкает, как челядью. Бояр не слушает…"
— Про кого другого, а про бояр не хуже тебя сумею сказать! — сварливо перебил сват. — Не держи нас, Иван: наживем беды!
— А из ворот как же нас выпустят? — забеспокоился купец.
— Я сам до ворот провожу, — сказал Иван. — Перед стольником Иваном Кучковичем какие ворота не растворятся!
III
Оставшись наконец наедине с братом, Кучковна пересилила кое-как робость и приступила к нему с осторожными расспросами о своих.
Иван, раскрасневшись от пива, заложив руки за спину, тяжело шагал по клети из угла в угол. Нехотя, хмурясь, недоговаривая, даже будто сердясь за что-то на сестру, он сказал ей только, что ее дочери Груне пришлось уехать из Суздаля, потому что жить там стало негде: у свата отобрано все — и городской двор и все вотчины; хоть по миру иди! Груня живет пока на отцовом дворе во Владимире. Петр говорил, что хочет отправить ее сюда, на Москву. Недосуг ему с ней пестоваться — другие дела поважнее, пояснил Иван, многозначительно подняв брови. Груниного молодого мужа сперва заковали было в железа и кинули в поруб. Потом вынули и водили к князю. Князь долго с ним толковал с глазу на глаз и велел расковать. Однако держит его в Боголюбове и не велит никуда отлучаться. А Петр Замятнич (посадница не соврала) в Боголюбове больше не живет…
— Княгиня… — робко начала было Кучковна.
Иван весь взъерошился.
— Про княгиню худа не говори! — отчеканил он строго и даже пальцем погрозил. — Без княгини всех бы нас давно окрутили, как твоего свата… А и ей не сладко, — прибавил он помолчав и задумался, шевеля пестрыми бровями.
Кучковна, чтобы поскорее перевести разговор на другой предмет, спросила, как же удалось спастись свату.
Иван объяснил, что сперва суздальский игумен уберег свата в монастырской ризнице, в сундуке, а потом, когда снаряжали обоз с озимыми семенами в их окольный скит, келарь зашил свата в мешочную редину и с семенами вместе переправил в скит. Там сват и отсиживался двадцать ден в житной яме.
— А от княжого-то ключника, от Анбала, как же ушел?
— От Анбала? — переспросил Иван с какой-то странной усмешкой и кинул на сестру косой, пытливый, как ей показалось, взгляд. — Про то Анбала спрашивай, а не меня: может, когда и скажет.
Кучковна поняла, что и этого предмета касаться не следует. Смешавшись еще более, стесняясь молчать и не зная, о чем говорить, она спросила про ростовского купца, с чего это он так на князя Андрея злобится, когда князь, как ей говорили, первый благодетель этому купцу: выкупил его из мордовского полона.
Иван круто остановился, оборотился к сестре всем широким телом и долго смотрел на нее молча.
— Да ты в уме ли? — произнес он наконец.
Высунутое вперед лицо налилось темной кровью. Отец, точь-в-точь отец! Он рванул душивший его пристегной ворот дорогой шелковой сорочки и заговорил отрывисто, не находя нужных слов:
— Видать, ты и впрямь… Видать, люди про тебя правду говорили, что ты… А мы-то, простецы, при тебе!..
Он опять дернул ворот, вытягивая из него толстую шею, и жадно выпил полный ковш пива.
— Вот чему от тутошних посадских научилась! — продолжал он, будто развязав пивом заплетающийся язык. — Вот она, Москва-то ваша преславная! То-то все передние мужи вашим холопьим пригородком брезгуют: не идут в вашу Москву жить, что им ни сули… Хороши у вас тут людишки, когда первая в городе боярыня такие речи заводит!..
— Да какие мои речи? — еле выговорила Кучковна. — Мне Петр сказывал…
— Не вали на Петра! — гаркнул Иван и так хватил ладонью по столу, что брякнули все блюда и зазвенели мягким серебряным звоном сложенные в углу стремена. — Что Петр, что мы — у Петра с нами одни мысли… И то сказать: была бы ты Петру добрая жена, не ушел бы от тебя Петр, вот что. А ты… Это кто же тебя научил первого злодея благодетелем звать? Вишь, как намосквичилась! Из полона выкупил! Велика, подумаешь, милость! Может, и нам с тобой ему кланяться за то, что нашему отцу голову отсек?
— Не он!
— Врешь: он! Не кто другой…
Кучковна всегда считала убийцей отца Милушу. И сейчас думала так же.
Иван не совсем верной рукой зачерпнул из корчаги еще ковш пива. Хлебнул, опустился на лавку и долго молчал.
Рогатые тени седел то бестолково метались по стенам, то замирали. Иван громко сопел носом. К этому сопенью примешивался еще один из тех непонятных ночных звуков, которые иной раз так тревожат слух своей назойливостью: не то цыкает кузнечик, не то где-то очень далеко сокочет сорока. Или просто в ушах звенит?
Когда Кучкович снова заговорил, голос его сделался более вял и глух:
— Андрей — купцам благодетель! Нашла что сказать! Да откуда вам и знать, какие-такие наши купцы? У вас тут, на Москве, всяк купцом величается. Срубил себе избенку в шесть венцов, скрутил на кругу такие вот две корчаги, вымолотил мерку жита да полкоробьи овса — и готов купец! А в субботний день сойдутся вон там, за стеной, на площадке, эти ваши купцы — кто с Гостиной горы, кто с Лужников, кто с Коломенской дороги — и давай совать друг другу из рук в руки свой товаришко! А товар какой? Ты мне хлеба каравай, а я те гвоздей горстку: сам ковал. Я те чоботы: сам тачал, а ты мне чулки: сам вязал. Как в пословице говорится: гусь да баба — торг; два гуся, две бабы — ярмарка. Так и у вас. Купцы!
Он брезгливо поднял плечо и, смерив сестру с ног до головы мутным, презрительным взглядом, продолжал:
— Думаешь, простой купец давеча за этим столом пирог ел? Не купец, а гость: понимать надо. Знаешь ли, что такое гость? Поглядела бы ты годов пять назад на его амбары под Абрамовым городом! Камнем не перешвырнешь, глазом не охватишь! На самой стрелке срублены были, где Волка с Окой сошлась. А какого товара он тогда у булгар набирал! И чего им сбывал! И был бы седня еще втрое богаче, кабы не твой Андрей… Пойди-ка поищи ныне Абрамова города: следа нет. Хоть все Дятловы горы облазь, ничего не найдешь, кроме разве черных головешек да красного плакуна. Чье дело? Андреево дело. А какой был город!
Иван зажмурился и провел рукой по вспотевшему лицу.
— Уж мы ли Андрею не толковали так и эдак, — продолжал он. — Честью просили и мы, бояре, и ростовцы, и суздальцы: "Не тронь, Юрьич, булгар: нам от булгарского торга прибыль. Что Ростов, что Суздаль — одной этой прибылью живы; с булгарами не поладишь, куда наши гости за товаром пойдут?" И княгиня с нами заодно мужа молила, в ногах у него валялась, слезы лила. "Не ходи, — говорит, — на булгар; я тебе боговенчанная жена, твоих сынов мать; там, — говорит, — в булгарах, моя кровь — братья, сестры; ты от них зла не видал; пожалей, — говорит, — мое племечко!" А он… Куда там! Разве такого переспоришь? Задерет голову и долбит свое. "Не нужна мне, — говорит, — прибыль из чужих рук. Я, — говорит, — ее своими руками возьму. Покуда, — говорит, — не вся Волга русская, я, — говорит, — в своей волости силы не чую. А когда будет вся русская, мы, — говорит, — сами из-за всех морей все добро к себе свезем. В Киеве, — говорит, — того не было, в Царьграде того не было, что у нас будет". Говорил куда как красно, а на деле что вышло? Не послушал ни нас, ни княгини: пошел на булгар походом, да не один раз, а два. Спалил Абрамов город дотла. До Великого города чуть-чуть не дотянулся. Что народу положил — не перечесть…
Иван понизил голос:
— Своих двух шурьев порешил, булгарских царевичей, княгининых родных братьев! Про то не велено говорить. Один, старшой, что отцовым наместником был у них в Абрамовом городе, там в башне и сгорел. Другого наши конные на Каме досмерти затоптали… А толк какой? С булгарами торг ослаб. Ростов и Суздаль, первые наши города, глохнут. А заморских товаров что-то пока не везем. Что дальше, то хуже. И сказать того не смей; только рот откроешь, он тебе сразу: "Молчи! Ты мне поперечник! В поруб! В железа! В воду!" Другого не слышим. Так всех лучших людей от себя и отшатнул…
Иван поднялся.
— Поглядим, как без нас обойдется. Без наших-то, боярских, да без купецких дружин далеко не уйдет с одними своими пешцами… Поглядим…
Он пошатывался. У него слипались глаза и язык ворочался все медленнее.
— Стели мне тут, — приказал он сестре.
Когда Кучковна принесла постель, Иван, сердито кряхтя, силился стянуть с ноги непросохший сапог: мешал тугой живот.
— Пособи, — попросил он и поглядел на сестру из-под бровей смущенным, даже как будто виноватым взглядом, точно стыдясь своей беспомощности.
Кучковна, измарав руки в дегте и грязи, стащила кое-как тесный сапог. Иван стыдливо подобрал разутую ногу в сбившемся, местами мокром красном чулке. Даже пальцы поджал. Кучковна вспомнила, как он мальчиком часто натирал себе ноги в кровь, жаловался на это матери и отказывался носить онучи. Отец ругал его за это неженкой и не раз порол, а мать потакала меньшому сыну (он был у нее любимец) и тайком от отца давала ему чулки. Чулки вязал старик-монах, пришедший из-под Киева еще с Мономахом, чудесный рассказчик. И такими вот виноватыми глазами брат Иван частенько поглядывал на сестру в детстве, когда просил не говорить отцу о какой-нибудь его проказе. Потом ей пришло на память, как он еще здесь, на Москве, складно жил со своей некрасивой женой, с молчаливой Дарьицей, как рано овдовел, как потом навещал ее, Кучковну, во Владимире и о покойной жене не мог говорить без слез, как нежно берег единственную дочку. Эта дочка, Липанька, выросла у него дурочкой (говорили — с детского перепугу), пряталась от людей и водилась только с дворовыми собаками, которых Иван держал для нее очень много. Их двор во Владимире, где всегда стоял разноголосый лай, звали из-за этого песьим двором.
— Не томно ли тебе будет здесь, в клети? — спросила Кучковна.
— Усну, — ответил Иван, укладываясь на медвежьем меху. — Как солнце начнет вставать, сразу разбуди, — прибавил он совсем уж сонным голосом. — А что видела, что слышала, про то молчи. И кто со мной был, ты тех людей знать не знаешь. Поняла?
IV
По дороге к себе наверх, в темных сенях, Кучковна приметила, что окна уже засинели: значит, недолго до рассвета. Она решила не ложиться, чтоб не проспать, и вышла на те самые крытые переходы, по которым пробегала час назад за пивом.
Дождь не шумел больше. Было очень холодно и сыро. Половицы на переходах не успели еще просохнуть; от них пахло грибами. Очертания ближних деревьев и соседних кровель становились уже отчетливы. Великий луг и леса за ним были завалены густым туманом. Он закрывал весь противоположный берег едва белевшей внизу реки, которую можно было принять теперь за край широкого озера или даже моря. А небо, беззвездное, большое, окрасилось так, что нельзя было различить, ясное оно или в тучах.
За день и за ночь Кучковна услыхала столько нового, неожиданного, частью и непонятного, что никак не могла собраться с мыслями и решить, как она любила решать, что же хорошего, что плохого, а из плохого — что самое страшное.
Хорошего не было, кажется, ничего. Разве только, что дочка Груня еще жива и цела. А страшного… Одно другого страшней! Кучковне вспомнилось, с какой неестественно злорадной улыбочкой Иван приговаривал перед сном: "Поглядим… поглядим…" и как нехорошо усмехнулся, когда она спросила про Анбала.
Только что отголосили третьи петухи — и у нее на дворе, и у соседей в городе, и в посаде, и — очень глухо — за рекой. Последним прокричал хриплый молодой петушок в поповском птичнике, и после этого водворилась полная ночная тишина, которую нарушало только все то же необъяснимое чуть слышное сокотанье.
Потом залился дробным кашлем воротник у Неждановой башни. Этот кашель был давно знаком Кучковне. Она знала, что старик, когда зайдется ночью таким кашлем, выходит из избы, чтобы не разгуливать спящую жену. Ей ясно представилось, как он, кашляя, давится, захлебывается, таращит глаза и дрожащими руками прижимает к впалой груди свою необыкновенно длинную и узкую бороду.
И опять, как тогда вечером, перед грозой, когда глядела с вышки на паром, набитый усталой челядью, Кучковна почувствовала жгучую зависть: откашляется, отдышится, уляжется и заснет со спокойной душой. А она…
Она смотрела, как туман — где плотной стеной, где бродячими клочьями, — все больше накрывая реку, подползал к городу, и думала, что, видно, на свое несчастье родилась она в богатой боярской семье, где все речи и мысли были всегда только о наживе, где в каждом видели соперника и врага, где никому не верили, никого не жалели, ни с кем не дружились и оттого никогда не знали покоя.
И не потому ли так крива, уродлива, а чаще всего и по-настоящему страшна жизнь во всех богатых семьях, с какими приходилось ей знаться?
Ее жизнь с Петром — разве это жизнь?
А распутный брат Яким с никогда его не любившей, жадной Милушей?
А вдовый, озлобленный, простоватый Иван с дочкой-дурочкой?
Посадница… Кажется, и весела и смешлива, а ведь только одна Кучковна знала, во что обходится этой здоровой, беззаботной на вид женщине ее житье с хворым мужем, ревнивцем и скрягой, который попрекает ее каждым куском.
Огнищанин, ястребок, с челядью лют, не раз своей рукой засекал холопьев до смерти. А в семье и он несчастлив. Сварливей его жены в округе нет. Кучковна плечами передернула, припомнив нестерпимый женский визг, который доносился каждое утро с огнищанинова двора. И все три сына вышли у них один другого хуже: старшой со зла заколол меньшого на охоте, когда травили на Яузе лосей, а средний взломал отцов сундук, забрал казну и ушел в вятические леса разбойничать, угнав с собой шесть лучших коней.
То ли дело Нежданова большая степенная семья или семья того же воротника. Бедны, слов нет. Не всегда сыты. Часто обижены боярской ли, княжеской ли скорой рукой. Но друг друга не грызут, и у каждого, по пословице, своя избушка — свой простор. И у всякого свое, малое, ему положенное дело. Сбыл свой урок, и на совести чисто.
Теперь уж заметно просветлело. Ползучие хлопья тумана затянули всю реку и ниже насели на леса. Сплошную белую пелену прорывали только кое-где макушки самых высоких деревьев. Оплетенные туманом, они были похожи на редкие курганы. С небывалою величавой суровостью обозначился вокруг Кучковны трехугольный город: въевшиеся в землю слепые срубы черных стен с пятью тоже черными пнями коренастых башен.
"А ведь из таких малых дел, как у Неждана или у воротника, — из них-то и выходит большое, — подумалось Кучковне. — Пожалуй даже, только из них. Да и как называть их малыми? Чьими руками рублены стены? Кто ставил башни? Кто расчищал леса и сушил болота? Кто сеет хлеб? Кто косит луга? А мы… Отец… Уж он ли не размахивался на большое? И что от него осталось?.."
В ушах сокотало все так же назойливо, совсем по-сорочьи, и Кучковна все не могла придумать, на какие воспоминания наводит этот тревожный звук.
Потом вдруг ей показалось, что из-за того прясла городской стены, которое приходилось между ее садом и посадничьим тыном, кто-то быстро выглянул и сразу исчез. Наверно, примерещилось с бессонья.
Она вздрогнула от холода и, низко опустив голову, пошла к себе.
V
Откашлялся, отдышался кое-как, но не вернулся в избу. Плотно запахнув облезлый тулуп, обеими руками прижимая бороду к груди, воротник сидел сгорбившись на завалинке и пережидал, не приступит ли опять к горлу несносная перхота. В глазах стояли выбитые кашлем слезы.
Он много лет болел грудью и привык к этим одиноким ночным сиденьям. В такие часы яснее думалось, и притом всегда о самом, как ему казалось, нужном.
Самыми нужными он считал мысли о детях. Ему было приятно, что все они — на своих ногах, давно уж едят свой хлеб и от отца не зависят. Но, как всем старым родителям, ему представлялось, что его два сына и дочь, все трое уже немолодые и многосемейные, никак не могут обходиться без его советов. Дети терпеливо выслушивали отцовские настойчивые советы, но почти никогда им не следовали. Все их неудачи старик объяснял их непослушанием отцу, а все удачи приписывал своим советам:
— Я ж те говорил!
Воротник, пока не сломила его хворь, был кузнецом. А кузнецов принято было считать людьми, сведущими во всем и многоопытными, почти знахарями, а то и колдунами. Когда у соседей случалась какая-нибудь пропажа, его просили помолиться кузнецкому святому Кузьмодемьяну. Старух, которые жаловались, что у них к сердцу подкатывает желвак, он охотно лечил, давая им пить мутную воду из-под точильного круга. И старухи уверяли, что от этого легчает. Его уважали, да и сам он привык считать себя человеком особенным, безошибочно умным.
Старший сын воротника, большак, как звал его отец, жил здесь, на Москве, и, как отец, как дед и прадед, был кузнецом. Этому сыну приходилось часто терпеть огорчения, виновником которых был главным образом княжой огнищанин. Кузница стояла, по словам огнищанина, на княжеской земле (об этом шел долгий спор, для кузнеца, видимо, безнадежный), и огнищанин требовал поэтому, чтобы воротников большак работал на него даром. А в кузнецкой работе у ястребка (так втихомолку звали огнищанина все на Москве) всегда была великая нужда, потому что, торгуя лошадьми, огнищанин держал огромный табун и был, кроме того, большим любителем всяких домашних хозяйственных затей и новинок. Он первый на Москве понавесил у себя на всех дверях трубчатые замки с потайным вырезом. Светцы для лучины требовались ему каждый год новые, все более и более замысловатые. А пуще всего он любил всякие ковчежцы, большие и малые, с затейливой железной оковкой. На удовлетворение этих прихотей молодой кузнец тратил уйму времени. Но он был вынослив, чудовищно силен, превосходно владел молотом и зубилом, а сторонних заказов было довольно, и его семья жила безбедно.
Благополучие большака объяснялось, по мнению воротника, тем, что он поступил по отцовскому совету: поставил кузницу на самом прибыльном месте — на выезде, на Можайской дороге. А если даровая работа на огнищанина была убыточна, то виноват в этом был уж не отец, а сын: не послушал отца, расположился направо, а не налево от дороги. Левую сторону, как думалось почему-то воротнику, никто бы не посмел назвать княжеской.
О единственной дочери старик-воротник всегда размышлял с досадой. Она против воли отца вышла за простого сироту-хлебопашца, чего горожанке, да еще кузнецкой дочери, делать не следовало. Вот и расхлебывает.
Правда, муж ее был человек старательный и тихий, жену берег и тестю не грубил. Правда и то, что их крохотная подмосковная деревенька за ручьем Ольховцом была не княжая, не боярская, а вольная. Да беда в том, что как-то, в недородный год, когда ниву побило градом, их сельский мир, оставшись еще до рождества без хлеба, с отчаяния ударил челом хромому посаднику. Тот поломался, но все-таки выручил, дал сиротам лежалого, посолоделого жита. Однако с тех пор, вот уж седьмой год, деревенька дорого расплачивалась за посадничью помощь, и этой расплате не видать было конца. Летом работали на посадничьем поле всем миром по четыре дня в неделю, а зимой приводили на посадничий двор ярок, яловиц, гусей, носили холсты, полотенца, хмель, сыр, беличьи шкурки, яйца, овчину, посаднице же еще и белых голубей.
У дочери воротника было восьмеро детей. Когда бабка таскала внучатам украдкой от мужа за пазухой ржаные лепешки, воротник прикидывался, что ничего не видит, а в груди у него начинало клокотать, и он заливался кашлем.
Утешали зато мысли о меньшом сыне. О нем старик думал чаще всего и охотнее всего.
Меньшак вышел весь в родимого батюшку: такой же настойчивый и всегда уверенный в своей правоте. У отца с сыном из-за этого в былые, давнишние годы дня не проходило без громкого крика. Как только у сына начала пробиваться борода, он сбежал из родительского дома во Владимир.
Отца подкосила сыновняя дерзость: вскоре после того он и начал болеть грудью. Воротник долго бушевал и каждый день грозился, что силой вернет сына. Но года через два стороной дошла весть, что сын во Владимире не скоморошит, а трудится с великим усердием и с таким искусством, что стал известен в кругу тамошних знаменитых ремесленников. Старик поехал проверить, так ли. И убедился, что его не обманули.
Он попытался было уговорить дитятю вернуться в Москву: вдвоем, отец с сыном, чего бы наработали и какая легкая выдалась бы тогда старость им, родителям! Но сломить молодого упрямца не удалось. Побранившись, подумавши, повздыхав и накашлявшись вдосталь, отец решил, что дитяти так, пожалуй, и лучше: ремесло у него такое, что на Москве не найдет спроса, какой бывает на богатой Клязьме.
На том старик и уехал из Владимира и сразу после того, продав кузницу, ушел в воротники, потому что ослабевшая рука уж не справлялась с молотом.
В воротники его пристроила Кучковна — через посадницу.
На одном все же ему удалось настоять: по его уговору сын перебрался из Владимира в Боголюбово и стал с этих пор рукодельником уже не посадским, а княжеским. Помог в этом стольник Иван Кучкович, с детства хорошо знавший всю их семью.
Воротник думал и говорил с гордостью, что именно эта им подсказанная и им же осуществленная перемена в жизни сына была основой теперешнего счастья его меньшака.
Меньшак не изменил семейному обычаю: молился тому же кузнецкому угоднику Кузьмодемьяну, но был не простым кузнецом, а златокузнецом, или, как называли его книжные люди, "хитрокознецом".
Его изделия — пряжки, перстни, височные подвески, наперсные гривны, оклады для икон, — приухорошенные всякими кознями, измышлениями и догадками, резко отличались от работы дешевых льятелей серебра и золота. Никто не мог сравниться с ним в искусстве тянуть тонкую, как детский волос, золотую проволоку, свивать ее в безупречно ровный жгут, или (как чаще говорили) в скань, и укладывать эту скань прозрачным, каждый раз новым узором.
Он чуть ли не первый в Суздальской земле научился лить расплавленное золото через мокрую метлу, разбрызгивая на мельчайшие капли, и усаживать этой зернью свое узорочье с такой, как выражались те же книжники, измечтанной красотой, что оно выходило похоже на золотовоздушный цветник, который будто даже чуть колыхался, как тот прозрачный пар, что подрагивает в летние дни над согретыми солнцем полями.
Но князь Андрей, взыскательный и многоопытный ценитель златокузнечного дела (боголюбовское и владимирское узорочье славилось не только на всю Русскую землю, но было известно и за ее пределами — в Булгарии, в Венгрии, в Польше, в Швеции), — князь Андрей Юрьевич особенно ласкал своего рукодельника за его уменье нежно сочетать белое серебро с любимой князем яркой позолотой. По части этого художества московский хитрокознец, успевший к тридцати пяти годам отрастить почти такую же, как у отца, длинную и узкую пламенно-рыжую бороду, не знал соперников.
Нынче ночью, в самую грозу, когда стольник Иван Кучкович с кем-то еще (воротник в потемках не разглядел, с кем) вломился в Москву, прискакал с боярином и его конюх. Он приходился воротнику племянником-братаничем (сыном брата) и ночевал у дяди в избе. Дядя, само собой, накинулся на него с расспросами про рыжебородого дитятю, и боярский конюх, пока обсушивался и ужинал, успел кое-что порассказать.
В Боголюбове, да и во Владимире было, по его словам, много толков про боевой топорик, утворенный недавно сыном воротника для князя. Конюх рассматривал вещицу еще в работе и теперь подробно объяснял старику, как его меньшак насекал стальную щеку топора зубильцем, как обкладывал ее серебром, как старательно вковывал это серебро во все щербинки стали, как резал по серебру узор и как расцвечивал его позолотой. На обушке и на одной стороне лезвия первая буква княжого имени — «аз», и та вырезана не просто, а по-книжному, в образе крылатого змия, прободенного мечом. А на оборотной щеке — раскидистое древо живота, и около него — две райские птицы — два сирина.
Персидский гость, оглядев топорик, всплеснул руками и сказал, что нигде такой красы не видывал. Князь и сам не налюбуется: наградил художника, кроме желтой ящерки, еще гнедым жеребцом из своего табуна.
— Какой такой ящерки? — с недоумением спросил воротник.
Конюх объяснил, что у тамошних кузнецов так зовется самородное, необделанное золото. И добавил, что прежде у князя были в особой чести златокузнецы, которых привели из разгромленного им Киева, а теперь на первом месте — воротников сын.
— Как бы люди не позавидовали, — помотал головой старик.
— Посадские-то кузнецы еще как завидуют! — ответил конюх. — Ящерка-то им, чай, тоже нужна для дела, да щипчиков, да зубилец, да молоточков целый набор. А даром ничего не достанешь. Вот и лезут в долги. А твоему когда что надобно, от князя все получит так. Да еще когда выберет времечко, старается и не на князя: скупщикам сдает, а те развозят куда требуется для продажи. Как ему не завидовать? Бывает, что и до драки дело доходит.
— А дома у него каково?
— С домашними разве только ночью словом перебросится: недосуг. Ведь работает-то не одинком: двое помогают да четверых учит. А за всеми шестью какой нужен пригляд! Хоть он с ними и крутенек (обычай, сам знаешь, у него тяжел), а все норовят понапакостить.
Вот эти-то новые рассказы отец и перебирал сейчас в памяти, сидя ночью на завалинке и обдумывая на все лады, что бы посоветовать сыну. Как бы не растряс накатившего счастья! Да и многодетной сестре — хоть богатый брат ее и не забывает — мог бы почаще пособлять.
Воротник в последний раз видел своего меньшака прошлым летом, когда тот со всем боголюбовским полком шел походом на Киев. Про этот-то второй, неудавшийся киевский поход и говорил со злорадством Иван Кучкович. Андрей собрал тогда огромное войско со всех северорусских княжеств. Боголюбовские пешцы поджидали на Москве дмитровцев, и сын прогостил у отца двое суток. В кругу полковых товарищей, таких же, как он, ремесленников, он выделялся чистотой одежды и шегольством вооружения: ни у кого кожаный щит не был окован так прочно и так легко, никто не мог похвастать такой удобной и так вычурно оправленной боевой рогатиной.
В голове у воротника только стала мерцать какая-то мудрая, как ему сдавалось, мысль насчет советов сыну, когда до его уха донесся странный звук.
Он насторожился, вытянул шею, поднял лицо.
Вот опять что-то. То ли подкова цокнула о камень, то ли ножны меча брякнули о стремя. Где-то еще, в другом конце, будто протопотал табунок лошадей. А тут ближе, за городской стеной, словно шаги и тихие людские голоса.
Что за чудо? И в такой час: чуть взбрезжило.
Теперь уж вполне отчетливо, совсем близко — за воротами напольной, Неждановой башни — коротко, с низкой хрипотцой проржал конь.
Воротник, путаясь в долгополом тулупе, зашагал к боковой дверке башни, где был ход на верхние ее связи. Угодив чоботом в оставшуюся от грозы лужу, старик, пока поднимался ощупью в темноте по сосновым ступенькам, бормотал про себя:
— Держат десятерых сторожей, а все десятеро, взаместо того чтоб стоять по башням да город беречь, стерегут посадничий горох! А ты за них по лестницам лазь день и ночь! Тоже, посадник! Княжое око!..
VI
В узкие прорези дозорных щелей, затянутые кое-где росистой паутиной, сочился рассвет. Полумрак, еще державшийся внутри второй башенной связи, был красноват.
Воротник приложился глазом к одной щели, потом торопливо — к другой, потом еще поспешнее — к третьей, опять к первой и, прилипнув лицом к бревнам, остолбенел.
Было от чего остолбенеть.
Вдоль всей городской стены, куда только хватал стариков глаз — за пышными лопухами сухого рва, по всему обросшему плотным дерном валу, — похаживали где в одиночку, где по двое или по трое какие-то люди. Воротник не сразу разглядел, что у них в руках: в дозорные щели задувало утренним холодом, глаза застилались слезой, и она мешала видеть. Вскоре, однако, старик различил, что все, кто на валу, сильно вооружены. Вглядевшись еще пристальнее, он по поярковым шапкам с косым отворотом, по кожаным щитам узнал, кто они: это были — верить ли глазам? — те самые Андреевы боголюбовские пешцы, что простояли прошлым летом двое суток на Москве!
За валом, у въезда на широкий мост, который был перекинут через ров и вел к воротам, виднелся верховой. Это его-то буланый конек, вероятно, и ржал. Перед верховым, спиной к воротам, стоял, небрежно покачивая ногой, пешец. Они разговаривали вполголоса. Слов было не разобрать. Пешец трепал лошадь по храпу. Она недовольно подергивала головой. И всадник и конь были густо закиданы свежей грязью. Верховой сидел на седле боком, ссутулившись, низко свесив голову, и, лениво отвечая собеседнику, соскабливал что-то ногтем с медной рукояти короткого меча.
"Княжой мечник", — решил старик.
Хоть боголюбовские полчане подступили так бесшумно, что внутри города никто, кроме воротника, ничего не слыхал, однако проезжать им пришлось посадом, и там они, видать, кое-кого всполошили. Со дворов никто не решался выходить, но воротник рассмотрел, что где из окошка избы, где из-за плетня или из-за огородного куста выглядывают заспанные, испуганные лица.
Солнце еще не всходило. Было туманно, но уж почти по-дневному светло. Направо, внизу, у самой реки, обозначались сквозь алевшую мглу очертания нераспряженных пустых телег. На них, очевидно, и пригнали пешцы. Телег было немного. Воротник принялся было их пересчитывать, чтобы узнать, велик ли прибывший отряд, но его отвлек от этого счета приближавшийся конский топот, который ранее послышался ему вдалеке.
Зеленый вал с протоптанной по его гребню извилистой тропкой, сбегая по южному склону Московского холма, становился книзу все выше, затем, не доходя реки, заворачивал вправо и терялся за угловой башней городской стены. Взглянув туда (оттуда и слышался топот), старик заметил, что вдали, за валом, над самой его бровкой, плывут в гору пять человеческих голов. По их скорому, ныряющему движению было ясно, что это верховые и что они приближаются на рысях. Пешцы на валу пооправились, подтянулись и, перестав похаживать, замерли каждый на своем месте.
Воротника разобрала перхота. Когда он кое-как подавил ее и опять припал глазом к щели, конные успели уже подъехать и гремели подковами по горбыльчатому настилу моста.
До них было меньше десяти шагов: он мог разглядеть их в упор.
В глаза кидался передовой. По острому, рубчатому шлему с золотой насечкой, по длинной, мелко завитой кольчуге, по вырезному серебряному знаку, висевшему на груди, по наборной уздечке с бирюзовыми глазками старик догадывался, что это — из всех самый главный: полковой воевода или тысяцкий, должно быть из больших боголюбовских бояр.
Его немолодое смуглое лицо с ярко-седыми прядями в темной лопатке раздвоенной бороды было, как у всех его спутников, охвачено той особенной бледностью, какая бывает только на рассвете, и казалось оттого осунувшимся, утомленным.
Он через плечо негромко говорил что-то другому верховому. Тот внимательно слушал, наклонив широкое лицо, обезображенное поперечным шрамом. Воротник разобрал только последние слова:
— …там и стой.
Человек с шрамом заворотил коня и по лужам, далеко расплескивая грязь, поскакал в сторону Неглинной.
Один из спутников воеводы, поотстав от других, круто обернулся назад и, упершись вытянутой рукой в крестец своего широкозадого холеного гнедого жеребца (воротник приметил этого всадника по странному шлему с загибом внизу в виде кругового козырька), переговаривался с тем конным дружинником, что стоял перед мостом на буланой забрызганной лошадке. Всадник в странном шлеме отнял руку от конской спины, оправил ворот кольчуги и повернул голову: длинное, очень, как у всех, бледное веснушчатое лицо; огненно-рыжая борода до половины груди… Воротник узнал своего меньшака. Блекло-голубые глаза сына беззаботно глядели вверх, на ту самую дозорную щель, откуда наблюдал за ним отец.
Старик оторвался от прорези и, по привычке, прижал ладони к груди. Его сильно пошатывало. Он ничего не понимал.
— О судари-светы! — бормотал он. — Что творят-то!.. Сами с собой деремся!
Вдруг он спохватился, что ведь надо же скорей, со всех ног бежать к посаднику, растолкать его, ежели спит, и сказать обо всем, что видел.
— О судари-батюшки!.. Меньшак!.. В шеломе… да на каком жеребце!..
Спускаясь бочком по крутой лесенке, он слышал, что в ворота гулко стучат чем-то жестким. От этих ударов гудела вся башня.
— Козьмодемьян-угодник!.. Что делать? Отворять?.. А посадник?.. Да своим как не отворить! Ведь свои же — княжие слуги! Вразуми, угодниче!..
В городе царил переполох.
От дома к дому бегали растерянные люди. Огнищанину вывели зачем-то на середину городской площади оседланную рыжую кобылку; он всунул левую ногу в стремя, но молодая кобылка горячилась, вертелась, била задом, и ястребок, прыгая вокруг нее на одной ноге, все не мог вскочить в седло. Встрепанный поп в белом подряснике метался у себя на огороде, распугивая кудахтавших кур, и что-то кричал, размахивая руками, суетившейся на крыльце попадье. Старуха-проскурня поспешно снимала горшки с кольев своего плетня. Жена воротника, ни жива ни мертва, не смея переступить порог, высовывала из дверей избы голову, как мышь из норы. Из-за ее плеча выглядывало вспухшее от сна лицо приезжего конюха.
Ворота посадничьего двора были растворены настежь. Сам старик-посадник, неловко застегивая на ходу красную ферязь[36] (подарок княгини-булгарки), тяжело переваливаясь, как селезень, с одной кривой ноги на другую, торопливо ковылял к городским воротам в сопровождении целой толпы челяди. Завидев воротника, он издали свирепо погрозил ему обоими маленькими, как у ребенка, кулачками.
А полотна ворот скрипели, трещали, дробно колотились о запор под людским натиском, и в них с той стороны все бухали теперь уж во много кулаков, да чей-то голос явственно кричал оттуда:
— Отпирай! Отпирай, тебе говорю княжим именем!
— Отпирай, бородатый леший! — завизжал посадник. — Проспал Москву, старый харкун!
В это самое время взошедшее солнце, прорвав туман, кинуло в город первые багряные лучи. Зардели густые вершины сосен. Загорелись золотом церковные кресты. Сверкнуло слюдяное оконце в избе у пономаря. Седые от густой росы островки дворовой травы заискрились смарагдами и алмазами. Длинная тень боярской вышки протянулась поперек всей площади и ушла концом в темную толчею стволов векового бора.
А в ясном небе, забирая все выше и выше, плескались чуть порумяненные солнышком белые голуби.
VII
Кучковна сама отперла дверь.
На ее крыльце толпилось много народу.
Пока отводила дверную створку, успела увидать красную полу посадничьей ферязи. Кто-то рыжебородый с длинным веснушчатым, знакомым как будто лицом попятился, дверь распахнулась.
Перед Кучковной стоял рослый, плотный человек в богатом боевом доспехе. Она не решалась поднять глаза и заметила сперва только длинную дорогую, мелко завитую кольчугу, вырезной серебряный княжеский знак на высокой груди (такой же знак на такой же шейной цепочке носили ее братья Яким и Иван) да большую смуглую руку с тяжелым золотым перстнем.
Потом вскинула ресницы…
Из-под низко надвинутого на брови острого, рубчатого шлема на нее глядело немолодое усталое лицо. Рука с перстнем теребила угол темной раздвоенной бородки, прохваченной ярко-седыми прядями.
Она узнала его не сразу. Только встретившись с ним глазами, поняла, что это Прокопий, бывший вышгородский полонянник, когда-то жалкий кощей, над которым смеялись владимирские девушки, а теперь первый княжеский милостник, Андреева правая рука, — да, сомнений нет! — тот самый Прокопий, что приезжал к ней двенадцать лет назад Андреевым послом.
Не сводя с нее внимательных глаз, он негромко произнес только одно слово:
— Где?
Она молчала.
Выждав немного, он проговорил все так же тихо:
— Молчишь?
— Чего молчишь? — взвизгнул посадник. — Отвечай: где княжой стольник?
Прокопий поднял темную бровь и оглянулся через плечо. Его смуглое лицо передернулось мужеской брезгливостью. Он, не повышая голоса, сказал посаднику:
— Тебя кто звал? Ступай к себе.
Часто моргая, точно от слишком резкого света, посадник глядел на Прокопия с недоумением и испугом. Спросонок, впопыхах, идучи к воротам, он невзначай вдел одну пуговицу в две плетеные петли, и оттого красная ферязь смешно топорщилась у него на животе.
— Ступай. Чего стоишь? Наведаемся и к тебе.
Посадник, растерянно облизнув губы, высунул было длинный желтый зуб, желая что-то сказать, но ничего не сказал, развел руками, повернулся и, тяжело перекачиваясь с одной ноги на другую, стал спускаться с крыльца. По знаку Прокопия три пешца пошли за ним.
Когда люди на крыльце расступились, давая им дорогу, Кучковна заметила, что ее ворота заперты наглухо и около них — сильная стража. Посреди двора стояла запряженная четверней порожняя повозка брата Ивана. На ее колесе сидел Иванов конюх. Держа руки за спиной, завалив набок простоволосую голову, он тер ухо о плечо. По положению этого плеча Кучковна поняла, что руки у него связаны. Его стерегли оба боголюбовца.
— Что ж, боярыня, — выговорил со вздохом Прокопий, — молчишь, так и молчи. Обойдемся и без твоих слов: разыщем. Уйти ему некуда: и город и твой двор кругом оцеплены. Поди покамест к себе наверх, да возьми к себе дочь со внучонком, чтобы их кто часом не испугал (он очень мягко, по-киевски, произнес это слово). А за свое добро не бойся: никто ничего пальцем не ворохнет — народ верный.
VIII
Когда за полчаса перед тем Кучковна вбежала в глухую клеть, Иван долго не мог очнуться. Сидел на медвежьем меху вскосмаченный, не разлепляя глаз, покачивался спереду назад, скреб себе живот и бессмысленно твердил хриплым голосом:
— Чего?.. Тревога?.. Чего?..
Потом вдруг вскочил на ноги, побагровел, выкатил кровяные глаза, кинул несколько вопросов:
— Тревога?.. Кто? Пешцы?.. Много? Где?
Стал было хватать в полупотемках раскиданную одежу, тряхнул головой, швырнул все, что собрал, в угол, на кучу стремян, и как был, босой, в одном исподнем, оттолкнув сестру, выскочил в дверь.
В верхних больших сенях, где Петр Замятнич поил, бывало, греческим вином самых почетных гостей, окна были прорублены на две стороны: одни глядели на двор, другие — в сад и на реку. Иван бросился к первым.
Посреди еще затененного домом росистого двора стояла его распряженная повозка. Куры клевали между колесами просыпанный овес. Две сенные девушки, перебивая одна другую (это было видно по их ртам), говорили что-то Петрову скотнику, показывая рукой то на повозку, то на дом. Третья, с длинной черной косой, приотворив воротную калитку, выглядывала наружу. Она, не оборачиваясь, поманила к себе рукой тех двух, что говорили со скотником. Обе мигом подбежали к ней: одна, поднявшись на носки, налегла грудью ей на спину, другая присела на корточки, и все трое застыли в созерцании того, что происходило за калиткой, на городской площади, и чего Иван из окна не видел. Скотник подошел к Ивановой повозке, потыкал зачем-то лаптем в облепленную сухой грязью ступицу заднего колеса, потрогал головку шкворня и пошел к сеннику, поглядывая недружелюбно на боярский дом.
Кучкович перебежал к садовым окнам.
Яблони, густо окиданные зелеными шариками неспелых плодов, радостно поигрывали на солнце мокрым листом. Промеж их обмазанных глиной стволов было тенисто и пустынно.
Слева, между садом и посадничьим тыном, виднелось прясло городской стены. На ее дранковой кровле (там, где Кучковне примерещилась на рассвете чья-то голова) сидел, удобно подобрав ноги, безусый парень в поярковой шапке с косым отворотом. За поясом у него был легкий боевой топорик. На блестевшей от солнца дранке лежал деревянный исподом вверх окованный железом щит, а рядом — копье.
Иван сбежал с лестницы и уже схватился было за скобу двери, которая вела на двор, когда увидел сбоку другую, узкую дверцу. Он с трудом откинул приржавевший к петле крюк и вломился в темный чулан. В нос ударило сладким запахом сухой малины.
Босая нога со всего маху ткнулась большим пальцем во что-то жесткое. Иван, крякнув от боли, нагнулся, нащупал вбитое в пол железное кольцо (об него и ссадил ногу в кровь), стал на колени и, обшарив пол, сообразил, что кольцо вбито в западню над лазом в подполье. По осклизлой лесенке он спустился туда, на холодный земляной пол.
Он долго провозился с западней, укладывая ее снизу на прежнее место. Дрожащие руки не слушались. В глаза валился сор.
Подполье было низкое: спины не разогнешь. Пахло плесенью. Мрак был еще непрогляднее, чем в чулане. Кучкович водил пальцами по обросшим грибами бревнам и, нагнувшись, медленно шел куда-то в темноту.
Вдруг в доме, над его головой, кто-то пробежал. Было слышно, как под живым грузом гнутся и трещат половицы.
Иван рванулся вперед и с такой силой хватился лбом о сырую матицу, что едва не упал без памяти навзничь. В глазах пошли разноцветные круги, а во рту стало так, точно нажевался мокрого сукна.
Очухавшись немного, он заметил, что откуда-то справа пробивался слабый свет. Кучкович шагнул туда и добрался ощупью до низкой дверки в другую, полуосвещенную подклеть.
Здесь неровный земляной пол был выше, и приходилось двигаться на четвереньках. Обогнув какие-то столбы, зашитые досками наподобие амбарного сусека, Иван дополз до еще одной дверки. Она вела в подвал, озаренный зеленоватый светом. Свет шел из открытой отдушины.
Перед отдушиной раскинулся смородиновый куст, весь в пронизанных солнцем молодых, сильных побегах и в кистях еще зеленых ягод. В углу подвала были свалены в кучу остатки прошлогодней, проросшей репы. От нее несло холодной гнилью. Этот запах мешался с теплым луговым, медовым духом, который врывался с воли.
Над Ивановой головой пробежало опять двое или трое людей. С потолка посыпался песок.
"Подпол обыщут всего раньше", — подумал вдруг Кучкович.
У него так затряслось колено, что он привалился плечом к стене. Потом осторожно высунул голову в отдушину. Отдушина глядела в ягодник. Перед ней вдоль дома тянулась в траве выбитая каплями с крыши узкая бороздка голой, щербатой земли, скипевшейся с мелкими камушками. Место было глухое. Правый край ягодника спускался крутыми уступами к городской стене, которую заслоняла в этом месте поеденная гусеницей, но все же густая черемуха. Еще правее, очень близко, почти сразу за смородиновым кустом, была видна подошва вбитого в землю толстого, оплетенного хмелем столба. Это была одна из свай того самого набережного рундука, на котором Кучковна беседовала вчера с посадницей.
Иван огляделся еще раз и стал с трудом протискиваться в тесную отдушину. Он чувствовал, как на груди дерется обо что-то его шелковая пропотевшая сорочка.
IX
Шаги, шаги, шаги…
Весь дом содрогался от многоногого тяжелого топота чужих суетливых шагов, гудел чужими, грубыми голосами. Это был уже не свой дом.
Дочь Гаша кормила гороховым киселем кудрявого сынка. Мальчик упрямо отводил рот от плошки, хныкал и просился в сад. Мать не пускала. Он скучал в чистой бабкиной келье. У него были шершавые яблочные щеки, а на переносье сквозила, как когда-то у Гаши и у Груни, поперечная голубая жилка. Гашины губы вспухли от плача. Она по временам вскидывала на Кучковну глаза, которые все выслезила плачучи, и спрашивала тихим, жалостным голосом:
— Мамонька, что ж будет-то?
— Где угадать? — отвечала боярыня.
К ним наверх не заходил никто. Про них будто забыли.
Кучковна глядела на дочь. Гаша и заплаканная была хороша. Мать ласково провела рукой по ее белой теплой шее.
Когда несколько лет назад (это было незадолго до Гашиного вдовства) на Москве дневало фряжское великое посольство и Петр Замятнич, высланный князем навстречу, потчевал у себя в доме послов, то самый из них первый, старик, весь с головы до ног в красном шумливом шелку — толковали, что он у них больше архиерея, — как увидал Гашу, тогда еще веселую молодицу, так, покуда не ушел, не мог отвести от нее черных печальных глаз. Молчал, смотрел и, словно чему-то дивясь или о чем-то жалея, покачивал седой, странно подбритой головой. А когда посольский поезд уж трогался во Владимир, он, завидев Гашу на дворе, остановил возок и подарил ей на память крест из слоновой кости, фряжский, о четырех концах, с литым серебряным распятием, и четки со своей руки из сине-алого прозрачного камня.
Гаша была чем-то похожа на мать; люди говорили — улыбкой. Только выше ростом, шире в плечах, белее и пышней. И взгляд не тот.
Косое солнце било в окошко. На стенных, ровно отесанных, гладко оскобленных венцах оно румянило прожилки извилистых сосновых слоев, глубже оттеняло глазастые сучки и теплилось желтыми огоньками в проступавших кое-где росинках смолы. Какой жестокой казалась Кучковне эта спокойная веселость летнего утра!
"Где Иван? — думала она. — Вырвался ли из города? Или тут схоронился? Что сделают с ним, если найдут? Какая его крамола, что погнали за ним такую силу? Что будет с Петром? Дознаются ли, что здесь побывал ночью суздальский сват?"
Даже задавать себе эти вопросы было страшно, а ответов не было ни на один.
Но с этих черных дум она то и дело соскальзывала на другие, от которых, сколько себя ни корила, не могла отбиться.
Постаревшее лицо Прокопия, его внимательный взгляд, его негромкий голос… Ей показалось там, на крыльце, когда впускала его в дом, будто ему нужно сказать ей такое, чего нельзя говорить на людях.
А что говорить? Все сказано двенадцать лет назад.
Тогда у него еще не было седых прядей в бороде и набухших кошелей под глазами. Да ведь и она была не та.
Она опять взглянула украдкой на дочь, на внука. Жаркий румянец стыда за нахлынувшие так не вовремя грешные, как ей казалось, воспоминания разлился по ее исхудалому лицу.
Кажется, все давным-давно забыто, схоронено. Так нет же, видать, только сверху понаструпела старая рана, а снизу не поджила!
Кучковна хорошо помнила, как смущался тогда, двенадцать лет назад, Прокопий, передавая ей Андреевы слова. Он все запинался и поправлялся, стараясь пересказать эти слова точно так, как говорил князь.
Князь Андрей Юрьевич в ту пору велел передать Кучковой дочери, что с княгиней Ульяной, с булгаркой, ему, князю, все равно не жить. Княгиня ему во всех делах помеха: чужая кровь. За ее спину прячутся все Андреевы враги — бояре. Князь проводит княгиню назад к отцу, к своему тестю. Тесть, дряхлый булгарский царь (он был еще жив), перечить не станет, когда получит княжеские подарки. Прокопий зачем-то подробно объяснял Кучковне, какие будут подарки: они уж отобрали их вдвоем с князем.
— А тебя, боярыня, — продолжал Прокопий, — князь возьмет себе в княгини.
Судя по тому, как он — просто и без запинки — произнес своим мягким киевским говорком эти слова (а в них-то и была цель тогдашнего Прокопьева посольства), видно было, что это дело крепко-накрепко решенное и что возражений от нее не ждут.
— Меня?! А Петр?
Прокопий пробежал глазами по половицам, помял пояс и сказал очень тихо:
— Князь порадеет и о Петре.
— О Петре не князю радеть, а мне. Петр мне муж.
— Князь Андрей Юрьевич судит так, — ответил Прокопий: — пускай Петр сам выбирает. Петру два пути: то ли в Булгар, за княгиней, то ли в монастырь. Князь Петра губить не хочет и в монастыре не забудет: выведет в игумены, а ежели Петр окажет себя не злым, так и в архиереи.
— А закон? А грех? — твердо выговорила Кучковна.
— Княжая воля — тот же закон, — сказал Прокопий. — Князь все берет на себя. А на тебе греха не бывало и не будет.
Прокопий в детские годы учился недолго грамоте у печерских монахов и любил вставлять в свою речь, не всегда кстати, книжные слова. Видя отпор на лице боярыни, он, чтобы смягчить ее, пролепетал, робея, очень нежно:
— Сад присноцветущ, добродетелей плоды приносяй.
Таких слов князь не поручал ему говорить.
Кучковна долго молчала потупившись. Потом произнесла спокойно:
— Скажи князю: лучше в порубе иссохну, лучше в Москву-реку кинусь, а против закона не пойду. Из чужой слезы не вырастишь себе радости. В чем грешна и в чем не грешна, про то мне одной знать да моему духовнику, а тебе что ведомо? За старый грех отвечу (при слове "старый грех" Прокопий изумленно взглянул на боярыню), а нового греха на себя не приму.
С тем и уехал тогда Прокопий. И больше о том не было речи ни с ним, ни с князем, ни с кем за все минувшие с тех пор двенадцать лет.
Что же хочет сказать ей теперь, когда пролетевшие одинокие годы давно обили, как ветром, ее былой цвет?
"А Груня чего не едет? — подумала вдруг Кучковна, и от этой мысли сердце у нее точно коробом повело. — Уж не попала ли в беду дорогой? Чай, весь путь заставами перегорожен…"
В это время за дверьми раздались неуверенные мужские шаги, и голос Прокопия проговорил негромко:
— Внучонка-то не разбужу, боярыня?
В саду кто-то глухо вскрикнул. Кучковна, подбегая к двери, взглянула в окно: у дома не было заметно никакого движения.
А вдали, на сверкающей солнцем реке, весь в лучах счастливого утра, шел к тому берегу, накренясь набок, паром, набитый пестро одетой челядью. Над людскими головами торчали чьи-то трехрогие вилы. Красная рубаха вчерашнего стогомета горела на солнце жгучим пятнышком.
На Руси занимался новый страдный день.
Прокопий, остановившись на пороге, загородил своим большим телом всю дверь. Его высокая лысина была светлее лица, которое без шлема казалось некрасивее, но добрее и умнее. Он снял доспех и был в простой дорожной одежде. Только серебряный знак, висевший на груди, выдавал его высокий сан.
— Одно у тебя спрошу, боярыня, — сказал он, — и ты мне ответь правду.
Он опять очень пристально посмотрел ей в самые глаза и спросил:
— У тебя в покоях его нет?
— Нет, — ответила Кучковна.
Прокопий мотнул лысиной в знак того, что верит ее словам. Повернулся было уходить, но остановился. Задумчиво постучал золотым перстнем по дверному косяку, посмотрел на нее исподлобья и спросил еще, будто стесняясь своего вопроса:
— И где он, не знаешь?
— Не знаю.
Он опять тряхнул лысиной, выражая доверие. Пожал плечом. Поднял брови. Повел рукой, пошевелил пальцами. Вздохнул и медленно пошел прочь.
И снова Кучковне почудилось, будто хочет сказать что-то еще, но не говорит.
X
С того времени, как боголюбовские пешцы вступили в московский дом боярина Петра Замятнича, прошло уже более трех часов.
Дом был обыскан весь — клеть за клетью, чулан за чуланом. Обшарили весь подпол, облазили все подкровелье. Открыли все сундуки и лари, заглянули под все лавки. Выбрали из сенника, перетряхнули и сметали назад все сено и всю солому. Наведались во все житные ямы. Перещупали рогатинами все зерно и всю муку.
Точно так же перебрали все и у посадника.
Опросили всех боярских и посадских дворовых слуг, воротников, даже зачем-то попа и пономаря, а Иванова конюха и пытали.
Народу у Прокопия было довольно, и под его степенным надзором все делалось истово.
Однако стольника Ивана Кучковича так и не могли отыскать.
Нашли только в глухой клети сбитую им во сне медвежью шкуру, его бесценную соболью шапку, которой завидовал весь Владимир; задеревенелый от сушки охабень; еще сыроватые, грязные, подкованные серебром сапоги; даренную князем саблю; широкий, шитый золотом пояс; красные, прорванные на пятках чулки…
А самого не оказывалось нигде.
Город, боярский и посадничий дворы были по-прежнему оцеплены пешцами. Никого не впускали и не выпускали. Верховой со шрамом поперек лица стерег снаружи Боровицкие ворота, а другой верховой, на буланом забрызганном коньке, не отлучался от Напольных.
Сам Прокопий несколько раз ездил вокруг всего города, проверяя, не дремлют ли его люди. Никто не дремал.
Тем временем и посад и город оправились мало-помалу от первого испуга. Жизнь брала свое, пробиваясь сквозь страх. Осторожно поднимал голову московский будень.
К Прокопию приходил огнищанин и просил дозволения выпустить на луга городское стадо и свой конский табун. Посадские женщины потянулись с коромыслами к реке и, встречаясь одна с другой, стоялись подолгу, толкуя о ночных событиях. На плетне у проскурни опять появились опрокинутые горшки. На церковном дворе вдовый пономарь старательно чистил закапанный воском свечной ставник, перешучиваясь с глядевшей в окно толстой смешливой дьяконицей. Долгобородый воротник подметал у себя перед избой площадку, отдыхал, опершись обеими руками на помелище, и все поглядывал в сторону боярского двора — не покажется ли его меньшак.
Успели попривыкнуть даже и к пешцам на валу, даже и к страже у посадничьих и боярских ворот. Белоголовые посадские ребятишки обступили боголюбовцев и разиня рот разглядывали их щиты и копья.
Младшая поповна, из всех четырех самая шустрая и приглядная, придумывала все новые поводы, чтобы, треща откидными рукавами новой полосатой телогреи, деловито пробежать туда и назад вдоль посадничьего тына, у которого стоял курчавый пешец с прищуренными, смеющимися, красивыми глазами.
Прокопий прохаживался взад и вперед по Петровым верхним сеням. Время от времени он подходил то к садовым, то к дворовым окнам, останавливался, зевал, тяжело вздыхал, а иногда и охал:
— Хо-хо-хо…
Он любил и умел бодро и захватисто начинать большие, трудные дела, но не любил и не умел их кончать. "Киевские дрожжи", — насмешливо говорил про своего милостника князь Андрей Юрьевич. Если удача не давалась в руки сразу, Прокопий ударялся в уныние, принимался скучать, во всем сомневаться и думал только о том, как бы поскорее свалить с плеч надоевшую обузу.
Так было и сейчас. Шаги в доме позатихли. Голоса не гудели, как давеча. Прокопий видел, что от него ждут новых приказов, а что приказывать, он не знал.
"И зачем поднимать эдакий всполох из-за трех человек? — досадливо размышлял он. — Поговорить бы с ними ладком — смотришь, и сыскали бы меж себя в сердцах правду. Уж до того ли опасны, чтоб из-за них троих отрывать от ремесла три сотни добрых рукодельников? Вот такой, к примеру, художник, — подумал он, глядя на вошедшего в сени рыжебородого меньшака, — прогуляет зря четверо-пятеро суток — сколько убытку!"
Меньшак, которого Прокопий оставил при себе для посылок, пришел сказать, что огнищанин спрашивает, где Прокопию угодно позавтракать: сюда ли подать или пожалует к нему, к огнищанину, в дом?
Прокопий распорядился подать сюда и, предвкушая лакомую еду, к которой был неравнодушен, провожал повеселевшими глазами длинную спину уходящего меньшака.
"Ну и тощой! — думал он, оглядывая его лопатки и плечи. — Кости — что крючья: хоть хомуты вешай".
— Постой! — крикнул он вдруг, когда меньшак уж затворял за собою дверь.
Тот воротился и выжидательно встал у порога.
— Чего мне сейчас вспомнилось, — заговорил Прокопий, очень внимательно, по своему обычаю, вглядываясь в крупные веснушки меньшака. — Когда позапрошлого года осенью на булгар вторицей шли и у князя на ночлеге, перед волжской переправой, Борисов меч украли, не ты ль его отыскал?
— Я.
Прокопий, поглаживая лысину, опять всмотрелся в веснушки.
— А у кого нашел?
— У кузнеца у владимирского, у Нелюба.
— А чей был кузнец?
— Боярский.
— Слыхать, другие-то боярские кузнецы хорошо тебя за то отблагодарили?
Меньшак ничего не ответил, только пожал плечами и посмотрел куда-то в сторону.
Украденный меч был заветным княжеским оружием: он, по преданию, принадлежал когда-то князю Борису, убитому без малого двести лет назад и объявленному святым. Андрей никогда не расставался с этим мечом.
Когда вор был найден меньшаком и затем жестоко затерзан и казнен, кузнецы владимирских бояр, ненавидевшие княжеских кузнецов за их льготы, избили меньшака так, что полгода потом он не слезал с печи и стал с тех пор плевать кровью.
Об этом-то и напомнили Прокопию меньшаковы острые лопатки.
— А как искал вора? — спросил Прокопий.
Меньшак опять пожал плечами. В его глазах мелькнула бледная усмешка.
— Как искал? — повторил он. — Ходил. Смотрел. Смекал.
Прокопий прошелся по сеням, постоял у окна, поглядел, как пляшут на реке солнечные гвоздики, и сказал, не оборачиваясь к хитрокузнецу:
— Стольник, видать, из Москвы утек. А?
— Может, и утек.
— Пора бы нам и домой. Как скажешь?
— Твоя воля.
— А все надо бы перед князем совесть очистить. Пока завтракать буду, не обойти ли вам еще разок, наскоре, здешний двор? Как думаешь?
— Отчего не обойти?
— Ты сам-то ходил, искал?
— Ты мне приказал на крыльце быть, так куда ж мне было ходить?
— А сейчас сходишь?
— Могу и сходить.
— Так сходи, пожалуй. А то, может, и ни к чему?
— Твоя воля, — повторил меньшак.
Прокопий опять подошел к садовому окну. За рекой, на Великом лугу, ворочали княжеское, смокшее за ночь сено. Он сказал, подавляя зевок:
— Ладно уж, сходи. Только не больно мешкай. А завтрак пускай несут.
Меньшак отворил дверь и занес ногу за порог.
— Постой, постой! — опять окликнул его Прокопий. — Поди поближе. — Он понизил голос: — Что я тебе в Боголюбове, как выезжали, дал, ты где бережешь?
Хитрокознец не сразу понял, о чем речь. Смотрел на Прокопия, хлопая в недоумении белыми ресницами, потом догадался и спросил.
— Это мою-то утварь?
Прокопий утвердительно кивнул головой.
— В седле, в потайном кармане, — сказал меньшак.
— А на скачке-то, в пути, не помял?
— Свое неужто помну?
— А из седла никто не вынет?
Меньшак в ответ только рукой махнул и опять бледно усмехнулся одними глазами.
— Так ступай посмотри, что ли, кое-где в дому да кое-где в саду, — сказал Прокопий. — Смекни. — Он лукаво улыбнулся: — Когда и Кузьмодемьян-угодник помощи не подаст, тогда можно и домой. А?
Он любил пошутить. Ему очень хотелось домой.
Дома ждало чтение. Когда Андреево войско громило без жалости Киев, Прокопий спасал где мог древние книги. Он вывез их оттуда множество. За их медленным, умиленным разбором (он был не из бойких чтецов) проходили все досужие часы. С ним читывал и Андрей.
XI
Меньшак начал с того, что вышел за ворота Петрова двора на площадь и, не обращая внимания на знаки манившего его к себе издали отца, кликнул того курчавого пешца, который так приглянулся младшей поповне. Это был его ученик по златокузнецкому делу. К посадничьему тыну поставили на стражу другого.
Учитель с учеником прошагали не торопясь в боярский дом. Красивые глаза парня теперь уж не щурились, а пристально и не без страха следили за медленными и точными движениями рыжебородого хозяина.
Они прошли первым делом в глухую клеть, где подробно переглядели и перещупали все брошенные Иваном пожитки.
— Перебери пальцами подбой, — приказывал меньшак, протягивая ученику охабень Кучковича, подшитый желтой крашениной. — Вынь саблю. Тряхни ножны… Ничего не вытряс? Дай-ка я сам потрясу. Перекидай в углу стремена.
Перед тем как выйти из глухой клети, меньшак постоял на пороге, окидывая еще раз беглым взглядом пересмотренные вещи, подергивая огненные волоски длинной бороды, что-то, видать, запоминая и соображая.
Затем стали бродить по дому.
Ходили не скоро, словно гуляючи, и останавливались там, где другому и в голову бы не пришло смотреть. В верхних сенях, например, где не было ничего, кроме лавок да столов, за одним из которых осанисто и усердно завтракал Прокопий, задержались довольно долго: проверяли вдвоем все оконницы, одну за другой. Боярин Петр Замятнич гордился этими оконницами. Это были толстые доски, в которых выпилили неровные круглые отверстия, а в отверстия вставили мутноватые стекла с радужным отливом. Таких стеклянных окон не было даже в соседних, княжеских хоромах.
Прокопий, не переставая жевать, отставляя одну миску и принимаясь за другую, поглядывал на меньшака потускневшим от сытости, равнодушно-снисходительным глазом, будто говорил про себя:
"Что ж, делай по-своему, раз тебе охота, на то ты и хитрец; мешать не стану, однако толка от твоих стараний не жду".
Когда спустились с лестницы к наружным дверям и хотели, не выходя на крыльцо, взять вправо, чтобы попасть в подлестничную клеть, где сидели сенные девушки, меньшак остановился вдруг около боковой узенькой дверки в чулан и погрузился в размышления. Долго вертел пальцем туда и сюда скинутый с петли дверной крюк, нагибался (он был очень близорук), рассматривал со всех сторон и даже неприметно лизнул ржавчину на бородке крюка, потом, многозначительно взглянув на ученика, молча показал ему, какими разными полосами лежит ржавчина: где осталась цела, а где содралась, обнажив черное, местами блестящее лицо железа.
Он заставил кудрявого парня запалить лучину и, войдя в чулан, где пахло сухой малиной, внимательно оглядел западню, вбитое в нее железное кольцо, пазы, куда она ложилась, и ступеньки осклизлой лесенки, что спускались в подпол.
На самой западне — около кольца, вокруг западни — на полу чулана и на ступеньках был приметен очень небольшой, уже подсохший, но свежий кровяной следок, в разных местах одинаковый, только по-разному повернутый — где так, где эдак; и оттиснулся тоже по-разному — где поярче, где побледнее.
Дошла очередь и до самого подпола. Там провели больше часа.
Прокопий кончил завтракать. Узнав, что хитрокознец еще не вернулся с обхода, он не очень огорчился. Его тянуло ко сну. Он тут же, в сенях, залез на лежанку.
"Хороша у Кучковны дочка, — думал он засыпая: — бела, дородна, тонкоброва. Однако мать прежде-то куда лучше была. Да и сейчас хоть икону с нее пиши… Говорит: в седле, в потайном кармане… Ох, не помял ли!.."
В подполе жгли лучину за лучиной, ходили, ползали, шарили. Долго провозились около столбов, зашитых досками наподобие сусека. Доски отнимали. Там оказалось пустое подпечье, где нашли только заросшую старой пылью ломаную прялку, разбитую, тоже густо запыленную глиняную свистульку да костяной остов дохлой крысы.
Перебрали, распугивая пауков и мокриц, кучу проросшей репы.
Подошли и к отдушине.
Меньшак, как только подступил к ней, сразу впился близорукими глазами в ее нижнюю, местами подгнившую колоду. По вытеске в ее наружном краю было видно, что на зиму отдушину закрывают снаружи ставнем. Торчал и согнутый гвоздь, которым убранный на лето ставень закрепляли снизу, чтобы не отходил от колоды.
Меньшак согнулся в три погибели. Пламенная борода мела занозистый срез дерева.
Под широкой головкой кованого гвоздя, зацепившись о ее неровную, острую кромку, мотался на оконном сквозняке какой-то крохотный белый лоскут.
Веснушчатые пальцы, необыкновенно тонкие, длинные, проворные и дружные, осторожно сняли лоскут с гвоздя, положили его на ладонь и бережно разгладили.
Это был местами размахрившийся по ниткам, очень маленький обрывок плотной, дорогой шелковой ткани.
Меньшак поднес его к самым глазам, потом к носу и, принюхиваясь к тряпице, как к цветку, взглянул на ученика с неясной улыбкой. Затем протянул ему ладонь с ветошкой и сказал:
— Нюхни. Чуешь?
Ученик ничего не почуял, но из уважения к хозяину закивал головой и тоже улыбнулся, хоть и не понимая чему.
— Небось, не чуешь! — презрительно выговорил бородач. — Свежим человечьим потом отдает, вот чем. Учись!
Он просунул голову в отдушину и оглядел смородиновый куст, который теперь приходился в тени. Два молодых побега были сломлены. Листья на них чуть повяли, но еще не свернулись. На лысой бороздке, пробитой каплями с крыши, лежала кисть раздавленных зеленых ягод.
Меньшак выпрямился и сказал:
— Тут, в подвале, больше делать нечего. Зверь на волю вышел. Идем в сад.
XII
Кто посмотрел бы со стороны, как этот долговязый, нескладный человек (он, как и Прокопий, был теперь без доспеха, в болтавшемся на острых костях холщовом подброннике) медленно ходит по рядам ягодных кустов, как смотрит, будто грибовник, себе под ноги, то и дело нагибается, ворошит ветки, опускается на колени, а то и на четвереньки, опять поднимается во весь рост, останавливается, озирается, прислушивается и снова принимается перебирать куст за кустом, — кто посмотрел бы на него, не зная, в чем дело, тот, верно, принял бы его за полоумного.
То же самое проделывал и ученик в других рядах кустов.
На это ушел еще час.
А Прокопий все спал и всхрапывал временами так громко, на весь дом, что внучок Кучковны, томившийся в бабкином терему, принимал этот храп за волчий вой и жался испуганно к матери.
Меньшак вышел из ягодника хмурый, озабоченный, вернулся к отдушине, посмотрел, словно с недоверием, на колоду, на кривой гвоздь, на раздавленные ягоды, прошелся по выбитой каплями бороздке, понуро добрел до оплетенной хмелем сваи, просунул пальцы под колкую лозу, рассеянно погладил проточенную кое-где червем, нагретую солнцем округлость столба и, прислонясь к нему плечом, задумался.
Над ним, на уровне второй домовой связи, уходил вправо широкий помост набережного рундука. Солнце пробивалось во все щели между половицами помоста, рассекало воздушную тень ровными косыми завесами, где плавала золотая пыль, и ложилось частыми, яркими полосами на голую землю у подошвы свай.
Спуск с рундука в сад шел тремя всходами, по двенадцати ступенек в каждом.
Под помост и под всходы рундука было убрано от дождя всякое садовницкое добро: лопаты с присохшей землей, грабли, мотыги, тачка об одном колесе, грохот. Здесь же была составлена и свалена в беспорядке и другая хозяйственная снасть: пустая кадь с соскочившим обручем, с двумя ввалившимися внутрь ладами; стремянка; тот самый дощатый ставень, которым закрывали на зиму подвальную отдушину; разбитый скворечник. Около кучи красной глины стояло творило, где разводили глину водой, когда мазали Яблоновые стволы.
В глубине, под площадкой между вторым и нижним всходами на рундук, куда солнце не хватало, были протянуты от сваи к свае веревки, и на них четырьмя сплошными ярусами обвядали заготовленные на зиму березовые веники. Заслоненные переливчатыми солнечными завесами, они были едва видны.
Здесь еще до меньшака все было особенно старательно обыскано пешцами. Да и сам он пересмотрел тут все до последней мелочи вдвоем с учеником, перед тем как идти в ягодник.
Блекло-голубые глаза, затуманенные ушедшей в себя мыслью, будто ничего не видя, переходили с тачки на разбитый скворечник, со скворечника — на лежавшую боком стремянку, со стремянки — на слипшиеся после ночной грозы красные комья глины.
Ученик, сняв колпак, сбивал с него ногтем гусеницу, которая пристала к поярку, когда парень лазил по корням росшей у городской стены черемухи.
Меньшак прокашлялся, по-отцовски прижав бороду к груди, сплюнул, нехотя оторвал плечо от сваи, подошел, волоча ноги, к кади, заглянул в ее пустое нутро и опять остановился в нерешительности.
В тесном пространстве между кучей глины и творилом осталась от грозы мутная лужа. Она успела уже пообмелеть и оголила лоснящуюся, красноватую гладь своих пологих бережков, обведенных в несколько колец тонким кружевцем высохшей пены.
Блеклые глаза вдруг засветились и сузились. Меньшак скакнул к творилу, согнулся крючком и замер: в вязкую глиняную поливу глубоко вмазался след босой мужской ноги.
Все княжеские пешцы были хорошо обуты. Боярскую дворню сюда не пускали. Златокузнец вспомнил скинутые в глухой клети сапоги, чулки… Это мог быть только он, стольник Кучкович! Мельшак, не веря глазам, стал на колени и припал к луже так низко, что конец бороды окунулся в воду. В глубине ножного отпечатка, там, где оттиснулась мякоть большого пальца, был едва приметен узенький кровяной следок. Под рундуком опять закипела работа.
Повалили набок пустую кадь, которая оттого вся рассыпалась; ее тяжелое дубовое днище, откатившись в сторону, загромыхало по лопатам. Тачку опрокинули вверх колесом. Выбросили прочь стремянку. Перевернули грохот. Сам меньшак переворошил своими руками все веники. Все понапрасну.
Редкие волосы хитрокознеца липли к потному лбу. Глаза ввалились. Впалые щеки точно крапивой обожгло.
— Он здесь! — скрипел он зубами. — Больше ему негде быть!
Схватились один за лопату, другой за мотыгу. Пытали землю — нет ли где зарытого хода. Опять впустую.
Приставляли стремянку к сваям и переглядывали все пазухи между настилом рундука и матицами. Будь Кучков сын даже вдвое тощее меньшака, он и то не мог бы втиснуться ни в одну из этих пазух. Оба, и учитель и ученик, понимали это, а все-таки лазили.
Не нашли, конечно, и тут ничего, кроме осиных гнезд.
Меньшак вымещал досаду на ученике:
— Не мотайся под ногами!.. Куда суешь клешни?.. Попяться, телепень, — сам полезу…
Бородач поднялся на вторую грядку стремянки, чтобы посмотреть, нет ли щели там, где помост рундука врезан в домовую стену, перебрал пальцами, чтобы взойти на третью грядку, потом вдруг раскрыл рот, захлопал белыми ресницами, смял усы и бороду в кулак, пробормотал еле слышно: "Елова моя голова!.." и, взмахнув обеими руками, как крыльями, легко соскочил наземь.
Ученик, очумелый от окриков хозяина, совсем растерялся, когда тот, забыв усталость, перепрыгивая с мальчишеской ловкостью через раскиданную под рундуком всячину, бросился к висевшим на веревках веникам.
Меньшак сунулся в них лицом, сунулся в другом месте, еще раз подбежал к творилу, всмотрелся в найденный давеча след и проговорил быстро:
— Туда и показывает…
И, вернувшись к веникам, приказал парню:
— Режь веревки!
Все четыре яруса сухих веников упали один за другим с громким шелестом, открыв за собой невысокую переборку из стоячих досок.
Такими досками был забран с трех сторон весь простор под нижним всходом на рундук. Переборки были скрыты с двух боков рослой, густой крапивой, спереди — вениками.
Дощатая стенка, завешанная вениками, таилась в тени, но меньшак, пока искал под рундуком, натыкался на нее уж много раз руками и глазами. Однако же мысль о том, что за этой переборкой может быть что-то, — эта простая и естественная мысль, как ни странно, ни разу за все утро не приходила в голову. Она блеснула впервые, невесть с чего, только в то мгновение, когда он всходил по стремянке и когда о вениках вовсе, кажется, и не помнил.
— Елова моя голова! — повторил он, водя пальцами по неструганым доскам.
Тонкие, тесаные доски, прибитые только сверху, были разной длины. Одни упирались в землю, другие, не доставая до нее, свободно висели на одном гвозде. Их легко было раздвинуть снизу и снова опустить прямо, как были.
— Рви тесины! — крикнул бородач.
Парень ухватил одну висячую доску за нижний переруб, потянул на себя и стал задирать кверху. Она завизжала пробоиной о гвоздь, треснула и, расколовшись надвое, отвалилась. Оторвали еще две тесины. В переборке зазиял черный проем.
— Стой тут, стереги и слушай, — сказал меньшак и, выкинув, как слепец, руки вперед, канул во мрак.
Со свету он сперва ничего не различил в потемках. Только нащупал ногой земляной спуск. Ступив шага два, он мало-помалу пригляделся к темноте и стал разбирать, что вокруг него.
Он был в широкой низкой закуте. Справа, слева, сзади были дощатые переборки, а сверху и спереди вместо потолка и четвертой стены — только ступеньки и заглушины лестницы, которые лежали на трех бревенчатых, сходивших вниз тетивах.
Под ними, на земле, в глубокой выемке стояли в ряд четыре длинных, больших, чем-то накрытых предмета.
"Никак, гробы?" подумал златокузнец.
Холодок продернул спину и разошелся по затылку. Он почувствовал каждый волосок на голове.
Пересилив себя, шагнул ближе, нагнулся, протянул пальцы.
Нет, не гробы, а громадные лозняковые корзины, накрытые рогожами.
Он приподнял угол одной из рогож. Корзина была доверху завалена сухим хмелем. Три другие были полны того же добра.
Он запустил обе руки в первую справа корзину и легко достал плетеного дна. Выпрямился, вытряс колючие шишки из рукавов и полез во вторую. Та же сухая, пушистая, теплая мякина, то же плетеное дно. В третью…
Он не успел еще сообразить, что ткнулся пальцами во что-то живое, что это — человечья нога, как хмель в корзине заходил, зашумел, зашуршал, зашебаршил, и из него, как леший из пня, вспрянул во весь рост сын боярина Кучка.
В полумраке закуты, взлохмаченный, распаренный от хмельной духоты, с налитым кровью волдырем на мясистом лбу, весь усаженный цепкими шишками хмеля, в грязной, рваной сорочке, из которой перло наружу волосатое брюхо, он был страшен.
— Это ты?! — заревел он, узнав меньшака. — Иуда! Убоец!
И, кинув на него всю свою тяжесть, мигом повалил и подмял под себя на земляном полу. Златокузнец не успел и вскрикнуть. Железные лапищи стиснули ему горло. У него гулко застучало в висках и помутилось в голове. Он ничего не видел, не слышал, чувствовал только, что пришел конец, что раздавлен непомерным грузом, что кто-то горячо и часто дышит ему в самое лицо пивным перегаром.
Первое, что увидел ученик, когда вбежал в закуту, были босые ноги, которые скребли землю. Потом разглядел вздувшуюся горбом спину, красные ластовицы рваной сорочки, судорожное, безобразное подергиванье растопыренных локтей, натугу толстых плеч и под ними — опрокинутое, неузнаваемо искаженное, посинелое лицо хозяина с вылезающими из глазниц яблоками закатившихся глаз.
Парень не помня себя со всего размаху пхнул Кучковича сапогом под ребро, в жирный бок.
Тот только ёкнул, как жеребец селезенкой, но даже не обернулся.
Тогда парень весь подобрался, съежился, оскалил зубы, закусил язык и, примерившись, резко, что было силы, хряснул ребром ладони по бычьему загривку.
Иван Кучкович затрепыхал головой, захрипел, вскинул руки и рухнул без памяти на бок.
XIII
— Кого привели? — спросил негромко Прокопий, спуская онемевшие ноги с лежанки, еще не совсем очнувшись от долгого сна.
— Стольника привели, Ивана Кучковича, — так же негромко ответил человек со шрамом поперек лица.
— Стольника! — проговорил Прокопий, высоко подняв брови. — Ну-у-у? Где ж нашли?
— Под рундуком.
— А тот-то… как его… хитрокознец что не идет?
— Отхаживают: кровь не унять.
— Ну-у-у? — протянул Прокопий, еще выше задирая брови. — Что ж они, саблями, что ли, посеклись, что кровь не унять? — спросил он, выравнивая на высоком наперсье резной княжеский знак.
— Какие сабли! Рукояткой да удавкой. Грудь у него проломлена. Из глотки кровь мечет. Печенкой так и плюется.
— Где ж его отхаживают?
— В отцовой воротной избенке. Водой из-под точила поят.
Плох?
— Нехорош.
Иван Кучкович дожидался за дверью со связанными за спиной локтями.
Он был одет в свое платье, умыт, и пышная борода расчесана на две стороны. Багровый волдырь на лбу еще больше налился кровью и стал наплывать на глаз. Лицо после недавнего беспамятства было землисто и одутловато.
Когда ему сказали идти, он задрал голову, выпятил перетянутый расшитым поясом живот и вошел в сени неторопливо, чуть припадая на правую ногу, расшибленную о кольцо в западне.
К Прокопию вернулась вся его бодрая предприимчивость. Впереди было новое дело: допрос, проводы пойманного, суд и расправа. Он с воодушевлением обдумывал, как совершить все повернее да пообрядливее.
Когда ввели к нему Кучковича, когда он увидал мелкие капельки пота на его широком губчатом носу, когда встретил его кровяной, дикий взгляд, у Прокопия точно последняя плева с глаз сошла. Нет, ни мира, ни правды не сыщешь в этой дремучей голове, в этом ежовом сердце! Перед ним стоял прямой и опасный враг, за которым не жаль пустить в погоню и тысячу пешцев.
XIV
Два часа спустя Прокопий, устав допрашивать Кучковича, послал сказать огнищанину, чтобы приискал цепь понадежнее да привел кузнеца посноровистее.
Вскоре за тем стоявшая у боярских ворот стража впустила во двор черного исполина. Волочившаяся за ним цепь глубоко бороздила дорогу и рвала с корнем траву.
Рядом с ним все казались карликами. Вертевшийся около него огнищанин был ему по локоть. С его приходом даже просторный Петров двор сделался вдруг как будто тесен, а терем — низок.
Когда великан, покачивая широчайшими плечами, говорил или улыбался (а улыбался он часто и светло), его зубы так и сверкали в тусклой от копоти черной бороде. И так же ярко сверкали белки глаз, будто стараясь вылупиться из железной гари, под которой черно лоснились скулы, крылья ноздрей, веки и лоб.
Это был старший сын воротника, его большак, тот самый, что, не послушавшись отца, поставил кузницу не налево, а направо от Можайской дороги и попал в кабалу к огнищанину.
За ним, опираясь на кувалды, переминались с ноги на ногу два его подручных молотобойца, такие же черные, как он.
Пешцы вывели на крыльцо Ивана Кучковича. Он горбился и был бледен.
Человек с уродливым шрамом долго гремел цепью, проверяя звено за звеном. Потом потер ладонь о ладонь, стряхивая с рук ржавчину, и велел кузнецу приступать к делу: заковывать подстражного.
Засверкали зубы, заворочались белки: черный великан виновато улыбался и говорил, что ему надобно увидаться с боярином.
— С каким боярином?
— С самым большим: с боголюбовским, с тем, что вас привел.
— На что тебе?
— Шибко надо.
— Со мной говори: я за боярина.
— Нет, мне с самим.
Человек со шрамом нахмурился, он раскрыл было рот, чтобы прикрикнуть на невежу, но, взглянув на обтянутые черной просаленной рубахой необъятные плечи, раздумал ругаться и нехотя пошел в дом.
Пешцы свели Кучковича с крыльца.
В дверях показался Прокопий.
— Ну и страшило! — пробормотал он, взглянув на кузнеца. — Постарался огнищанин, нечего сказать, выбрал!
Большак бултыхнулся Прокопию в ноги, стукнув лбом о ступеньку крыльца.
— Чего тебе?
— Уволь! — сказал кузнец и улыбнулся ясной, молящей улыбкой.
Прокопий насупился:
— Против князя идешь?
Кузнец весь так и вскинулся:
— Что ты, боярин! Это я-то — против князя?.. Да спроси кого хочешь — всех московлян, — он, не вставая с колен, оглянулся и обвел вокруг себя ручищей, широкой, как заступ, — все скажут: у нашего брата, у черных людей, только и надежи, что князь.
— А сам крамольствуешь?
— Уволь! — повторил кузнец. — Не могу на него поднять молот. — Он указал головой на Кучковича. — Совесть не велит.
— Да ведь он князю — первый враг! (При этих словах Прокопия Кучкович переступил с ноги на ногу и метнул в него из-под бровей ярый взгляд.) Какая же в тебе совесть?
— Кто князю враг, тот и нам обидчик, — ответил исполин. — А не могу. Смилуйся, боярин, пожалуй: уволь!
— Да ты в уме ли? Или хмелен?
— Умом не похвастаю, а в Петрово говенье хмельным не оскоромлюсь, — обиделся кузнец: — чай, крещеный!
— Так какая же у тебя, у крещеного остолопа, причина мне перечить?
— Семейственная причина, вот какая, — раздельно произнес кузнец таким голосом, будто удивлен, как с первого слова не поняли, в чем дело.
Он подробно рассказал, чей он внук, чей сын, и объяснил, что стольнику Ивану Кучковичу его меньшой брат, княжой златокузнец, по гроб обязан. При его помощи меньшак перешел когда-то из Владимира в Боголюбово и сделался княжеским вольным слугой. А стало быть, и всей их семье Иван Кучкович — благодетель.
— Так мне ли на нем железа клепать?
— Умный тебя поп крестил, — сказал Прокопий, — да напрасно не утопил! А знаешь ли ты, кочергова твоя душа, что благодетель-то ваш семейственный твоему-то меньшому брату ноне грудь проломил да едва насмерть его не удавил?
— Знаю — спокойно кивнул головой кузнец. — Так ведь у них ноне меж собой инакое дело было — битвенное: ни моря без воды, ни войны без крови. А мне по нашему ремеслу никак это нельзя: Кузьмодемьяна прогневаю.
Прокопий посмотрел ему пристально в глаза, покачал головой, вздохнул и сказал огнищанину:
— Приведи другого кузнеца.
— Пошто другого? — вскрикнул великан, поспешно поднимаясь на ноги. — Мои юноты всё справят: им не грех. — И он указал обеими руками на своих молотобойцев.
— Да ладно ли сделают?
— Мои-то юноты? Княжое-то дело? Да коли где навараксают, так я им головы поскусаю, кишки своими зубами повытаскаю!
XV
Из терема была хорошо видна Коломенская дорога.
Она начиналась у речного перевоза и вилась по Великому лугу, как небрежно брошенная розовая тесьма, то прячась за кустами, то опять показывая свои извороты, пока не скрывалась где-то очень далеко, в зарослях черной ольхи.
Кучковна глядела на нее в окно.
Она знала, что Ивана нашли, что он закован, что его вот-вот увезут.
Сенные девушки прибегали сказать, что Прокопий совсем уж собрался в дорогу и торопит своих людей уезжать. Его конь заседлан и подан к крыльцу. Пешцы уж расселись по телегам. Задержка только за меньшим сыном воротника: послали за ним к его отцу, а он чего-то не идет; видно, еще слаб.
Какие-то две женщины шли спокойным, деловым шагом по Коломенской дороге — от парома к лесу, одна в белом, другая в черном платке, обе с корзинами в руках.
"Куда идут? — думала Кучковна. — Верно, по ягоды. О чем говорят? Верно, об Иване, о нас. Им, может быть, кто-нибудь сказал, что с нами сделают. А нам никто не скажет: раз Прокопий уезжает, ничего не молвивши, кто же другой осмелится говорить? Порешат с Иваном, порешат, конечно, и с Петром (ведь говорил же Иван ночью, что у них с Петром одни мысли), а там и наш черед".
Она оглянулась.
Солнце давно уж сошло со стены. Оно играло теперь на чисто вымытом полу, горело масляным блеском в брошенной мальчиком глиняной поливной лошадке и захватывало угол постели, куда бабка уложила внука спать. Он лежал, кудрявый, горячо разрумянившийся от сна, посасывая нижнюю губу и не выпуская из руки красной шелковой бечевки, привязанной к глиняному коньку. Рядом с ним прикорнула и Гаша. На ее задетой солнцем щеке светился едва приметный пушок. Гашино плечо мерно поднималось и опускалось.
На Коломенской дороге, очень далеко, там, где она выходила из ольшаника, показалась запряженная парой подвода, за ней другая, одноконная, потом еще третья. Лошади казались не больше муравьев, люди, шагавшие за последней телегой, — как мошки.
А две женщины с корзинами все шли да шли — подводам навстречу, — уходя все дальше от реки, и тоже так помельчали, что едва можно было отличить белый платок от черного.
"Иван сказал ночью: была бы ты Петру добрая жена, не ушел бы от тебя Петр. Верно, не один Иван так думает. Верно, так оно и есть…"
Ей вспомнились вдруг еловые вешки, натыканные вдоль зимней дороги, на замерзшей Москве-реке, и подслушанный разговор Петра с десятником про эти вешки, и Грунин звонкий детский голос, который тогда на морозе так невинно спросил про елочки, и румянец стыда, заливший ее, Кучковнино, лицо при этом слове, и встреча на Яузе, и жаркий шепот, которого с тех пор так больше и не слышала. Вот он, ее стародавний, единственный, тягчайший грех, в чем каялась потом всю жизнь…
А Груни все нет и нет! Ее мужа расковали, вынули из поруба, а из Боголюбова не отпускают. Теперь порешат, должно быть, и его, особенно ежели дознаются, что его отец, суздальский сват, с Иваном заодно. Князь Андрей Юрьевич в гневе всегда бывал крут. "Не втуне ношу меч", говаривал он и сам о себе. А уж после того, что она послала ему сказать тогда, двенадцать лет назад, с Прокопием, едва ли стал милостивее к их семье.
Телеги, успев далеко оторваться от ольшаника, то прятались за кустами, то опять показывались на изворотах розовой тесьмы. Женщины подходили к ним все ближе, и теперь уже нельзя было отличить черный платок от белого.
"А может быть, Иванова и не главная вина? Может быть, все дело в свате, в Грунином свекре? Он умней и хитрей Ивана".
Груня на свекра не жаловалась, ладила с ним, но, кажется, втайне побаивалась. А еще больше страшилась его дворни и окрестных смердов, которым житья не было от сватовой жадности. Прошлой осенью смерды спалили у него девять скирдищ хлеба да сколько-то ометов соломы. Грозились, слыхать, и самого прикончить. А Грунин молодой муж, который всегда смущал Кучковну своей необычайной молчаливостью, был отцу послушен и, как говорила Груня, крепко любил его. Да и жену не обижал.
Видно было, как женщины на Коломенской дороге, поравнявшись с подводами, пропустили их мимо себя и потом долго еще стояли, глядя им вслед. С ними постоял немного и один из тех пешеходов, что шли за подводами, затем пустился бегом догонять товарищей.
"Что за подводы? Откуда идут? Надо быть, из Коломны. А то, может быть, и дальние — из Рязани. По этой дороге езда невелика, не то что по Владимирской или по Можайской".
Куда торопился сват? Судя по Ивановым речам — в Смоленск, к тамошним князьям. Значит, по Можайской и погнал. А ростовский купец? С ним или в другой конец?
Кучковна вспомнила, как Иван наставительно тыкал пальцем, когда говорил о смоленских князьях. Нет, он, конечно, из всех трех — самый главный.
Выдал ли Иван на допросе тех двоих или смолчал? Крику не слыхать было в доме: Прокопий, видно, его не пытал; может быть, ее, Кучковну, пожалел, а там, дорогой, пожалуй, иначе с ним обойдется.
А сват-то как про Груню сказал: "Жива п о к а м е с т"…
Груня да Гаша… Одним молоком поены, а вышли какие разные! Гаша, старшая, — ростом, всей статью, белизной, румянцем вся в отца, а нрав материнский: тихая и покорная. Груня, младшая, — лицом ни в отца, ни в мать, только губы отцовские. У Петра они с годами повыпятились, погрубели, а у молодого были точь-в-точь как у Груни. Небось, сейчас бледны и кривятся у него губы со страху, как тогда, давным-давно, когда она, Кучковна, еще девушкой, нанизывая жемчуг, наблюдала за ним в окошко, а покойница Милуша вплыла тем временем во двор и за ней следом вскакал витязь на пегом жеребце…
Кто утешит Петра в его тоске? Княгиня? Сама цела ли?.. Груня?
Нет, Груня не утешница: нрав не тот. Кучковна ясно увидала перед собой Грунины светлые, близко поставленные глаза на длинноватом лице. Красивой ее никто не назовет, когда же насупится, так и вовсе дурна. А улыбнется — сразу станет всех лучше; засмеется — всех обворожит. Ростом невелика, худа, быстра, причудница, неласкова. А как в девках была, так у статной, красивой, всегда приветливой Гаши всех парней поотбивала. Чем брала, у кого научилась, не поймешь. А уж нынешнего-то своего молчаливого мужа, пока в женихах ходил, до чего иссушила! По неделям, бывало, ни разу на него и не взглянет…
Из-за круглых ивовых кустов все три подводы выехали на ближний, княжой край Великого луга. Теперь уж ясно можно было различить, что переднюю тянут две рыжие лошади, хорошо подобранные в масть, вторую — вороная, третью — чалая. По тому, как лошади ныряли головами, видно было, что все четыре вконец заморены долгой гоньбой: того и гляди, станут. Колеса телег еле ворочались. Только в первой было двое седоков, а задние шли порожнем.
Когда обоз подтянулся к речному перевозу, Кучковна разглядела, что на обозниках поярковые боголюбовские колпаки. Откуда взялись? Что делать боголюбовцам в коломенской стороне?
С Великого луга княжеские челядники, которые все еще не управились с мокрым сеном, стали сбегаться к перевозу, чтобы поглазеть на приезжих. Около телег быстро скопилась целая толпа.
А паром стоял на причале тут, под городом. Оба паромщика сошли на берег. Один переобувался — спиной к реке. Другой варил что-то на таганке. Огонь на солнечном свету казался так бледен, что был бы и совсем неприметен, если бы не дым и не пар.
По городскому берегу в сторону парома скакал верховой, нахлестывая буланого конька. Он еще издали прокричал что-то паромщикам. Те мигом поднялись на ноги и как были — один необутый — кинулись отвязывать причал.
Кучковна выглянула в окно, наблюдая, что будет дальше. Она понимала, это все то же, все та же великая беда, ворвавшаяся в ее дом, но все еще неясная…
В это время за ее спиной раздался негромкий мужской голос:
— Пустила б их в сад: чать, истомились взаперти.
Это был Прокопий.
Он вошел так неслышно и заговорил так неожиданно, что у нее захватило дух: она не могла ответить ему ни слова. Только подумала:
"Вот и пришла за нами наша судьба".
Прижавшись спиной к оконному косяку, прямая, бледная, как мел, она не сводила с Прокопия громадных глаз, полных ужаса.
XVI
А он спокойно уселся на низенькую скамейку, сгорбился, налег по-стариковски локтями на колени и проговорил вполголоса:
— Ишь, как спят! Жаль и будить.
Потом уставился на загнутые вверх острые концы своих мягких сапог и стал разглядывать их с таким вниманием, будто в первый раз видел их красный сморщенный сафьян, местами побелевший и залупившийся от носки.
Когда он поднял наконец глаза на Кучковну, у нее опять захватило дыхание, но уж от какого-то другого страха: ей показалось, что в его глазах брезжит то же застенчивое смущение, какое было в них тогда, давно, когда он пересказывал ей Андреевы слова.
— А может, и не помешают? — сказал он. — Их сон — не наш с тобой: не услышат, что будем говорить.
Он не знал, видимо, с чего начать. Опять замолчал и, уткнувшись бородой в грудь, выпятив нижнюю губу, принялся рассматривать свой княжеский знак и выколупывать что-то ногтем из его серебряных прорезей.
— Князь так наказал, — произнес он наконец невнятно, себе в усы, не переставая колупать: — "Пока, — говорит, — стольника не отыщешь, ни о чем с ней не толкуй". Это с тобой-то, боярыня, — пояснил он, взмахнув на нее взглядом и улыбнувшись простодушной, доброй улыбкой. — Я и молчал! А у тебя, чай, сердце кровью подплыло?
Эти последние слова он выговорил так мягко, что перед глазами у Кучковны дрогнули радуги от внезапно выступивших слез.
— Князь говорит, — продолжал Прокопий: — "Я, — говорит, — от нее зла не жду (это от тебя-то). Одначе, — говорит, — годы миновали большие, а стольник ей родной брат. Ты, — говорит, — свое дело делай, ее ни в чем не неволь, не заставляй против своей крови идти, а только посматривай, верно ли мне о ней судится. А как стольник будет у тебя в руках, как своими глазами увидишь, что я в ней не обманулся, тогда, — говорит, — все ей и скажи". — Прокопий развел руками. — А мне что посматривать? Я-то в тебе все насквозь увидал еще тогда, как к тебе послом приезжал. И после того не один раз, бывало, князю о том говаривал.
Он, сощурившись, скосил глаза на свет, будто припоминая что-то, и, помолчав, продолжал:
— Все-то он, бывало, допытывался, какие ты тогда слова мне сказала, не переврал ли я чего. И раз спросит, и другой. А потом, смотришь, год пройдет или два — и опять он к тому же гнет. Меня инчас даже обида брала: стану ли я ему лгать? На что мне лгать? А он все на своем стоит и требует: "Повтори, вспомни, как говорила. Душе моей, — говорит, — темной от тех слов помощь и свет…" Ты тогда сказала про чужую слезу, что из чужой, мол, слезы радости себе не вырастишь, — так, что ли? Вот это твое слово он все из меня и тянул. "Такое, — говорит, — она сумела сказать, что меня, — говорит, — как услышу, точно медвежьим когтем по спине продерет".
Прокопий помолчал.
— А потом время прошло, сколько годов, сколько снегов, не упомню, — заговорил он опять усталым голосом, — и не было у нас с ним больше речи о тебе. И только вот два года назад, когда на булгар вторицей шли и у него на ночлеге, перед волжской переправой, Борисов меч украли, он и сам всю ночь не спал, и мне не давал. Все чудилось ему, что это смерть подала ему голос. Тут-то на рассвете, как мы с ним над Волгой стояли (а время было осеннее, глухое, студеное: под ногами ледок похрустывал) и смотрели мы с ним, как последние чирки на черной волне покачиваются, тут-то он опять ни с того ни с сего про тебя спросил. "А скажи ты мне, — говорит, — Прошка, про какой, — говорит, — она свой старый грех тогда помянула? Откуда, — говорит, — быть греху?" А я-то что знаю?.. Не о том веду речь, о чем велено! — сам себя перебил Прокопий, сердито махнув рукой. — Только тебя травлю.
Гашин кудрявый сынишка перелег во сне со спины на бочок, выронив из руки красную бечевку. Гаша, не просыпаясь, поворотила голову, показав другую, разгоревшуюся щеку, на которой чуть оттиснулся след смятой наволоки.
Густые ресницы Кучковны были опущены. Из-под них катились одна за другой крупные слезы.
Прокопий поднялся со скамейки, оправил выложенный серебряными бляхами пояс и заговорил иным, более твердым голосом:
— А велено сказать вот что: "Луна на небе…" Да нешто сумею так сказать, как он?.. "Луна, — говорит, — что ни месяц перевертывается свётху намолод, а человеку так не перевернуться". Глаже да складней как-то у него выходило, да уж не вспомню как. Чего там! Ты и так поймешь. "Я, — говорит, — стар, и она, — говорит, — не молода. Чего смолоду не нашли, того старым не искать. Пусть живет, — говорит, — как жила. Как горела свеча, так пускай и горит. А я, — говорит, — и тому довольно радуюсь, что хоть одиножды успел себя перемочь и той свечи не погасил. Недешево досталось, да что потерял, о том тужить не след. Дорого платил — крепче берегу". И еще так говорил…
Прокопий наклонил голову и, силясь точнее вспомнить, почесал золотым перстнем темную бровь.
— Еще так говорил: "Весь я в крови измаран. Сан мой к тому неволит, хоть на совести от того и свербит. И скажи, — говорит, — ей напрямо, что еще не кончил я чужую кровь точить: добрызнет и до ее дома"… Ты бы села, боярыня: на тебе лица нет!.. Может, не говорить?
— Говори.
— Да уж все, никак, и сказано… Ты не страшись. Князь так и велел тебе сказать, чтобы ты ничего не страшилась. "Сколько бы, — говорит, — вокруг нее людей ни полегло, ее, — говорит, — покуда я жив, никакая беда не ждет. И те, кто ей люб, — Прокопий показал рукой на спящих, — и кому она люба, все останутся целы. А ежели…"
Шагнув ближе к Кучковне, Прокопий поравнялся с тем самым окном, в которое она давеча глядела. Он оборвал речь на полуслове. Какая-то новая морщина легла вдоль его смуглой щеки, отчего все лицо резко изменило выражение. Глаза сощурились. Ноздри втянулись.
Он некоторое время молча смотрел в окно. Потом тронул боярыню за локоть и сказал:
— Глянь в окошко. Вот из-за кого кровь течет. Узнаешь?
Паром с тремя телегами, что ехали по Коломенской дороге, только что причалил к городскому берегу. Два пешца в поярковых шапках, взяв рыжих коней под уздцы, тянули их к сходням. Правый конь упирался и бил подковами по дощатому настилу парома. Другие пешцы разбирали оружие, сложенное в задних телегах. На берегу под таганком еще дымила головешка.
— Узнаешь? — повторил Прокопий.
Кучковна поняла, что он говорит о том, кто сидел в передовой, двуконной телеге. Она долго вглядывалась, но за дальностью нельзя было разобрать черт. И только когда неизвестный седок вздернул сутулые плечи и вобрал в них маленькую голову, только тогда она произнесла еле слышно:
— Узнаю.
Это был тот самый ростовский купец, что ужинал нынче ночью в глухой клети с Иваном. Он сидел на дне лубяного кузова, заложив руки за спину, вытянув вперед очень длинные ноги: верно, был связан.
— А знаешь ли, куда коршун летел?
— Откуда ж знать?
— К первому вору и завистнику — в Рязань, к Глебу, к тамошнему князю. Слыхала, чай, про него? Сидит, притаясь за болотами, а сам только на нас и глядит, только того и ждет, как бы вметнуться в наши хоромы с черного крыльца да порукохищничать. Вот с Глебом-то у них, — Прокопий ткнул пальцем в окно, — и затевалось дело… И про брата своего не знаешь, куда метил?
— Не знаю.
— Нашего государя-князя меньшие братья сейчас в Чернигове. Наш-то Андрей Юрьевич с ними пересылался, чтобы с ними да со смоленскими князьями сообща Киев урядить. А брату твоему да вот им, — он опять ткнул пальцем в окно, — это не с руки. Что им из-за Киева себя убыточить да в поход крутиться? Что им отчая слава? Что Русская земля охудает, им до того дела нет. Так вот брат-то твой, стольник, и собрался в Чернигов к молодшим-то Юрьевичам, чтоб их по-своему перешерстить да против старшего-то их брата, против нашего государя-князя, пораспыжить… А сватушко твой…
У Кучковны дрогнули брови.
— А сватушко твой за тем же делом погнал в Смоленск. Видишь, измена-то какова! Во все концы паучьи ноги растаращила! Три ноги ощиплем, а всех сколько?.. Хитер твой сват! — протянул Прокопий, силясь вспомнить, все ли передал, что наказывал князь. — Ох, хитер! А опрометнулся: с собой не сладил. Как мимо Боголюбова ночью по-над оврагом гнали, осерчал за что-то на своего холопа да на всем скаку его с телеги скинул. А тот хоть и скатился с кручи, хоть и охромел, а доволокся до княжого двора. От него всё и вызнали…
"Лишнего наблекотал, а нужное из головы вон! — с тревогой подумал Прокопий. — А теперь где же вспомнить!"
— Ну, прощай, боярыня! Пойду гостя встречать. Ты на меня не гневайся, ежели сгрубил да сердце твое разбередил.
Он рассеянным взглядом обвел светелку. У него было озабоченное лицо. Выходя в дверь, он споткнулся о порог и разбудил Гашу. Она испуганно вскочила с постели и схватилась руками за щеки, будто стыдясь своего румянца.
— Ты пошто здесь? — раздался за дверьми изумленный возглас Прокопия. И сразу же вслед другое, его же, сокрушенное восклицание: — Охти-мнешеньки! Так и есть! Главное запамятовал! Идем скорей назад…
С этими словами он опять появился на пороге. За ним показалось длинное безжизненное лицо рыжебородого меньшака.
Увидав проснувшуюся Гашу, которая стыдливо упрятывала растрепавшиеся темно-русые волосы под красный тафтяной повойник, Прокопий несколько смешался и затеребил бородку. Потом улыбнулся своей детской улыбкой и сказал Гаше:
— Касатушка, выдь на время в сад!
Гаша накинула на голову белый убрусец и бесшумно выскользнула в дверь.
Проводив ее своим всегдашим внимательным взглядом, Прокопий обернулся к Кучковне и, показывая на тощие ноги меньшака, сказал:
— Дозволь ему, боярыня, сесть: не держат его лутошки… Садись, кузнец, садись! Вот тут на столе и раскладывай. Разложишь — уйдешь, ляжешь в телегу и отдышишься. Ох, не помял ли?
Меньшак поставил на стол плоский, обтянутый телячьей кожей баульчик с двумя медными застежками, какие бывают на толстых церковных книгах.
Бескровные веснушчатые пальцы от слабости заметно тряслись, но работали тем не менее необычайно проворно и дружно. Отомкнув застежки, они подняли крышку, обитую сысподу белым заячьим мехом.
Все нутро баула заполняла примятая крышкой ярко-вишневая атласная подушка. Тонкие, длинные пальцы, подобравшись под нее с двух краев, осторожно выпростали ее из баула и положили на стол, отряхнув приставшие к атласу белые волоски. Это оказалась не подушка, а мелко простеганный пуховичок, которым был закутан в три слоя какой-то голубой шелковый сверток.
Бледные руки с еще большим береженьем вынули голубой сверток из пуховичка и, размотав тонкий шелковый плат, отогнули угол черной бархатной пелены, богато расшитой серебром и отороченной серебряным же подзором.
Когда все четыре угла бархатной пелены раскинулись на столе, дружные пальцы, продолжая немного трястись, пришли в такое быстрое движение, что нельзя было и разобрать, над чем порхают и чего хотят. Это было похоже на колдовство. Видно было только, как под почти бесплотными руками полумертвого волхва жидким, вкрадчивым, чародейным, будто закатным светом сияет лощеное золото.
Движение рук замедлилось. Поддев золото, они — все так же дружно — поднялись и, расступясь узкими ладонями, сомкнулись только концами дрожащих тонких пальцев, словно охватывая чью-то невидимую голову.
На них покоился золотой венец.
Витой из тонкого, как осенняя паутина, волоченого золота — из знаменитой боголюбовской скани, — усыпанный мельчайшей золотой зернью, он был весь прозрачный. Это были два легких золотых обруча. Их скреплял между собой целый пояс еще более легких золотых гнезд. В гнездах мерцали молочным блеском круглые зерна белого жемчуга. Таким же молочным жемчугом были усажены городки, которые выдавались зубцами над верхним обручем, и решетчатые подвески, что спускались на золотых цепочках с висков к плечам. А впереди, над челом венца, на коротком золотом стебле подрагивала в сквозной золотой чашечке одна огромнейшая рогатая жемчужина с голубым, лунным отливом.
Когда пятнадцать лет назад князь Андрей Юрьевич купил это бесценное, редкостное зерно у краснобородого чужеземного гостя, который с целым табором вооруженных слуг притек из каких-то очень дальних пустынь на верблюдах, об этой покупке долго толковали и во Владимире, и в Ростове, и в Суздале, и даже в Киеве.
Хитрокознец держал свое изделие перед самыми глазами, а на губах играла мечтательная улыбка, от которой его изможденное лицо стало почти красивым.
— Отдай боярыне и уходи, — приказал ему Прокопий.
Кучковна, точно обороняясь, сложила руки на груди крестом и попятилась к стене.
— Прими, боярыня, княжой дар, — внушительно произнес Прокопий.
Она взглянула на него посветлевшими от слез, будто обезумевшими глазами, хотела что-то сказать, но не сказала, поникла головой и, не отнимая рук от груди, отступила еще на шаг.
— Прими, тебе говорю!
Она не подняла головы и все жалась к стене.
— Не держи кузнеца. Видишь: на ногах не стоит.
Все то же.
Прокопий потемнел.
— Клади венец на стол и ступай, — сказал он меньшаку.
У того и впрямь подгибались колени. Держась за стену, он вышел в дверь.
Прокопий заговорил не сразу.
— Когда княжой дар тебе обиден или противен, — медленно вымолвил он наконец (у него перехватывало голос), — тогда кинь его в реку. Так и скажу князю. Только наперво рассуди своим боярским спесивым умом и пойми: тебе дарена не шейная гривна, не перстень, не запястье, а венец… — он запнулся, вспоминая трудное немецкое слово, слышанное еще в Киеве, — княжеский клейнод![37] Не затем дарен, чтоб красовалась в нем перед людьми, а чтоб берегла как память. Ежели своя гордыня тебе дороже, чем княжая память, растопчи венец: твоя воля. А мне, худому слуге, моя холопья совесть не даст везти его назад. Прощай, боярыня.
Последние слова он произнес уже на ходу и крупными шагами вышел вон.
Она кинулась за ним вслед, но перед захлопнувшейся за ним дверью упала вдруг на колени, закрыв лицо руками.
Внук проснулся, сел в постели и, протирая заспанные глаза, глядел с недоумением то на бабкины странно вздрагивающие плечи, то на ярко освещенную солнцем золотую диковину, которая весело играла всеми огнями на поседевшей под солнечным лучом черной, погребальной пелене.
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
Кровь добрызнула
I
Боголюбовский обоз двинулся из Москвы после обеда, когда солнце стояло над Боровицкой башней.
Пономарь взошел на звонницу, чтобы удобнее наблюдать, как повезут пойманных. Туда же взобрались и дьякон с толстой дьяконицей. Поп с попадьей смотрели со своего крыльца. Из-за плетня, на котором кривились туда и сюда опрокинутые горшки, выглядывала остроносая проскурня. Даже огнищаниха, которая со всеми в городе была в ссоре и никогда не выходила со двора, и та высунула обиженное лицо из окна своего терема. На пороге приворотной избушки стояла старуха-воротница и концом холщовой косынки утирала заплаканные глаза.
Поезд растянулся так, что верховой на буланом коньке, ехавший в голове обоза, давно миновал посад, а задние подводы только еще трогались.
Когда повозка Ивана Кучковича, к которой он был прикован наглухо, втянулась в темный воротный пролет Неждановой башни, правивший лошадьми курчавый ученик меньшака — он сидел не на облучке, а, по обычаю того времени, верхом на одном из упряжных коней — сразу заметил полосатую телогрею младшей поповны: девушка жалась к ободранной рогами тележных осей, перемазанной дегтем верее[38] городских ворот.
— Куда вторкалась? — прикрикнул на нее верховой со шрамом на лице (он ни на шаг не отставал от стольниковой повозки). — Уйди с дороги!
Поповна проворно выскочила из-под ворот на мост, но до того застыдилась, что так и не посмела заглянуть в красивые прищуренные глаза.
— Левей бери, разиня! — сказал курчавому парню все еще связанный Иванов конюх, сидевший рядом с хозяином. — В перила въедешь!
Площадь между рвом и посадом была полна народу. Над толпой любопытных высоко выдавалась чумазая голова кузнеца-исполина. Когда в воротах показалась повозка Кучковича, великан легко поразгреб ручищами тех, кто стоял перед ним, и, выйдя в первый ряд, окинул последним, заботливым взглядом железные кованые стаканы, надежно заклепанные на руках и на ногах стольника, и толстую цепь, которая, въедаясь в зеленый бархат одежды, стягивала крест-накрест Иванову широкую спину.
За повозкой Кучковича шла подвода ростовского купца. Он тоже был окован.
— Упырь! Прямой упырь![39] — заговорили в толпе. — Отколь взялся такой?..
Купца никто не знал.
Прокопий второпях забыл распорядиться, чтобы пойманного ростовца накормили обедом: купец жевал беззубыми челюстями захваченный еще из дому очерствелый хлеб. Железа мешали подносить краюху ко рту. Маленькая голова уходила время от времени в узкие плечи, чтоб сунуться за хлебом к рукам.
Сдержанный говор толпы перешел в громкий гул, когда из ворот выехала на мост следующая подвода. В ней везли посадника.
Он скалил желтый зуб и все время вертел своими маленькими, будто детскими ручонками: то пощипывал редкую седую бороду, то тер глаз, то оправлял отвороченные вверх поля остроконечного, расшитого бисером колпака, стараясь, видно, показать, что он не в оковах.
— Провожать, что ли, поехал? — говорили в толпе.
— Какое провожать! Или не видишь, кто по бокам от него сидит? Один с топором, другой с рогатиной.
— Не он провожает — его провожают.
— Туда и дорога!..
На дне последней телеги лежал с закрытыми глазами хитрокознец.
Он был укутан в отцову заплатанную сермягу. На голове была отцова же теплая шапка, а под головой — седло. За телегой, уныло кивая ушами, нехотя переставлял ноги холеный гнедой жеребец, привязанный к задней нахлестке.
В самом хвосте обоза ехали верхами три дружинника, а впереди них — Прокопий. Его спокойный каурый мерин досадливо мотал большой головой, когда о его плечо терлась озорная рыжая кобылка огнищанина. Ястребок сам набился провожать боголюбовских гостей.
Старик-воротник, прихлопнув кое-как тяжелые полотна городских ворот, у которых все еще стояла на мосту поповна, догнал обоз и, поравнявшись с последней телегой, пошел с ней рядом, держась рукой за грядку.
Обод заднего колеса то и дело шаркал по его поджарой икре, приступы кашля не раз вынуждали отстать от телеги, но он снова ее догонял, опять хватался за грядку и, поглядывая на меньшака, на несмытые следы запекшейся крови в уголках его синих губ, без умолку наставлял сына, как присматривать за подручными и учениками, как поменьше знаться с боярскими, купеческими и посадскими кузнецами, от которых добра не жди, как и чем помогать многодетной сестре, как лечить больную грудь, как приохочивать к работе детей, как ковать гнедого жеребца, как просить у князя дубового лесу для постройки новых хором…
Обоз, поднявшись из ложбины на Кучково поле, прибавил ходу, и старику стало невмочь поспевать за ним. Взглянув еще раз на меньшака, сунув ему в ноги, под стоявший там шлем, берестяной туесок с водой из-под точильного камня, воротник отошел наконец от телеги, остановился на краю широко разъезженной, уже просохшей Владимирской дороги и, прижав обеими руками бороду к груди, простоял до тех пор, пока замыкавшие поезд верховые не скрылись в дальнем осиннике.
II
Ему не захотелось идти домой.
Он оглянулся на солнце — оно стояло еще высоко — и зашагал вправо под гору, по обросшей ромашками полевой меже, в сторону Ольховца, к дочери.
Ржаные, еще не налившиеся колосья щекотали ему руки. Над ним неутомимо пел жаворонок, точно торопясь поделиться какой-то большой, неожиданной радостью, и, не умолкая ни на мгновение, уходил все выше в небесную синь, будто для того, чтобы как можно дальше, во все концы, разнесся его веселый рассказ.
Утром, отхаживая больного сына, воротник не удосужился повидаться со старостой дочкиной деревеньки, который приходил зачем-то в город, к Прокопию. И теперь старика разбирало любопытство: о чем у них была речь?
Посидев у дочери часа полтора, вызнав у нее все, что хотел, подробно осмотрев ее двор, огород, их деревенскую водяную меленку на Ольховце, мельничный запрудок, рыбные заколы на ручье повыше запрудка, вытащенные рыбаками на берег лозовые морды, обвешанные тиной, надавав пропасть дельных советов и дочке, и зятю, и мельнику, и рыбакам, воротник лесной тропкой спустился к Яузе и берегом направился домой.
Не доходя Васильевского луга, он нагнал бортника Неждана, который, опираясь на черемуховый посошок, плелся потихоньку к себе в Сивцев вражек, возвращаясь из боярского липняка.
Воротник был моложе Неждана всего лет на семь. Они были старые знакомцы. "На одном солнышке онучи сушили", — говорил Неждан. На Москве все знали друг друга.
Когда восемнадцать лет назад рубили город, воротник, в то время еще полный сил кузнец, тоже работал топором по соседству с Нежданом и немало досаждал ему советами.
Встретившись сейчас на береговой дороге, они поговорили сперва о последних городских происшествиях. Воротник, как самовидец, больше рассказывал, а Неждан больше слушал.
За что схватили Кучковича, кто были его спутники, почему увезли и посадника, этого не знал, конечно, ни тот, ни другой, а вздорным бабьим слухам, которых успело уже накопиться много, старики не верили. Обоим было хорошо известно, что вражда бояр с князем давняя, но воротника удивляло, что в эту вражду вовлеклись такие исконные княжие любимцы, как Кучковичи.
— Чего дивиться-то! — сказал Неждан. — Любимцы! Любит и волк овцу.
И, пройдя несколько шагов молча, прибавил:
— А когда волк волка дерет, не наше овечье дело их разнимать.
Неждан шел домой раздраженный: его внук, вместо того чтобы лазить за деда по бортяным липам, улепетнул в лес ловить щеглов.
Воротнику не хотелось спорить, но у него голова была, по обыкновению, полна мыслей о детях, и, следуя ходу этих мыслей, он сказал:
— Князь одно, бояре другое (он думал о судьбе своего меньшака). За княжим хребтом всё полегче, чем за боярским.
— И за княжим хребтом не рай, — отозвался Неждан. — Побывал бы ты, как я, в княжих закупах, не то бы запел.
— Без князя-то как проживешь! — сказал воротник, вспоминая гнедого жеребца и желтую ящерку. А от бояр одна обида.
Его большак-исполин, возвращаясь с боярского двора, заходил нынче в обед к отцу и рассказывал, что огнищанин велел оковать три его сундука точь-в-точь так, как окован княгинин сундук, который стоит в пустом княжом тереме. А на том сундуке оковка такая, что даровой работы хватит до Ильина дня!
И дочку старик застал сегодня в слезах: годовалую телку, на которую столько было надежд, надо вести на посадничий двор.
Да и самому легко ли на старости лет? Не случись с посадником беды, погуляла бы сегодня посадничья плеть по его спине за то, что проспал Москву…
— От бояр одна обида! — повторил он убежденно.
— Князь — подалее, бояре — поближе, их рука чаще и бьет. Только и разницы, — ответил Неждан.
Оба надолго замолчали, погрузившись каждый в свои думы.
Обошли гуськом давно знакомую обоим длинную, никогда не просыхавшую лужу. По ее густой воде бойко шныряли пауки-плавуны. А около воды, над черным месивом грязи, сплошь истыканной коровьими и овечьими копытами, летали нарядные голубые стрекозы.
Недалеко от лужи, на кулижках, паслось городское стадо. Пахнуло свежим навозом и парным молоком. Воротник, сразу углядев свою коровенку, хотел было крикнуть пастуху, чтобы перегнал скот с кочек на гладкую пожню, но в это время ковылявший впереди Неждан остановился, дождался его и, зашагав рядом, сказал:
— Без князя — верно говоришь — седня не прожить. Дай боярам волю — они всю землю искрошат, оголят, высосут и напоследок меж собой перегрызуться. А там понакатят незваные гости — булгары ли, половцы ли — и остатнее наше добро спалят… Однако ведь и то верно, что и князю-то без нашей сиротинской братии тоже не прожить! На одних бояр не обопрешься, а без опоры как устоишь? Затем-то он поверх боярских шапок на нас и поглядывает. Да иной раз еще и ручкой к себе поманит! А мы, дураки, и рады.
Он с невеселой, словно сострадательной усмешкой посмотрел на воротника глубоко ушедшими под брови медвежьими глазами.
Тот молчал.
— Ты мне вот что скажи, — продолжал Неждан: — когда на Киев ходили двукраты и на булгар двукраты же, когда под Новгородом в болотах вязли, чьей крови больше повылилось, чьих костей больше поразметано: наших или боярских?
Воротник в ответ только пальцами пошевелил.
— Ты не пальцами тычь, а языком скажи! — укоризненно выговорил Неждан. — А какой после войны дележ? Князю — слава, боярам — добыча, а нашему брату — в степи курган!
Пройдя Васильевский луг, старики перед околицей посада сели отдохнуть на самом берегу Москвы-реки, спугнув стайку белокрылых куличков.
Вода беззвучно накатывалась на гладкий песок и лизала смоленый бок причаленной ладьи, по которому отраженное водою солнце бегало светлой вязью. Неждан прислушивался к тонкому писку куликов и следил глазами за ровными дугами их низкого полета: опустившись на берег, они мигом снимались с места и, почти не отрываясь от воды, описывали новую дугу.
По Нежданову лицу видно было, что, пока шли вдоль спокойной струившейся реки, летний день, который в тихом сиянии близился уже к концу, успел наложить ему на сердце свою теплую, примиряющую руку. Когда он снова заговорил, в его старческом, слабом голосе уже не слышно было прежнего раздражения.
— У меня, — сказал он, — сам он, — сам знаешь, в днепровских степях под курганами три сына лежат. А четвертого косточки Ока-река моет под Абрамовым городом. А я вот живу. Так как же мне их не понимать?
— Еще бы не поминать! — проговорил воротник. — Каков ни будь сын, а все своих черев урывочек…
— Не в том дело, что своих черев, — возразил Неждан, — а в том дело, что мой-то стариковский дожиток их кровушкой да их косточками куплен. И мой, и твой, и всех нас.
Он обвел морщинистой рукой серые зады московского посада и торчавшие из-за них городские вышки.
— Нонешнего-то князя, Андрея-то Юрьича, не нам судить, — продолжал он. — Я и не сужу. В Киев, да на булгар, да в Новгород он не за славой рать посылал и не за добычей, а для нашей пользы. Не понапрасну нашу кровь лил. Кабы славы искал или корысти, так озолотил бы себе в Киеве венец да там бы и сел, как другие князья до него делывали. А он, видишь, и не поглядел на киевский стол: братьям уступил, а сам у нас остался, из нашей земли рядит и Киев и Новгород. Такого еще не бывало! Свою волость бережет и того не забывает, что Киев — не печенежий город, а наш, русский, и что Новгородская земля — не чудская и не водская, а тоже своя. Сам помнит и другим напоминает. Силен, ничего не скажешь! А по мне, что сильней, то лучше: коли князь не силен, так какой он князь и кому нужен?.. Одна у Андрея Юрьича беда…
Неждан поглядел на посадничьи голубятни и на свежую резьбу огнищаниновых хором, которая так и сверкала, отражая скользящее по ней солнце.
— Одна беда, — повторил он: — не тем верит, кто ему верен, не тех любит, кто нас любит. Кого по городам понасажал? Думаешь, только на Москве плачут от его посадников, огнищан да тиунов? Все Залесье исстоналось! Спроси мою суздальскую родню, а про Владимир, чай, а сам от сына слыхал…
При упоминании о посадниках и огнищанах воротник встрепенулся и рассказал Неждану, что слышал давеча от дочери. Староста их ольховецкой деревеньки, когда узнал, что посаднику несдобровалось, прибежал в город и пожаловался Прокопию на посадничьи бессовестные поборы. Прокопий посулил пересказать их челобитье князю. Мужики повеселели: надеются на боголюбовского боярина, которого староста расхвалил за ласковый прием. А бабы не верят. Дочь воротника хоть еще и не увела своей яловки со двора, а как поглядит на нее, так и заплачет.
— Ласково слово пуще дубины, — пробормотал Неждан и, кряхтя, поднялся с травы. — Люди говорят: хвали рожь в стогу, а боярина в гробу.
И они поплелись дальше, толкуя неторопливо о своих домашних делах.
Пока шли по посаду, Неждан рассказывал, как меньшой его сын, тот, что расчищает себе починок на бережках под Дорогомиловом, все зовет отца к себе жить, а Неждан упрямится.
— Хоть и сыновний дом, а все не свой, — сказал он. — Чужой хлеб в горле петухом поет…
И, по старой привычке, пристально оглядел на ходу углы срубленной им когда-то проездной башни.
Воротник, который успел уж вернуться к своим любимым мыслям — о меньшаке, — отвечал Неждану только рассеянными кивками головы. От бессонной ночи и от навалившихся за ночь и за день забот у него ломило затылок и ныло в спине.
"Отосплюсь, — подумал он, входя к себе в избенку. — Когда-когда, а уж нонеча-то тревоге не бывать. Лишь бы перхота не подступила…"
Но в середине короткой июньской ночи его разбудила не перхота, а такой же стук в ворота, как и накануне.
Это были боголюбовские пешцы, посланные Прокопием прошлой ночью из Москвы в погоню за суздальским сватом Кучковны. И с ними случайный попутчик — нарочный из Смоленска к князю Андрею.
Нарочный встретился с пешцами по дороге и сказал им, что часа три назад наткнулся в Можайске на того самого суздальского боярина, которого они ловят. Боярин силился остановить нарочного и увезти его с собой, назад в Смоленск. Гонец выскользнул из боярских рук только хитростью.
Можайск был не под Андреевой рукой, и пешцы, не посмев въехать в чужую волость, воротились в Москву ни с чем.
Утром вокруг их подвод, стоявших на городской площади, все ходила младшая поповна и каждому робко заглядывала в лицо. Но кого искала, того не нашла и печальная вернулась домой. А дома попадья, оторвавшись от квашни, в которой месила тесто, встретила дочку бранью: попрекала за безделье и допытывалась, где выпачкала в дегте новую полосатую телогрею.
III
Все как будто осталось прежнее — как было неделю назад, и год назад, и три года назад: тот же дом, те же слуги, тот же сад, та же поеденная гусеницей черемуха перед городской стеной, та же река, те же луга и леса за рекой…
И те же дела…
Староста спрашивал Кучковну, какое сено возить на двор, какое оставлять в стогах.
Ключник спрашивал, каких девок посылать по малину, каких — по грибы и каких — на полку гороха.
Неждан приходил узнать, можно ли уступить дьякону вощины для наузней,[40] которые тот расставлял в лесу, подманивая пчелиные дикие рои.
Вдова холопа Истомы через сенных девушек просила дать овсяной муки для блинов, чтобы помянуть сына, который утонул намедни, купаясь с ребятами под Семчинским княжеским сельцом.
Дочери Гаше надо было объяснить, как кроить исподницы сыну.
Забегал раза два огнищанин и, как всегда обиняками, заводил речь о том, не променяет ли боярыня сивого жеребчика на его рыжую беспокойную кобылку. Он растягивал разговор как мог, все время взглядывал украдкой на Кучковну и настороженно вслушивался в звук ее голоса, стараясь понять, как следует ему с ней обходиться: как с опальной или, наоборот, как с ближней боярыней, обласканной князем.
И по-прежнему, даже чаще прежнего, навещала Кучковну посадница. С ней было труднее всего.
Она то плакала навзрыд, ожидая с часу на час, что и ее увезут, как увезли мужа, что отпишут на князя все их имущество, то донимала Кучковну расспросами о том, что говорил Прокопий, да какие толки были у Ивана с купцом и с суздальским сватом, да знала ли Кучковна, где спрятался брат, да кто надоумил искать его под рундуком, то вдруг неожиданно веселела, заливаясь девичьим смехом, щекотала Гашу и поносила на все лады постылого мужа:
— Хоть бы стлел в порубе, только бы не ворочался!
Шли уже пятые сутки с тех пор, как схватили Ивана Кучковича.
После вёдреных дней зарядили дожди, которым не видать было конца. Поникли к самой земле Яблоновые мокрые ветки с зелеными шариками. Кровельная дрань на городских башнях почернела. Внуку Кучковны надоело глядеть, как мельтешит на лужах кольчатая рябь, как подплясывают на ней водяные столбики, как вскакивают и пропадают дождевые пузыри. Он разочарованно смотрел на ровное, белое небо и думал, что таким тоскливым оно останется, верно, уж навсегда.
Под дождем миновал на Москве и Петров день — именины боярина Петра Замятнича, которые встарину, лет пятнадцать назад, справлялись столь торжественно, многолюдно и шумно, что о веселье на боярском дворе говаривала потом недели две вся московская округа.
После праздничной обедни пришли в боярский дом, по заведенному порядку, поп с дьяконом — петь именинный молебен. Кучковна, соблюдая столовый чин, установленный для Петрова мясоеда, потчевала их жареным журавлем под белым медовым взваром. Журавля подавали на пяти серебряных блюдах: на одном — грудку, и это называлось душка-блюдо, на других двух — два крыла, или, как говорили московляне, два папоротка, и еще на двух — два ходила, две ноги.
По такому же журавлю послали, повинуясь обычаю, на дом посаднице и сварливой огнищанихе. Попадье, дьяконице и проскурне снесли по крупитчатому пирогу с сыром, а Неждановой старухе, Истоминой вдове и жене долгобородого кашлюна-воротника — по калачу, чему другая воротница, не получившая такого дара, позавидовала до слез.
Степенная Гаша, скромно опустив глаза, подносила попу и дьякону чары с фряжским вином. Рослый светлобородый поп с простриженным на темени гуменцом,[41] оживясь от дорогого, непривычно душистого вина, которое доводилось пить только в этом доме и только в этот день, рассудительно говорил с несвойственным ему в другое время красноречием о покосе, о вшице, напавшей нынешним летом на кур, и о том, что ежели позавчера, на Самсона-странноприимца, был дождь-косохлест, стало быть, дождям лить еще сорок ден. Дьякон много раз благодарил за вощины. О недавней беде, случившейся в боярском доме, речи не было.
После их ухода зашел с черного крыльца вдовый пономарь. Он был не хмелен, но, как всегда, чуть-чуть впрохмель. Объяснив боярыне, что вдовец — деткам не отец, а сам — круглый сирота, он попросил для своих деток калачика. Поднесли и ему чару меду.
В обед боярыня приказала, тоже по обычаю, выкатить для челяди бочку пива. Пиво выпили, но веселья не поднялось и песен не играли. По двору, шлепая лаптями по воде, натягивая себе на голову мокрую рогожу, шатался под дождем пьяный скотник, говорил сам с собой и злобно косился красными глазами на окна боярских хором.
В этот день, всегда и в прошлые годы тяжелый для Кучковны, у нее с самого утра так щемило сердце, что не могла ни Гашу приласкать, ни внука позабавить.
А от Груни все не было вестей!
IV
На следующий вечер, перед закатом, серый полог сплошных облаков налился горячей желтизной, и по его нижнему краю быстро побежали яркие клочья золотого дыма. А когда облачный занавес потончал, прорвался и открыл наконец бледную пустыню чистого неба, в ней обозначился узкий, еще более бледный просвет только что родившегося месяца, будто прорезанный одним легким, но точным движением острейшего лезвия.
Кучковна, увидев его с вышки, словно вспомнила что-то: нахмурилась и поспешно спустилась к себе в светелку.
Было еще одно несделанное дело — неотложное, только ее касавшееся, только от нее зависевшее и почти неисполнимое. О нем-то и напомнил молодой месяц: куда убрать венец?
О венце не должен знать никто: так, по намеку Прокопия, хочет князь, так решила и она. И дочерям не скажет. А в духовной отпишет на московский Предтеченский храм.
Но пока жива, где его держать? Как уберечь от людского любопытства?
На ларцы, на сундуки, на кладовки она больше не надеялась после того, что было пять дней назад. На другое же утро после ухода боголюбовцев она распорядилась отскрести песком все полы, промыть щелоком все стены и потолки, окурить можжевельником все покои. Однако и после того дом продолжал казаться ей затоптанным, заплеванным, смрадным, открытым всякому, кто захочет опять его осквернить. И всё слышались шаги.
Доверить кому-нибудь на сохранение? Кому же? О посаднице, об огнищанихе, вообще о своей, богатой братии нечего и думать: все предадут! Отдать попу? Дьякону? Скажут женам, а жены — всей Москве. Кучковна перебрала в уме всю свою челядь (а ее было много) и убедилась с грустью и со стыдом, что хоть, кажется, никого из подвластных ей людей она и не истязала, как другие бояре, однако же ни с кем не умела быть так коротка и участлива, чтобы можно было понадеяться на истинную любовь и полную верность хотя бы одного из них. "Неждан!" мелькнуло у нее в голове. Он, конечно, не выдаст. Но его век недолог. Да и старуха у него пустобайлива. Нельзя.
Зарыть? Да, только и остается — зарыть. Своими руками. В глухом углу сада, правей черемухи, под кленом, который помнит с детства. Сегодня же, как только смеркнется. А не то — неровен час! — вдруг снова кто-нибудь нагрянет.
Гаша уехала с ключником в Кудрино собирать шерсть, которой тамошняя деревня расплачивалась уже много лет с боярином Петром то ли за какой-то долг, то ли за что-то другое (Петр не говорил Кучковне, за что). Кудринский деревенский мир не принес нынче шерсти в урочное время, к Петрову дню. Гаше там много будет дела. Вернется поздно: не помешает матери.
Но ведь кожаный баул размокнет и сгниет в земле. Жемчуг погаснет.
Ее глаза упали на стоявший в головах постели железный ковчежец, где берегла свое и Гашино узорочье: бусы, жемчужные нити, запястья. Переложить все в материнский кипарисовый ларчик, благо он неполон. А баул упихать в железный ковчежец. Только войдет ли один в другой?
Она проворно вынула из-под подушки телячий баульчик с медными застежками, поставила его на стол, выдвинула к двери железный ковчежец, быстро его опростала, набила битком кипарисовый ларец и, кое-как захлопнув его крышку, только собралась примерить, уместится ли баул в ковчежце, как за дверью женский голос вскрикнул: "Паша!", и в светелку шумно ворвалась посадница.
— Паша!
Она так запыхалась, взбегая по лестнице, что не могла выговорить ни слова. На ней лица не было.
— Заковали! — вымолвила она наконец. — В поруб вкинули!
— Кого?
— Моего. Говорила я ему, постылому: "Не пересылайся с княгиней, доведет она тебя до беды!.." Паша, теперь и меня возьмут!
Все пышное тело посадницы колыхалось от рыданий.
— Зачем тебя брать, что ты! Кому ты мешаешь? — успокаивала Кучковна, гладя ее по плечу. — Да кто тебе сказал, что заковали? Может, врут.
— Да, как бы не так! «Врут»! То-то и есть, что не врут! — выкрикивала злым голосом посадница, отняв руки от обезображенного плачем, неузнаваемо постаревшего лица.
— Да от кого ты слышала?
Оказалось, воротился только что домой посадничий стремянный: пригнал назад лошадей, на которых отвозил посадника. Стремянный и сказал.
— Откуда воротился! Из Боголюбова?
— А то откуда же?
Было слышно, как по лестнице громко топочут детские ножонки. Кучковна хорошо знала этот звук: так, шаловливо топоча обеими ногами на каждой ступеньке, поднимался к ней всегда ее внук.
— Что с Иваном? — спросила она.
— Что с Иваном! — все с той же злостью передразнила посадница, утирая глаза концом спущенного с руки длинного рукава сорочки (детский топот приближался). — Твой Иван всему причина! Всех взбулгачил, а нам из-за него горе хлебать! — Она опять громко зарыдала. — Нет твоего Ивана, вот что!
— Как — нет?!
Внук, слыхать, уж поднялся по лестнице и топотал теперь так же громко и шаловливо по гладкому полу, изображая скачущего коня.
— Так вот и нет! — голосила сквозь слезы посадница. — Голову отрубили твоему Ивану. Ему и купцу. А моего — в поруб.
— Пречистая!.. А Груня? А Петр?
Дверь распахнулась вихрем, грохнув о стену скобой. Женщины не успели оглянуться, как раздался сперва глухой звук падения, потом, после длившейся один только миг тишины, короткий крик испуга, сразу перешедший в длинный, пронзительный детский вопль.
Ребенок, лежавший на полу ничком, медленно приподнимал кудрявую голову, схватившись рукой за глаз. Кровь стекала по детским пальчикам и капала на сосновые половицы, где успела уже налиться высокая темно-красная лужица.
Вбежав опрометью в бабкину светелку, он оступился о порог и упал, стукнувшись головой об угол выдвинутого к двери железного ковчежца.
— Ой, тошнешенько! Ой, окривел! Ой, голубеночек! Ой, головушку проломил!.. — причитала посадница.
Как все бездетные женщины, она была непритворно чадолюбива. Гашиного сына она всегда ласкала с трогавшей Кучковну и удивлявшей Гашу нежностью.
— Паша, да ты не так взялась! — суматошилась она. — Рученьку-то его отыми!.. Куда это Гаша у вас девалась?.. Крови-то, крови!.. Где у тебя вода? Ох, подорожничку бы приложить! Дай сбегаю.
И впрямь сбегала.
Мальчик глубоко рассек себе правую бровь. Глаз был цел, но кровь все шла да шла. У Кучковны липли от нее руки. Ребенок продолжал всхлипывать и вопить, а когда бабкины пальцы приближались к ране, взвизгивал, как звереныш, и отбивался руками и ногами.
Так продолжалось больше получаса. Начинало смеркаться.
Кое-как вдвоем обмыли вспухшее от слез личико, остановили подорожником кровь и обвязали курчавую голову полотенцем. Мальчик стал затихать. Только губы, шея и грудь вздрагивали еще временами от недавнего плача. И вдруг на руках у Кучковны уснул.
— Пускай спит, — сказала шепотом Кучковна. — Время уж ему почивать. Снесу его к Гаше.
— И мне пора. Прощай, — ответила тоже шепотом посадница, идя за ней следом на носках. Она была, несмотря на полноту, на редкость легка на ногу.
— Нет, погоди: еще спросить тебя надо, — шепнула Кучковна.
Посадница кивнула головой.
Когда, покачав немного внучонка на руках и потом осторожно уложив его в постель, Кучковна вернулась к себе, посадница стояла спиной к двери перед столом. Услышав шаги Кучковны, она быстро обернулась, всплеснула руками и с восторженной улыбкой на расцветшем, опять помолодевшем лице, у которого не сошли еще красные пятна от слез, воскликнула:
— Паша! Что это у тебя?
На столе, пригашенный сумерками, мерцал золотой венец.
Телячий баул стоял раскрытый. Через его край свешивался кое-как вишневый пуховичок, из-под которого неряшливо торчал расшитый серебром угол черной бархатной пелены. Скомканный голубой шелковый плат валялся рядом. Рука, только что доставшая венец, как видно торопилась.
— Паша! Что ж молчишь? Что обомлела? Откуда у тебя такой? Давно ли? Что ж мне не показала? Вот диво-то! Ну и диво! Жемчугу сколько! А на стебле-то какое зерно! Лазоревое! Да какое уродоватое!.. Стой-ка! Где это я такое видела? Святые угодники! Да ведь это оно и есть! Княжое! Ну так и есть, оно! То самое, что купил Андрей Юрьевич давно еще, когда боголюбовские палаты кончал себе складывать, у гостя у заморского, что на верблюдах приезжал. Да к тебе-то как попало?.. Ох, Паша, Паша! Ну и молчальница! Ну и тихоня!
Посадница погрозила пальчиком и залилась лукавым смехом.
— А ну-ка, примерь.
И она потянулась руками к венцу, чтобы подать его Кучковне.
— Не тронь! — почти беззвучно проговорила та, став перед столом и загородив собой венец.
Посадница попятилась.
Они молча, пристально смотрели друг другу в глаза.
— Ишь ты, какая строгая! — заговорила наконец посадница и опять засмеялась деланным смехом. — Как есть княгиня! А я-то дура, рядом живши, знать ничего не знала, ведать не ведала.
Она снова нехорошо хохотнула и, жеманясь, отвесила Кучковне низкий поясной поклон:
— Уж ты, государыня княгиня, прости-помилуй меня, деревенщину, что я своими холопьими ручищами твое государское узорочье полапала.
И, поджав губы, она все так же жеманно, подражая дворцовому обычаю, поплыла к двери.
Кучковна остановила ее.
— Что прикажешь, матушка княгиня?
— Довольно смеяться, — тихо выговорила Кучковна. — Не время смеяться ни мне, ни тебе: кровь пролилась.
Посадница хотела что-то сказать, но, встретившись глазами с Кучковной, осеклась.
— Ты который год здесь, на Москве, рядом с моим двором живешь? — спросила все так же тихо Кучковна.
— Который год? — Посадница оторопела от неожиданного вопроса. — Не упомню который. Сама, небось, знаешь. Чай, десять годов, а то и все двенадцать.
— За двенадцать годов видала от меня зло?
— Да что это ты, Паша? О каком зле говоришь? Никакого зла я от тебя не видела.
— И ты не твори мне зла.
— Да какое ж мое зло?
Тихий голос Кучковны смущал и даже пугал посадницу своей необычной, мертвенной ровностью.
— Велика ли зло, ежели я одним глазочком на то взглянула, что твоей же рукой всем напоказ положено! А что без тебя распеленала, так и в том беды нет: ни стебелечка не обломила, ни зернушка не отковырнула…
— Не про то говорю, — перебила ее Кучковна. — Что увидала, то про себя держи, а другим никому не сказывай.
— Да кому ж мне сказывать?
— Никому, — повторила Кучковна, — если не хочешь мне зла. Обещаешь ли?
— Дай крест поцелую, Паша!
— Не надо: поверю и так твоей совести. Удержишь ли язык?
— Да какая ж мне корысть сказывать?
— Тебе корысти нет, а мне… — Кучковна не договорила. — Того, что ты видела, — прибавила она помолчав, — другой после тебя никто не увидит. И не выпытывай, откуда мне досталось. Одно скажу: не так досталось, как думаешь.
Взгляд посадницы зажегся любопытством. Она видела, что Кучковна не лжет. Подступив к ней ближе, она спросила вкрадчивым шепотом:
— Петр?
— Что — Петр?
— Твой Петр… у княгини… унес?
Кучковна ничего не ответила. Даже удивления не было в ее неподвижном взгляде. От этого неживого взгляда посадницу мороз продрал по коже. Она заторопилась уходить. Кучковна опять ее удержала.
Было уже совсем темно. В окошко заглядывали две крохотные звезды. Они то показывались, то скрывались и мигали так, будто их задувало каким-то вышним, не достигавшим земли ветром.
Кучковна заговорила все тем же ровным, угасшим голосом:
— Стремянный не сказывал, что с Груней… и с Петром?
— Про Груню ничего не сказывал. А Груниного мужа и Петра видал.
— Где?
— В Боголюбове.
— На воле?
— Да.
— Оба на воле?
— Оба.
— А брат Яким?
— И Яким на воле. Стремянный видал, как Яким к княжому ключнику, к Анбалу, в дом входил.
— К Анбалу?
— Что удивилась? К Анбалу все ходят: сам князь не гнушается. Вот счастье-то какое Анбалово! Помнишь, Паша, какой он был, когда пришел во Владимир невесть откуда проситься к князю на службу? Тощой — щека щеку ест, на лохматой грудище сорочка насквозь протлела, ноги босые, все в струпьях. А сейчас!..
Проводив посадницу, Кучковна в темноте, ощупью уложила венец в баул. Потом вышла на лестницу и кликнула, чтоб подали свечу. Когда сенная девушка внесла огонь, первое, на что упал свет, было пятнышко детской крови на полу перед порогом. Оно уже засохло и казалось черным.
V
У старосты Ольховецкой деревеньки, где жила дочь воротника, была свояченица, по прозванию Жилиха, ленивая и бестолковая бабенка, большая охотница ходить по чужим домам и разносить вести. Наведываясь частенько к младшей сестре, к старостиной жене, она угодила к ней и в тот памятный день, когда староста бегал в город к Прокопию с челобитьем на посадника.
Не успел староста вернуться домой, не успел рассказать жене о беседе с боголюбовским боярином, как Жилиха, не все дослышав и не все поняв, уж топала по мельничной плотине, загребая косолапой ногой, и всем встречным бабам говорила одно, многозначительно помаргивая подслеповатыми глазами:
— От князя милость!
Когда ее спрашивали, какая милость и кому, она отмахивалась рукой и топала дальше, объясняя, что ей недосуг попусту балякать, что надо поскорее поспеть к себе на Кукуй, а то народ у них на Кукуе больно уж простой и если вовремя их не надоумить, то княжеская милость так мимо них и пройдет.
На ручье Кукуе стояло всего три двора. Жилихе потребовалось немного времени, чтобы взмутить головы двум соседкам. Ошеломленные соседки побросали все домашние дела и побежали в поле рассказывать мужьям, что князь дозволил или даже приказал всем вольным сиротам боярскую землю больше взгоном, то есть сообща, не пахать, яловок на боярские дворы не водить и боярские сады плетнями не оплетать.
А Жилиха уж спешила с еще более приукрашенными вестями в Воробино. Из Воробина она побежала на Гостину гору. Ночь застала Жилиху в княжом Семеновском селе, откуда она ушла только на следующее утро, нашептавшись вдосталь со своей семеновской кумой, которую уверила, что о княжой милости вчера в городе весь день кликали прискакавшие из Боголюбова биричи.[42]
Никаких биричей народ нигде не видал и не слыхал, словам Жилихи не придавали большой цены, да про нее скоро и забыли, однако же вести, разнесенные ею, были таковы, что никто не мог отнестись к ним равнодушно. На следующий день вся московская округа только и говорила, что о мнимой княжеской милости.
С особенным волнением толковали об этом в нагорном селе Кудрине, что раскинулось в стороне от других подмосковных сел и слобод, над речкой Пресней.
Там минувшей весной был скотский падеж. Село стояло до сих пор кругом опаханное, а на луговом берегу Пресни еще не позаросли травой черные пропалины от костров, через которые перегоняли больную скотину. Овец убавилось вшестеро, и кудринские сельчане дошли до последнего отчаяния, ломая голову над тем, где набрать шерсти, чтоб отнести на боярский двор.
Когда вести о биричах докатились и до них, они сразу же послали старосту в город разузнать, что правда, что ложь, а когда он воротился, расселись, по обычаю, под дубом на сложенных бревнах и, прислушиваясь, как где-то на Трех горах кукует последняя кукушка, стали обдумывать всем миром, что делать дальше.
Рассудили так, что раз шурин боярина Петра Замятнича закован и увезен, стало быть, и сам боярин не в большой чести, и хоть биричи ни о чем, слыхать, еще не кликали, однако где дым, там и огонь, где квас, там и гуща: ежели весь народ говорит о княжой милости, так должна же быть в этом слухе хоть какая-то правда. Взвесив все эти доводы, мир решил шерсти не давать и на том стоять твердо.
Так и сказали боярскому ключнику Маштаку, когда он после Петрова дня явился за шерстью.
Маштак принялся стращать, что возьмет шерсть силой, но приехавшая с ним боярская дочь не дала ему разойтись: сама повела речь, пытаясь уладить дело миром. Однако из долгих уговоров молодой боярыни ничего не вышло. Кудринские сироты угрюмо молчали, отводя глаза от Гашиной высокой развалистой кики, на которой при каждом движении ее красивой головы вздрагивали живые серебряные репейки. Только староста повторял время от времени со вздохом все одно и то же:
— Когда шерсти нет, откуда ее возьмем? Не свои же бороды стричь!
Потом вдруг выскочил из толпы маленький оборванный мужичишка с косым глазом и, тыча пальцем в сторону ключника Маштака, зачастил бабьим голосом:
— Ты с него бери шерсть, а не с нас! Спроси его, сколько нашей шерсти он до вашего двора не довез за все-то годы. Куда ее девал? Пускай теперь за нас и отдает!
Тогда Маштак, с неестественно ярким румянцем на плоском темнобородом лице, выступил опять вперед и, стараясь сохранить достоинство, сказал, что не им, глупым смердам, решать, с кого брать шерсть, а решать это боярыне Прасковье Кучковне. Он расскажет боярыне об их бездельном ослушестве и о том, что даже дочери боярской не постыдились. И как боярыня Прасковья Кучковна скажет, так и будет.
На этом и уехали.
Вернувшись домой только к ночи и пройдя прежде всего в материнский терем, Гаша сразу же приметила, что с матерью что-то произошло: такой она никогда еще ее не видывала.
Кучковна, вся поникшая, сидела за столом, перед незнакомым Гаше закрытым кожаным баульчиком с медными застежками. Когда Гаша вошла, боярыня даже не посмотрела на дочь. Неподвижный взгляд Кучковны не отрывался от слабого пламени догоравшей свечи.
Гаша начала было рассказывать о своей кудринской неудаче, но мать, всегда внимательная к хозяйственным делам, остановила ее движением руки, не то равнодушным, не то пренебрежительным, не то усталым. Потом не своим, тусклым голосом велела Гаше идти к сыну, объяснив очень коротко, что с ним случилось.
Проведав спящего сына, Гаша поспешно воротилась к матери и, обняв ее за плечи, спросила:
— Что с тобой, матушка?
Кучковна подняла на дочь глаза, которые при неверном огне свечи казались особенно большими и, как колодезная вода, прозрачно-темными. Она долго смотрела на Гашу молча, будто стараясь лучше запомнить ее черты. Потом проговорила очень тихо и однозвучно:
— До нашего дома кровь добрызнула.
Огонь оплывшей свечи дрогнул и погас.
Теперь в окно глядело много звезд. Одни едва теплились, другие ярко горели белым, безучастным светом. Ни одна не мигала. Ветер сошел на землю. Было слышно, как под его напором шумят сосны.
VI
За ночь ветер вошел в силу.
К утру он уже гнал по Москве-реке длинные, разводистые волны, сердито качал и крутил чей-то уносимый течением пустой челнок, трепал на звоннице колокольные веревки, рвал и швырял к земле печной дым и ерошил рябые перья поповских кур. По глубоко синему, начисто подметенному небу мчались редкие клубы пухлых облаков. Трава ходила ходуном и, будто в испуге, припадала к земле, а на берегу задранные ветром круглые листы мать-и-мачехи все побелели, оборотив вверх нежный бархатец своей изнанки.
У кудринского косоглазого мужичишки, сидевшего на земле с пятью своими одножихарями перед закрытыми воротами боярского двора, трепетали на ветру все махры его одежонки и все волоски на заросшем до глаз лице.
Когда посадница вышла на открытые переходы своих хором посмотреть голубей, которые, надувшись шарами, жались друг к другу на полочках, и потом перегнулась через перила, чтобы взглянуть на кудринских ходоков, ветер содрал у нее с головы затейливо повитой алый убрусец,[43] и она еле удержала его в руке, поймав за вышитый золотом конец.
А когда выбежал из своей калитки огнищанин, вихрь мигом загнул вверх обе его полы и, стегнув по лицу, заставил низко пригнуть к груди горбоносое лицо. Так, с отвороченными полами и опущенной головой, прошагал он мимо вскочивших на ноги кудринских сирот и в ответ на их низкие поклоны только приподнял одну бровь и скользнул холодным глазом по их почтительно поджатым животам.
А ветер в это время наддал еще. На обветшалой кровле пустого княжеского терема что-то загромыхало, и сорванная бурей тесина гулко хлопнулась оземь. На звоннице закачались и тревожно задленькали мелкие колокола. Огнищанин, не останавливаясь, кинул равнодушный взгляд на терем, на упавшую доску, на звонницу и торопливым, деловым шагом завернул мимо поповского двора к Боровицким воротам, где против Предтеченской церкви, ниже княжеской усадьбы широко расположился его конный двор.
Ключник Маштак сидел на ступеньке боярского крыльца. Ветер сбивал на сторону его блестевшую на солнце темную бороду, отчего плющилось еще более его широкое свежее лицо. Когда он, морщась, поглядывал на солнце и скалил при этом ровные, съеденные, как у лошади, зубы, в этом оскале было заметно выражение нетерпеливой досады: он уже два раза посылал сказать о себе боярыне, но та все не принимала его.
Маштак, еще не старый человек, когда-то вольный московский слобожанин, пошел к боярину Петру в ключники без ряда[44] и тем обратил себя в холопа, то есть в раба. Но холопье, или, как чаще говорили, обельное, бесправие окупалось тайными выгодами дворовой жизни. Петр Замятнич ценил в Маштаке деловую находчивость, умение крепко держать в руках челядь и твердость в обхождении с тянувшим к боярскому двору сельским людом. Кучковна не верила ключнику, не любила его, но не смела прогнать Петрова ставленника.
Маштак отлично знал (чего не знала Кучковна), с каких пор и почему кудринский мир носит шерсть на боярский двор.
Он сам был свидетелем, как боярин Петр еще в те годы, когда подолгу живал на Москве, приглядел себе на Пресне завидную ольховую лядину с доброй брусничной землей, как приневолил кудринский мир повалить и спалить эту лядину и как потом, когда земля эта принесла огромный урожай, боярину захотелось выровнять межу новой нивы и для этого прибрать к рукам еще и сиротский клин, вдавшийся в его палянину. А в этом клину, очищенном многолетними трудами от пенья-коренья, были все лучшие пашни кудринского мира — весь их хлеб.
С боярином не поспоришь: против семнадцати кудринских орачей Замятнич уже в те, давние годы мог выставить отборную сотню челядников с топорами, вилами и нагвозженными кистенями. Сиротам оставалось одно: плакать. Но слезы не умягчили бы боярского сердца. Все уладил молодой еще в то время ключник Маштак, которого кудринцы задобрили подарком: он убедил своего владыку, что выгоды будет больше, если сироты откупятся шерстью, а поглянувшийся боярину клин, покуда они будут исправно носить шерсть, пускай, так и быть, остается пока за ними.
С тех пор кудринский мир и носил шерсть каждогодно к Петрову дню вот уж шестнадцать лет.
Замятничу это было в самом деле куда прибыльнее и проще, чем орать своей челядью клин. Да и Маштак оказался не в убытке: его отец ловко бил шерсть и теперь, имея всегда благодаря сыновней подмоге запас овечьей шерсти, стал первым на Москве шерстобитом.
Об этом-то и думал сейчас Маштак, нетерпеливо притаптывая каблуком сорную травишку у боярского крыльца. О том же размышляли и ждавшие за воротами кудринцы.
Вечор, после отъезда боярской дочери и Маштака, они долго просидели на бревнах под дубом. Вникнув в Маштаковы угрозы, они поняли, что напрасно понадеялись на Петрову опалу. Боярский двор, видать, еще силен, а им, сиротам, помощи неоткуда ждать. Косой забиячливый мужичишка только испортил дело, остервенив своими уколупинами мстительного ключника. Теперь, того и гляди, налетят на их пашни боярские челядники. Лишь сама боярыня — ежели допустят их до нее и ежели найдет на нее добрый стих — может отвести от них беду.
На рассвете выбранные миром ходоки уж шагали в город по колеистой и ухабистой Волоколамской дороге. Дорога шла густым лесом. Внизу было тихо, а наверху хозяйничал ветер. Макушки деревьев гнулись все в одну сторону, мотали ветвями, свистели и шелестели взбудораженным листом, будто спеша передать друг другу пошепту какие-то только что услышанные тайные вести.
Когда поравнялись с Хлыновским починком, где среди нетронутого мелколесья рубил себе двор княжой птицелов, кудринский староста, несмотря на всю свою мрачность, не мог удержать улыбку и сказал косому:
— А тебе опять соловьев ловить!
На Москве было хорошо известно, что если одаривать Маштака, то ничем ему так не угодишь, как соловьями. Его просторная изба на подгородном берегу Москвы-реки была полна птичьих клеток. Весенними вечерами из его окон неслись то соловьиные раскаты с дробью и стукотней, то ямской свист певчего скворца.
VII
О том, что Иван Кучкович казнен, а посадник закован, знала уж вся Москва. От посадничьего стремянного услышали и о том, что старший Кучкович на воле и живет по-прежнему в Боголюбове, в той же, видимо, чести, что и раньше.
И в городе и в посаде все начало утра ушло на вызванные этими вестями пересуды. Но за последний год боярские опалы и казни сделались так часты, что им перестали дивиться. Братья Кучковичи давно отчудились от Москвы, и судьба их занимала московлян гораздо менее, чем участь посадника, чья жадная рука тяготела уж двенадцать лет и над городом, и над посадом, и над окрестными слободами и селами.
"Замстались ему наши обиды!" — таков был общий голос.
Однако и о посаднике поговорили недолго, а когда в городе появились кудринские ходоки, то их вчерашний спор с боярским ключником стал сразу же главным предметом всех московских бесед, оттеснив за пределы людского внимания все остальное. Это было дело свое, близкое, понятное, так или иначе касавшееся всех и к тому же давно небывалое: долгий опыт соседства с княжим и боярским дворами отучил подмосковных сельчан и слобожан от непокорства сильножителям.
Задело за живое и огнищанина.
Он отлично понимал, что подстрекнуло кудринских сирот на дерзость, и опасался — не без причины, — что зараза может перекинуться и на другие сельские миры. А ему, блюстителю княжой московской усадьбы и управителю княжой московской вотчины, приходилось ведаться с очень многими окрестными слободами и селами. Одни из них, целиком холопьи, находились в полной его власти; с других, считавшихся вольными, он, по старине, брал в пользу князя прямую дань, а третьи, по имени тоже вольные, оплел на новый лад такими же путами, какими Кудрино было привязано к боярскому двору, а Ольховецкая деревенька — к посадничьему.
Доход и с тех, и с других, и особенно с третьих был велик, а что из этого дохода шло в княжую казну, что оставалось огнищанину, этого никто не проверял.
Но ястребок успел обзавестись, кроме того, и своей подмосковной вотчиной, и судьба собственных угодий занимала его, конечно, отнюдь не менее а еще гораздо более, чем доверенное ему княжое хозяйство.
Нынче утром, отворяя калитку, которая под натиском ветра гудела и билась о верею, он вовсе не намеревался идти на пустой в этот час конный двор. Но как только завидел кудринцев, тотчас же, будто по спешному делу, направился туда — только затем, чтобы мимоходом поближе всмотреться в лица сельских послов и по их повадке решить, насколько опасна сиротская крамола.
Их поклоны успокоили ястребка. А когда он прошелся по конному двору, где после утренней уборки крепко бил в нос приторный запах лошадиного пота и навоза, на сердце у огнищанина стало еще легче. Погуливая неторопливо по конному двору, ястребок думал о Кучковне.
Он хорошо к ней присмотрелся, считал умной хозяйкой, слегка презирал за слабость в обхождении с низшими, побаивался ее боголюбовских родственных связей и завидовал богатству. Плодом всего этого явилась глухая неприязнь, старательно скрытая под личиной суетливой угодливости.
При всем том, однако, размышляя сейчас о кудринском деле, он ничуть не сомневался, что Кучковна захочет и сумеет принудить к покорности сирот.
Но его мысли о боярыне на этом не обрывались.
Известия, привезенные посадничьим стремянным, раззадорили любопытство огнищанина, не рассеяв его недоумений: он все еще не мог понять, в какой версте (это было его любимое словцо) держит князь Замятнича и его жену. Надо ли ему, огнищанину, по-прежнему гнуть перед ними шею или же можно наконец приподнять голову? Уяснить себе это надо было немедля, именно сейчас, пока нет посадника: ястребку давно хотелось прибрать к рукам соблазнявшее и его и посадника бобровое ловище на речке Напрудной, которое было пожаловано боярину Петру еще покойным князем Юрием Владимировичем Долгоруким.
Огнищанин закинул голову, посмотрел, как ветер мотает в небе галочью стаю, и решил тотчас же сходить к боярыне, чтобы под видом дружеской беседы о кудринцах повыведать у нее правду о боголюбовских делах.
VIII
Но к Кучковне и его не допустили.
Гаша, несколько растерянная, объяснила, что матери неможется: всю ночь провела без сна, а сейчас, кажется, задремала.
Это была неправда: Кучковна не спала. Когда Гаша, зная это, услышала от огнищанина, что за воротами давно уж дожидаются кудринцы, она поспешила учтиво его спровадить, прогнала с крыльца и Маштака, а кудринских ходатаев велела впустить. Поговорив с ними, она побежала наверх к матери — передать их челобитье: они спрашивали, не согласится ли боярыня принять от них взамен шерсти рыбу, которую они надеются наловить зимой.
Кучковна лежала, уставясь глазами в потолок, неподвижная, как покойница. Когда Гаша рассказала, как обошлась с огнищанином и с Маштаком, боярыня в знак одобрения и благодарности опустила потемневшие от бессонницы веки, но ее бледное лицо оставалось по-прежнему мертвенно-безучастным.
Вдруг оно ожило: слова дочери о приходе сельских послов будто воскресили Кучковну.
— Сами, говоришь, пришли? — вымолвила она, слегка нахмурясь. — Верно ли знаешь, что сами? Не Маштак ли приневолил? Где они?
Узнав, что ходоки на крыльце, она приказала удивленной Гаше ввести их в сени, куда никогда не допускался черный народ. Услав с этим поручением дочь, она тотчас же поднялась с постели и, не раздвигая нахмуренных бровей, словно что-то напряженно обдумывая, медленно направилась вниз.
Кудринцы упали на колени, когда боярыня появилась в дверях сеней. Она молча оглядывала их одного за другим с такой пристальностью, точно перед ней были никогда не виданные пришельцы из неведомых краев.
Сироты, вконец заробевшие от такого приема, ослепленные чистотой просторного боярского чертога, не смели разинуть рот. Гаша с недоумением и не без тревоги наблюдала за матерью.
Взгляд Кучковны, оторвавшись от мужицких простоволосых голов, устремился в окно. На ее лице застыло странное, мечтательное выражение. Губы, сложившись в страдальческую полуулыбку, слегка дрожали.
Ветер, словно негодуя на молчание, которое царило в ярко освещенных солнцем сенях, ломился в стены и свистел на все лады в оконных щелях. Слышно было, как он бушует в подкровелье.
— Что стоите на коленях? — проговорила наконец Кучковна, снова переведя глаза на кудринцев и осматривая их будто с удивлением. — Вставайте. Ступайте домой.
Мужики не двигались.
— Вставайте же! — повторила Кучковна, и брови ее опять нахмурились. — Я ж вас не держу. Солнце-то вон куда поднялось, а вы тут который уже час без дела маетесь.
Кудринский староста смущенно из-под нависающих на глаза черных волос оглянулся на своих и неловко поднялся с колен. За ним и другие.
— Что ж не идете? — продолжала боярыня, с упреком глядя на косого мужичишку, который со страху не знал, как и съежиться. — Пока до села дошагаете, пока дойдете до лугов, там и полдни. А бабам-то вашим как без вас управиться — в такой-то день? Эдакого ветра да эдакого солнца ваше-то сено когда еще дождется? Ступайте.
— Матушка-боярыня, — хрипло выговорил староста, — а с шерсткой-то как прикажешь?
— С какой шерсткой?
— Да с той-то, что тебе не принесли.
— Не надобна мне она, — почти надменно ответила Кучковна: — мало ль у меня своих овец?
— А рыбку-то о зиме примешь ли?
— О зиме! — повторила со вздохом боярыня, и по ее лицу пробежала опять та же странная, печальная полуулыбка, какой Гаша, с испугом ловившая каждое движение матери, никогда еще у нее не видывала. — Далеко еще до зимы. Ох, далеко!
Кудринцы беспокойно зашевелились. Косой мужичишка зашептал что-то на ухо старосте.
— А до зимы-то, матушка-боярыня, — заговорил тот, — где нам, сиротам, столько рыбы наловить, чтоб тебя удовольствовать? Пока сено смечем, пока хлеб уберем, пока посеемся…
— Да и зимой велик ли у вас досуг? — перебила его Кучковна.
— Велик ли, нет ли, а тебя не обманем, — с достоинством произнес староста, привычным движением головы стряхивая волосы со лба.
— Обмана, матушка, жди не от нас, а на своем дворе! — ввязался косой. — Твой-то ключник… — завел он было задирчивым бабьим голосом.
Но староста, наступая ему на лапти, оттеснил его назад и не дал договорить.
Да Кучковна его и не слушала.
— Ни рыбы не возьму, ни шерсти, — вымолвила она негромко, точно говоря сама с собой и глядя куда-то вдаль. — Ничего с вас не возьму. Ступайте домой да накажите вашим женкам, чтоб помянули убиенного болярина Ивана.
Она поклонилась им в пояс и, не поднимая головы, вышла из сеней.
IX
Закишел весь московский муравейник, как только разнеслась весть, что боярыня простила кудринцам долг. А разнеслась эта весть мгновенно.
Раньше всех узнал о случившемся Маштак. Его плоское лицо все перекосилось. Через сенных девушек, которые его до смерти боялись, он выманил Гашу вниз и молил пустить его к боярыне.
Гаша, загораживая собой ход наверх, мотала отрицательно головой.
— Что ж это будет? Что будет? — твердил Маштак. — Батюшка-то твой, боярин-то, что скажет? С кого взыщет? С одного меня! А я ль не старался? Да и без того что беды-то! Ни в одно село теперь не покажись! От сраму-то хоть под облак прянь, хоть в воду уйди! Что будет-то? Что будет?..
Не успел уйти Маштак, как перед Гашей предстал огнищанин.
Желая обставить свой приход некоторой торжественностью и показать, что не по-соседски навещает боярыню, а является к ней по важному делу, как блюститель княжого добра, которому из-за ее опрометчивого поступка грозит опасность, огнищанин принарядился: сменил домашнюю короткую одежку на долгополую, боярскую. Не в меру узкие в запястье рукава стесняли его движения.
Гаша приняла его почтительно, даже меду предложила, но когда он попросил свидания с боярыней, наотрез отказалась тревожить больную мать.
Ястребиная голова заерзала затылком по высокому стоячему вороту. Огнищанин облизнул потрескавшиеся губы и, теряя обычную сдержанность, сказал с едкой усмешкой:
— Для смердов здорова, а для княжого слуги больна?
Гаша объяснила, что Кучковна давеча через силу поднялась с постели, а как вернулась наверх, сразу опять легла почти без памяти. В Гашином голосе слышалось такое волнение, что огнищанин не мог ей не поверить.
— А в здравом ли была рассудке, когда с орачами говорила? — спросил он.
Гаша ответила не сразу. По игре ее взволнованного лица было понятно, что она и сама не раз задавала себе этот вопрос.
— Так как же быть-то? — продолжал уже смелее огнищанин. — Не велишь ли их воротить, пока не дошли до Кудрина? А как придут, пошли их отцовым именем ко мне на двор. Иначе не оберемся беды. Сама знаешь: народ такой, что стоит одиножды ему потакнуть, сразу понаглеет. А тогда ходи перед ним на карачках.
Пока Гаша отбивалась, как могла, от настойчивых уговоров огнищанина, посадница успела незаметно проскользнуть наверх.
Кучковна только чуть приоткрыла глаза, когда посадница накинулась на нее с шумными упреками:
— Да ты, никак, спишь, Паша? Подними брови-то: чай, не ночная пора. До сна ли? Что наделала? В уме ли? Мне под Ольховцом пруд копать, а после твоей оплошки как к мужичью подступлюсь?.. Чего вздыхаешь? Не вздыхать надо, а дело делать: пожар гасить. Вставай.
Кучковна не отвечала ни слова.
— Нечего бока отлеживать, — продолжала посадница. — Поднимайся-ка живей, гони Маштака в Кудрино. Да не одного, а с челядью.
Она схватила боярыню за плечи и принялась ее трясти.
— Оставь меня, — еле слышно проговорила Кучковна, не открывая глаз. — Дай уснуть.
— Уснуть! — воскликнула посадница и в негодовании громко хлопнула себя ладонями по широким бедрам.
Из ее вспухших от гнева губ полился новый поток укоров и угроз.
Кучковна их не слышала: она спала.
X
А кудринцы подходили уже тем временем к Хлынову.
Они шагали молча, и лица у них были озабоченно-суровые. Решение боярыни так ошеломило их, что поверить ей вполне они не смели.
— Про солнце-то да про ветер не зря зубарила, — буркнул косой мужичишка, когда выходили из городских ворот. — Верно, думает сеном с нас взять.
— На что ей наше сено, когда и своим сыта? — возразил староста.
Но в его голосе не было твердости. Боярская милость и ему казалась сомнительной: как бы не обернулась новым подвохом.
Его хмурое лицо несколько посветлело, когда, поравнявшись с Хлыновским починком, перелезли через сосну, поваленную бурей поперек дороги. Обернувшись к косому, который, зацепясь рваными портками за сломившийся сучок, поотстал от товарищей, староста сказал ему с лукавой усмешкой:
— А без соловьев дело не обойдется. Что боярыня Кучковна нам уже простила, того Маштак вовек не простит.
XI
Косолапая нога Жилихи не раз спотыкалась то о камень, то о кореньё, пока она бегала из Кукуя в Воробино, из Воробина на Гостину гору, а там на Ольховец, а там и в Семеновское княжое село. Вести о счастливом обороте кудринского дела дошли до нее уже в приукрашенном виде, а когда она принялась переносить их из села в село, из слободы в слободу, от правды не осталось и следа.
Семеновская легковерная кума совсем ошалела, услыхав от Жилихи, будто кудринцы дубьем да палочьем уходили боярскую дочь до полусмерти, после чего боярыня, тоже будто бы изувеченная ими же, отворила им все свои сундуки.
Распрощавшись с кумой, Жилиха направилась из Семеновского в Кудрино, чтобы своими глазами полюбоваться на тех, кому приписала такую лихую удачу.
Когда, утомленная долгой лесной дорогой, она вышла наконец на всполье, то увидела вдали, на гребне холма, запряженную четвериком открытую повозку, которая быстро катила по Владимирской дороге в сторону Москвы.
Возница, верхом на одной из передних упряжных лошадей, сердито взмахивал длинной плетью. А женщина, что сидела за ним (судя по раструбистой кике — боярыня), выказывала, как приметила Жилиха, явное беспокойство: то озиралась назад, то, привстав, всматривалась из-под руки вперед, то низко нагибалась к чему-то, что лежало на дне повозки и чего из-за дальности расстояния и из-за бившего в глаза солнца нельзя было рассмотреть.
Пока Жилиха, забыв себя от любопытства, взбегала на гору, повозка успела давно уж скрыться за деревьями.
На придорожном бугре, где уцелел ветхий деревянный крест, поставленный в чью-то память еще при Мономахе, серебряная полынь, прочесанная ветром, трепетала и билась о землю.
XII
Сон или явь?
До слуха Кучковны доносились временами привычные звуки дневной жизни: топотанье внука по ступенькам лестницы, Гашины легкие шаги, негромкие голоса сенных девушек. И назойливый свист ветра в оконных щелях.
Ветер вовлекал все в свой полет — даже сновидения Кучковны. Он не давал рождаться новым снам: он дразнил воспоминаниями о снах, когда-то будто бы виденных, но и на них не разрешал остановиться, не дозволяя даже понять, был ли то в прошлом блаженный или зловещий сон. Сердце едва успевало замереть, предвидя готовый возникнуть знакомый, очень дорогой, за душу хватающий образ. Но этому образу не удавалось возникнуть. Его вытесняло томительное предчувствие другого, столь же близкого сердцу образа, который, так и не всплыв из потемок, тоже уносился куда-то и мгновенно забывался, уступая место все новым и новым и все таким же мучительно неуловимым предвестникам невозникающих видений.
Вот зашумели ветки яблонь. Но Кучковне недоставало времени понять, что это яблони, что их рвет ветер. Ее сознания хватало только на то, чтобы мимолетно, беглым полувздохом отозваться на этот беспокойный, многозначительный шум. Да, да! Где-то когда-то прошумело вот точно так же, когда было… что было?.. и под этот шум должно случиться сейчас… что случиться? Ответ на оба вопроса был, кажется, готов, но отвечать было некогда, потому что муха застонала в паутине под потолком. Кучковне недосуг было сообразить, что это муха, но тонкий, заунывный стон вызывал новые, такие же тревожные вопросы, на которые тоже не удавалось ответить из-за ощущения холода на лице от ворвавшейся в окно струи ветра, не то напоминавшей о чем-то, не то предвещавшей что-то…
Вдруг все изменилось.
В чем перемена, Кучковна не могла бы объяснить. Пожалуй, в том, что раньше все неслось куда-то мимо нее, только задевая ее попутно в своем движении, а теперь все будто поворотилось и натекает прямо на нее. Какие-то нарастающие, близкие и все ближе подступающие звуки… Чье-то давно не слыханное, до слез родное, чистое дыхание обдает ее теплом… Чей-то давно жданный голос…
Она захлебывалась тем, что так избыточно вбирала в себя поневоле, от чего готово было разорваться сердце, когда тот же давно жданный голос произнес у самого ее уха отчетливо и нежно:
— Матушка!
Кучковна со стоном выдохнула давивший ее воздух, открыла глаза и столкнулась с проникавшим в нее взглядом близко поставленных, очень светлых глаз.
Прижавшись к ней, низко к ней наклонясь, сидела на постели ее меньшая дочь — Груня. Концы хрустальных ряс, свисавших с запыленного парчового подзора Груниной раструбистой кики, касались лица Кучковны.
Еще никто не проронил ни слова: ни Груня, ни стоявшая за ней Гаша, ни сама боярыня, но по лицам дочерей, а больше по их молчанию она поняла сразу, что вот сейчас-то и вступила наконец в дом та главная беда, которая до сих пор грозилась только издали.
Кучковна приподнялась на локте. Дочери подхватили ее под руки. Она встала с постели и внимательно оглянула весь покой, словно только что воротилась сюда издалека.
Светлица была вся пронизана полуденным солнцем. Кучковне она показалась похожа на зыбкий ковчег, который повис где-то в небесной пустоте, вскинутый гудевшими за стеной вихрями. Даже в узоре сосновых слоев на стенах, знакомом до мельчайшего изгиба, мерещилось что-то роковое.
Она провела рукой по лбу. Сны ушли. Наступила явь. К Кучковне вернулись все ее силы.
Она взяла Груню за плечи и, пристально глядя ей в глаза, сказала:
— Говори.
Груня подняла длинное, странно постаревшее лицо (она была ниже матери), приоткрыла губы, силясь что-то сказать, но только всхлипнула и, ткнувшись лбом в материнское плечо, затряслась от беззвучных рыданий. В выражении ее глаз Кучковна успела уловить поразившую ее смесь отчаяния с ожесточением, страха — со стыдом.
Она прижимала к себе плечи дочери и повторяла:
— Говори, Грунюшка. Не бойся говорить: легче будет.
Но Груня, как всегда быстрая, вдруг выскользнула из объятий матери. Полуотвернувшись, закрыв лицо руками, пролепетала едва слышно:
— Потом скажу. — И кинулась к двери.
Мать удержала ее за руку:
— Куда ты?
— К нему… Пусти, матушка.
— К кому?
— К Шимону.
Это было имя ее мужа.
— Шимон здесь?
— В сенях, — еле выговорила Груня.
Кучковна только тут заметила, что Гаша подает ей глазами какие-то знаки. Она отпустила Грунину руку. Та мигом выбежала вон. Кучковна двинулась было за ней, но Гаша заступила ей дорогу: она не сводила с нее глаз, стараясь разглядеть, вполне ли очнулась мать от недавнего беспамятства, довольно ли окрепла.
— Что с Шимоном? — твердо произнесла Кучковна.
— Весь посечен да поколот…
— Живой?
— Еле жив.
— Кто посек?
— Не пойму, матушка. Груня говорит: сам князь своей рукой.
— Князь? Своей рукой?
Снова будто ветер ворвался Кучковне в голову.
Князь! Мелькнули в памяти пересказанные Прокопием слова князя Андрея: "Кто ей люб, все останутся целы". Неужто обманывал? Почему не палаческой рукой, а своей? Посек, поколол и не добил. И недобитого отпустил.
В эти мыслях была почти та же летучая неуловимость, что и в давешних снах.
— Не пойму я, — говорил Гашин голос. — Груня сказывает: пьяные покололи-потоптали, пьяные ж отхаживали…
Пьяные? Кучковна знала: Андрей Юрьевич никогда не помрачал ума пьянством. И пьяных к себе не допускал. Как же так? Не мутятся ли опять мысли?
И этот глухой, нарастающий, переполошный шум внизу, в доме, — чудится ли только или взаправду? И еще другой шум, более далекий, будто идет великий обоз.
А Гашин несмелый голос то замолкал, то опять говорил:
— Груня сказывает: князь Шимона свалил. И сама ж сказывает: князя в живых нет.
— Кого в живых нет? Что говоришь, Гаша?
— Мне-то, матушка, откуда знать правду? Груня сказывала: промыслили о князе.
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
Пожары
I
Дом был полон таких шумов, точно и в него вломился ветер. Двери хлопали. Полы тряслись от беспорядочной беготни.
Еще тревожнее были шумы, доносившиеся снаружи — с дворовой стороны: тележная скрипотня, визготня, стукотня, конский топ и людские вскрики, заглушенные нестройным гомоном многих голосов.
Внизу, в дверях сеней, мелькнуло рябое лицо боярской клетницы[45] Луши. Заметив сходившую с лестницы боярыню, Луша смешалась, отвела глаза и юркнула назад в сени.
Кучковна, поравнявшись со слуховым оконцем, освещавшим лестничную клеть, увидела, что соседний, княжой, двор, уже много лет пустынный, кишит людьми: они сновали вокруг возов с увязанной в рогожи громоздкой кладью.
По коленчатым всходам княжого красного крыльца поднимались два боярина в долгополых дорожных одеждах. Кучковна хоть смотрела на них со спины, мгновенно узнала обоих: муж и брат!
По наклону головы Петра Замятнича, по тому, как он приставлял к уху ладонь, видно было, что он внимательно вслушивается в речь шурина, Якима Кучковича, который, говоря, все показывал руками и головой на их, боярские, хоромы. Их нагонял вприхромку посадник.
Выше, на верхней площадке крыльца, возился у входной двери огнищанин, стараясь всунуть ключ в потайную прорезь давно не открывавшегося висячего замка.
Кучковну вывел из оцепенения громкий хрип, долетевший из сеней. Она кинулась туда.
Груня с двумя сенными девушками суматошилась у печной лежанки — у той самой, где несколько дней назад отдыхал после завтрака Прокопий. На лежанке хрипел и бился в судорогах весь обвязанный Шимон. Девушки силились удержать его ноги, Груня — руки. Кучковна и Гаша бросились им помогать.
А тем временем в ворота княжого двора въезжала крытая повозка с длинным, пестро расписанным кузовом, запряженная шестериком белых коней. Ее окружали вооруженные луками вершники-булгары в круглых розовых шапках с широкими поперечными гребнями.
Когда повозка остановилась у крыльца, вершники спешились. Двое из них откинули ковровую завесу кибитки и, ловко подняв с подушек, бережно поставили наземь низкорослую женщину. Густая золотоцветная фата закрывала ее лицо.
Это была Андреева жена — княгиня Ульяна.
На княжой двор въехало пятнадцать возов с кладью, на боярский — восемь, на посадничий — два. Три тюка из княжеской клади отнес к себе на двор огнищанин.
Разгрузкой боярских возов распоряжался Яким Кучкович.
По багровой воспаленности его крупного лица, по слишком яркому блеску опухших глаз было заметно, что он немного хмелен. Ему не стоялось на месте и не молчалось. Он колесил без толку по двору, ходил по пятам за челядниками, носившими кладь, то пошучивал, то поругивался, дул в кулак, присвистывал или вдруг, взявшись за бока, беспричинно гагакал, как гусак. И тогда на его колыхавшемся животе встряхивались все пунцовые кисти, какими были украшены нашивки его одежды. А в плоской баклажке, что болталась у него на бедре, булькало вино.
Когда кончили разгружать последний воз, Яким Кучкович подошел вразвалку к Маштаку, лукаво прищурил глаз, крепким щелчком сбил у ключника с головы его мятый поярковый столбун, потом засунул руку в только что снятый с воза огромный рогожный куль, набитый мягкой рухлядью, вытащил оттуда новую кунью шапку и нахлобучил ее на Маштака.
А к сестре и к племянницам не наведался.
Сам боярин Петр Замятнич появился у себя на дворе только поздно вечером. Молча обошел с шурином и с Маштаком все скотницы,[46] чуланы и теремные вышки сеней, куда убрали привезенную клажу, молча поднялся в сени, молча оглядел лежавшее на столе, накрытое белой пеленой мертвое тело Шимона, покосился на монашку, которая читала над покойником псалтырь, и молча же, не заглянув к жене, направился в холодный прируб, где у него была летняя опочивальня.
Кучковна из соседней с сенями проходной клети слышала, как глохли, удаляясь, его мерные тяжелые шаги.
В этой проходной клети, едва озаренной красноватым светом лампады, она провела всю ночь.
Груня время от времени вставала и уходила в сени. Побыв недолго у трупа мужа, она возвращалась к матери и садилась у ее ног.
Она заговорила только после полуночи, когда ветер улегся и небесная глубь в четвероугольнике окна стала бархатно-черной. Из сеней сквозь затворенную дверь доносился ровный голос монашки.
II
Всей правды не знала и Груня.
С самого отъезда из Суздаля она безотлучно жила во Владимире, врозь от Шимона. Князь не отпускал его из Боголюбова, а отец проводивший день тут, день там, запрещал ей навещать мужа.
У отца часто бывал дядя Яким, всегда хмельной. Петр Замятнич стал с нынешнего лета тоже временами попивать, но от вина не веселел.
С дядей Якимом они целыми вечерами о чем-то шептались, а когда появлялась она, Груня, замолкали и торопились услать ее прочь. Раза два наезжал из Боголюбова княжой ключник Анбал.
О казни дяди Ивана отец услышал на той неделе в четверг и в тот же вечер ускакал один, без слуг, в Боголюбово. Там провел и Петров день — свои именины.
А на другой день после его именин, в воскресенье, на рассвете привезли оттуда израненного Шимона. Он приходил в себя только изредка и ненадолго; в его речах здравые слова мешались с бредом, и Груня ничего верного от него не узнала.
Он в бреду все выбрасывал руки, точно обороняясь от кого-то, и кричал: "Чур, чур меня! Не топчите! Зажгите свечу! Ищите его!"
Слуги дяди Якима, которые привезли Шимона, сказали Груне, что нынешней ночью князь Андрей Юрьевич убит у себя в палатах боярами. Убит ими же и княжой милостник Прокопий.
Потом Груня слышала, как в Богородичном златоверхом соборе ударили в большой колокол и стали бить часто, как бивали при великих пожарах. По улице мимо ее окон бежал куда-то народ. Она испугалась, уж и впрямь не пожар ли, и собралась выносить Шимона из хором. Но слуги объяснили, что это дядя ее, княжой чашник Яким Кучкович, пришел из Боголюбова с боярским полком и скликает всех на соборную площадь.
Вскоре она увидела в окно, как народ возвращается с площади. Шли уж не порознь, а скопищами, громко горланили, махали кулаками.
Вдруг ввалился к ней в покой во всем боевом доспехе и дядя Яким. Руки и губы у него тряслись. От него, как всегда, несло вином. Озирался, подбегал к окну, слушал у дверей (к себе-то в дом опасался, видно, идти). И все ругал владимирцев.
От соседки, купецкой женки, Груня узнала потом, что на соборной площади дядя Яким, придя туда со всем полком, пытался зачем-то застращать народ, но ничего не достиг: только понапрасну взмутил людям головы. Говорил, что ежели, мол, владимирцы пойдут на Боголюбово, то встретит их там вся дружина и всех кончит. И еще говорил, что дума против князя была не у одних бояр, что в той же думе были и некоторые владимирцы. А на площадь по зову дяди Якима купцы владимирские побоялись прийти: сбежались одни купецкие делатели, боярские слуги да вольные ремесленники, благо день-то был воскресный. Они не дали дяде Якиму дальше говорить: закричали, что кто, дескать, с вами, боярами, в думе был, тот пускай с вами и остается, а нам, мол, такие ненадобны. Дядя Яким силился их переголосить, тряс шестопером,[47] однако народ не захотел его слушать и разошелся по домам. Из боголюбовских же дружинников остались при дяде Якиме только двое-трое: другие, испугавшись народа, угнали назад в Боголюбово.
Кучковна перебила Груню.
— Кто убил князя? — спросила она еле внятно.
Груня ничего не ответила: она с детских лет не терпела вопросов. Встала с пола и, не глядя на мать, ушла в сени.
— "На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия…" — вычитывал голос монашки.
В другом конце боярских хором, за сенями и переходами, бухали тяжелые одинокие шаги: Петр Замятнич, видать, тоже не спал.
Ночь была ясная, теплая и такая тихая, что в приоткрытое окно явственно слышалось, как где-то очень далеко, верно за рекой, в береговой слободке, лает собака, как падает с Яблоновых листьев роса, как на княжом дворе переговариваются вполголоса ночные сторожа, булгары. Потом закашлял у Неждановой башни старик-воротник.
Груня вернулась из сеней не скоро и, опустившись по-прежнему к ногам матери, долго не принималась говорить. Кучковна грела в своих руках ее мягкие холодные руки. Прерванный материнским вопросом рассказ Груня продолжила так, будто мать ни о чем не спрашивала.
Груня вспоминала, как дядя Яким метался по ее хоромам, не находя себе места, беспокоясь о своем боголюбовском дворе да о какой-то клади, которую услал куда-то нынче ночью, еще до рассвета.
На Грунины упорные расспросы о том, кто изранил Шимона, дядя Яким отвечал так отрывисто и темно, что Груня ничего толком не поняла.
"Мы, — говорил дядя Яким, — его не неволили: своей охотой пошел. В пятницу, говорит, когда мы у твоего родимого батюшки, у Петра, в доме его боголюбовском все собрались. Шимон сперва, по своему обычаю, все молчал, а как стали потом жребий метать, кому первому в княжую спальню ломиться, Шимон и скажи: "Я пойду. Хоть жив не останусь, а за отцову обиду отомщу. Мы с Анбалом вдвоем управимся, а вы стерегите у дверей".
Когда Груня стала допытываться, кто же посек Шимона — князь ли или кто другой, — дядя Яким не захотел отвечать прямо, а твердил только одно: "Ночью-то, в потемках, где разобрать, кто кого колет и кто под ногами валяется!"
А когда Груня сказала: "Уж не вы ли сами его покололи?", дядя Яким осердился и закричал: "Нечего на нас пенять! Коли мы впопыхах, ненароком потоптали да покололи, так мы ж его, поколотого, и вынесли, мы ж его к тебе и проводили!.. Твой Шимон, говорит, на словах куда как храбр, а как до дела дошло, так и оплошал: не посмел наперво подступить к княжной ложнице — отбежал назад в сени и Анибала с собой уволок. А как спустились мы с сеней в княжую медушу и напоили Шимона вином, Шимон сердцем-то ободрился, а телом сомлел".
И больше про Шимона дядя Яким ничего Груне не сказал, а говорил только про князя, до чего, мол, князь оказался силен: не только одного пьяного Шимона, а и десятерых трезвых под себя бы подмял.
Кабы Анбал в субботу с вечера не выкрал у князя из ложницы Борисова меча, не бывать бы, говорит, живу ни Анбалу, ни ему, дяде Якиму, ни Петру Замятничу.
"Ты пойми, говорит, Груня: нас два десятка, он — один; у нас сабли, мечи, копья, он — пусторукий!
Думали: князь до конца убит. Понесли было Шимона к каменным переходам, что в собор ведут, — хотели его там, на соборных хорах, укрыть, пока другие дела уделаем, ан слышим, будто кто за нами следом шагает.
А каменные княжие палаты — сама, говорит, знаешь — высокие, гулкие, отголосчивые; полы поливными плитами выложены: на такую плиту как ни ступи, по всем сводам разнесет и на все лады отзовется.
От княжого вина да от боренья мы хоть и поодичали, однако тут с перепугу пустились было наутек. Спасибо, говорит, Анбалу: удержал.
Стоим трясемся, слушаем: и взаправду шаги, только не к нам, а от нас. Одна нога топает, другая — шаркает. И будто рыкает человечий голос.
Мы — назад, к ложнице. Подходим к сеням, к тем, что наверху лествичной башни, откуда, помнишь, витой сход вниз. А в башенной стене оконный просвет чуть белеется: знаешь, говорит, тот тройной, что на реку глядит. Смотрим — против того оконного просвета словно чья-то долгая тень шатанулась. И сразу в темноту канула.
Еще ладно, говорит, вышло: вспомнил Петр, что в сенях по углам ставники стоят со свечами. Вывернули одну из подсвечника, выбили кое-как огонь, раздули, запалили свечу, видим: вдоль всех сеней, по всем половым плитам пролегла кровяная тропа — где крапинами, где мазаниной, — ведет в башню и по каменным круговым ступеням свертывает вниз.
Вот ты, говорит, Груня, и рассуди, какова в нем была сила! Чай, говорит, помнишь: от княжой ложницы до верхних сеней не мал путь. А он, весь просквоженный, кровью оскудев, тем путем до башни доволокся и по витому сходу под сени сошел. Да и тут не свалился, а обрел в себе мощь за лествичный столп зайти. И там на скамью не лег, а сел! Здесь, говорит, его и нашли. Да и то, говорит, не ведаю, как обернулось бы дело, ежели бы твой, говорит, родимый батюшка Петр Замятнич напоследок не вскрапивился: выхватил свою турскую саблю (знаешь, ту, с бороздами и травами на клинке, ту самую, что в Киеве у черных клобуков[48] выменял), наскочил из-за столпа на князя врасплох и отсек ему правую руку по самое плечо. Только после того из князя остатняя сила вышла. Тут он скоро и кончился".
Больше дядя Яким ничего не успел рассказать, потому что от Петра Замятнича прискакал к Груне конюх покойного дядя Ивана с приказом, чтоб, ни часу не медля, уезжала в Москву и увозила Шимона.
Дядя Яким всполошился, велел запрячь телегу, скинул доспех, надел холопью сермягу и, зарывшись в тележную солому, забыв в Груниной светлице свой воеводский шестопер, укатил с тем же Ивановым конюхом назад в Боголюбово.
Пока он собирался в путь, конюх улучил время шепнуть Груне, что в Боголюбове великий мятеж: боголюбовские горожане бьют княжеских мечников и делателей, жгут их дворы, ворвались в княжие палаты и грабят княжеское золото и серебро. Княгиня укрылась неведомо куда, да и Петр Замятнич, когда отправлял конюха во Владимир, тоже готовился уйти со своего двора…
На этих словах Груня внезапно оборвала речь, охнув от испуга: мимо нее бесшумно проплыла и нырнула в сени черная горбунья. Это новая монашка пришла на смену прежней.
Весь остаток ночи мать и дочь провели в молчании.
Перед рассветом, когда четвероугольник окна сделался из чернобархатного темно-синим, раздалась опять мерная поступь Петра Замятнича. Было слышно, как он вошел в сени и как, постояв над покойником, удалился снова к себе, в холодный прируб.
III
Утро следующего дня выдалось безоблачное, тихое, обещая великий зной.
Голые посадские ребятишки бегали взапуски по береговому песку, перепрыгивали через выкинутые вчерашней бурей черные коряжины, с причаленного парома спихивали друг друга в воду, брызгались, кричали, смеялись.
Попадья, перегнувшись через огородный плетень, говорила шепотом проскурне:
— Возы-то видала какие? Одного золота, да каменья дорогого, да жемчугу, толкуют, полных четыре воза! Еще князь-то и остыть не успел, еще на руках-то у них его кровушка не пообсохла, а они теми руками все самое любимое княжое именье из его сеней повыбрали. И до рассвета услали в Замятничеву владимирскую вотчину. А как народ-то зашумел, так они, на своих рядовичей не надеясь, всё сюда и повезли.
Проскурня, прикрыв морщинистой рукой впалый рот, качала головой.
— А боголюбовцам-то, — продолжала попадья, — когда в княжие покои после того вошли, достались одни оборыши. Так с досады в княжой медуше все бочки с вином поразбивали. Иные до тех пор упились, что там же в вине и утопли. Чем попало черпали, в чем попало уносили. А кому вливать было не во что, те с себя зипуны поскидали да в вино их макали, а дома обжимали.
Проскурня опять покачала головой.
— А лошади, знаешь ли, чьи в те возы запряжены? Прокопьевы!
На городской площади, в тени высокого княжого тына, булгары, княгинины холопы, усевшись на земле в кружок, играли в зернь.[49]
Когда бортник Неждан вдвоем с сыном проносил мимо них свежий дубовый гроб, который они выдолбили для Шимона, один только зерновщик, бросавший кости и все время напевавший сквозь зубы, окинул старика беглым, равнодушным взглядом. Другие, поглощенные игрой, толкались, перебранивались, шумели.
Боярский тын близ ворот был разобран на целую сажень для выноса покойника. По древнему, еще языческому поверью, нельзя было выносить его из дому обычным ходом, через ворота: надо было обмануть мертвеца; он должен был навсегда забыть этот ход, чтобы призрак его не возвращался тем же путем назад.
Но живым не подобало пользоваться покойницким пролетом, пробиться же на боярский двор иначе Неждану удалось не сразу. Гроб пришлось поставить наземь и пережидать, пока вывалит из ворот толпа вооруженной челяди. Впереди на сытом жеребчике гарцевал Маштак в новой куньей шапке.
— Куда шагаете? — спросил Неждан лохматого парня, который с трехрогими вилами на плече брел позади всех.
— В Кудрино, — отвечал парень: — недоданную шерсть вышибать.
У посадника за столом сидел развалясь Яким Кучкович. Посадник подливал ему вина.
— Полно лить, — отказывался Яким: — допотчевал и так до улегу.
— Пей! — уговаривал посадник. — Я для тебя ничего не жалею. А ты пожалел!
— Что пожалел-то? — сонно отозвался Кучкович.
— Мне два воза, а к себе на двор сколько заворотил?
— На что тебе больше?
— Как — на что? Вечор с хозяйкой как посочли приход да посочли расход — концы с концами и не сходятся.
— Какой у тебя расход? Одним зубом много ль нажуешь?
— Не в жвачке дело: свое званье должен блюсти. В отрепках ходить — перед посадом срамиться.
— Перед посадом! — гагакнул Яким, колыхнув животом. — Таков у тебя посад, что бабы через улицу из окна в окно на ухвате горшки передают!
— Таков у меня посад, — взвизгнул посадник, скаля желтый зуб, — что не будь моего посада, куда бы ты из Боголюбова побежал? Где бы свои возы поупрятал?
Яким побагровел. Пьяная улыбка сошла с его грубо одеревеневших губ.
— А не будь меня да Петра, — раздельно выговорил он, глядя посаднику в глаза, — куда бы князь твою дурью голову упрятал?..
Когда младшая поповна вкралась в избенку старика-воротника, там оказалось полно народу.
Собралась вся семья. Пришла с Ольховца многодетная старикова дочка, привела мужа и троих ребят, а четвертого, грудного, принесла на руках. Все запечье занял собой исполин-большак. Рядом с ним особенно бледна казалась его малорослая, тщедушная жена. К ней жался подросток-сын, еще по-детски румяный, но уж хваченный кузнецкой сажей.
В красном углу, под закопченными образами, сидел приезжий гость — конюх казненного стольника Ивана Кучковича, тот самый, которого еще так недавно здесь, на Москве, пытал покойный Прокопий, которого после пытки увез связанным во Владимир и который потом, после убийства князя, приезжал к Груне из Боголюбова с поручением от Петра Замятнича.
До прихода поповны конюх успел рассказать, как во время боголюбовского мятежа боярские и купецкие слуги, подстрекаемые хозяевами, пожгли слободку княжих делателей, к которым давно питали зависть, и как воротников меньшак, хитрокознец, еще больной, обороняя свое добро, вынесенное из горящего дома, был зарезан насмерть засапожным ножом.
Женщины уже несколько раз начинали приплакивать голосом, причем особенно звучно и причетливо кликала бледная большакова жена, но мужчины каждый раз унимали их, продолжая расспрашивать конюха.
Резкий луч утреннего солнца, прорвавшись в маленькое волоковое оконце,[50] бил конюху в затылок. Поповне, когда она вошла в избу, прежде всего бросилось в глаза его оттопыренное ухо, которое, просвечивая на солнце, рдело, как раскаленный уголь.
Конюх говорил в это время о том, что хитрокознец и сам остался бы, может быть, цел, и дом, вероятно, уберег бы, если бы бояре не задержали его в княжих палатах, заставив расковывать московского посадника, которого князь держал в порубе на цепи.
— Ладно бы, доброго человека расковал, — вздохнула Воротникова дочь, — а то посадника! А он, окаянный, не успел воротиться, как к нам на Ольховец рядовича прислал: за то, что в его небытность отказались пруд копать, сулит с нас вдвое против прежнего драть.
— Отольются волку овечьи слезы! — сиповато выговорил чей-то высокий мужской голос с таким решительным задором, что все оглянулись.
Это сказал муж воротниковой дочери, ольховецкий сирота, известный своим тихим обычаем.
— А и крови поотольем!.. — глухо рявкнул великан.
Его жена завела было опять приплачку, но старик-воротник остановил ее. Он спросил конюха, цела ли меньшакова жена.
— Цела, — ответил конюх. — По чужим дворам ходит: под одним окошком выпросит, под другим — съест.
— А ребята живы ли?
— С матерью заодно чужие окна грызут. Меньшой, годовалый, сгорел бы в дому, кабы не меньшаков ученик — тот, кучерявый, что онамедни здесь, на Москве, с ним был.
У поповны шибко застучало сердце: ради этих-то вестей и решилась она прийти к воротнику в избу.
— Все руки, все лицо пережег, — продолжал конюх, — до сих пор весь в пупырях, а дитятю из самого полымени вынес.
Тут уж мужчинам не удалось удержать женщин. Они заголосили все враз. Их причитанья перекрывал густой рев откуда-то взявшейся Жилихи: она славилась как первая на всю округу плачея.
— Али мы тебя не люби-и-или? — затягивала жена большака.
— Али чем прогневи-и-или? — свирепо подхватывала Жилиха, показывая бледные десны.
— А и чья калена стрела тебя просквози-и-ила? — звучно выпевала большакова жена.
— А и кто ту калену стрелу наперна-а-атил? — голосила Жилиха.
У поповны перед глазами все заходило ходуном, и мимо ее ушей прошел рассказ конюха про то, как со слободки княжих делателей огонь перекинулся на соседний, "песий двор" Ивана Кучковича, как сгорела там дотла всеми брошенная стольникова дочь и как выли потом на все Боголюбово ее обездомевшие собаки.
Плачной напев, хватавший за сердце своей протяжностью и упрямым однозвучием, был так громок, что булгарин-зерновщик, который метал кости, не раз оглядывался на воротную избенку, досадливо морща низкий лоб. С открытых переходов посадничьих хором смотрела туда же блестевшими от любопытства глазами посадница. На ее голове горела огненно-алым атласом новая, непомерно высокая кика. Высунулось из окошка и недовольное лицо огнищанихи.
Пробился этот напев и сквозь щели жарко нагретого солнцем дощатого чулана, пристроенного к верхней связи княгинина терема.
Здесь на протянутых вдоль и поперек веревках сохли шелковые разноцветные убрусы и белые женские сорочки с такими долгими рукавами, что каждого хватило бы на пять рук. От них шел свежий запах только что выстиранного полотна. За их влажными перекрестными завесами почти не виден был притаившийся в углу огнищанин. Под его ногами валялся выдернутый из стены скаток пеньковой конопати, а ухо было присунуто к пазу теремного сруба. Ястребиные глаза остановились. Он был весь поглощен тем, что доносилось до него из-за стены.
Там говорили два голоса: женский и мужской. Женский был тонок, остр и сыпал гортанной частоговоркой с нерусскими придыханиями. Мужской нехотя выцеживал редкие слова.
— На что привез меня сюда? — частил женский голос. — Зачем скрянул с места? Что тут делать? Что здесь найду? На что жить?
— Хватит на что жить, — ответил мужской голос.
— Тебе еще бы не хватило! — выкрикнул женский. — Думаешь, не знаю, сколько возов к себе в ворота ввез? На свое скуп, а на мое вот как щедр! И посадника, видишь, одарил!
— Без посадника не обойтись, — возразил мужчина: — под его рукой весь тутошний посадский полк.
— Довольно с хромца и того, что взаместо смерти дала ему живот. А огнищанину на что тюки давал?
— Как не дать, когда он столько годов твое добро берег?
— Так берег, что половины не осталось! — отрезал женский голос.
Огнищанин облизнул заскорузлые губы.
— Завез в лес, впнул в пустую хоромину, а сам к первой моей ворогуше ушел и рад! — В женском голосе послышались слезы. — Уж лучше бы отослал меня к родне — в Булгар.
— Здесь укромнее, — отозвался мужчина.
— Славная укрома! Твоей Москвы ни одна дорога не минует. Сам небось говорил Якимке, что как бы, мол, Андреевы братья сюда из Чернигова не нагрянули.
— Откуда тебе знать, что говорено Якиму?
— Все знаю! И то знаю, что глазом ты лакомлив, а сердцем отрухлявел. Только на то тебя и достало, чтоб, краденым вином налакавшись, других наустить и чужими руками государскую кровь выметнуть!
— Не тебе бы меня той кровью корить! — угрюмо выговорил мужской голос.
— Не кровью корю, а тем корю, что, его поваливши, сам на ногах не устоял: оробел, обмяк, все бросил на одного Анбала, да и устрекнул, как заяц!
— Тебя спасал.
— Не здесь мое спасенье, а там! Без княжого стола какая я княгиня? Вези меня во Владимир!
— Велика ль княгине честь ворочаться к нашим холопам-каменщикам? — надменно произнес мужской голос. — Коли еще не пожжен их пригородок, так посадят им бояре посадника, а княжому столу во Владимире больше не бывать.
— Так вези назад в Боголюбово.
— В Боголюбове, кроме дыма, пепла да воронья, ничего не сыщешь.
— Вези куда ни есть, а здесь, на Москве, не стану жить!
Женский голос опять дрогнул от слез. А мужской цедил слова все медленнее и все холоднее:
— Как воротится из Смоленска сват, Шимонов отец, как с ним обо всем перетолкуем, так и выберем время, когда трогаться в Суздаль. А в Суздале с тамошними да с ростовскими боярами все и урядим по старине, по дедовщине да по прадедовщине.
— Где видано, — воскликнул женский голос, — чтобы бояре мимо князей уряжали волость!
— Старого князя избыли, а пока нового не позвали, кому и уряжать волость, как не боярам?
— Князя нет, так княгиня жива! — не унималась женщина.
— Была княгиня — стала вдова, — ответил спокойно мужской голос. — Вдоветь — вдовье терпеть. Вдову, что сироту, кто послушает?
— Где… где твоя совесть?! — вымолвил, задыхаясь, женский голос. — То ли говорил в Боголюбове?
Но мужчина, будто не слыша женских слов, продолжал свое:
— А и дороги ныне таковы, что в малой силе никуда живым не доедешь. По всей волости посадничьи и тиуньи дворы грабят. Да и самих посадников и тиунов бьют. Даже из сел повыходил народ на разбой. И уж поразбивали на дорогах многих людей. А на Москве — сама видишь — тишина. Вот и потерпи.
IV
Московский будень тем временем брал свое.
В это утро церковный причт ушел из города всем собором: поп, зажав под мышкой увязанные в желтый плат ризы, дьякон, побрякивая неразожженным кадилом, и пономарь с медной купелью на плече отправились на крестины в посад — к первому на всю Москву купцу и ростовщику Бахтеяру, больше известному в округе под кличкой Дубовый Нос.
Дьякон перед уходом наказал жене, чтобы устерегла и зазвала к ним на двор Неждана. У дьякона не ладилось дело с подманкой пчелиных диких роев: когда стал присаживать выпрошенные у боярыни вощины, то оказалось, что одни наузни порассохлись, другие подгнили и, того и гляди, рассыплются. Попытался было изладить их сам, да только хуже напортил. Без Нежданова искусства было не обойтись.
Толстая дьяконица, проводив мужа, вынесла на крылечко прялицу, удобно уселась в тени навеса лицом к городской площади и принялась за работу: обутая в мягкий козловый башмак стопа, равномерно нажимая на подножку прялки, вертела колесо, рука тянула нитку, а глаза, только изредка опускаясь к рогатому мотовилу, на которое сматывалась нитка, зорко наблюдали за боярскими воротами, откуда должен был выйти Неждан.
Сквозь прогалины своего частокола дьяконица видела, как долго не мог протолкнуться в боярскую калитку Яким Кучкович, когда, пошатываясь, размахивая руками и сердито говоря сам с собой, вышел от посадника. Видела, как взбежала на открытые переходы своих хором нарядная посадница, как, перевесившись через перила, внимательно проводила глазами охмелевшего гостя и как проворно сбежала вниз, когда Яким, спотыкнувшись о порог, ввалился наконец в дверь Петрова дома.
Потом вскоре замелькала за частоколинами красная ферязь самого посадника. Проковыляв вперевалку мимо боярских ворот в сторону княжого двора, посадник повстречался с выходившим оттуда огнищанином. Тот был заметно озабочен: когда посадник спросил его о чем-то, огнищанин только махнул рукой и даже не остановился.
От внимания дьяконицы не ускользнуло, что княгинины булгары, сидевшие перед тыном, ни на ноги не поднялись, ни шапок не сняли перед посадником, когда он входил в княжие ворота. Им наскучило играть в зернь: они дразнили Пономарева щенка; щенок захлебывался от лая.
В воротной избенке больше не голосили. Щенок, увидев издали вышедшую оттуда поповну, весело побежал ей навстречу, распугивая по дороге купавшихся в песке воробьев. Девушка шла, низко понурив голову. По самой середине прокаленной солнцем площади она столкнулась с огнищанином, который, уставясь, как она, глазами в землю, шагал ей наперекрест. Ястребок так отпихнул ее локтем, что она еле удержалась на ногах. Булгары засмеялись. Когда она поравнялась с ними, низколобый зерновщик, метавший давеча кости, крикнул ей что-то по-булгарски, поманил рукой и подмигнул товарищам. Те захохотали еще громче. Щенок снова кинулся на них с лаем. Девушка, раскрасневшись до слез, опрометью вбежала в дьяконов палисадник.
Дьяконице до смерти хотелось порасспросить ее, по ком плакали у воротника, да заодно вызнать, не углядела ли поповна княгиню, которая, никогда не бывав на Москве, разжигала во всех московлянках великое любопытство, однако тут-то как раз в воротах боярского двора и показался Неждан, а за ним и его сын. Дьяконица, оставив поповну, засеменила ему напереим.
Неждан был пасмурен. Отвечал рассеянно и, говоря с дьяконицей, косился на княжой двор с такой брезгливостью, будто оттуда смердело падалью. Его сын был тоже невесел.
— Чему радуются воры губастые? — проговорил он, когда княгинины булгары опять чему-то засмеялись.
Неждан пренебрежительно посмотрел в их сторону.
— Хороши холопам смешки, — зашамкал он вполголоса беззубым ртом, — да каковы-то выйдут посмешки? Кусают и комары до поры. Не про их брата Москва рублена. Да и что им Москва? Чьи они? Ничьи. Их и булгарами-то не назовешь. Булгары в Булгаре и живут, за свой Булгар стоят, а они… Им все едино, где бы ни добыть себе зипунов — на Москве ли, в Боголюбове ли, на Суре ли, у себя ли, на Каме-реке. Одно им званье: н а т е к а… Да, чай, сольется та натека с наших полей: чего дождями не смоет, то сами помелом выметем. Придет солнышко и к нашим окошечкам.
— Понюхают псы, чем плеть пахнет, — поддакнул сын.
В это время из княжих ворот вышли посадник, княгинин чернявый ключник Заплева и еще каких-то трое незнакомых людей. И ключник и его провожатые были в парчовых одеждах. Рядом с ними посадничья красная ферязь казалась жалка и тускла.
— Взаместо одного князя сотню властелей нажили, беда! — вымолвил Неждан, провожая незнакомцев насмешливым взглядом.
— Впору бы и поубавить, — опять поддакнул сын.
Посадник, заглядывая снизу вверх ключнику в глаза, что-то горячо ему толковал. У боярского двора они расстались. Заплева со своими провожатыми завернул в боярские ворота, а посадник, оглядываясь на них, заковылял дальше — к себе в дом.
— Куда их нелегкая понесла? — пробормотал Неждан.
— Чай, за боярином посланы, — отозвалась дьяконица.
— Боярина не там искать, — сказал Нежданов сын.
— Да за ним чего бы и гонять эдакую оравищу? — добавил Неждан.
Через час, осмотрев дьяконовы наузни, перевязав сызнова одни и пообещав завтра, после Шимоновых похорон, наладить остальные, старый бортник направился с сыном домой. Под их охраной пошла к себе и поповна.
При выходе из дьяконицына палисадника им снова попался на глаза княгинин ключник все с теми же тремя блестевшими парчой провожатыми.
Неждан видел, как Заплева, самодовольно выпятив толстые губы и щурясь от солнца, осторожно, на двух ладонях, вынес из боярских ворот и внес в княжие плоский кожаный баульчик с медными застежками.
V
Обманул боярин Петр Замятнич княгиню, говоря о московской тишине.
Тишины на Москве не стало.
В тот же день, около обеда, на боярский двор, где продолжались приготовления к выносу покойника в Предтеченскую церковь, вскакал на своем жеребчике Маштак — один, без челяди, простоволосый, со свежей ссадиной, прочертившей его плоское лицо от бороды до глаза.
Когда он соскочил с лошади, у него так тряслись руки, что он долго не мог размотать шейную ширинку, которой хотел стереть кровь со щеки.
Он примчался из Кудрина. Все утро прошло у него в громких перекорах с тамошними орачами.
Сила была теперь на его стороне: при нем, по приказу самого боярина, было около сорока вооруженных людей, боярских челядников. И когда кудринский мир выказал несговорчивость, Маштак этой своей силой и воспользовался.
Он стал ходить с челядниками по домам.
Где находилось хоть сколько-то шерсти, он брал ее всю; где шерсти не оказывалось, хватал первое, что попадалось под руку: хлеб, холст, вяленую рыбу, живого телка, шубу, полотенце.
Горше всех пришлось косоглазому мужичишке, который был очень многодетен, жил голоднее всех и на которого Маштак злобился за то, что косой обнес его позавчера при Гаше. Боярский ключник отнял у его бабы всех кур с петухом и единственную дойную козу: мужичонка был бескоровный.
Боярские челядники молча, не глядя ни на Маштака, ни на кудринцев, ни друг на друга, выносили отобранное добро из сиротинских хат и в таком же молчании складывали вынесенное на возы, от которых не отходили поставленные ключником сторожа, тоже молчаливые и насупленные.
Когда брать уж стало больше нечего, Маштак сел на своего жеребчика, подъехал к сложенным под дубом бревнам, где кудринский мир привык обсуждать свои мирские дела, приказал боярской челяди стать в круг, а кудринцам велел войти в этот круг.
Поправив на голове новую кунью шапку, Маштак сказал сиротам, что забранным у них добром погашен еще не весь долг боярину, как не взята с них еще и вира за ослушество. Слово «вира» было вплетено в речь некстати, потому что виру платили только за душегубство, но слово было страшное, и оно произвело свое действие.
Кудринцы молчали, опустив непокрытые головы. Теплый, солнечный ветерок поигрывал их спутанными волосами. Молчали и оцепившие их боярские люди. Только воробьи задорно чивикали, прыгая по бревнам, да громко мычал на одном из возов красный телок с простриженным ухом, дрягая неудобно связанными белыми ногами.
Маштак, ободренный молчанием, добавил, что кудринцы вполне очистятся перед боярским двором лишь тогда, ежели своей доброй волей и своими силами ныне же припашут к соседней боярской брусничной ниве свою пресненскую росчисть, которая давно уже поглянулась Петру Замятничу.
При этих словах кудринцы поподнимали головы. Староста отвел черные волосы ото лба, будто стараясь лучше рассмотреть говорившего с лошади ключника. Косой мужичишка весь так и затрясся. В задних рядах кудринцев кто-то проговорил негромко:
— Перед боярским двором очистимся да заодно и себе могилу выроем.
Маштак, не выпуская повода из пальцев, развел руками.
— Я за ваш мир сколько годов стоял? — сказал он, чувствуя на себе чей-то чересчур пристальный взгляд, но еще не разбирая, откуда этот нехороший взгляд на него направлен. — Покуда вы шерсть на боярский двор по чести носили, я и пашни ваши берег…
— Знаем, как берег, — выговорил тот же негромкий сиротинский голос.
Маштак успел тем временем различить, кто смотрит на него с такой неотвязностью. Это был его же подручный — боярский скотник, человек хворый и нравом щетиноватый, но в своем деле наторелый, искусный коновал и живодер, оттого-то именно и взятый ключником с собой в Кудрино: Маштак еще дома предвидел, что будет отбирать и скотину.
Взгляд скотника был что-то уж слишком смел да темен, и Маштаку сделалось оттого не по себе. В его всегда ясной голове все посдвинулось с места, и когда косой мужичишка, подскочив к ключнику, крикнул ему в самое лицо: "Головогрыз!" — Маштак и вовсе ошалел.
Наезжая на кудринцев, не помня себя от злости, он стал кричать челядникам, чтоб связали косого, чтоб кинули его на бревна и взъерепенили батожьем.
— А не тебя ль ерепенить? — протянул скрипучим голосом скотник, продолжая глядеть Маштаку в самые глаза.
Толпа будто только и ждала этих слов.
Маштак не успел и очувствоваться, как им же расставленное кольцо тесно сомкнулось вокруг него; боярская челядь перемешалась с кудринцами; все разом закричали, наседая друг другу на плечи и махая кулаками. Женщины повыбежали из хат и, пристав к мужскому скопищу, усилили еще более толчею и гам.
Ключник видел, как сквозь бурлившую людскую гущу, обращенную к нему всеми искаженными от ненависти лицами, озверело продирается, как тур сквозь лесную чащобу, лохматый парень с трехрогими деревянными вилами. Это был хорошо ему известный очень смирный боярский холоп — тот самый, у кого Неждан справлялся поутру, куда они идут с Маштаком.
Маштак только было потянул повод, чтобы заворотить коня, как деревянные рога замелькали у него перед самыми глазами. Он не остался бы жив или, уж во всяком случае, окривел бы, если б вовремя не отшвырнулся назад так резко, что потерял шапку. Острие деревянного рога только царапнуло его по щеке.
Горячий жеребчик, испугавшись вил, стал подыматься на дыбы, захрипел, рванулся вбок и вынес Маштака из толпы подавших голос московлян…
VI
Петр Замятнич, не отнимая ладони от уха, выспрашивал Маштака о случившемся со всею строгостью, на все лады.
Отпустив его, он долго просидел один задумавшись. И все морщил лоб, примаргивая глазом, дергал ртом и причмокивал. Как ни обдумывал и ни передумывал, все выходило худо.
Дело было, конечно, не в Маштаковой царапине, не в недоданной шерсти и не в пресненской пашне: мало ль своего? От такого недобора не отощаешь.
Дело было и не в сиротинском ослушестве. На Москве таких ослушеств, правда, еще не бывало, но орачам не мериться же силою с боярином: не бывало еще того, чтобы боярская сила не перетянула.
И не в том было дело, что боярыня поноровила смердам, дала им потачку — простила мнимый долг. Замятнич успел и об этом все выведать и от того же Маштака, и от Гаши, и от огнищанина, однако посмотрел на женин поступок не так, как они.
Хоть жене он никогда о том не говорил, но за долгие годы ее московского управительства он привык ценить ее тихий хозяйский обычай. Он знал, что рука у нее при всей мягкости не ленива, не опрометчива и не растратчива. Знал он и то, что московская округа ведома ей лучше, чем ему, и чтит ее больше, чем его. Заглядывая все реже в свою московскую вотчину, довольный ее ровным доходом, он почти никогда не вмешивался в заведенные женой распорядки.
Он и сейчас сожалел, что сгоряча, послушавшись Маштака и огнищанина, отменил ее решение. Ему не верилось, что оно было плодом болезненного помрачения ума, как опасалась Гаша, либо женской слабости, как говорили огнищанин и ключник, или что было принято со зла, как убеждал его посадник. Боярин Петр склонялся к предположению, что у его жены мог быть в этом деле какой-то свой, дальновидный хозяйский расчет. Он, как и кудринцы, не допускал мысли, чтобы она начисто отказалась от того, что могла с них взять и что, как он считал, д о л ж н а была взять — рано ли, поздно ли, тем ли, другим ли. Он ее не осуждал.
Худо было другое.
Худо было то, что к смердам потянулась своя челядь — сдакнулась с ними, как выражался про себя Петр Замятнич, — что она-то первая, если верить Маштаку, и распалила мятеж.
А не верить Маштаку было нельзя: давно миновал обеденный час, а никто из вскрамолившихся челядников еще не воротился из Кудрина.
Что они там делают? Как с ними быть? Чьими руками их ломать? Надежны ли те, что остались в усадьбе?
А ведь без их рук свои-то руки окажутся голы. Боярин оглядел искоса свои длинные, чисто вымытые пальцы с выпуклыми ногтями и перстень с высоким камнем, в котором алый живчик бился где-то внутри, как в густом вине.
Но хуже и страшнее всего было то, что кудринский мятеж — боярин не сомневался в этом — был не случаен.
С той самой роковой ночи, когда за всходным белокаменным столпом знаменитых боголюбовских палат дорогая турская сабля Петра Замятнича сделала свое дело, — с этой самой ночи для всех неожиданно вдруг вздулись пламенем какие-то невидимо тлевшие искры и по всей обширной Владимиро-Суздальской обескняжевшей волости побежали красные огоньки.
Петру это напоминало то, что доводилось ему не раз видеть на Днепре — в Поросье: так бывало, когда там загоралась уже сожженная солнцем и промахнувшая на ветру степь. Он не лгал княгине, когда говорил о пограблении посадничьих и тиунских дворов да о том, что смерды вышли из сел на дороги. Но бояр разбивали не только по дорогам, а и по домам. Об этом Петр умолчал, потому что это была самая страшная сторона дела, это тревожило его всего более.
И вот настигли беглеца ползучие озорные огоньки. Перекидываясь с посада на посад, со слободы на слободу, с села на село, зажигая угнетенные людские сердца, иссушенные тощетой и боярскими неправдами, долизнули огневые языки и до здешних глухих, окраинных лесов.
Тишины не стало и на Москве.
VII
Теперь о кудринском мятеже знал уже весь город.
К боярину Петру прибежал встрепанный огнищанин, а за ним приковылял и посадник. Яким Кучкович продрал кое-как глаза и, пузырясь с похмелья квасом, подсел к мужскому собору.
Все сходились на том, что опасность велика, что перед ее лицом нельзя сидеть сложа руки, но никто не знал, с чего начинать.
Самым озабоченным казался огнищанин. Однако, будучи по званию своему самым из всех низшим и все еще не сообразив к тому же, кто у кого в какой версте, он только беспокойно заглядывал всем в лицо да облизывал оперхнувшие губы.
Яким ("опухлый, аки болван", как подумал посадник) спросонок пялил мутные глаза на солнечное окошко и всем поочередно жаловался, что у него от недочоху нос залегает.
Посадник, не зная, чем разрешилось затеянное по его доносу дело о похищенном княжеском венце, избегал выговариваться. А гляделки его шарили по углам, будто надеясь рассмотреть, где упрятаны боголюбовские сокровища, которыми его так бессовестно обделили.
Напоследок Петр, громко вздохнув, встал из-за стола и сказал, что принятие острастных мер придется, видно, поотложить на сутки или на двое и ради завтрашних похорон да поминок, и для того, чтобы приглядеться, как поведут себя дальше ослушники. Еще, может, — как знать? — придут, как тот раз, с повинной.
Посадник, прощаясь, многозначительно поглядел Петру в глаза и сказал ни с того ни с сего:
— Хмеля сильнее сон, — он пренебрежительно покосился на задремавшего Якима, — а сна сильнее злая жена.
Замятнич хоть и не понял, о ком говорит хромой — о его ли, Петровой, жене или о своей, — однако из учтивости отозвался все же на эти туманные слова так же туманно, отвечая, правда, не столько посаднику, сколько своим собственным затаенным мыслям:
— Иной женский совет двух мужских стоит.
— Дай жене волю, — еще внушительнее возразил посадник, — и она тебя нетерпеливыми зубами, аки львовыми усты, ухапает.
Он уже готовил мысленно речь, какую скажет завтра княгине для окончательного очернения обидевшей его боярской семьи. В этой речи должны были упоминаться не раз львовые уста. Зная нелюбовь княгини к Кучковне и веря еще в княгинину силу, он намеревался выставить боярыню, простившую кудринцам долг, первой и главной виновницей сиротинской и холопьей крамолы.
Петр, выслушав его, только плечом повел да бесстрастно вскинул брови.
Проводив гостей, он опять тяжело задумался, глядя в окошко на вечеревший сад с яркими на закатном солнце шариками яблок и на погрузившееся в тень прясло городской стены. Ее рубили когда-то под его усердным призором. Ему вспомнилось, как он в те годы был еще силен и бодр.
Потом, тряхнув седыми кудрями, мерно зашагал в сторону сеней. Он решил — после долгих колебаний — подняться наверх, к жене, чтобы с ней вдвоем обсудить кудринское дело.
В сенях монашка уж не читала. Груня и Гаша, готовясь к выносу покойника, складывали только что снятый с гроба парчовый покров.
Боярин, стараясь отвести глаза от запрокинутой головы мертвеца, глядевшей на него черными ноздрями, спросил Груню, где мать.
От этого короткого вопроса Грунино лицо залилось румянцем. Когда она подняла глаза, еще за миг перед тем бесцветные и хмурые, на стоявшего перед ней отца — на отца, который за всю ее жизнь не только ни разу не провел рукой по ее волосам, но даже никогда не улыбнулся ни ей, ни Гаше, на отца, который был, может статься, одним из убийц ее еще не погребенного, тут же лежавшего мужа, — ее взгляд весь так и засиял радостным удивлением, робкой надеждой и застенчивой нежностью.
Она не могла выговорить ни слова.
Петр супился, чувствуя, что его щеки, уши, а хуже всего — и глаза начинают согреваться от почему-то ударившей в лицо крови.
Груня так и не успела ему ответить: вошел оружничий Петра Замятнича.
Боярин обернулся и, увидав оружничего, торопливо пошел ему навстречу, будто даже обрадовавшись, что не дождался Груниного ответа.
VIII
Случилось новое событие.
Оружничий явился к Петру Замятничу с известием, что к Москве мимоходом, по пути к Можайску, подошла ростовская купецкая дружинка и просится в город на ночлег.
Оказалось, что дружинку собрали из своих людей, снарядили из своего запаса и отправили на своих конях сыновья того самого ростовского купца, который был казнен заодно с Иваном Кучковичем. Дружинники под началом одного из купцовых сыновей готовились двинуться завтра на рассвете по Можайской дороге, чтоб встретить и — ввиду охватившего волость неспокойства — проводить до Суздаля Петрова свата, Груниного свекра, который дал знать через гонца, что выехал из Смоленска.
Ростовские и суздальские бояре, среди которых сват занимал одно из первейших мест, а с боярами вместе и тамошние знатные гости ждали его с великим нетерпением, не решаясь без его всегда умного и властного совета привести к концу самое для них главное, очень волновавшее их дело. Речь шла о том, какой быть княжеской власти, где ей быть и кому ее отдать.
Из разговоров с прибывшими Петр узнал, что после его отъезда из Боголюбова владимирцами и людьми, вышедшими из сел, было наделано, по выражению купцова сына, много зла. Теперь посадский народ сколько-то поуспокоился и почал не грабить.
На вопрос Петра, цел ли его владимирский двор, ростовский рассказчик, купцов сын, почтительно улыбнувшись, отозвался неведением.
Однако, продолжал он, владимирские каменщики (иначе он не называл бывших Андреевых милостников) еще не мирятся со своей новой участью и еще надеются сохранить у себя в пригородке княжой стол. Но этому решительно противится все залесское боярство в полном согласии с ростовцами и суздальцами (так купцов сын именовал «лучших» людей своего, торгового звания).
По их единогласному решению, княжим столам, которых может быть и не один, а два, пристойно быть в исконных, старших городах — в Ростове и в Суздале.
Два стола лучше одного, потому что при двух князьях, которые всегда будут слабее, чем один, боярству и купцам будет повольнее.
Из-за этих споров задерживается и выбор князя.
Единственного оставшегося в живых Андреева сына (начальник купецкой дружинки звал его презрительно Юрашкой), которого новгородцы, слыхать, от себя уже выгнали, не хочет ни та, ни другая сторона: он ленив, разгулен и непостоянен.
Владимирцы, каменщики, гнут в сторону Андреевых братьев — Михаила и Всеволода.
Боярство же (купцов сын упорно называл его по-старому — дружиной), а с ним ростовцы и суздальцы ищут других князей и советуются об этом с рязанским князем Глебом, с тем самым, к которому направлялся перехваченный по пути Прокопием ростовский знатный гость, потом казненный Андреем, отец рассказчика. С Глебом нельзя дружине не считаться, зная его быструю и хищную соседскую руку: рязанские послы — сейчас первые люди и в Ростове и в Суздале.
Купцов сын оглянулся с вороватой улыбкой (не слышит ли, мол, кто?) и добавил полушепотом, повторяя, видимо, чьи-то чужие, слышанные от старших, насмешливые слова, опасные сейчас, при возросшем влиянии рязанского князя:
— Удальцы и резвецы, узорочье и воспитание рязанское!
Слова были выхвачены из старинной рязанской песни, совсем не веселой, но ростовцы выговаривали их насмешливо.
Вернее всего, что достанутся залесские княжие столы Глебовым шурьям, Андреевым племянникам — Мстиславу да Ярополку.
Эти двое о своих доблестях ничем еще не заявили и были настолько неизвестны, что их плохо различали по именам и за глаза чаще величали по отцу — Ростиславичами. Но, воспитавшись в приднепровском Поросье, в кругу тамошнего ненавистного Андрею княжья, которое натерпелось от него всяких унижений, эти два князеныша всей душой были привержены, как видно, к той дедовщине и прадедовщине, которую так хотелось бы возродить дружине и передним мужам Ростова и Суздаля.
Петр Замятнич, внимательно слушая собеседника, приметил, что тот часто щеголяет словом «вече», произнося с подчеркнутой выразительностью это ветхое слово, вышедшее из залесского обихода еще при Долгоруком, а при Андрее считавшееся даже почти поносным. В рассказе же приезжего молодого ростовца то и дело мелькали такие выражения: "Стали на вече", "Звонили вече", "Сели на вече у Богородицы".
Богородицей назывался построенный Андреем огромный каменный златоверхий собор — гордость владимирцев.
Все рассказы купцова сына (Петр, дружа с его отцом, знал его с детства) были скорее по душе Замятничу.
Андреевы новизны, которым сам Замятнич был обязан своим возвышением, стали противны Петру, с тех пор как он обогател.
У Андрея было раз навсегда усвоенное обыкновение: таких, полезно ему отслуживших, но с годами отяжелевших помощников отстранять исподволь от своего кормила, заменяя новыми, молодыми избранниками, выхваченными непременно из общественных низов, а не из верхов. А за старыми, обрюзглыми с сытоеду слугами сохранялся только дворцовый почет.
Исключение было сделано лишь для самого близкого княжого друга — Прокопия; что же до Петра, то ни он, ни братья Кучковичи — при всей их силе — не избегли общей обидной участи: высокие чины за ними остались, но их услугами князь больше не пользовался. Власть ушла из их рук.
В этом сказалась лишний раз едва ли не главная новизна Андреева правления, придавшая ему такую небывалую мощь, но в конечном счете стоившая жизни северному самовластцу.
Теперь, утешал себя Петр, судя по всему, дело пойдет иначе. За кем старая заслуга, того будет и власть — таков был приятный Петру боевой клич ростовской и суздальской знати, спешившей покончить с тем, что было с таким успехом начато Долгоруким и что с такой горячностью продолжил его преемник — Андрей.
Но при всем том от только что услышанных рассказов на сердце у Петра остался и какой-то дурной, горьковатый осадок: ему не понравилось, к а к все это было ему рассказано.
Купцов сын, еще очень молодой, с девичьими темными родинками на пушистых щеках, одетый во все дорогое и добротное, но с немного преувеличенной, ребяческой воинственностью, был и по-ребячьи словоохотлив. В долгой беседе со старым боярином он сумел соблюсти всю приличную его возрасту вежливость. Однако говорил он с Петром так, как может говорить прямой и влиятельный участник передаваемых событий с человеком хоть и очень почтенным, но посторонним, чуждым этим событиям. А Петр никак не хотел считать себя посторонним.
Не выдав ничем своего недовольства, Замятнич с присущим ему искусством обласкал гостя, отменно напотчевав проголодавшегося с дороги паренька, и удобно уложил его спать на своей, боярской, половине, а его дружинников, тоже накормленных вдосталь, развел на ночлег по своим дворовым службам.
Расточая на них и на их молодого начальника все знаки самого щедрого хлебосольства, боярин на их благодарственные слова отвечал с достоинством, что исполняет лишь свойственничий долг, заботясь о тех, кто оказывает важную услугу его свату.
Оставалось только распорядиться, чтоб порадели об их конях. Выйдя для этого на двор, Петр Замятнич узнал от конюшего, что из числа ушедших в Кудрино челядников никто все еще не воротился с повинной.
Боярин, часто примаргивая одним глазом, посмотрел вверх.
Млечный путь мерцал широким неровным поясом поперек всего глубокого свода теплой летней ночи.
Петр почувствовал в ногах сыроватый холод и поглядел вниз: дворовая трава была вся в густой росе. Быть зною и завтра.
В оконницах верхних сеней боярского дома брезжил слабый свечной свет. Временами он темнел от проходивших туда и сюда людских теней.
Говорить с боярыней было уж поздно.
Петр причмокнул языком, точно подсасывая ноющий зуб, и пошел в дом.
Предстояло еще одно дело: на самую полночь был сказан вынос покойника к Предтече.
IX
Следующий день выдался и впрямь опять изнурительно знойный. Жара дала о себе знать с самого утра.
Княгине Ульяне казалось, что духоту еще усиливает запах горячего теста, проникавший временами в узкую щель чуть приотворенного окошка, за которым княгиня стояла уже давно. Она знала, что тестом пышет из примыкавшей к княжому двору боярской поварни. Там пекли поминальные блинцы.
Ее чуть-чуть беспокоил оконный сквознячок, от которого, хоть он был почти горяч, легко было все же, как она думала, и простынуть.
Ей прискучило глядеть на паперть Предтеченской деревянной церковки, которая приходилась прямо против княгинина окна. Ей надоело видеть перед собой внизу, на дворе, чернявый затылок Заплевы, золотные, лоснящиеся одежды своих отроков и розовые шапки булгар, которые теснились в княжих воротах, тоже глазея на московский (все еще единственный) храм.
Но княгиня тем не менее не отходила от оконной щели и не отрывала глаз от открытой церковной двери, откуда слышалось — то явственней, то глуше — погребальное пение.
На паперти и перед папертью, на самом солнцепеке, в два длинных ряда стояли и сидели, ссорясь из-за мест, нищие и убогие. Княгине чудилось, что все они диковинно похожи один на другого и все — и обгорелыми лицами, и тусклыми от пыли волосами, и лохмотьями — одномастны: одной тени с накаленной землей, на которой они толклись. Это зрелище томило княгиню, как лихорадный сон.
Широкая дорога, образованная двумя рядами нищих, замыкалась стоявшими посреди церковного двора пустыми санями без лошадей и без оглобель. Они были выкрашены в ярко-красный цвет. Свежая, еще не всюду высохшая краска блестела местами на солнце.
Княгиня знала назначение этих саней и старалась не глядеть на них.
Но особенно раздражал ее пономарь. Стоя праздно на своей звоннице, под колоколами, как раз вровень с окном княгинина высокого терема, он не спускал с него глаз, рассчитывая, видно, выглядеть ее, Ульяну. И не стеснялся даже, невежа, облокотясь о перильца своего звонарского яруса, приставлять ручищу к бровям, загораживаясь от мешавшего ему солнца.
"Вовсе онаглели, псы бессовестные!" подумала княгиня.
Но вот на звоннице около пономаря вынырнула из-за перилец беловолосая голова мальчика. Он что-то сказал; пономарь переспросил, и мальчик опять что-то сказал.
Тогда пономарь, проворно перегнувшись через перильца, наскоро оглядев еще пустую паперть да оживившихся нищих, обернулся к колоколам и принялся торопливо перебирать веревки.
Из церковных дверей выбежала немая дурочка и, показывая всеми пальцами на солнце, стала весело смеяться и что-то мычать нищим. Те согнали ее с дороги.
Княгиня вздрогнула всем телом, когда в воздухе закачался и замер первый, низкий удар зазвонного колокола.
За ним понесся мелкими волнами второй удар, не в меру высокий, подзвонистый, словно весь из однозвучных Чайкиных стонов.
Когда и он затих, вдруг пошел по воздуху, будто большой темный парус, набравший ветра, еще один удар, несравненно более полный, чем первые, — совсем иного, глубокого и мягкого звука. Это вступил лучший московский колокол, дар основателя Москвы — старого князя Юрия Долгорукого, высланный им из Киева водой, вверх по Днепру, в лето его таинственной кончины. Из-за тогдашних беспокойств колокол прибыл в Москву уже после его смерти, по зимнему пути, и был торжественно поднят в присутствии князя Андрея Юрьича, при большом стечении всех московлян и всех окрестных слобожан и селян.
Потом удары пошли немного чаще, однако не в голос, а все в тот же разнолад: то высокие, то низкие, то средние. И все удары колебались все той же плачевной, далеко убегающей зыбью. И, выделяясь из всех других звонов, будто посылая куда-то в воздушную, бесконечную даль парус за парусом, один другого темней, словно позывая куда-то — не без укора — редкими рывками глубоких рыданий, все плыл да плыл могучий, мужественный серебряный звон киевского заветного колокола.
Княгиня Ульяна слыхивала не раз, как перезванивают по покойникам. Но сейчас от этого скорбного разлада и распада колокольных голосов, бередившего слух надрывистым, смертным, зловеще улегченным несогласием, которое будто разбивало в ней что-то на мелкие, по-разному звонкие дребезги, ее кинуло в знобкую дрожь. Под грудь подкатила тошнота, а в голове сделалось пусто, как перед беспамятством.
Но она пересилила себя и, отерев с безбрового лба холодный пот, осталась стоять у окна. Наступало мгновение, которого она так долго и так мучительно ждала.
Нищие и убогие закрестились, отшугивая от церковной двери бойкого Пономарева щенка.
В княжих воротах парчовые отроки поснимали шапки и затолкали булгар, чтобы и те скинули свои колпаки.
В темных дверях храма замерцало золотом наклоненное чело большого запрестольного креста.
Его вынес на солнечную паперть высокий, сухой старик с ямами на щеках, с узкой бородой, доходившей почти до пояса. Княгиня не знала, что это воротник.
За ним кто-то другой — судя по неверной поступи, еще более древний старец (это был Неждан) — вынес на голове гробовую крышку. Она прикрывала его лицо.
Вышли поп с дьяконом в черных ризах и, сойдя с паперти, остановились лицом к храму. В дверях забелел полукруглый торец долбленого открытого гроба, похожего на челнок. Княгиня увидала обтянутые погребальной пеленой, разведенные врозь подошвы мертвеца.
Дубовую домовину с покойником несли на полотенцах высшие власти боярской вотчины: впереди — Маштак с запекшейся бороздой на бледной щеке и конюший, позади — оружейничий и староста.
На паперть вышла Груня — маленькая, впалогрудая, с красными пятнами вокруг бесцветных глаз.
Княгинино сердце заколотилось у самого горла: статная тонкобровая Гаша (она была на диво хороша в лазоревом убрусе, который мягко обвивал ее белое, строгое лицо), ведя за руку кудрявого сынка (у него был завязан глаз), другой рукой поддерживала локоть матери.
Княгиня Ульяна так и впилась глазами в Кучковну. Она не видела ее много лет. Ее поразил странный взгляд Кучковны. В нем не было ни тоски, ни страха. В нем крылось даже как будто некое подобие мечтательной улыбки. Глаза боярыни, обведенные непоредевшими бобровыми ресницами, все еще прекрасные, несмотря на окружившую их сеть морщинок, глядели не на гроб, не на крест, не на дочерей, не на нищих, а куда-то вдаль — в замоскворецкую лесную, очень бледную даль, которая, кажется, вся курилась от накрывшего ее страдного зноя.
Из дверной тени, блестя сединой, выступил на солнце и встал за плечом у жены боярин Петр.
За другим ее плечом морщилось от света одряблевшее лицо Якима Кучковича. Он озирался по сторонам и очень внимательно оглядывал все окружающее опухшими, трезвыми, удивленными глазами.
Оба боярина были в длинных сине-зеленых одеждах точно такого же отлива, что и распашницы трех женщин. Этот цвет считался печальным. Так одевались те, у кого в доме покойник. Княгиня примечала по-бабьи все мельчайшие мелочи.
Петр отвязал от пояса большую красносафьянную калиту[51] с вышитыми волоченым серебром птицами и зверями и передал ее старшей дочери. По движению Гашиной руки, нерешительно отпустившей материнский локоть и взявшей туго набитую деньгами калиту, видно было, что тяжесть не по руке.
Гаша посмотрела с тревожной заботой на мать, просительно на отца и принялась степенно раздавать нищим милостинные деньги. Давала, не считая, горстями. Нищие волновались и шепотом ссорились.
Как только Гаша отошла от матери, Петр, отмерив один шаг, встал около жены и взял ее с береженьем под локоть. Княгиня криво усмехнулась. Глаза Кучковны все так же спокойно смотрели вдаль.
Из храма вышла об руку с мужем посадница в новой кике. Она с жеманным высокомерием задирала редкие брови под бисерное очелье кики, свисавшее на лоб в виде челки, поджимала губы и щурила от солнца глаза, косясь украдкой на княжие окна.
Вышли, тоже об руку, огнищанин с обиженно нахмуренной огнищанихой. Княгиня, невзирая на подступавшее к глотке удушье, заметила, что на огнищанихе не по росту короткая и тесная в плечах ее, Ульянина, шелковая распашница.
"Бессовестные! — повторила про себя княгиня. — У меня на глазах!"
Вслед за московской высшей знатью, вслед за попадьей и за четырьмя поповнами, вслед за толстой дьяконицей, которая несла на тарелке для раздачи нищим пшеничную кашу, утыканную изюминами, стал вываливать на паперть и простой народ, посадский, отчасти и слободской, все больше женщины. Мужчины, верно, страдовали в полях.
Визгнул Пономарев щенок и, подвывая, отскочил от паперти на трех ногах.
Княгиня видела, как попадья, показывая одним глазом на боярское семейство, которое столпилось плотной кучкой в головах гроба, сказала что-то на ухо дьяконице.
"Верно, подсчитала, — догадалась княгиня, — сколько годов не собирались эдак — всем гнездом. Всем, да не всем, — прибавила она мысленно с бессильным злорадством: — зятевьев не выберегли!"
Тем временем спеленутое тело вынули из гроба и опустили в красные сани. Молодые носильщики в чистых, высоко подпоясанных рубахах осторожно подняли сани, подошли под них и, взявшись обеими руками за полозья, подперли головами санный кузов.
Дьякон, спросив глазами попа, мотнул бровями воротнику. Тот, выровняв сияющий на солнце золотой крест, медленно тронулся вправо, к Боровицким воротам. Вслед за ним заныряла несомая Нежданом гробовая кровля, а за ней и опустевший на время дубовый челн. Его нес, тоже на голове, Нежданов сын. За гробом зашагал черноризный причт. За причтом поплыли выше людских голов сани с покойником.
Когда они выплыли из церковной ограды, колокола вдруг оборвали свой разноголосый говор.
Поп откашлянул и, подняв голову в мятой скуфейке, затянул сильным мужицким голосом погребальный стих.
Дьякон сразу же подтянул старчески дребезжащей верной фистулой и, переворотясь лицом назад, продолжая идти попятным шагом, закаблучьями вперед, высоко взмахнул в сторону гроба брякнувшим кадилом. Из кадила вместе с облачком белого, угольного, и облачком синего, фимиамного, дыма выбилось бледное пламя.
По этому знаку целая станица женских голосов стройно подхватила слезный распев.
На Москве знали толк в пении. Московские певуньи славились на все вятические леса и на все Залесье. И не только в недальних, молодых городках, построенных князем Юрием, — в Дмитрове, в Переяславле, — но и во Владимире уж пошла в ход шутливая поговорка: "Съезди-ка в Москву за песнями".
И сейчас пели почти все шедшие за гробом женщины.
Пели дружно слаженными голосами четыре поповны, а попадья, подпевая вполголоса, незаметно, из-под шелкового персевого плата,[52] помахивала рукой, чтоб, грехом, не разошлись дочери, чтоб не осрамили поповского племени. Тонко, с вычурными переливами выводила дьяконица. Пискливо подлаживалась к ней остроносая проскурня. В самом хвосте похоронного хода громко, но не нарушая согласия, тянула Жилиха, показывая блеклые десны и загребая горячую пыль босой косолапой ногой. Ей подголашивала старуха Истомиха, вдова боярского холопа, того, что повесился когда-то на ясене на берегу ручья Черторьи.
Посадница долго крепилась, все так же жеманно поджимая губы, но когда женский хор, допев один стих, затянул, по новому взмаху кадила, второй, не выдержала и она: запела тоже — опытным, еще свежим голосом. И заплакала. О чем? О своих ли бабьих грешишках? О своей ли загубленной мужем женской доле? Как знать?
Когда золотой крест начал меркнуть, уходя в глубокий проезд Боровицкой башни, к певчей станице стал приливать сперва робко, но потом все смелее и звучнее еще один, очень молодой голос необычайной, хрустальной чистоты. И вскоре завторил ему другой, сдержанный, грудной, тоже чудесный. Это вошли в хор Груня и Гаша.
Хоронили Шимона за рекой, в Черемушках, где московляне завели погребалище еще при Юрии.
Воротник с крестом подходил уже к паромной переправе, и согласное женское пение доносилось теперь до княгини только редкими вздохами. Но в ее ушах, терзая душу, все звенел своей хрустальной грустью Грунин надгробный плач. И, одна в своем душном терему, всеми брошенная и забытая, плакала и булгарка.
X
Был поздний вечер.
Надолго затянувшийся поминальный пир подходил к концу.
От умеренно выпитого, но чересчур душистого дорогого греческого вина поп зарумянился весь — всей большой светло-русой головой, вплоть до выстриженного на темени гуменца. Он лишь сейчас, к исходу утомительной трапезы, стал мало-помалу отходить от смущения, причиненного застольным соседством со славнейшими боголюбовскими боярами.
Ему, по его церковному сану, отвели, как положено, по древнему чину, первое место в переднем углу.
Позаскорузнув в московской лесной тиши, он упражнял разговорные навыки только в немудреных беседах с женой, с детьми, с дьяконом, да с пономарем, да с проскурней. А с проскурней один разговор: не напустила ль в проскурное тесто пузырей? От таких толков не сделаешься речист. Поп решительно не знал, о чем говорить с великолепными соседями. Они приводили его в замешательство и своей важностью, и еще более тем, что были убийцами не только князя, но, как он слышал, и того покойника, которого он, поп, только что отпел.
А ничего не говорить было тоже неловко.
"Ни вещати дерзаху, ни молчати смеяху", бесплодно повторял он про себя.
Набравшись наконец духу и твердо решив завести не раз выручавшую его речь о погодных приметах, поп еще раз отхлебнул для храбрости вина и, покосившись на Якима Кучковича, опять уже пьяного и шумного, открыл было рот, когда в боярские верхние сени вошло новое лицо: суздальский сват боярина Петра Замятнича.
Всем, кроме хозяина и попа, пришлось пересаживаться: сват был знатнее, или, как принято было говорить, честнее, всех. Его усадили выше посадника, выше Якима — рядом с совсем уж теперь замлевшим от робости попом.
Сват сразу же сломал стол.
Громкие беседы мигом притихли.
Тучный суздальский боярин сидел напыженный, едва отвечая даже обходительному Петру, нехотя отщипнул только один ломоток от простывшего блинца и еле пригубил серебряную чару с густым греческим вином, в котором так и бился алый живчик. Темная, вздутая, пупырчатая рука то постукивала по столешнице отекшими пальцами, то подбиралась жабой, а умные маленькие глаза недоброжелательно, с холодной дерзостью оглядывали всех сидевших за столом, одного за другим.
Когда Петр, нагнувшись к свату, спросил его вполголоса, кого из ростовской дружинки позвать к верхнему, боярскому столу, а кого к нижнему, где пировали более худые, менее честные гости, сват ответил коротко и вслух, что никого не нужно звать: всех накормил дорогой, в лесу, на дневке. И сам сыт.
— Да нам скорешенько и в путь, — добавил он, не глядя на Петра.
За поминальным, свойственничьим столом, в устах отца только что погребенного покойника такие слова звучали если не прямым оскорблением, то вызовом тестю этого покойника — хозяину пира.
Петр побледнел и, комкая последние застольные обряды, поторопился отпустить гостей.
Как только они отпрощались и обиженный дозелена посадник с взъерошенным от изумления огнищанином скрылись, как и другие, за дверьми, а хмельной Яким потащился их провожать до крыльца, сват, оставшись с глазу на глаз с Петром, ткнул острой бородкой в сторону ушедших и сказал:
— Пошто пускаешь в дом Андрейкину нечисть?
— Какие они Андрейкины? — ответил Петр. — Оба искони княгине прямили и сейчас прямят.
— Пора б не княгининым глазом, а своим глядеть! — отрезал сват, смерив Петра с ног с головы презрительным взглядом. — По мне, оба кривы. Как положим в Суздале весь поряд, посадим сюда других.
Маленький, очень тучный, сват прошелся по сеням, брезгливо поглядывая на неопрятные остатки пира, и из дальнего угла, полуобернувшись к молчавшему Петру, спросил:
— Как допустила сватья (он говорил о Кучковне: ее не было на пиру), чтоб у ней в дому Ивана взяли? И посадник чего смотрел? А говоришь: прямит.
— Никто не знал, где Иван кроется, — мрачно ответил Петр.
— А надо б знать.
Сват прошелся в другой угол сеней и, совсем уж отворотившись от Замятнича, проговорил в стену:
— Ничего не сумели! Шимона не сумели уберечь!
Он произнес эти последние слова тем же сдавленным, злым голосом, каким говорил и остальное, точно поминал не о сыне, которого — все это знали — любил без памяти.
— Ты, видать, устал, — примирительно сказал Петр. — Что торопишься? Заночуй. Наутрие дотолкуем.
— Не с Ивана ль пример брать? Дороги ваши московские ночлеги!
Петр еще не терял надежды умягчить свата. Ему было необходимо задать один важный, решительный вопрос. Он много надеялся на это свидание. Но немыслимо было задавать этот вопрос сейчас, когда на свата нашел отчего-то такой свирепый стих. Чтобы выгадать время и перестроить собеседника на иной, более удобный лад, он решил заговорить о другом.
— А я думал, заночуешь, — сказал он, стараясь придать своему голосу спокойный, дружеский звук. — У меня к тебе просьбица. Тут у нас в некаком селище смерды сшалили (он не решался сознаться в крамоле своей челяди), так не пособит ли твоя дружинка их унять?
Сват остановился, насмешливо посмотрел на Петра и проговорил с неприязненной ухмылкой:
— Не прикажешь ли мне самому, благо есть досуг, наведаться в то селище?
Петр не догадывался, до чего неудачно выбрал предмет, которым рассчитывал отвлечь и развлечь свата. Он не знал истинной причины, отчего сват так беснуется.
Помимо страха, какой внушала свату предстоявшая лесная, разбойная дорога до Суздаля, было еще и другое. Перед самым въездом в Москву купцов сын сообщил ему на дневке такую весть, которая сокрушила свата не менее, а то, пожалуй, и более, чем бесславная гибель единственного сына.
Молодой ростовец долго не осмеливался передать эту весть, но словоохотливый язык чесался, и на дневке, уже под Кунцевом, разотважившись от горячей подорожной чарочки, он выболтал, что сватовым суздальским прадедовским вотчинам, которые Андрей отписал на себя и которые теперь, после Андреева конца, должны были вернуться под власть прежнего хозяина, — что этим богатейшим вотчинам нанесен страшный, не скоро поправимый урон: сватовой челядью где выжжены, где вытоптаны все нивы всплошь; все обильное усадебное строение спалено дотла; от сотен скирдищ следа не осталось; угнан невесть куда весь скот и все конские табуны; охотничьих ястребов и очень дорогих соколов, привезенных с Печоры-реки, съедомых лебедей и журавлей пустили лететь куда захотят, а сама челядь вся разбежалась по городам да по лесам. Сват был разорен.
Подойдя к дворовому отворенному, уже темному окошку, сват высунул в него бородку и сказал как бы про себя:
— Кони, кажись, накормлены. Как отдохнут да попьют, так и в путь… Так и в путь, — повторил он, по своей привычке, отходя от окна. — Где Груня? — спросил он Петра. — Кликни-ка ее.
Петру показалось, что сват наконец смягчился. Он заговорил не без поспешности:
— О конях не тебе заботиться, а мне. Конюшему сказано: будут сыты. И с собой дадим. А Груня, надоть, прилегла. Ужо кликну ее, как поговорим…
Он замялся. Важный вопрос, сверливший душу, нельзя было больше откладывать.
— Ты мне присоветуй, — вымолвил он, негодуя на невольную искательность своего голоса (так ли — еще вчера — думал он говорить со сватом!), — присоветуй, как мне-то быть? Ехать ли в Суздаль ныне же либо еще переждать? — Он опять замялся. — И княгиню куда везти?
— Кто о чем, а ты все о княгине!
В презрительной усмешке свата просвечивала та же брезгливость, с какой он оглядывал чужие объедки.
— Присоветовать! — пыхнул он, задирая бородку. — Свой ум есть. У кого зудит, тот и чешись. Куда знаешь (он произнес: "куда знашь"), туда с княгиней и беги. Что потерял в Суздале?
Он прошелся по сеням, обходя неприбранные столы.
— А нам с Груней, — прибавил он, опять будто про себя, — в Суздале давно бы пора быть.
— С Груней? — пробормотал Петр, думая не так о Груне, как о той черной завесе, которая вдруг перед ним повисла и застлала все его будущее.
Приговор свата, первейшего из первых бояр, — это был приговор всей ростово-суздальской старобоярской дружины, которой он, Петр, убив Андрея и убежав из Боголюбова, сам отдал в руки всю власть. И теперь новые владельцы этой им, Петром, похищенной, но тут же и упущенной власти выбрасывают его из своего изысканного круга, как наемного палача, который более не надобен. Путь в Суздаль, путь к упущенной власти был Петру заказан.
— С Груней, да, с ней, — повторил сват. — Что спрашиваешь? Иль тебе наш боярский уряд неведом (он нажал на слово "наш")? В мой дом отдана, в моем дому ей и быть. А от твоего коровая (суздальское оканье свата становилось от раздражения заметнее) та краюха отрезана.
— Дал бы ей у матери поотдохнуть, — мертвым голосом выговорил Петр.
— И у меня не устанет, — ответил сват. — Чай, обихожу ее почище, чем ты — Шимона.
— Захочет ли?
— А не захочет, так скажи дочке так: чтоб батюшка-свекор не наложил на тебя своей грозы, ходи у него в послушании. Небось захочет. Вели-ка девкам складывать ее вдовье добришко…
Два часа спустя, уже ночью, Петр Замятнич стоял у себя на дворе перед высокой повозкой, где сидел на подушках сват, а рядом с ним — рыдающая Груня. Тын, вскрытый намедни для выноса покойника, успели уже заделать. За спиной у Петра, на крыльце, тихо плакала Гаша, сжимая странно легкую руку матери. Кучковна глядела в небо, на Млечный путь, такими же бесслезными, мечтательными глазами, какими утром с паперти смотрела в лесную даль.
Чтоб из приличия, ради посторонних, что-то сказать, Петр задал свату на прощанье последний вопрос:
— Кого думаете звать в князья?
Он сознавал, что ему теперь безразлично, кто будет князем. Оттого он и задал именно этот ставший для него незначащим вопрос.
Но сват не считал ни нужным, ни пристойным обсуждать с Петром этот для него очень значительный вопрос о князьях. Свату было не до приличий. Свата не смущали посторонние.
Душная ночь; чужие, непотребные, убивецкие поминки по любимом сыне, которого не удалось самому и похоронить; лихие разбойники по придорожным лесам; полное разорение; гроза, которой предстояло смирять плачущую сноху; а там, впереди, в Суздале, ежели доберется туда жив, ожесточенные, утомительные споры с упрямыми ростовцами, с сутяжными владимирскими каменщиками, с проискливыми рязанскими послами. Было от чего кипеть!
А тут еще вьется в ногах, как паршивый пес, болтается, как колышка в проруби, этот бесповоротно промотавшийся бывший Андрейкин милостник, сын пришлого, темного родом дружинника, подобранного когда-то Мономахом на одной из его, Мономаховых, бесчисленных дорог. Это он бессовестно втравил Шимона в подсказанное боярами, но не боярское дело; это он опоил Шимона не своим вином; это он в воровском хмелю, в трусливой горячке затоптал Шимона насмерть. И вот липнет этот убрызганный Шимоновой кровью человек со своими глупыми, невпопадными речами! Все только о себе да о себе. А кому он нужен? Да еще верещит этот нечистый человек о княгине, которая, как и он, отслужила свою нечистую службу и которую, как и его, пора сбыть с рук.
Вся перенятая от отцов спесь, вся скопившаяся в сердце ненависть ударила свату в голову. Его прапращуры осели в хлебородном суздальском Ополье в незапамятной древности, еще язычниками, молившимися истуканам. По семейному преданию, они ходили тогда на камских булгар брать с них дань беличьими спинками. Водил их туда будто бы сам Владимир Старый со своим полусказочным пестуном Добрыней, тот самый Владимир, который крестил Русь и насильно окрестил тогда же и сватовых пращуров. Это было двести лет назад (да и было ли?), но сват это помнил, гордился этим и не сомневался в своем праве называть себя великим и честным боярином. А что сам он подготовил совершенное Петром убийство, что всего две недели назад какие-то чернецы зашивали его, великого боярина, в мешковину и прятали по житным ямам да по церковным ларям, — это он позабыл. С высоты повозки сват и вчерашний друг оглядел в последний раз свата и вчерашнего друга и отчетливо, сдавленным голосом злого толстяка выговорил на весь двор, сильно окая по-суздальски и нажимая на каждое, теперь уж намеренно и явно поносное слово:
— Не сказать ли Дружине, что-де володимерец Петряйко, Замятнев сынишко, бьет-де вам, боярам, челом: не возьмете ли-де вы, бояре, себе в князья его, Петряйкина, сердечного дружка — Анбала-ясина, княжого шелудивого холопа, с кем они-де вдвоем своего князя давили?
Такие слова назывались бесчестьем: сват обесчестил свата.
Груня вскрикнула и перестала рыдать. Повозка уж тронулась.
— Ты что? — сказал сват, касаясь Груниного плеча жабьей рукой.
Груня отдернулась, ничего не ответив.
Сват отнял руку и задумчиво заправил острую бородку концом в рот.
Так и уехал из Москвы — покусывая бородку, покачиваясь рядом с Груней на высоких подушках, весь в заботах о себе. О Петре он, видно, успел уже забыть.
Топтавшийся тут же верхом молодой купцов сын с родинками на щеках поспешно заворачивал свою раскормленную кобылу. Покидая двор, где вчера был так щедро обласкан, купцов сын даже шапки не снял на прощанье, проезжая мимо высокого прямого человека, который неподвижно стоял перед крыльцом, свесив на грудь седую обесчещенную голову.
Столь заспесивился купцов сын, что не обернулся даже, как ни был молод, на приглянувшуюся ему вчера дочку этого вчерашнего хлебосола.
А уж на что была хороша — на ночном крыльце, со своими тихими-тихими, русскими слезами!
XI
События этого дня и этой ночи на том не кончились.
Из-за сухой духоты, которая почти не опрохладилась и ночью, Гашино окошко, обращенное на реку, осталось отворено.
Кудрявый мальчонок лепетал во сне что-то невнятное: у него еще гноился больной глаз.
Гаше не спалось. Она лежала лицом к стене, с открытыми глазами.
Вдруг на темной стене ярко занялся и весело заелозил по верхним ее венцам светло-красный четвероугольник.
Гаша вскочила с постели: глядевший в ночь оконный пролет весь полыхал от близкого зарева.
Ночные пастухи, что стерегли за рекой, на скошенном Великом лугу, боярский табун, видели, как на городском берегу выкинуло вверх огромный огненный факел. Они сразу же поняли, что загорелся двор боярского ключника Маштака.
Знойная сушь помогла огню. Маштакова изба отпылала очень скоро. Не уцелело ни бревнышка.
А соседние хаты, придвинутые к самой воде, удалось отстоять, благо было безветренно. Их нагревшиеся стены все время окатывали водой: и из реки ее брали, передавая друг другу из руки в руку ведра, да и по хатам оказалось, как на счастье, довольно ее припасено с вечера. Так уж людям посчастливилось. Потому что в другой-то день могло бы того и не быть: по воду хаживали больше по утрам.
Пожарище еще рдело в ночи дотлевающим угольем, когда те же пастухи увидали второй такой же факел. Он поднялся уж на их стороне, за Москвой-рекой, где-то далеко за околицей береговой торговой слободки.
Там никакого жилья словно бы не было, и пастухи недоумевали, что же могло там гореть.
Была — и то не там, а выше по реке, ближе к слободке, под борком, почти насупротив московского посада — небольшая часовенка Параскевы-Пятницы, поставленная когда-то боярыней в свое имя, за помин отцовой души. Там одиножды в год певали панихиду: в самое бабье лето, в Автамонов день, когда, по народной примете, змеи уходят в леса. Говорили (пастухи сами этого не помнили), что на том месте, где срублена часовенка, был казнен когда-то боярин Кучко. В его время, уже далекое при Юрии, тамошний борок был еще, как толкуют, глух.
В Кучковнины же годы по пятницам здесь, у часовенки, чуть в стороне от слободки, бывал небольшой торжок. Торговали больше горшками да шерстью. Горшки пригоняли с разных мест по реке в особо для того сбитых, широких, плоскодонных стругах.
И только когда новое, заречное зарево пораспылалось и когда ясно, как днем, обозначились впереди пламени черная грива Пятницкого борка и черная ж луковка с надчасовенным осьмиконечным крестом, — только тогда вспомнили пастухи, глядя на гриву да на крест, что подальше борка и часовенки поставил себе совсем недавно новую, просторную избу особняком от слободки старик, богатый шерстобит, Маштаков отец.
Еще смеялись тогда над стариком, что выбрал для избы место по пословице: хорошо угодье, когда река близко, а родня подальше.
Люди часто смеются понапрасну, не подумавши: не от родни уходил старик и не к реке тянулся, а к Пятницкому Торжку.
У него-то и загорелось.
Свидетели первого пожара, бывшего на городском берегу, рассказывали потом, что обезумевший Маштак, позабыв в дымной суматохе про другое свое имущество, принялся выкидывать из двери горящего дома одни только клетки с певчими птицами. Когда разгулявшийся огонь стал выгонять ключника из избы, он, выбегая в дверь, оступился о порог и упал на птичьи клетки.
— Так всей варей в них и рюхнулся! — объясняла впоследствии Жилиха, которая на пожаре-то, правду сказать, не была, потому что заночевала тогда у семеновской кумы, понарассказав ей всяких небывальщин про боярские похороны. Такого понамолола, что послушать нечего.
Жилиха никогда не говорила "всем передом", а непременно "всей варей". На Москве только она одна так и говорила. Иные из-за того так ее и кликали: не Жилихой, а Варей.
Клетки поломались, птицы вылетели на волю, и в клубах пламени и дыма заметались соловьи и скворцы.
Толковали еще втихомолку, будто видели в ту ночь на городском берегу боярского щетиноватого скотника. И будто за рекой, на Великом лугу, когда перед рассветом немного прохолонуло, грелся с конскими пастухами у костра некий, неведомо зачем оказавшийся там ночью боярский же холоп, смирный лохматый парень. Его все давно знали и над ним иногда немножко подсмеивались, потому что он любил жаловаться на девок: как, дескать, у парня, по его холопьей участи, ничего своего нет, деревянные, мол, вилы трехрогие (велика ли им цена, много ль от них проку?) и те не свои, а боярские, то ни одна, мол, девка за него, за холопа, верно уж не пойдет. А жениться, дескать, охота. Да и надо.
Все соглашались, что жениться, конечно, надо. А только все-таки посмеивались.
Может быть, тоже понапрасну? Легко ли и впрямь холопу жениться? Вольная за него не пойдет, а девке-холопке расчет выйти опять не за него, а за вольного смерда: за вольным смердом и она, каким счастьем, может стать вольной. А за холопом останется вовек холопкой, рабой, и дети ее будут холопами, робичичами.
Только над лохматым-то если и смеялись, так не со зла. Такой здоровый парень — по росту Воротникову большаку без малого ровня, — а девками обижен! Девки же и смеялись. А сами на него так и поглядывают! Надо же им посмеяться, не все же плакать. Когда и смеяться, как не в девичьи, красные годы! Отдадут замуж — какой еще муж попадет? За иным до тех пор наплачешься!
Взять хотя бы ту же Кучковну.
Не холопка была, а боярышня. Только обычай у нее был не боярский: простая. И уж тихая-то какая! (А в девках, небось, тоже по-пустому смеялась. Говорили, кто помнит, будто в девках больно хорошо пела, не хуже Груни.) Да, всем взяла. Одно слово: м о с к о в л я н к а… А вот поди-кася!
Да у их-то боярского роду — что говорить! — свои порядки. Своя и доля. У холопьев да у смердов такой не бывало.
Те горюнились с иного. Да и по-иному горюнились-то.
В те, в Кучковнины, годы смердам становилось день ото дня трудней. А холопьям и подавно. Едва обмотались.
Говорить о том не любили, да, пожалуй, и не сумели б. Скорей сделают, чем скажут. А когда скажут, так коротко — одним холопьим реченьем: н е в ы с т е р п.
Случалось, что иной раз и на самом деле не вытерпят.
Так было и на Москве в то лето, как бояре убили князя Андрея Юрьевича Боголюбского.
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
Мятеж
I
В один из дней этого лета, в тот, что наступил после двух ночных пожаров, в день, о котором еще долго потом вспоминала Москва, а потом и позабыла, не записав в свою летопись (да на Москве некому было тогда ее и вести, потому что летописи велись только по тем городам, где был княжой стол или где митрополит либо архиерей держал подворье, а на Москве, кроме посадника да попа, никаких других властей в те годы еще не было), — в тот день над Москвой появились ястреба.
Это было ранним утром.
Их было несколько: не то четыре, не то пять. Откуда взялись?
И ходили по светлому небу большими, очень медленными, чуть наклонными кругами, режа одним кругом другой круг: своим — чужой, то поддевая ниже, то захватывая выше, иногда так высоко, что их негромкий голодный клёкт становился едва слышен. И очень нежен: словно кто отпустил тонкую стальную пружину.
Все хозяйки и в городе, и на посаде, и по приречным слободкам поубирали кур и цыплят.
— Курохватов нанесло! — говорила одна другой.
Бродили по берегу только Маштаковы брошенные куры.
Их было много.
Отдельно держалось главное стадо с тремя крупными петухами, из которых один, самый крупный, рыжий, мохноногий, то и дело напускался на двух других, пригибая голову к земле, тряся свислым на сторону кровянистым гребнем и топыря на шее ожерелок масляно-огненных перьев. Он отвел своих не покормленных погорелыми хозяевами кур к сенному стогу, старательно сметанному поодаль от береговых хат.
Стог, как и куры, принадлежал Маштаку. Он был сметан всего три дня назад. От него еще крепко пахло свежим сеном. Этот сильный, далеко уходивший запах мешался с запахом гари, еще более сильным и разносившимся еще дальше. Из острой макушки стога торчал конец всаженного в землю шеста, вокруг которого вили стог.
А две клуши с цыплятами, успевшими подрасти и обратиться уже в оперышей, но не отстававшими все же от матерей, отошли к раскидистому дубу, что корячил на берегу огромные обломанные, совершенно голые суки и приходился почти против самой боровицкой изголови городского холма. Дуб был очень стар, давно потерял всю кору и был весь источен червями.
Если бы деревья умели видеть и говорить, то этот дуб по своему древнему возрасту мог бы рассказать, жил ли на свете сказочный Добрыня или не жил и хвастает ли или нет суздальский сват Петра Замятнича про камский поход своих прапращуров.
Но дуб, как все дубы, молчал и ничего не видел.
Не видел и того, как два ястреба, один за другим, ударили с неба — один в рыжего Маштакова петуха, другой в белую клушу, что пасла свой выводок у широко разошедшихся корней древнего дуба.
Этих двух ястребов заметили позже, когда они, напировавшись без помехи, сытые, большие, чубарые, сидели столбиком, по-совиному, один на шесте, торчавшем из стога, другой на самом высоком нагом суку иссохшего дуба, и нехотя, сощурив желтые глаза, поворачивали плоские головы то туда, то сюда.
Когда их согнали, они медленно полетели в сторону Великого луга, лениво махая тяжелыми, сильными, кое-где проредившимися крыльями.
Они летели низко над Москвой-рекой, которую чуть бередил теплый, южный ветерок.
Этот ветер назывался на Москве спорным, потому что дул против течения. Он поднимал мелкую рябь, в которой было столько слепившего глаза солнца, что оно не давало глядеть на неторопливо улетавших ястребов.
Ястреба, выглядев опять голые сухостоины, опустились на дальнем краю Великого луга, у Коломенской дороги, что вилась розовой тесемочкой по зеленому Замоскворечью и терялась в зарослях черной ольхи.
А потом улетели ястреба куда-то еще дальше этих зарослей. Куда?
Подле стога и около дуба трава оказалась местами запрыскана кровью. А вокруг кровяных отметин было разбросано ворошками много куриных, петушиных и цыплячьих перьев. Пышнее всех был ворошок рыжих перьев. Только эти перья не казались теперь больше ни огненными, ни масляными.
Тут, стало быть, ястреб и расхватал мохноногого злого петуха.
Уцелевшие Маштаковы куры отошли теперь еще дальше от пожарища и разбрелись по кривой песчаной косе — там, где в Москву-реку вливалась болотная речонка Неглинная и где уж давно замыло речным песком тот белый лошадиный череп, который был еще виден с боровицкой изголови около шестидесяти лет назад, когда на эту изголовь въехал однажды летним вечером, на закате, по пути из Суздаля киевский князь Владимир Мономах.
Изменился с Мономаховых времен и самый очерк песчаной косы. Многое изменилось кругом, не только коса.
События этого дня шли так быстро одно за другим, вспыхивая неожиданно то здесь, то там, что никто из московлян не сумел бы рассказать верно, что за чем шло. Многое и упустили. Многое поняли не так, как оно было на деле. А многое и просто забыли.
Но ястребов запомнили, потому что с их удивительного, никем вовремя не замеченного, безнаказанного разбоя начался этот день.
II
Запах еще горячей гари был невыносим.
Он лез во все щели, отравлял еду, горчил воду, не давал дышать.
Когда к Петру Замятничу явился поутру Маштак — в длинном чужом зипуне, со смешно обгорелой бородой, — боярин раздраженно повел носом: с приходом ключника еще противнее запахло пожарищем.
Маштак не своим, словно равнодушным голосом сказал, что оставаться на Москве ему нельзя: не сегодня, так завтра его убьют. Он просился в суздальскую Петрову вотчину.
— В суздальскую? — повторил за ним тугой на ухо боярин с удивившей Маштака, непонятной ему усмешкой.
Петр разглядывал опаленные волоски Маштаковой густой бороды, которые почти все кончались накипевшим от пожарного огня крохотным беловатым пупыриком (Петру были невыразимо мерзки и эти пупырики), и думал о том, цела ли та суздальская вотчина, куда просится ключник. А за этими мыслями ползли сплошной темной завесой (как в ненастный день вторая, задняя пелена полных дождя облаков) еще иные мысли, в которых не было ни одного просвета: в сотый раз и все с той же коловшей сердце тоской Петр вспоминал, с какой жестокой бесповоротностью и какими хлещущими сердце словами сват запретил ему вчера ехать в Суздаль: "Что потерял в Суздале?"
Что потерял! Все потерял.
Маштак с непривычной для него нетерпеливостью запахнул обвисшую полу чужого зипуна. Опять гадко пахнуло гарью. Петр поморщился.
— Что делать с челядью? — сказал он, ничего не ответив на просьбу ключника.
Маштак вяло развел руками с поразившим и возмутившим Петра безразличием.
Маштаку было не до челяди, не до боярских дел.
С присущим ему уменьем собирать все мысли и всю волю, не отвлекаясь ничем посторонним, в одно усилие (Петр знал в своем ключнике эту черту и ценил ее) Маштак не думал и не заботился сейчас ни о чем другом, кроме одного: он думал только о немедленном бегстве из Москвы; он не хотел ничего другого, кроме этого бегства. Так пугала его смерть.
Он, как и Петр, думал только о себе.
Им вдруг стало трудно быть вместе.
Владыка и раб долго жили в ладу.
Пока дело шло только о корысти, они легко понимали друг друга с полуслова, а чаще и вовсе без слов.
Оба, владыка и раб, не сговариваясь, гнули в одну сторону и, когда догибали до желанного обоим предела, делились. Не поровну, но все-таки делились.
Раб помнил, что он раб, и не возражал против того, что из рук владыки он получает лишь то очень малое, что приходилось на его рабью долю. Другие рабы не получали и того.
Но рабу хотелось получать больше. Это большее раб и получал, но не из рук владыки: раб крал у владыки, крал много — изо дня в день.
Владыка это знал, но молчал и молчаливо допускал эти кражи: он ведь и сам все время крал — и у этого раба, и у других рабов, и у не рабов — у всех, кто не мог больно ударить его по рукам, по воровским белым рукам с чисто вымытыми длинными пальцами с выпуклыми ногтями.
С теми, кто мог больно ударить по рукам, владыка был честен: владыка не крал, где было опасно красть.
Так и жили Петр с Маштаком много лет — в молчаливом деловом, корыстном ладу, зная друг про друга все и не говоря об этом друг другу ничего.
Но теперь дело шло уже не о корысти.
Маштак заговорил о смерти: он сказал, что на Москве его убьют.
Петр знал, что Маштак не ошибается, что Маштака действительно убьют. Он и сам все эти дни думал о смерти — о своей смерти: он боялся, что челядь убьет не только Маштака, но и его. После пожаров он стал думать об этом с еще большим страхом.
Дело шло уже не о корысти, а о жизни.
Жизнью нельзя поделиться — ни поровну, ни не поровну. У каждого своя жизнь. Оба хотели спасти свою жизнь, каждый свою. Но заботиться о спасении чужой жизни не хотел ни тот, ни другой. Это отвлекло бы от спасения своей жизни. Петр не хотел спасать Маштака; Маштак не хотел спасать Петра.
Их пути расходились.
Им стало трудно быть вместе.
Петр, морщась от неотвязного запаха гари, грубо прогнал Маштака, так и не согласившись отпустить его из Москвы, даже не сказав ему ничего на эту его просьбу.
Когда Маштак, потеряв все, что накрал, выходил из боярских хором, страх смерти был в нем так же силен, как и ранее.
Но к чувству страха примешивалось новое чувство, которое помогало бороться со страхом: чувство неожиданно добытой свободы.
Маштак, когда-то в прошлом вольный московлянин, а затем добровольно и безоговорочно обративший себя в раба, — Маштак ушел из боярских хором совсем, навсегда. Развращенный раб бежал от развратившего его владыки.
Через час его уже не было на Москве.
Никто не знал, куда он ушел.
Не знала и его жена, холопка, раба, боярская вещь, которую Маштак бросил тоже навсегда под чужой крышей.
Чужая крыша хуже своей, но под чужой крышей, у чужих людей, гораздо более бедных, чем ее муж, эта рабыня нашла то, чего под своей крышей муж никогда не давал ни ей, своей жене, ни своему грудному ребенку, робичичу, которого Маштак оставил на руках у брошенной жены: чужие, бедные люди п о ж а л е л и и брошенную под чужой крышей жену и брошенного отцом ребенка.
III
От жизни некуда уйти, как не уйти от запаха гари.
А жизнь требует дел.
А на дела нет больше сил.
А уйти вовсе от жизни — от постылой, огаженной, заплеванной, незадавшейся жизни, убить себя, повеситься на ясене, как холоп Истома, не стерпевший рабской проголоди, — на это тоже не хватало сил.
Петр всегда, с детства, боялся смерти до дрожи, до тошноты.
Оттого-то так устрашала его (и тянула к себе) запрокинутая голова мертвого Шимона: два дня Шимоновыми черными ноздрями на Петра — в своем же дому! — глядела им же, Петром, окликнутая смерть.
Оттого-то он так легко согласился в свое время на уговоры княгини не идти в булгарский поход, остаться при ней. А ведь отказ от булгарского похода — это был один из самых решающих шагов его жизни. С каким льдом в глазах посмотрел на него Андрей, после того как согласился на просьбу княгини не брать Петра в поход!
Оттого-то Петр так рьяно ухватился за городоставство и так в нем успел. Ему хотелось, чтобы на этом пути он стал нужнее, чем в Андреевой рати, которую Андрей хоть и не часто, а кидал на большие, смертоопасные дела. Петр знал, что Андрей считает городовое дело не менее важным, чем ратное.
Оттого-то так побелели его губы, когда вплыла в Кучков двор Милуша (красивая, злая Милуша, которая из-за него потом удавилась, когда не стала ему нужна) и сказала, что налезла Юрьева великая рать.
Оттого-то — все оттого! — и оказался он тогда на Кучковом дворе. Вовсе не в гости приехал он тогда к Якиму, которого в те годы мало еще и знал, встретившись с ним до того только один раз где-то случайно, на ястребиной охоте. Петр жил тогда в таях: он скрывался на Москве, сбежав из Суздаля, чтоб Юрий, готовясь к походу, не посадил его на-конь. Этот день, ясный день бабья лета, Автамонов день, когда змеи, по народной примете, уходят в леса, — этот день был тоже решающим. Как памятен пегий, страшный жеребец, на котором Андрей вскакал в Кучков двор!
Оттого-то — да, опять только оттого! — так поспешно бежал Петр и сейчас из Боголюбова, едва успев сунуть в ножны турскую саблю с еще липкими кровяными мазулинами на щеке кривого клинка.
Андрей знал, что Петр боится смерти, но никогда никому о том не говорил. Андрей разглядел эту глубоко упрятанную Петрову боязнь смерти очень рано, еще когда они, оба молодые, однажды глубокой осенью ходили по синему льду в набег на рязанского князя и прогнали его в половецкие степи. Как это было давно! Петр не был еще тогда и женат на Кучковой дочери.
Петрову женитьбу устроила княгиня, чтоб не было во Владимире красавицы невесты, на которую мог бы польститься Андрей. Тогдашние Андреевы милостники — княгиня это знала — убеждали его прогнать булгарку и взять русскую жену.
Окно дохнуло опять зловонной гарью.
Так что же все-таки делать с челядью?
После двух пожаров нельзя медлить ни часу. И так уж промешкано.
Вспомнились слышанные от кого-то книжные слова: "Уже времени и часу ушедшу". Так не говорят. Так только в церковных книгах пишут. Оттого, верно, и запомнилось. Не ушло ли время? Не ушел ли час?
Двумя ночными факелами, на том и на сем берегу, московляне, тутошние и тамошние, будто перемигнулись. Приступились!
Опять навязчивые воспоминания! Откуда их столько?
Когда-то, давно, еще когда, обманывая княгиню, притворялся перед ней коренным московлянином, чтоб не признала в нем беглого суздальца (а она, змеища, все-таки вызнала!), он нашептывал ей вкрадчивые слова: "Про нас, про московлян, знаешь ли, княгиня, что говорят? Говорят, что к чему, мол, мы, московляне, приступимся, от того не отступимся".
Так вот, ежели сейчас (Петр проглотил горькую слюну) приступились подлинные московляне, сироты да холопы, к нему, к боярину, к немосковлянину, так неужто же сами собой и отступятся?
С чем их встречать? С кем? Со слобожанами? Да куда еще перекинутся слобожане! К нему ли? С посадскими? Много ль их? Да и верны ли?
С кем бы ни было — раздумывать недосуг: хоть с попом, хоть с пономарем, а с кем-то идти на них надо ж! Нельзя дожидаться, чтоб сами пришли. Так вот, с кем же все-таки идти-то? Ведь не с попом же, на самом-то деле!
Петр больше часа быстро ходил по клети из угла в угол, меняя время от времени углы: то из переднего в печной, то из заднего в бабий[53]
Потом вдруг стал замедлять шаг.
Потом остановился у садового окна.
Зеленые шарики на яблонях будто поналились за знойные-то дни… Побелей стали… Шарики, шарики… А местами и румянчик проступил — этакой слабенький, как у девчонки, что в девки глядит… А прясло-то стенное, видать, теплое от солнца. Бревна-то как порасщелились… где впрямки, где чуть свиляво… И слепни на них греются… А те, что помельче, с подобранными крылышками, верно, песьи мухи…
Петр отвернулся от окна и медленно пошел к двери: ему показалось, что решение наконец найдено. Последнее, отчаянное, но из всех, пожалуй, наилучшее. Да другого, кажется, и нет.
Он приотворил дверь и крикнул, чтоб послали к нему оружничего.
Оружничего он спросил, проверял ли тот его, боярский, запас снаряда. Снарядом называлось оружие, которое боярин раздавал челяди, когда брал ее с собой в поход.
Оружничий ответил, что проверял.
— Давно ли?
— С месяц.
— Все цело?
— Цело.
— Исправно?
— Исправно.
— Не могли за месяц порастащить?
— Кто ж растащит?
— Мало ль кто!
— Некому. На запоре.
— Проверь до обеда еще. Да пересчитай на дворе челядь: одних мужиков. Баб нечего считать. Слышишь — до обеда.
— Проверю.
— А наперед сходи к посаднику да скажи, чтоб мигом ко мне шел. Слышишь — мигом. Построже скажи. Понял? И не уходи от него, покуда своими глазами не увидишь, что ко мне поплелся. Понял? Нипочем не уходи, что бы он тебе ни говорил, как бы ни лаялся. Понял?
— Как не понять?
— Ступай. Не мешкай.
IV
Посадник, здороваясь с Петром, отвел глаза в сторону.
Таким бешеным Петр его никогда еще не видывал. Вчерашнюю обиду на свата посадник перенес на Петра. Петр это предвидел. Он радовался его бешенству.
Он решил еще пуще его озлить: нажать, не жалеючи, на самое больное место.
Петр молча уставился на его кривые, немощные ноги. Посадник, чувствуя на себе его непристойно-наглый взор, упрямо смотрел в угол. Петр переводил взгляд с ног на глаза посадника, с глаз на ноги и продолжал молчать. Наконец выговорил, будто с участием:
— Ножки-то у тебя, видать, вовсе поучахли?
Жилы на висках у посадника вздулись так, что казалось — вот лопнут. Он, все не глядя на Петра, пробормотал очень тихим от негодования голосом (он был шепеляв):
— Зачем звал? О своих пожарах калякать?
— Нет, не о с в о и х пожарах. Мои ли, твои ли, про то еще как кто скажет.
Посадник, ничего не поняв, взглянул наконец на Петра.
— Как так "твои ли, мои ли"? — вымолвил он, чуя новую обиду. — Моих не бывало. Что городишь? Ежели не о пожарах, так о чем толковать?
Петр внимательно следил за лицом посадника, ловя себя на том, что радуется случаю выместить на ком-то хоть малую часть своего вчерашнего непоправимого бесчестья.
— Спрашиваешь, о чем толковать? — Петр помедлил и вдруг проговорил с той же, что и раньше, притворной участливостью: — О тебе толковать.
— Обо мне? Когда обо мне, так ко мне бы и шел.
— Нельзя к тебе: тайность. У тебя в стенах лишние бревна есть: услышат! А дело для т е б я такое…
— Какое т а к о е?
Петр опять помедлил, внимательно и мрачно глядя посаднику в глаза.
— Приметил ли вчера на пиру, — заговорил он, с особенной, неожиданной для самого себя выразительностью произнося каждое слово, — каким глазом смотрел на тебя мой сват, великий боярин?
— Каким глазом? На меня? На всех одним глазом смотрел.
— На всех одним, а на тебя особо, другим, — еще выразительнее сказал Петр. — Я бы того и не приметил, не до того было — гости, поминки, — кабы он сам…
— Что — он сам?
— Кабы он сам мне потом не сказал с глазу на глаз…
— Что сказал?
— Что-де посадник у вас на Москве душою крив.
— Врешь!
— Когда вру, не слушай, ступай назад домой, ложись на печь и жди, что будет с тобой дальше. Доброго не дождешься. Я не для себя, а для твоей пользы говорю. Или молчать?
— Говори.
— Сват, великий боярин, сказал: дружина того посаднику не забудет, что посадник боярина Ивана Кучковича, стольника, Прокопию выдал.
— Я?!
— А то кто ж, как не ты? Вся Москва видала, как ты Прокопию городовые ворота отворял, как ты Прокопия ко мне на крыльцо вел. Скажешь: не отворял, не вел?
— Так ведь Прокопий меня…
— До твоих с Прокопием счетов дружине дела нет. Небось, знаешь, где сейчас Прокопий? Знаешь? Так как бы и тебе там не быть.
— Что говоришь!
— Говорю, что есть. Не хочешь — не слушай.
Петр прошелся по клети, поигрывая висевшим у него на поясе длинным кинжалом.
— Мой сват, великий боярин, так мне сказал, — продолжал он, вынув кинжал из ножен и осторожно пытая пальцем с одной и с другой стороны его прямой, обоюдоострый клинок. — Великий боярин так сказал: "Дружина посадит на Москве другого посадника".
— Так и сказал?
— Так и сказал. "А пока нового не посадим, старый, — говорит, — весь в твоей воле". В моей воле! — Петр, убрав кинжал в ножны, ткнул себя пальцем в грудь. — "Ты, — говорит, — его покамест поискуси". Видишь: я все тебе говорю, чего бы и не должен открывать.
Петр опять почувствовал — рядом с неунимавшимся нытьем в сердце — тайное довольство: он сам был удивлен, как его в другое время косный, неувертливый ум вдруг стал извертываться по-новому: верно, с отчаянья! В его устах правда, будто сама собой, ловко оплеталась ложью.
— "Поискуси, — говорит. — А там дружина, твой отчет услышав…" мой отчет, — Петр опять ткнул себя пальцем, — "…там дружина и решит, что делать со старым посадником. Будет твоя, боярская, воля, может, — говорит, — еще и на Москве его, старого посадника, оставим, ежели сумеет тебе, боярину, угодить и нам, дружине, спрямить. Случай у него, у посадника, для того есть".
— Какой случай?
— "А ежели другажды нам, дружине, скривит, — продолжал Петр, угрожающе приподнимая голос и будто не слыша вопроса, — тогда, — говорит, — хоть сам секи посаднику голову. Тогда, — говорит (Петр еще поднял голос), — дружина тебе, боярину, его, посадникову, голову дарит".
— Какой случай спрямить? — прошептал посадник.
— Будто сам не знаешь какой? — сказал Петр, глядя на посадника прищурившись, с укором. — Добро бы с моих слов знал о том мой сват, великий боярин, а то ведь от людей услыхал, еще в Москву не въехавши, еще за Кунцевом! Вот куда молва-то о тебе доползла!
— Какая молва?
— Такая молва, что-де кудринские сироты боярскую челядь ульстили, что своими-де прелестными речами всей округе головы кружат, что, того гляди, город спалят с посадником вместе. Москву спалят! — повторил Петр, снова сильно подняв голос. — Чуешь ли, посадник, чем в окно-то несет? Кто за Москву ответит? Не ты ли, посадник, ответишь? А посадник, толкуют люди, взаместо того чтоб дать пример, у себя по двору знай себе похаживает да с женой своей вместе, с посадницей, голубей гоняет! Вот какая молва. Вот что мне мой сват, великий боярин, с чужих, не с моих слов сказал.
— Так я ж…
— Что ты ж?
— Так я ж к тебе с тем и шел, чтоб о твоих пожарах потолковать.
— Потолковать! О моих пожарах! Разумеешь, чай, сам, чьи пожары, кто в них повинен. Или, скажешь, не ты, а я в них повинен?
— Не в том дело, кто повинен, — пролепетал посадник, — а в том дело, как быть!
— Ты ль меня спрашиваешь, как быть? Так кто ж ты таков? — закричал Петр, с мучительным наслаждением давая наконец полную волю всему, что вздувало ему сердце. — Кто ж ты таков, леший тебя перешиби! Посадник ты московский или ты мокрица давленая? Кому ж и знать, как не посаднику, как город устеречь? Где твой городовой снаряд? Где твой городовой полк? Кто у тебя на посаде сотский?
На Москве — по малости посада — еще не было тысяцкого, а был только сотский, под рукой у посадника.
— Сотский? Кто у меня на посаде сотский? Дубовый Нос у меня сотский, Бяхтеяр.
— Дубовый Нос, Бахтеяр! — с издевкой в голосе повторил Петр. — Бахтеяр да ты, ты да Бахтеяр — хороша двойка!
Бахтеяр, больше известный под кличкой Дубовый Нос, был первый на посаде богач, Нажившийся на пивоварстве. Он продолжал промышлять пивом и теперь, а заодно давал деньги в рост и резал своих должников огромными, лихвенными поборами. Зажирел он до такой степени, что его короткие, оплывшие ноги, все изъеденные язвами, еле передвигались.
— Хороша двойка! — повторил Петр. — Где ж у вас с Бахтеяром городовой снаряд?
— Чай, у Бахтеяра в погребу.
— В пиве отмокает?
— Пошто в пиве?
— А то в чем же? Велик ли у тебя полк? Сколько посадских можешь скликать? Сколько слобожан?
— Сколько слобожан? Да числа-то[54] давненько не бывало. Нужды-то, сам знаешь, не было.
— Пришла нужда! — перекрикнул Петр. — Тресни сотского шкворнем по пузу. Пусть достает снаряд. Пусть наряжает биричей. Пусть скликает всех — численных и нечисленных. Всех как есть. Сказывай поход.
— Поход? Куда поход?
— Куда? В Кудрино, вот куда.
— Как же распоряжу, когда снаряд-то…
— Как хочешь, так и распоряжай. А не то голову прочь! И тебе и Дубовому Носу! — Петр провел рукой по потному лбу. — Снаряд! — передразнил он. — Чай, снаряд поизржавел да поистлел у тебя хуже твоих ходилок! Свой снаряд даю. Свою челядь даю, всю, какая на дворе будет. Под твой ответ… Что зубом запрядал? Чтоб сегодня ж до заката весь твой городовой полк был в Кудрине! Слышал? Не своим именем сказываю — дружина тебе велит. Слышал?
— Кто ж поведет полк? Мне-то где ж по моей убогости…
— Тебе-то! Тоже, посадник!
Петр побледнел и сморщился так, будто кто защемил ему сердце клещами.
— Сам поведу полк! — выкрикнул он изменившимся голосом, держась за грудь. — Ступай.
Когда, поотдышавшись, он вызвал оружничего, тот на его вопрос ответил, что боярский снаряд исправен и весь цел, а мужеской челяди на дворе восемь душ, сам оружничий — девятый.
— Восемь? Как — восемь? Где ж другие?
— Двадцать душ со старостой ушли с рассвета на Сходню тамошний клин орать, да боронить, да огородом огораживать, как тобой, осподарем, велено.
— Велено! Двадцать душ! А остальные где ж?
— В Кудрине, чать, душ сорок осталось.
— Сорок! А еще-то остальные?
— Да еще-то никого и нет.
— Как — нет? Где же?
— Не ведаю. Поразошлись.
— Маштак на дворе?
— Нет.
— А он где?
— Не ведаю.
— Как не ведаешь? О Маштаке не ведаешь?
— О Маштаке. Он с утра как от тебя, от осподаря, ушел, так с той поры на дворе и не бывал.
— С утра?
V
Вскоре после полудня и началось то самое, чего при всем старании не перескажешь подряд, не скуешь в одну цепку, потому что происходило это во многих местах зараз, а иногда хоть и не зараз, но так, что не поймешь, где началось раньше, где позже и откуда куда перекидывалось.
В посаде вплоть до обеденной поры все было тихо.
Старуха Воитиха, вдова, вязея, чулочница, что жила наискосых от московского сотского Бахтеяра, видела со своей завалинки, как в обед прибежал к Бахтеяру из города посадничий слуга. В этом не было ничего удивительного: у посадника с сотским, все это знали, было много общих дел.
Вслед за тем Нехорошко Картавый, захребетник Дубового Носа, спасавшийся за его хребтом от боярских поборов, лучший его пивовар, а заодно сборщик вир и продаж,[55] вывел Бахтеяра под руку из дома и повел в город, к посаднику.
Это показалось Воитихе странным: всем было ведомо, что Дубовый Нос из-за своих язвенных ног выходит со двора только в очень редких, особенных случаях. Озадаченная Воитиха поманила к себе соседку, другую посадскую старуху, по прозвищу Тулка, тоже вдову, известную тем, что лучше других старух умела заговаривать зубную скорбь и была самая удалая на посаде ткачиха, ткавшая скатертные полотна и для боярского двора. Соседки долго обсуждали, что бы мог значить выход сотского.
Захребетник Нехорошко Картавый рассказывал впоследствии, что слышал своими ушами, как посадник с Бахтеяром советовались, кого наряжать в биричи. Дело было для обоих новое. Они сомневались, посылать ли биричей только в вольные слободы и селища или и в боярские и в княжие села, и какие слова биричам кликать, и не надо ль для княжих сел просить огнищаниновой помощи, потому что всем княжим селам он, огнищанин, голова. Думали, по словам Нехорошка, сначала вдвоем ("оба срамны и увечны", как выражался тот же Нехорошко), потом втроем с огнищанином. Думали долго (а время-то шло). Напоследок решили нарядить биричей двадцать три души, самых молодых ребят, — из посадничьих да из огнищаниновых рядовичей, то есть из их вольнонаемных челядников, да из Бахтеяровых людей: Дубовый Нос обратил к тому времени в своих слуг уже немалое число задолжавших ему московлян.
Бахтеярова изба на посаде была и съезжей избой: там, на Бахтеяровом дворе, бывал правеж, то есть суд. Там стоял рядом со стопой пустых, опрокинутых пивных котлов деревянный козел, на который саживали провинившихся, когда бивали их кнутом или розгами. Здесь же через Нехорошкины и Бахтеяровы руки платились в княжую казну все виры и продажи.
Вот тут-то, около этой хорошо знакомой московлянам избы, и стали сбираться биричи. Когда все они оказались налицо, Дубовый Нос выволокся на крылечко и приказал им, чтоб шли по всем слободам и селищам, по княжим и по некняжим, по боярским и по небоярским, по всем, кроме Кудрина, и чтоб скликали сюда, на посад, к съезжей избе, весь мужеск пол, опричь младенцев и обветшалых старцев.
Исполнение этого Бахтеярова приказа задержалось несколько по его же собственной вине. Дело в том, что в ту самую ночь, когда были пожары, у Дубового Носа на огороде, на семи кострах, в семи подвесных медных котлах, варилось пиво. Поспело пиво лишь к тому часу, когда Бахтеяра позвали к посаднику. Сотский, пока беседовал с посадником, не переставал вспоминать о пиве: все беспокоился, как бы оно, простояв слишком долго в медных котлах, не стало медновато. Поэтому, воротясь от посадника домой, он первым долгом велел слугам перелить пиво в дубовые, врытые в землю чаны. В чанах под дубовыми же крышками пиво выстраивалось, покуда не остынет, а потом уж, остылое, разливалось по бочкам. А чаны, перед тем как горячее пиво в них вливать, надо было опалить изнутри соломой, чтоб не отдавали старой пивной прокислью. Бахтеяр строго-настрого приказал слугам (и тем, что в биричи были наряжены), чтоб не уходили со двора, покуда не опалят всех чанов и не перельют всего пива из всех котлов в чаны.
За тем опалом да за тем переливом Бахтеяровы слуги, чанопалы и пивочерпчие, а с ними и все прочие биричи позамешкались на Бахтеяровом дворе (а время все шло).
В посаде между тем распространялась тревога. О предстоящем походе на Кудрино знали уже все. Посадские жители, люди по большей части торговые, опасливые, не решались еще шуметь и в кучу не сходились, а только шастали из дома в дом и шептались.
Однако же когда биричи тронулись наконец в путь, посадские повышли из домов и столпились поодаль от Бахтеяровой избы, на перекрестке, где от Великой продольной улицы отходил поперечный проулок, спускавшийся круто вниз, к Москве-реке.
На перекрестке биричи смешались с посадскими и, прежде чем двинуться дальше, долго толковали с ними о чем-то. Но шума все еще не было.
Тем временем пришла к посадской старухе Воитихе и подсела к ней на завалинку жена Воротникова большака, кузнечиха с Можайской дороги. Пришла кузнечиха к Воитихе за чулочными спицами — на образец. Чулочные спины были у Воитихи особые, добрые, ростовские, а кузнечихин муж, воротников большак, великан, только еще учился о ту пору чулочные спицы тянуть и внезапною остудою закаливать.
И говорила тогда кузнечиха Воитихе, что в их можайском конце народ (все больше кузнецы), прослышав о пожарах, а потом о походе, всполошился, побросал работу и, собравшись на дороге, у самой их кузницы, кучей, толкует о том, как бы в поход не идти.
Как только кузечиха ушла, Воитиха потопилась передать ее вести о можайских кузнецах своей соседке Тулке. А Тулка пересказала своим трем соседкам, а те — мужьям. Посадские заволновались. Толпа на перекрестке поумножилась, зашевелилась, заговорила громче.
Биричи, надобно сказать, помешкали еще и оттого, что Дубовый Нос, наряжая их в путь, забыл объяснить, кому из них в какое село или в какую слободу идти. Потолковав между собой да поспорив, пошли биричи каждый кто куда хотел.
А куда хотели? Известно куда: к родным да к своим.
Биричи те же были московляне, что и все другие. А и всех-то московлян было о ту пору еще не так-то много. И все друг дружке приходились либо родичами, либо своичами. У всех биричей по селищам да по слободам были где мать, где тетка, где сестрейка, а где и просто так девица: может, родня, а может, и не родня. Народ-то молодой да рабочий: на посадничьей пахоте, да на огнищаниновом конном дворе, да около Бахтеяровых пивных чанов не часто продохнешь, а еще реже отлучишься. А тут такое счастье: иди, дескать, вольной волею по слободам. Вот и разбрелись кому куда любо.
У огнищанина работали по найму подконюшими два молодца, Худяк да Шейдяк, — такие дружки-толоконнички, что водой не разольешь. Оба в биричи попали. Ну и пошли в обход по всем по названным посестрам и прослонялись по всем подмосковным ручьям да речушкам до самого вечера, покуда месяц на небо не вышел. Тут и спохватились друзья: "А ведь нам на Ходынке кликать!" А на посаде-то в тот час уже такое делалось, что какое там кликанье!
А был еще у посадника вольнонаемный слуга — или, по-тогдашнему, рядович — Балакирь: краснорожий, нос пуговкой и до тех пор кудряв, что никакая шапка на пустой башке не держалась. И окрутила того Балакиря разбойная девка Аксюшка, что жила где-то на отлете, в воровском выселке, на Трех горах. Балакирев отец, княжой птицелов, тот самый, что в тот год ставил себе новый двор в Хлынове, не раз учил сына оглоблей, чтоб не бегал на Три горы. Да и к попу за тем же дурака водил. Балакирь, послушав попа, дал отцу зарок: Аксюшку от своего сердца как ножом отрезать. А как нарядили Балакиря в биричи, товарищи его и спрашивают: "Небось, на Трех горах мыслишь кликати?" А Балакирь нос наморщил, волосищи ногтищами проскреб и отвечает товарищам: "Мне, мол, на Трех горах делать нечего. Пойду, — говорит, — кликать на Бережки, под Дорогомилово". А от Бережков до Трех гор рукой подать. Вот Балакирь-то, не доходя Дорогомиловской переправы, возьми да и прошвырнись вправо. "Сбегаю, — говорит про себя, — вспоследне на Три горы, скажу Аксюшке, чтоб более николи меня не ждала; а оттуда мигом и на Бережки". Что он Аксюшке сказал, что Аксюшка Балакирю ответила, того никто не слыхал, только воротился глупый птицеловов сын с Трех гор лишь через неделю, когда в городе Москве все было уже по-новому. Боялся краснорожий дурень, что посадник за отлучку вырежет у него из спины семь ремней: по ремню за каждый гульной день. А посадника-то…
VI
Трудней всего рассказать про то, что делалось, или, вернее, что началось на Можайской дороге, у кузниц.
Кузнецы, коварники — люди, сведущие во всех, как говорилось, хитростях, — стали под конец этого памятного московского дня самыми заметными деятелями. А из всех хитрецов на первое место вышел воротников большак, великан.
Но сами кузнецы ничего об этом впоследствии не рассказывали и на все вопросы отвечали уклончивыми недомолвками, а то и просто молчанием.
Приходится довольствоваться поэтому свидетельством людей посторонних, не принимавших прямого участия в тогдашних событиях.
Если верить их очень неполным и сбивчивым показаниям, то выходит так, что к кузнецам, пока они еще стояли кучей у себя на Можайской дороге, успело попристать немало других московлян, сельских и слободских, не кузнецов. Видали там, например, Нежданова сына, того, что долбил гроб для Шимона. Видали Кудринского старосту и кудринского же косоглазого крикуна. Видали и кое-кого из биричей. Мало-помалу собралась на Можайской дороге перед кузницами целая толпа, несравненно более горячая и голосистая, чем та, что толклась на посадском перекрестке.
Людям не стоялось на месте. Жаркие чувства просились наружу. Рабочие руки искали дела. Сами не заметили, как тронулись, как пошли.
Кузнечиха, жена Воротникова сына, возвращаясь домой из посада, встретила эту толпу в Занеглименье, в том самом березовом острову насупротив города, где когда-то сорока выдала боярина Кучка. Кузнечихин муж, великан, шагал впереди всех с кувалдой на плече и был так поглощен беседой с товарищами, что с женой и говорить не стал: только махнул ей черной лапищей, чтоб шла прочь. Кузнечиха, сама не своя от страха, видела, как толпа повыше Хлынова вышла на Кудринскую дорогу, но свернула не в сторону города, а влево, в гору, к Кудрину. О том, что творилось днем в самом Кудрине, ничего не удалось узнать. Все бывшие там словно сговорились молчать.
В тот день под Красной горкой, что в Занеглименье, у начала Волоколамской дороги, работали в лесу три посадские женщины: драли лыко. Заслышав уже под вечер вдалеке необычный гул многих человечьих голосов, они взбежали на горку и увидели, что со стороны Кудрина движется под гору беспорядочное, разнообразно вооруженное людское шествие: у кого в руках вилы, у кого коса, у кого топор, у кого кузнечный молот, у кого просто дубинка. Женщины успели разглядеть среди этих людей и можайских кузнецов, и многих кудринцев, и тех боярских челядников, которые не воротились намедни из Кудрина в город. Толпа перешла напересечку Дмитровскую дорогу и скрылась в еловом лесу.
В этом еловом лесу недавно, уже при Андрее, выросла новая, малая, кузнецкая слободка близ трехдосочного переходного моста, что перекинут теми же новыми кузнецами через речку Неглинную. Неглинная в том месте игрывала веснами так, что заливала кузницы по четвертый венец. Вбитые в илистое речное дно жердяные рили, подпиравшие мосток, до того покривились от водяного напора, что по доскам страшно было и ходить.
Новые кузнецы, поселившиеся тут, были люди молодые, ловкие и задорные. С посадником, с огнищанином, с Дубовым Носом у всех у них были свои, недобрые счеты. Толпа, сворачивая к ним, знала, видно, что они не откажут в подмоге.
Вот оттуда-то, от кузнецкого мостка, толпа, все возраставшая и все более шумная, и двинулась уже в поздних сумерках к той широкой болотной зыбели, где Неглинная, подходя к городу, дает колено.
Молодой месяц, выросший за минувшие дни и похожий на полкраюшки хлеба, уж поднимался над настланной на эту зыбель гатью и уж окунал косой белый лик в черную неглименскую воду, когда бревна длинной гати заколебались под пробежкой многих лапотных ног.
Толпа подходила к московскому посаду.
А посад был и так не пуст.
На Жилиху полагаться, конечно, нельзя. Она уверяла с клятьвой да ротьбой,[56] что в той же толпе шли по гати и ее одножихари-кукуевцы, а с ними будто и ольховецкие сироты, которых вел, по ее словам, тихий воротников зять. Без Жилихиной божбы известно, что воротников зять подлинно был в народном скопище, наполнившем поздним вечером весь московский посад и теснившемся к Бахтеярову двору. Это подтверждает и старуха Воитиха. "Вижу, — говорила она про Воротникова зятя, — тискается он, сердешный, сквозь людей к Бахтеярову крыльцу, а на плече-то у него, у сердешного, горбуша[57] с кривым косьём, а в горбушином-то долгом лезвие месяц так и поигрывает". Такие подробности Воитиха едва ли придумала: верно, в самом деле видела.
Однако вероятнее всего, что, вопреки Жилихиным клятвам, ольховчане и кукуевцы явились в посад не в одно время с толпой, которую вели по неглименской гати можайские кузнецы, а несколько ранее.
Ведь биричи-то не все были таковы, как Худяк да Шейдяк или как краснорожий Балакирь. У большинства биричей душа выболела за этот день не меньше, чем у кузнецов да у кудринцев. Биричи, как ни были молоды, сами ведь были такие же подневольные люди, челядники. Так каково же им было идти по слободам да по селищам, где у них были отцы и матери, и скликать своих же братьев в поход против своих же! Из всех биричей созорничали только те трое, а остальные двадцать хоть и поздно, а дошли все же до тех подмосковных селений, куда уговорились с товарищами идти.
Другое дело, как и что они там выкликали…
Бесспорно одно: что к тому времени, когда кузнецкая толпа, оставив за собою гать, поднималась уж посуху к посаду, посадские улочки — правда, не такие узкие, как говорил в насмешку Яким Кучкович (что будто баба бабе через улицу горшки на ухвате передает), но все же и не широкие — были уже битком набиты сиротинской братией и посадскими людьми.
Верно и то, что собравшийся в посаде народ уж сильно шумел (тот шум был и в городе слышен) и что когда слилась с ним только что привалившая кузнецкая толпа, то ее в наступившей к тому времени ночной темноте не сразу отличили от пришедших ранее.
Несомненно, наконец, и то, что молодой полумесяц, который успел подняться еще выше и светил все ярче, поигрывал не в одной только ольховецкой горбуше, а и в других лезвиях, долгих и коротких, широких и узких.
Поигрывал белый месяц и в глазищах великана, чья черная голова и чьи страшные плечи высились над всеми головами и вскоре оказались у самого Бахтеярова крыльца.
Шум приметно усилился.
Бахтеяр, весь в поту, не зажигая света, сидел ни жив ни мертв в темноте, у себя в холодной клети, когда вся его просторная шестистенная изба содрогнулась от гулкого удара чем-то непомерно тяжелым по ее передним дубовым венцам. Венцы были свежие, в полтора обхвата каждый.
Бахтеяр не знал, что это воротников большак хватил по его красной, уличной стене со всего маху своей огромной кузнецкой кувалдой. Дубовая стена, сбитая на совесть, конечно не рассыпалась, но стоявшая в переднем углу теплой избы на полочке большая икона упала от сотрясения на пол и раскололась надвое. Нехорошко Картавый сам это видел и тогда же подумал, что примета дурная.
Тогда-то Дубовый Нос и затормошил своего захребетника Нехорошка, чтоб тот двором, да огородом, да посадскими задами пробрался в город к посаднику и чтоб попросил посадника поскорей прислать ему, Бахтеяру, обещанный боярский снаряд. Но уж не для похода: Дубовый Нос хотел раздать тот снаряд своей челяди, надеясь, что она, получив в руки снаряд, обережет его, Бахтеяра, от буйствующей толпы.
Дубовый Нос из страха еще ни разу не выходил на крыльцо. Боялся даже оконницу отволокнуть. Так что своими глазами не видал еще, какова та ночная толпа: только слышал ее голос.
Если бы видал, то поступил бы, может быть, иначе.
VII
На боярском почти пустом дворе этот день протекал до странности тихо.
Незадолго до заката, когда со стороны посада еще не начинал доноситься шум, Гаша не торопясь спускалась со своей горенки, чтоб справиться, не воротилась ли домой ее мать, которая еще в обед ушла куда-то со двора совсем одна (Гашу это тревожило), и чтоб проведать сынка, который был с мамушкой в саду и играл в песок на нижней ступеньке первого рундучного всхода, того самого, под которым нашли в свое время стольника Ивана Кучковича. Корзины с хмелем стояли на прежних местах, только открытые и непохожие больше на гробы; из одной почти весь хмель повысыпался и лежал густым ворохом на земляном полу: его так и не удосужились смести, как не успели приколотить и тесины, оторванные учеником покойного хитрокознеца, как не подобрали и упавших на землю веников.
Войдя по дороге на рундук в верхние сени, Гаша остановилась в изумлении.
У одного из окошек, глядевших на двор, стоял, задумавшись, ее отец, боярин Петр Замятнич. Он был в полном боевом доспехе, который поразил Гашу своим сверкающим великолепием.
По молодости и по женской неопытности она не могла, конечно, догадаться, что на отце боголюбовская добыча: доспех был с княжого плеча.
Петр Замятнич вырядился так в расчете на то, что изощренная роскошь его воинского снаряжения не только ошеломит, но и устрашит непривычный к такому зрелищу московский полк, а еще больше тех лесных орачей, на которых он пойдет с этим полком.
Седая голова боярина приходилась выше оконницы и была в тени. Предзакатное летнее солнце обливало весь еще крепкий стан Петра Замятнича. Стальные оплечья так и горели, а мельчайшие перевивы кольчужной курчавой проволоки переливали ясной рябью, как играющая на солнце вода.
К скамье был прислонен высокий щит, который кинулся Гаше в глаза огненно-яркой, словно живой червленью и золотым блеском. Щит был выделан в виде большой, заостренной книзу миндалины, окаймлен наложенной на червлень сквозной резьбой из лощеного золота, а в середине щита поверх той же червлени поднимался на задние лапы литой из золота лев.
Этот взъяренный золотой лев на пламенно-алом поле был семейным знаком владимиро-суздальских князей — Юрьевичей.
А в углу сеней стояло вовсе не примеченное Гашей копье.
Оно не блистало дорогой оправой, но было, чего Гаша тоже не могла знать, памятное, заветное.
Когда вскоре после казни старого боярина Кучка, Гашиного деда, Андрей во время одного из самых первых своих боев под Киевом вынесся вперед, то обуянного залесского княжича чуть не просунул длинной боевой рогатиной столкнувшийся с ним дебелый волынянин. О щит промахнувшегося волынянина обломилось Андреево княжеское копье. Над головой княжича взметнулась тяжелая медная, налитая внутри свинцом булава, которая готова была уже громыхнуть об Андреев шелом, когда чье-то копье (как потом оказалось, Прокопьево), скользнув мимо Андреева левого локтя, вошло волынянину в самое сердце.
Андрей взял это копье себе и берег до самой смерти у себя в ложнице. В час своей гибели он хватился, что нет Борисова меча (выкраденного Анбалом), а о Прокопьевом копье, спасшем ему когда-то жизнь, он забыл. Петр подобрал заветное копье в ту же ночь.
Оно-то и стояло в углу боярских сеней. На его древке, или, как говорили в Поросье, оскепище, были видны насечины, нанесенные вражескими мечами тогда же под Киевом.
Петр оглянулся на дочь сурово и, как ей показалось, немного смущенно.
Гаша, не вымолвив ни слова (он тоже молчал), почти пробежала мимо отца по сеням, только мимоходом глянув углом глаза в одно из дворовых окошек.
Она успела увидеть конюшего (не конюха, а самого конюшего), который водил по пустому двору отцова белого мерина. Заметила и то, что на мерине дорогое седло, отделанное серебром, костью и жженым золотом, одно из тех, что висели на вбитых в стену деревянных костылях в глухой клети.
Гаша торопливо вышла на верхнюю площадку набережного рундука.
Внизу, на нижней ступени первого рундучного всхода, играл в песок Гашин сынишка. Над ним стояла, нагнувшись, Гашина мать, боярыня Кучковна. Не отрывая внука от игры, она поправляла его наглазную повязку.
— Матушка, давно ли воротилась? — окликнула ее Гаша.
— Недавно, — ответила Кучковна, подняв на дочь глаза, светившиеся все той же пугавшей Гашу мечтательной, безумной улыбкой.
— Далече ль ходила?
— Недалече.
— Здорова ль, матушка? Не притомилась ли ходючи?
— Здорова. Не притомилась.
— Не ляжешь ли отдохнуть?
— Лягу.
И Кучковна стала медленно подниматься со всхода на всход, оглядываясь временами на замоскворецкую даль.
Даль стала очень отчетлива на закате. Ясно различались сосняки, ельники и вперемешку с ними моховины, голые зыбуны, кочкарники, а там опять леса да леса, не замкнутые ничем, безбрежные.
Со стороны посада донесся вдруг глухой гул многих человеческих голосов.
VIII
Петр Замятнич ни разу за весь день не выходил из дому.
Зато доставалось оружничему.
Он то и дело бегал к посаднику (который тоже не покидал своего двора) все с одним вопросом от боярина: сходятся ли вои? Так принято было именовать посадских людей и сельских смердов, призванных в княжое или боярское ополчение.
Между посадничьим и Бахтеяровым дворами гонцы сновали все время: то из города семенил к Дубовому Носу маленький, вертлявый старичок, посадничий ключник, с тем же вопросом, что и боярский оружничий, то из посада шагал в город саженными шагами долговязый Нехорошко Картавый.
Посадник был совершенно сбит с толку и приговором старобоярской дружины (он вполне поверил Петру) и неожиданно свалившимся боевым поручением, к которому был вовсе не подготовлен. По своей прирожденной ножной немощи он ни в каких походах никогда не бывал. Москву все еще не захлестывали междукняжеские усобицы: Андрееву волость боялись трогать. По лесной дальности Москвы от Владимира Андрей ни разу не посылал за московскими воями.
Управиться с непривычными деловыми заботами мешал страх. Страх был у посадника троякий: страшно было осрамиться перед суздальскими правящими боярами, потерять их доверие и лишиться прибыльной должности; страшен был предстоявший поход: как-то он обернется? На чью сторону склонится военное счастье? Но всего страшнее был обоюдоострый кинжальный клинок, так зловеще сверкнувший давеча в длинных пальцах Петра Замятича. Посадник знал, на что способны эти пальцы.
При всем том первые известия, полученные от Бахтеяра, показались посаднику успокоительными.
Он с удовлетворением услыхал от Нехорошка, что биричи без возражений пошли, куда им велено. Часа через два после этого вертлявый старичок принес сообщение, что из Семеновского княжого села явилось шесть душ смердов с дрекольем.
Тогда посадник послал своего ключника к Бахтеяру с запросом, как собираются посадские.
У Дубового Носа были с посадскими свои, тяжелые счеты. Он вовсе не намерен был открывать эти счеты посаднику, своему самому крупному и безотдаточному должнику, с которого никакой лихвы, конечно, не брал. Но должниками Бахтеяра были и все без малого посадские, всегда нуждавшиеся в деньгах для оборота по своей мелкой торговлишке. Бахтеяр не надеялся, что они соберутся в поход с доброй охотой, но верил во власть своего богатства: страх перед этой властью вполне заменит, думалось ему, добрую охоту.
Вертлявый старичок воротился к посаднику со словами, что-де за посадских людей сотский головой ручается: все, мол, до одного явятся на его призыв.
У посадника поотлегло от души. И когда к нему уже в десятый раз пришел боярский оружничий, он велел передать боярину, что все делается, мол, чин-чином, что сиротский народ сходится из сел мирно, а все посадские люди готовы хоть сейчас идти в поход.
Он просил Петра приготовить к вывозу снаряд, за которым-де пришлет, когда понадобится, и напоминал, что пора бы посажать боярских челядников на-конь да и самому, мол, боярину приготовиться к походу.
Петр приказал оружничему вынести снаряд под дворовый навес, а конюшему — заседлать для челядников коней, оседлав и его, Петрова, белого мерина.
Конюший спросил, какое на мерина класть седло.
Петр, подумавши, велел взять из глухой клети лучшее. Тут-то его и осенила внезапно мысль нарядиться в княжой доспех.
Он долгое время провел вдвоем с оружничим в верхней теремной скотнице, где было сложено уворованное боголюбовское добро: пытал на вес то один меч, то другой, щупал кольчуги, смотрел их на свет и против света, гремел щитами, примерял шлемы, откладывал боевые топорики. За этим занятием не так лезли в голову думы.
А думы были черные.
Неожиданная распорядительность посадника и Бахтеяра словно бы и поободрила Петра, но какой-то червь принялся еще назойливее глодать сердце. Вид оседланного белого мерина, на котором поблескивал ловко пригнанный стальной наголовник с прорезами для глаз и для ушей и сияли на солнце такие же, как на самом Петре, оплечья, удручал боярина. Не хотелось и смотреть на всю эту красивую боевую утварь. Неужто и впрямь предстоит бой? Неужто и впрямь бродит около смерть?
Тем временем доношения, поступавшие от посадника, стали утрачивать мало-помалу начальную бодрость: в них не было еще ничего открыто тревожного, но они делались все менее ясны.
Посадник на по-прежнему частые запросы боярина давал знать со все возрастающей уклончивостью, что народ-де сходится, да не слишком шибко, а когда его спросили, в чем задержка, он ответил сперва, что, видно, мол, биричи в дороге позамешкались, а потом стал нести какую-то уже полную невнятицу: то толковал, что смерды "словом по нас, а делом далече", то говорил, что они "идучи не идут".
Зной, несмотря на поздний дневной час, все еще не спадал.
В княжой плотно заплетенной кольчуге было жарко; от ее тяжести устали плечи. В бронных ноговицах с железными наколенками было неудобно ходить. Ступни, обутые в кольчужные копытца с зубчатыми шпорами над каблуком, горели и отекали.
А запах пожара все не рассеивался.
Когда солнце заворотило с садовых окон на дворовые, Петр послал оружничего с запросом, каково же верное число собравшихся на посаде смердов.
Ответ пришел неожиданный: посадник передавал, что верного, мол, числа не добыть, потому что народу на посадских улицах сошлось много, однако на месте-де тот народ не стоит, а колобродствует бездельно и до того поперемешался, что не разберешь, где посадский человек, где смерд.
Петр Замятнич не успел еще понять все значение только что услышанного, когда по сеням пробежала зачем-то Гаша, и почти сразу вслед за тем со стороны посада донесся странный шум.
Боярин высунул голову в окошко, прислушался и, досадуя на свою тугоухость, решил выйти на открытые переходы, где, верно, будет слышней.
Солнце уже закатывалось.
С открытых переходов был явственно слышен все тот же нарастающий шум. Петр теперь не сомневался больше: это голосила человеческая толпа.
Приставив ладонь к уху, вытянув туловище и даже поднявшись на носки, он силился высмотреть хоть что-нибудь. Но посадничьи хоромы и вышка Неждановой башни загораживали посад. И мешали слушать два близких звука: кто-то в его доме усердно храпел с противным носовым присвистом (это отсыпался после поминального хмеля Яким Кучкович) и громко ворковали перед ночью посадничьи голуби.
Петр раздраженно покосился на голубятни и столкнулся глазами с посадницей. Она стояла вровень с ним, у себя на переходах, очень бледная, закутанная в большой темный плат, и с изумлением, даже с испугом разглядывала его доспех.
Вернувшись в сени, Петр вызвал оружничего и отдал ему два приказа: первое — позвать огнищанина (Петру пришло в голову послать ястребка за княгиниными булгарами), второе — спросить посадника, отчего в посаде шумят и не пора ли посаднику самому туда пойти, чтобы на площадке перед городским рвом изнарядить полк.
Оружничий долго не возвращался. В сенях становилось уже темно, когда он явился и сказал, что огнищанина дома не застал. Ни люди его, ни огнищаниха не знают, куда он отлучился. Дьяконица же (она случайно попалась оружничему навстречу) говорила, что видала, как огнищанин уже в сумерки верхом на своей рыжей горячей кобылке, ведя на поводу второго коня с двумя навьюченными на него большими сумами, выезжал в Боровицкие ворота.
— В Боровицкие? — переспросил, по своему обычаю, Петр. — А посадник что говорит?
— Говорит, что-де послал своего ключника к Дубовому Носу узнать, отчего шумят, и что-де как тот ключник воротится, тогда видно будет, пора ли посылать снаряд. А пока лучше, мол, повременить.
Тогда Петр распорядился заложить для снаряда три телеги, а оружничему велел проверить, сколько на дворе мужской челяди, не прибыло ли с утра, воротился ли кто из тех, что ушли с ратайным старостой на Сходню.
В потемневшем небе светилась одна крупная светло-зеленая звезда. А правее и ниже ее поднимался из заречной мглы молодой полумесяц, большой, еще тусклый и красноватый.
Оружничий, обойдя двор, сад и все боярские службы, пришел сказать, что мужской челяди насчитал всего четыре души, конюший — пятый, он, оружничий, — шестой. А со Сходни еще не воротился никто.
— Четыре? Как — четыре? Было же восемь! Куда четверых упустил?
— Как углядишь, когда сам весь день туда-сюда бегаешь!
— Туда-сюда! А Маштака все нет?
Нет.
— Сходи узнай, не пришел ли посадничий ключник. Конюшему скажи, чтоб поставил мерина в денник. А сам пусть велит складывать снаряд на телеги. Да пусть доглядывает за людьми, чтоб больше никто не убег. Понял?
— Понял.
— Петр снова поднялся на открытые переходы.
Побелевший месяц, отойдя от звезды, стоял над коньком княжого терема и делался светел.
Слышно было, как на дворе переговариваются челядники, как брякает кидаемое в телеги оружие.
Петру почудилось, что к прежнему шуму, который продолжал нестись со стороны посада, прибавился еще другой, тоже человечий, гул. Он шел будто с иного конца — от неглименской гати.
Оружничий, еле волоча ноги от усталости, пришел от посадника с известием, что посадничьего ключника все еще нет: что-то, видно, случилось с вертлявым старичком.
Не успел он это сказать, как в сени ворвалась клетница Луша со словами, что следом за оружничим прибежал от посадника конюх.
Конюх принес новую, только что полученную весть: от Дубового Носа пробрался-де кое-как, задами, Бахтеяров захребетник Нехорошко. Дубовый Нос требует, чтоб скорей слали ему снаряд. А как посадник опасается, чтоб народ не расхватал снаряда да не наделал беды, то бьет челом боярину, чтоб сам боярин со своей конной челядью проводил снаряд. А не то, дескать, он, посадник, за город не в ответе.
Петр, словно крадучись, молча, подошел к посадничьему конюху, схватил его за плечи и принялся так трясти, что у того громко залязгали зубы.
— Сам?! — шипел он конюху в лицо. — Я те покажу — сам! Ступай к своему хромому бесу и скажи: дружина велит посаднику немедля прислать своих людей на боярский двор, да чтоб те люди немедля везли снаряд Дубовому Носу, да чтоб посадник сам… слышишь: сам с ними шел! А не пойдет… — Петр выпихнул конюха в дверь со словами: — Бегом беги!
Со стороны посада несся теперь уже не гул, а рев. Временами ясно слышались отдельные людские выкрики.
Петр, отходя от двери, наткнулся в темноте на скамью. Что-то тяжело звякнуло: это хлопнулся об пол княжеский щит.
— Зажги свечу, — приказал Петр оружничему. — Нет, погоди! Перво стяни с меня кольчугу.
Пеньковый подбронник весь пропотел. От него остро пахло моченой коноплей. Он холодил тело. Мокрую спину передернуло ознобом. Петр расправил изнывшие под кольчугой плечи.
— Вели всем людям, какие остались, — сказал он оружничему, — и конюшему тоже вели, чтоб все опоясались мечами, чтоб выбрали каждый по копью да чтоб садились на-конь. Когда будут готовы, скажи… Постой! Не послать ли за булгарами? А?
Оружничий молчал.
— Что молчишь?
— Не пойду.
— Куда не пойдешь?
— За булгарами не пойду.
— А?
— С булгарами не оберешься греха.
— Греха? Так, говоришь, не посылать? Ладно. Иди, сготовь людей. Да крикни Лушке, чтоб подала свечу.
Петр, отдирая прилипшую к груди сорочку, прошелся в угол, где стояло Прокопьево заветное копье. Пламя свечи колебалось на оконном сквозняке. Тень от прислоненного копья качалась по стене, как отвес на нитке.
Неясный шорох в дальнем конце сеней заставил Петра обернуться.
В дверях перешатывался с ноги на ногу посадник. За ним стоял оружничий.
— Что приплелся?
— К тебе пришел.
— Кто тебя звал? Ослушничаешь? Где твое место?
Беда, боярин! Булгар бы кликнуть.
— Молчи!
Древко копья стукнуло об пол. Посадник попятился.
— Стой! — крикнул ему Петр. — Затвори дверь и не пускай его уходить, — приказал он оружничему.
Постукивая оскепищем копья, как посохом, Петр подошел вплотную к посаднику и, с омерзением оглядывая его узкие, покатые плечи, проговорил тихим, охрипшим голосом:
— Или сей же миг сядешь на-конь и сам со своими людьми отвезешь Дубовому Носу снаряд, или на сем месте сим копьем…
На-конь?!
Выбирай.
— Верь слову: отродясь на коне не сиживал.
— Усидишь! Моя челядь тебя в седле удержит. А чтоб куда не утек, она ж тебя и до посада проводит.
— Боярин…
— Видал копье?
— Смилуйся!
— Нет тебе милости!.. Сажай его на-конь и сам садись.
Оружничий свел посадника с лестницы.
Петр как был, в одном подброннике, в кольчужных ноговицах, стуча копьем, звеня шпорами, вышел за ними следом на крыльцо.
Посад ревел. К мужским крикам прибавились женские причитанья и визги.
Вывели из денника истомившегося в боевом приборе боярского белого мерина. Взгромоздили посадника на седло. Кривые култышки не доставали до стремян. В детские кулачки, схватившиеся за переднюю луку, насильно всунули повод.
Петр сам установил порядок поезда: впереди четыре конных боярских челядника с мечами наголо, за ними одна за другой три телеги с оружием; правили упряжными конями посадничьи люди; за телегами — на белом мерине смявшийся в жалкий комок посадник, а по бокам от него, поддерживая его под локти, — оружничий и конюший, тоже конные и оружные.
Петр шел за ними следом, пока все не выехали на безлюдную городскую площадь. Тогда он остановился и крикнул вдогонку оружничему:
— Вели воротнику, чтоб затворил за вами обое ворота! Понял? Обое! Да чтоб заложил те и другие на все три запора, как в осадное сиденье. Понял? Да скажи воротнику, что за ним, за старым сычом, я сам в оба гляжу! Понял?
Он проводил их еще глазами (было уж совсем темно) и затем, прихлопнув кое-как свои ворота, пошел быстрыми шагами к дому. Посреди опустелого двора он вдруг приостановился, о чем-то задумался, поглядывая то на свои окна, то на княжой тын, потом махнул рукой и с почти юношеской прытью взбежал к себе на крыльцо.
Рябую Лушу (другие девушки куда-то попрятались) он забросал приказами: чтоб растолкала Якима Кучковича, чтоб подала дорожную одежду и шапку, чтоб принесла в верхнюю скотницу, где он давеча отбирал доспех, четыре лубяных короба да десяток рогожных кулей, чтоб посмотрела, есть ли на конюшне лошади, чтоб выкатила из-под навеса порожнюю телегу, чтоб впрягла в нее коня. Да чтоб не разбудила ни старой, ни молодой боярыни.
В едва освещенной, тесной скотнице Петр, сперва один, потом вдвоем с Якимом, швырял в лубяные короба, почти не разбирая, все, что попадалось под руку, и упихивал в рогожные кули собольи меха, парчу, пестрые шелка, бархат. При слабом сиянии мигавшего свечного пламени в длинных суетливых пальцах то зажигалось крученое золото тяжелой шейной гривны, то вспыхивал алмазный перстень, то зеркалилось серебро широкой чары, то осыпалась нитка румяных корольков, то стекала белая ряска жемчуга.
Вдруг раздались неровные, тяжелые шаги, и к дверному косяку скотницы привалился спиной оружничий. Он стоял, держась за стену, закинув назад голову, закрыв глаза, и громко дышал, судорожно вбирая в рот нижнюю губу.
— Что ты?
Оружничий, не отвечая, не открывая глаз, только помотал бородой.
— Да говори же! Откуда ты?
— С посада.
— Ну?
— Бахтеяру… Дубовому Носу…
— Ну?
— На моих глазах… брюхо вспороли горбушей.
— С посадником что?
— Приступились… терзают.
ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
Короба Кучковичей
I
Случалось ли вам зимним ясным вечером стоять, привалясь грудью к промерзшему пряслу еловой изгороди, и смотреть издали, как засыпает на горе большое русское село?
Минуту назад оно пылало.
Но теперь солнце у вас за спиной почти зашло. Снеговая гора посинела. На снежных кровлях изб остался только быстро холодеющий отсвет погасшего заката. Сейчас и он сойдет.
А какое-то одно окошечко, только одно-единственное на все село, еще горит да горит во всю заревую силу.
Вам непременно подумается, что за этим окошечком, с которым не хочет расстаться солнце, изба должна быть особенно тепла и тиха и что живут там, верно, особенно добрые люди.
И вас потянет к ним.
Когда Неждан возвращался на закате из города и на безлесном верху перед крутым, овражистым спуском к ручью Черторье остановился, по обычаю, чтобы немного передохнуть, была не зима, а все то же памятное, знойное лето. Это было на следующий вечер после гибели Бахтеяра и посадника и после бегства из Москвы Маштака, княжого огнищанина и Андреевых убийц.
Перед Нежданом было не село, а лес, еще почти сплошной занеглименский лес, просеченный только кое-где московскими топорами. Лес уходил в гору многими спутанными грядами. По их мохногривым горбам скользили последние лучи заходящего июльского солнца. И под одним из этих лучей горело среди лесной гущи во всю заревую силу одно окошко какого-то одного человеческого жилья.
Это было слюдяное окно Неждановой избы на самом верху глухого Сивцева вражка.
Неждана потянуло домой.
Когда, держась за кустьё, тяжело кряхтя, он спускался к ручью, ему вспомнились его же собственные слова, сказанные три дня назад дьяконице. Щупая черемуховым посошком каменистое дно пообмелевшего от долгой сухмени ручья, осторожно переставляя нетвердые ноги с глинистого бережка на круглый валун, с валуна — на скользкую кокору, с кокоры — на травянистую кочку и с кочки — на другой глинистый бережок, Неждан еле слышно шамкал про себя беззубым ртом:
— Пришло солнышко и к нашим окошечкам. Вымели поганую натёку своей рукой.
— Что говоришь? — окликнул его сын, легко, без разбега перемахнув с одного берега на другой.
— Сам с собой говорю, — ответил отец.
Он ходил в город не столько по делу, сколько оттого, что в этот день всем московлянам захотелось побывать там, даже и тем, кто, как Неждан, не участвовал, по старости лет, во вчерашних горячих событиях.
А было, впрочем, и дело. И даже не одно, а два.
Одно дело: нужно было отыскать сына, который у себя, под Дорогомиловом, нынче не ночевал (Неждан узнал об этом от прибежавшей утром снохи). Это дело Неждан сделал: сына нашел и сейчас вел его к себе в избу, чтобы обстоятельно расспросить обо всем, что было вчера.
Другое дело: надо было узнать, жива ли, здорова ли та, что когда-то помогла ему, Неждану, добыть себе волю, уйти из княжих закупов. И это дело сделал, хоть и не совсем так, как хотелось бы. Своими глазами ее не повидал, однако от верного человека (от боярской клетницы Луши) узнал, что жива. Только здорова ли?
Сыну было нелегко сдерживать шаг, чтоб не опережать отца. И все-таки опережал, так что приходилось частенько останавливаться и пережидать, пока отец дошелестит до него лаптями.
А пережидая, нужно же было что-то делать: то сорвет с ольховой веточки все липкие листы и понюхает пропахшие свежей горечью пальцы; то сорвет с куста звездистое гнездо неспелых лесных орехов, выколупнет один из тесной зеленой ноздрины, раскусит еще нетугую скорлупку, посмотрит, увидит, что еще не раздалось ядро, еще не съело белой мякотной подушки, которая его облегла, да и кинет через плечо. Да и усмехнется в курчавую бороду.
Отец, с трудом поспевая за сыном, следил из-под бровей за всеми его движениями и будто вел счет его странным усмешкам.
Чему усмехается?
Не так уж и молод. Не так уж и весел нравом. Глаза со вчерашнего-то еще не попригасли: огнем горят. Щеки еще бледны с бессонья и впали от ночной гульбы. Бахтеяров-то пивной разлив весь до капельки роспили еще до рассвета, оттого и упустил беглецов — боярина Петра с шурином Кучковичем, да с княгиней, да с булгарами. А еще и поутру опохмелились княгининым сладким винцом. Впору бы и поустать. А прыть оказывает такую, какой и в холостые-то годы у него не бывало. И усмехается.
Нежданов взгляд, наблюдавший за сыном, был по-всегдашнему суров. Морщины на лбу не разглаживались.
Но когда, уж подходя к своей избе, дряхлый старец спотыкнулся о березовый корень и сын, опять опередивший отца на два шага, мигом обернулся и, подхватив старика под локти, не дал ему упасть, а потом начал было снова уходить вперед, Неждан не удержался: украдкой, легонечко, с необычайной нежностью и гордостью потрепал сына ладонью по широкой спине.
Однако и тут из стыдливости не разрешил себе улыбнуться, а только виновато пошевелил седыми бровями, как бы в знак бессилья перед слишком властно нахлынувшей родительской любовью.
От неожиданной, впервые в жизни испытанной отцовой ласки смутился и сын чуть не до слез. И, чтобы пресечь неловкость, сказал, не оборачиваясь к отцу:
— А кузнецы-то, знать, и по плотницкому делу сметливы. Видал, как Бахтеярову-то избу всю по бревнышкам голыми руками разметали?
— Ладно, что не пожгли, — отозвался Неждан, — было б дело, когда б на город полымя перекинулось.
— Что ты! — воскликнул сын. — Еще когда Дубовый Нос у себя взаперти сидел, кто-то, никак из кукуевцев, возьми да и крикни: не посадить ли-де Дубовому Носу на кровлю красного петуха? А воротников-то большак тут как тут: как подступит к кукуевцу да как учнет у него над головой своей кувалдищей круги высвистывать — такой вихорь поднял, что у всех у нас волосья повставали! Да как рявкнет: "Я те в мозговницу твою пустую петуха всажу!"
И опять усмехнулся.
II
В этот день и в следующие дни усмехался странной, необычной усмешкой не один Нежданов сын.
Видно, очень уж много горя понакопилось в сердцах у простых людей… И теперь, как прорвало плотину, стало выходить то горе из сердец невольными смешками, по которым очень уж, видно, пососкучились отвыкшие от смеха уста.
О чем ни заговорят, всё кончат смехом. А смех иной раз прошибет и слезу.
Сколько было смеху вокруг одной только боярской клетницы Луши, которую Петр Замятнич ночью-то до того загонял, что она, бедная, ходила потом трое суток, подогнув коленки!
Запрягать заставил! И мужним-то женам не положено работать на лошади, а тут девка засиделая, векоушка!
Еще в оглобли-то кое-как кобылу запятила, сумела и обратать; как захомутала, и сама не помнит: и кобыле все уши пооскоблила, и свои глаза все выплакала. Откуда девке знать, что хомут-то надевают оголовком вниз, клещами вверх, а потом уж, когда проденут в него конскую голову, тогда правильно его и перевернут? Однако как дошло дело до того, чтоб обнести поверх оглобли сыромятный гуж да чтоб в него нагнетом конец дуги вставить, тут уж, само собой, ни девичьей силы, ни девичьего ума хватить не могло. Сколько ни билась, как ни ломала пальцы, так и не управилась.
Кинулась боярину в ноги с рыданием.
— Хоть смертью, — говорит, — меня казни, а не запречь!
Тогда решила бояре обойтись без подводы и принялись короба да кули через княжой тын перекидывать. А Лушку заставили по Якимовой спине на тын взлезть да с тынных-то острых верхов на княжой двор спрыгнуть, чтоб там короба да кули принимать.
А на другой день на боярском дворе, у незапряженной телеги, нашла Луша в траве золотой перстень с алым опуповатым камнем.
Вот и смеялись над девкой, будто вдовый-то боярин Яким Кучкович (думали: его перстень), не разглядев в потемках Лушиной рябости, захотел напоследок с Лушей обручиться.
Луша отнесла перстень боярыне, а та отдала дочери.
Еще больше смеху было вокруг посадницы да вокруг огнищанихи.
К утру толпа, прогуляв всю ночь на посаде, поотрезвела и вошла в город. Вели толпу по-вчерашнему кузнецы.
Из мужеска пола застали в городе одного лишь старика-воротника да кутейную братию: попа, дьякона и пономаря. Другого воротника, того, что стерег Боровицкую башню, нашли в открытых воротах зарубленным булгарской саблей, которая тут же и валялась.
Пошли на княжой двор искать булгар. Наткнулись на задах княжих хором только на одного, на низколобого, на того, что промышлял игрою в зернь. Его, как видно, еще с ночи поставили сторожить княжой двор с речной, садовой стороны. А зерновщик лег между ягодными грядами да так уснул, что и сам себя проспал: не услышал во сне, как поутру подошли к нему московляне и как Нежданов сын поднял с земли его секиру.
Когда выходили из княжих ворот, повстречались с боярской клетницей Лушей: она шла на княжой двор за ленточкой из своей косы: обронила, прыгавши ночью с тына. От Луши узнали, что делалось тою ночью на боярском дворе. От нее же услышали, что с княгиней вместе, с ее булгарами утекли и оба боярина: Петр и Яким.
Были в толпе такие, что хотели наведаться на боярский двор. Да воротников большак, великан, не впустил туда никого. Стал перед воротами, бросил кувалду наземь, раскинул голые ручищи врозь (укрестовался, как объясняла потом Жилиха) и говорит:
— Там одни бабы с младенцем: неча на них рукава сучить. А у меня, говорит, тут своя причина — семейственная. Боярыня, говорит, Прасковья моему родимому батюшке такой кус хлеба дала, что того куса ему на весь его стариковский дожиток достанет: через нее, говорит, он к воротам приставлен. Так я, говорит, на нее руки не подниму. Хотите, говорит, ее кончать, кончайте: ныне ваша воля — ваша и власть. Только, говорит, ежели так рассудите делать, тогда, говорит, наперед моей кувалдой по моему по кузнецкому темени стукните. Покуда ж, говорит, голова у меня не пробита, никого туда не пущу.
А по его-то, большакову, темени кому охота кувалдой стучать, когда он на ту ночь да на то утро первым человеком на Москве стал?
Пошли к посаднику в дом.
Сундуки да лари у него поразбивали да повытрясли, голубей распугали, а посадницу наперво не тронули. Оставили ее сидеть в подклети, куда она со страху забилась. С огнищанихой иначе дело обошлось.
Та, когда к ней пришли, завизжала. А как у воротникова-то большака еще не сведен был с ее убеглым мужем, с огнищанином, его, большаков, старый кузнецкий счет да как услыхал он, большак, ее, огнищанихин, визг, так он и скажи:
— Когда, говорит, она столь голосиста, тогда пускай, говорит, еще погромче споет. Посадим-ка, говорит, ее на козла, как бывало ее муж нашего брата саживал, да спрыснем-ка, говорит, ее розгами, как по его приказу нас спрыскивали.
Так и сделали.
А как волокли огнищаниху на бывший Бахтеяров съезжий двор, где от всего хозяйства только и осталось, что пустые пивные котлы, да пустые же, врытые в землю чаны, да козел, так вспомнили по дороге и про посадницу. Сходили за ней. Спрыснули и ее.
Ну и смеялись потом, будто они две, огнищаниха да посадница, у себя в повалушах на животах отлеживаясь (это после козла-то), через окошко будто перекликались и друг дружку спрашивали:
— Соседка, а соседка! Скоро ль на спину переляжешь?
На том будто после долголетней ссоры и сдружились две вдовы: одна — взаправская, другая — живомужняя.
Раз уж столько было в те дни смеху, то не обошлось, конечно, и без того, чтобы не посмеяться и над Жилихой.
Княгиня-то Ульяна не все успела увезти: кое-что второпях и побросала. Воротников зять, ольховецкий сирота, тихоня, подобрал в княгинином терему рудо-желтую,[58] подбитую горностаем опашницу. Долго пялил ее так и сяк, смотрел и с лица и с изнанки, разглядывал вышитых серебром да золотом неведомых зверей и птиц и никак не мог придумать, на что нужна такая безрукавная одежка и как в нее рядиться.
Жене посовестился нести в подарок эдакую невидаль. А тут подвернулась откуда ни возьмись свояченица их ольховецкого старосты — Жилиха. Он тут же и отдал ей свою находку.
А Жилиха-то от великого ума ничего не нашла лучше, как спустя немного дней, в свои именины, на Марью-сильные-росы,[59] отправиться в город к обедне в княгининой опашнице. Сама босая, косолапой ногой пыль загребает, на голове стираная-перестираная, штопаная-перештопаная домотканая холщовая полка, а на загорбине рудо-желтый бархат с золото-серебряными павами!
Тут уж такой смех поднялся, что Жилиха, еще не взойдя на паперть, скинула опашницу с заплечья, смяла в комок, упрятала под запон, а дома убрала в заветную гнутую осиновую коробью с напускной крышечкой да так до самой до своей смерти ни разу ее оттуда больше и не вынимала.
А кому после нее досталась, неизвестно.
III
Много толковали в те дни и про беглецов.
Насчет Маштака никто не сомневался: всем было ясно, что он ушел по одной из бесчисленных лесных троп, протоптанных по-муравьиному холопьими лаптями, где и голодный волк человека не сыщет, где сквозь колючую частину продерется с отчаянья только тот, кому терять на сем свете нечего, кому не жаль пообвешать шипы попутных валежин махрами протлевшего, последнего веретища…
А огнищанин?
В сумерки, когда еще не всходил месяц, паромщики переправляли его на тот берег с его двумя сумными конями и видели, как он пустился вскачь куда-то на юг, по Коломенской дороге.
Больше в ту пору ничего о нем не узнали.
Только много позже, уже по весне другого года, стали доходить смутные вести, будто где-то в вятических лесах, тогда еще очень темных, огнищанин съехался со своим сыном, с тем, что, взломав некогда отцов сундук и захватив шесть лучших коней, ушел из родительского дома и занялся лесными разбоями.
Говорили даже и так, что отец с сыном сообщались потайно и ранее, что сын еще до бегства огнищанина из Москвы делился временами с отцом лесной добычею и что нынешняя их встреча была не случайна.
Проверить эти последние слухи, может быть и ложные, не удалось, но что беглый сын сошелся с беглым отцом, это оказалось сущей правдой.
Следующей осенью на южной окраине вятических лесов, неподалеку от одного из тамошних новых городков, чуть не был разбит ненастной ночью богатый купеческий обоз, который шел из Новгорода-Северского в Пронск. Но лесные лихари не разочли сил, а обозная стража не оплошала: в ночной схватке с купецкими слугами разбойники легли костьми все до одного. С обозом шел и сам хозяин товара, пронский знатный гость, не раз бывавший на Москве. Когда рассвело, он узнал в одном из убитых злодеев бывшего московского княжого отнищанина, а в другом — его сына.
А куда делись Андреевы убийцы, никто не знал.
И когда думали об этом московляне, им все вспоминались те чубарые ястреба, что, расхватав Маштаковых кур, улетели неведомо куда.
Гаша сказывала впоследствии своей меньшой сестре Груне, что в ту ночь, когда ее отец послал посадника на убой, она до самого утра не смыкала глаз. Сквозь рев, который доносился со стороны посада, она слышала из своей теремной горенки, как внизу металась по дому Луша и как горланил дядя Яким. Потом в доме позатихло, и голоса отца и дяди Якима послышались уже на дворе. Затем смолкли и они. И вскоре после того раздались на лестнице шаги Петра Замятнича: он торопливо поднимался, звеня шпорами.
Гаша слышала, как он, миновав ее горенку, подошел к двери той светелки, где почивала в летнюю пору ее мать. Но двери не отворил. Только послушал, должно быть, у порога или, может быть, о чем задумался. А затем, стараясь ступать как можно тише, но все же чуть позванивая шпорами, направился назад, к лестнице.
Тогда Гаша со свечой в руке отворила свою дверь.
Петр Замятнич остановился, нахмурился и, как ей почудилось, сильно смешался.
На нем была длинная дорожная одежда, из-под которой виднелись бронные ноговицы.
Он стал было сходить с лестницы, но на третьей или четвертой ступеньке остановился и, не глядя на Гашу, сказал:
— Не буди покамест мать. Как запрягут подводы, я за вами приду. Ей собраться недолго: тогда и разбудишь. А свой скарб помалу складывай.
С тем и ушел.
И больше не приходил.
IV
Гаша, оставшись теперь опять по-прежнему втроем с матерью и с сыном, сделалась свидетельницей того, как московская округа, Гашина вторая и истинная родина, вовлекалась все более в ту борьбу, которая возгорелась таким широким пламенем после князеубийства и пригасла еще не скоро, захватив несколько лет.
Боролись меньшие Юрьевичи, верные бодрым, мужеским притязаниям глядевшего вперед, умерщвленного брата, с никому не известными, вороватыми Ростиславичами, за которыми влачилась затхлая клажа отживших прадедовских преданий. Боролись молодшие, быстро мужавшие пригороды с древними, обомшалыми, отвековавшими свой век городами: на одной стороне был златоверхий Владимир-Клязьменский и живший с ним в едино сердце Залесский Переславль, на другой стороне — Ростов и Суздаль, которые, очутясь в стороне от новых дорог, проложенных еще умным князем Юрием, хирели час от часу. Боролись надутые спесью бояре и опузатевшие купцы с настойчивыми рукодельниками, с мизинными людьми, взращенными убитым Андреем. Боролось старое с молодым, отмирающее — с только что народившимся.
Победа всегда остается за молодостью, за жизнью.
На стороне молодости была и молодая Москва. На стороне жизни были и ее жители — московляне.
Но первая победа была и нелегка, и неполна. Силы старого боярства еще далеко не иссякли. Оно не соглашалось умирать.
Летнее солнышко, сверкнувшее однажды вечером с такой заманчивой приветливостью в лесном Неждановом окошке, померкло скоро.
Смердов, сирот, ждало впереди еще более полное и еще более жестокое закрепощение на долгие годы, на века.
Гаше было непонятно значение происходивших на Москве событий.
Ее робкий ум не прозревал будущего. Воспитавшись в одиночестве лесного затвора, она не умела отличать великое от малого.
Но она была молода, полна жизни и желания жить. Она была московлянка. И ее чувства, еще полные свежести, редко ее обманывали.
Когда на Москве появлялись новые люди — а их в ту смутную пору появлялось много, — Гаша никого из них не взвешивала на весах рассудка. Ни про одного из них она не могла бы сказать, хорош он или плох, почему хорош, почему плох. Но к одним ее влекло, от других отшатывало. И слепые оценки ее молодого сердца бывали подчас вернее, чем доводы самого прозорливого, опытного, старого ума.
А с людьми Гаше приходилось теперь общаться гораздо чаще и ближе, чем ранее.
Вышло как-то само собой, что все многосложное хозяйство богатой боярской вотчины перешло из рук матери в руки дочери. Между ними не было на этот счет никакого уговора. Гаша по необходимости взялась за непривычное и нежеланное дело, от которого Кучковна отошла совсем — молчаливо, но так решительно, что Гаша не смела обращаться к ней и за советами.
А материнский совет как был нужен!
Все прежние вотчинные власти сгинули. Маштака не было. Оружничий скрылся неизвестно куда сразу же после того, как донес боярину об убийстве Бахтеяра. Староста, узнав о мятеже и боясь холопьей мести, тоже сбежал, так и не воротившись в город со Сходни. А конюший погиб в общей свалке, когда стаскивали с коня посадника. Да, впрочем, если б даже эти четверо оставались на своих местах, их услугами все равно не пришлось бы теперь пользоваться.
Надо было все заводить сызнова, а главное — по-новому, потому что челядь хоть мало-помалу и опамятовалась, хоть волей-неволей посмирилась, хоть, толкаемая голодом, и вернулась почти вся на боярский двор, однако была уже не та, что до мятежа.
Гаша отклонила назойливые, но теперь, в новых условиях, вовсе непригодные советы посадницы, которую пришлось на время приютить в боярских хоромах, после того как ее выгнал из посадничьего дома новый посадник, присланный из Суздаля боярской дружиной.
Он въехал в Москву с двумя тиунами и с сильным конным отрядом вооруженных слуг, которых развел на постой по посадским дворам.
В народе пошли слухи о предстоявших судах и расправах, грозивших страшными вирами и продажами. Уж бывшего Бахтеярова вирника Нехорошка Картавого и кое-кого из биричей вызывали для допроса.
Гаша не могла заставить себя обратиться за советом и помощью к новому посаднику. Да и он всячески подчеркивал, что не намерен водиться с Замятничевым семейством. Он никогда и нигде не появлялся один, а всегда с охраной и своими очень высоко задранными бровями как бы давал понять, что ни в ком не нуждается, что все знает лучше всех, что всех видит насквозь и что нельзя его ничем ни удивить, ни испугать, ни переубедить, ни разжалобить.
Не лежало Гашино сердце и к новому, молодому, очень бойкому княжому огнищанину, которого поставил на эту должность сын убитого князя, Юрий Андреевич.[60]
Не полюбился Гаше и сам княжич Юрий. Новгородцы прогнали его от себя. Он слонялся без всякого дела то во Владимире, где его терпели скрепя сердце, в отцову память, то на Москве, куда стал частенько наезжать, чтобы со своим дружком, с новым огнищанином, погорланить за пишерственным столом да потоптать сиротинские озими, гоняясь за зайцами.
Зато сразу же пришелся ей по сердцу другой молодой князь, который за то лето побывал на Москве дважды, оба раза проездом. Это был один из меньших Юрьевичей, единокровный брат Андрея Боголюбского, рожденный от того же отца другой матерью, греческой царевной. У него, как у всех князей, было два имени: одно крещеное — Дмитрий (в честь его рождения Юрий заложил город Дмитров), другое княжое — Всеволод.[61] Ему было двадцать лет.
Самые древние московские старцы, помнившие Мономаха, находили, что в тонко очерченном лике этого младшего Мономахова внука и в ласковом взгляде его темно-карих умных глаз мелькают дедовские черты.
Всеволод Юрьевич в первый свой приезд пробыл на Москве недолго, всего один день, и притом в обществе другого князя, одного из пресловутых Ростиславичей. Оба направлялись из Чернигова во Владимир, чтобы там вместе с братьями, проехавшими ранее, решить судьбу все еще пустовавшего княжеского стола.
За этот день Всеволод сумел с дедовским искусством привлечь к себе не одно Гашино простое сердце. Его спутник, Ростиславич, как въехал на посадничий двор, так оттуда и не показывался, Юрьевич же вдвоем со своим меченошей Дорожаем обошел с большим вниманием весь город. Отслушал молебен в Предтеченском храме, одарил попа и дьякона, осмотрел пустынные княжие палаты, побывал и на посаде, где оглядел разбитый Бахтеяров двор, и поговорил запросто кое с кем из посадских людей.
Слышал ли он что о том, как Андрей чтил Кучковну, хотел ли просто очаровать заодно с другими московлянами и первую московскую боярыню или вздумал показать пример новому посаднику — как угадаешь? — только перед Гашей предстал вдруг Всеволодов меченоша и сказал, что князю угодно побывать в боярских хоромах и побеседовать с боярыней.
Это пожелание Всеволода шло вразрез со всем уставом чопорного княжеского круга: князьям не подобало хаживать первым в боярские дома, да еще в небытность боярина. Гашу это смутило тем более, что матери, как теперь это часто случалось, не было дома. Но речистый княжой меченоша Дорожай, статный галичанин средних лет, старавшийся, видимо, не отставать в учтивости от своего государя, сказал Гаше с полупоясным поклоном на венгерский лад, что князю хоть и прискорбно будет покинуть Москву, не повидавшись со старшей боярыней, однако ж князь будет вполне утешен встречей с молодой боярыней, чья беседа будет князю усладительна. Гаша отродясь не слыхивала таких изысканных речей.
Всеволод Юрьевич все с тем же Дорожаем провел в боярском доме немного времени. С Гашей он обошелся не по возрасту степенно и сказал, что хорошо помнит ее мать с тех пор, когда тринадцать лет назад, еще невозмужалым младенцем, впервые увидал Москву по дороге в Поросье. Но не помянул, разумеется, что ехал он тогда со своей матерью-княгиней и с братом Михаилом в далекое византийское изгнание.
Перед уходом, уже поднявшись с почетной скамьи, он попросил Гашу провести его на боярскую вышку, откуда, как он слышал от многих, особенно хорош вид на всю московскую округу. По тому, как Всеволод выговорил эту просьбу, будто нечаянно вспомнив о давнишнем желании полюбоваться широкой красой подмосковных лесов, будто даже немного стыдясь этого чересчур ребяческого желания, — по всему этому Гаша не столько поняла, сколько почувствовала, что не ради ее матери и не ради нее, Гаши, а ради этого-то всхода на вышку Всеволод и захотел побывать у них на дворе.
С вышки он показал Дорожаю сперва на переходы соседнего, княжого терема, потом на уходящую в леса розовую тесьму Коломенской дороги и сказал своему меченоше:
— С тех-то переходов мы и смотрели тогда с Михалком вон на ту дорогу да и думали, будет ли нам та дорога гладка.
А Гаша, прислушиваясь к сдержанной игре его звучного голоса и приглядываясь к движению его неулыбавшихся глаз, опять почувствовала, что поднимался он на вышку с какими-то важными для себя целями, а совсем не для того, чтоб тешиться праздными грезами о далеких событиях детства, давно утративших всякое значение.
После отъезда князей во Владимир Гаша не раз вспоминала это странное посещение и каждый раз не без смущения ловила себя на том, что перебирает в уме не столько Всеволодовы речи, сколько отборно учтивые слова Дорожая. Княжой меченоша и в тот же день, и на следующее утро, перед самым отъездом, нашел еще много деловых поводов, чтобы не раз наведаться на боярский двор: то придет с вопросом, у какого кузнеца лучше перековать княжеского жеребца, то, попросив прощения, что докучает своими посещениями, забежит справиться, не в боярском ли доме забыл князь свою любимую плеть, то явится за советом, где по Владимирской дороге удобнее раскинуть первый ночной стан.
V
Победа досталась Юрьевичам не сразу.
Ростово-суздальская знать взяла на время верх. В древних залесских городах сели князьями Ростиславичи. Они, по старому княжескому обычаю, понавезли из Поросья своих бояр и об руку с ними, наущаемые Глебом Рязанским, принялись обирать и пустошить обогатевший при Юрии и при Андрее край.
Всеволоду пришлось воротиться с полдороги во Владимир. Торопясь назад, в Чернигов, он провел на Москве только несколько часов. На его молодом черноглазом лице никто не прочел бы ни смущения, ни уныния.
В боярском доме он на этот раз не побывал, но его меченоша Дорожай не упустил случая самолично отблагодарить Гашу за полезные дорожные советы и за то, что приставила к их обозу одного из своих кузнецов. Прощаясь с ней, Дорожай несколько раз поклонился венгерским вежливым полупоклоном и выразил твердую надежду увидеться с Гашей вскоре.
После длинной зимы, тяжелой для всех (Гаша, по ее новым хозяйственным обязанностям, тоже еле подняла эту зиму), наступило лето.
Была та чудесная, душистая пора — около летнего солноворота, — когда солнце еще не укоротило хода и на воробьиный скок, а лето уж сворачивает на жары, когда на яблонях и вишнях цвет только начинает идти в косточку, когда молодые елочки так нарядны в свежих побегах, когда зеленый лист уж распластался во всю свою ширь, но не потерял весенней клейкости, а птичье пенье еще не неистово.
Гаше, как и всем московлянам, на всю жизнь запомнился тот особенно ясный день этого раннего лета, когда на Москве расположилась станом сильная черниговская дружина. Ее вели меньшие Юрьевичи. А Юрьевичей звали себе на помощь владимирцы, вконец замученные боярскими неправдами. Владимирский полк, вышедший навстречу избавителям, тоже стоял под Москвой.
Поход на Владимир сказан был и московлянам.
Опять по всем подмосковным селам и слободам разошлись молодые биричи, но уж не с теми, что тогда, кличами. И с другим, не тогдашним одушевлением стекались к стенам города московляне.
Всеволод Юрьевич стоял на мосту перед Неждановой башней и сам вместе с Дорожаем изнаряжал московский пеший полк. Оба были в дорожном убранстве и на конях.
На бровке городского вала, перед сухим рвом, спиной к городской стене стояли женщины, московлянки — слободские, сельские, посадские и городские, — провожавшие в поход мужей и сынов. К ним примешались и те, кому провожать было некого, но кому все московские вои приходились братьями. Стояла среди них и Гаша, держа за руку кудрявого сынка.
Когда московский полк тронулся вслед за князем в сторону Кучкова поля, Дорожай, шепнув что-то Всеволоду Юрьевичу, задержался на площадке перед Неждановой башней, наблюдая, чтобы не растянулся полк, чтобы не поотстали последние.
Но никто не отставал.
На всех лицах была веселая решимость. И так же весело было помолодевшее лицо Дорожая, когда, догоняя рысью московский полк, он все оглядывался на город и все, видно, искал кого-то глазами в женской толпе, стоявшей на городском валу.
А в этой толпе были вместе с другими провожавшими и Жилиха, и Истомиха, и Воротникова старуха, и ее многодетная дочь, и ее бледная сноха-кузнечиха, и проскурня, и посадская вязея Воитиха, и ее соседка, скатертница, та, что так хорошо заговаривала зубную скорбь, и попадья с четырьмя дочерьми, и толстая дьяконица, и даже разбойная девка Аксюшка, прибежавшая из дальнего выселка — с Трех гор.
И наклонясь к уху дьяконицы, говорила ей шепотом попадья, показывая глазами на Дорожая, что он, как слышно, вдовец, что где-то в Галиче растет у него безматерная дочка, за которой ему недосуг доглядывать, что трудно и Гаше выращивать сына без мужней помощи и что отчего бы, мол, им, Дорожаю и Гаше, не пожениться. Дьяконица сочувственно кивала носом.
Потом стали расходиться по домам и, ступая неторопливо по согретой летним солнцем родной земле, толковали между собой, что новому посаднику, верно, уж не удастся больше разорять московлян вирами и продажами, потому что князь Всеволод Юрьевич, узнавши, как посадник за зиму просудился, верша дела не делом, велел посаднику убираться из Москвы и обещал московлянам прислать на его место другого.
— А другой будет ли праведней? — вздыхала с сомнением многодетная Воротникова дочка.
Поглощенные этими толками, московлянки не заметили неподвижного женского лица, что было видно в самом верхнем проеме остроконечной вышки, венчавшей боярские хоромы.
Кучковна провожала глазами московский полк, уходивший воевать за Андреево правое дело.
Она всех знала в лицо. И когда полк уже втянулся в единственную узкую улочку московского посада, направляясь в сторону Кучкова поля, она все еще различала в полковых рядах и Воротникова большака, который был всех видней, и его смирного ольховецкого зятя, и курчавобородого Нежданова сына, и Нежданова внука, рыжего, как подосиновый гриб, и неразлучных друзей Шейдяка и Худяка, и веселого Балакиря, который, щурясь от яркого света, задорно морщил свою пуговку, и черноволосого кудринского старосту, и косоглазого мужичишку, и своего, боярского, бородатого скотника, и своего же кудрявого холопа с трехрогими вилами на плече.
VI
Грунина доля оказалась печальнее Гашиной.
Гроза, которую наложил на нее свекор, обернулась для Груни новой великой бедой.
Почти тотчас же по приезде в Суздаль свекор объявил ей, что как вдовеет он уже давно, а теперь лишился и единородного сына, то ходить за ним, за стариком, некому, а потому решил он взять себе жену. Однако ж и то верно, что больше баб в семье — больше и греха. Так чтоб греха не множить, вводя в дом лишнюю бабу, рассудил он за лучшее жениться на ней, на Груне.
Не помогли ни моления, ни крики, ни слезы, ни попытки наложить на себя руки. Суздальский великий боярин затворил Груню в терему, где денно и нощно стерегли ее три пары старушечьих глаз, выслеживая каждое ее движение. В конце того же лета, на втором месяце Груниного вдовства, свекор обвенчался со снохой.
Ее жизнь стала бы совсем невыносима, если бы на ненавистного мужа не навалилось множество важных дел, которые заставляли его почасту и надолго отлучаться из дому то в Ростов, то во Владимир, то в Переславль, то в Рязань. Он сделался при Ростиславичах одним из первых вельмож и был вынужден улаживать непрестанные распри между туземным, коренным боярством, к которому принадлежал сам, и тем, что понаехало с Ростиславичами из Поросья.
Остер был великий боярин, а его молодая жена — еще острей. Как ни зорок был старушечий надзор, Груне удалось приискать себе среди забитых боярских слуг преданных пособников. Они согласились помочь ее бегству, прося дозволения уйти вместе с ней.
На эти тайные, трудные и очень опасные переговоры, которые удавалось вести только урывками, ушла вся весна. Наконец все было условлено, и для выполнения дерзкого замысла ждали только первой отлучки боярина.
Незадолго до летнего солноворота он вместе со старшим Ростиславичем выступил в поход во главе всей суздальской рати, чтобы отбить Юрьевичей, которые с владимирцами, черниговцами и московлянами шли из Москвы на Владимир.
Более удачного случая Груне нельзя было и ждать. Оставалось только назначить день побега. Выбрали среду.
А накануне этой среды, во вторник, пришла весть, что не успели два войска обменяться первыми стрелами, как суздальская боярская очень сильная рать, еще не схватившись с несравненно более слабым противником врукопашь — грудь с грудью, — кинула стяг и побежала, оставив победителям несметный людской полон.
Ростиславичи улепетнули — один в Новгород, другой в Рязань, а Юрьевичи, Михаил и Всеволод, вступили во Владимир со славою и с честию великой, ведя перед собой только что взятых пленников. В первом ряду этих пленников шагал, покусывая острую бородку, суздальский большой воевода, Грунин злой муж.
Юрьевичи, понимая, какой опасный враг попался им в руки, не польстились на богатый выкуп, предложенный за воеводу суздальскими боярами, которые без него остались как без головы.
Знатный пленник не протянул и года: умер, промаявшись до полузимья в порубе, на двух цепях.
В счастливом для Юрьевичей летнем бою под Владимиром московской крови не пролилось.
На одном из первых от Москвы переходов до Юрьевичей дошло известие, что младший Ростиславич, шедший им навстречу, уступил в сторону, открыв им путь на Владимир, а сам окольными лесными дорогами пробирается к Москве. Всеволод не напрасно рассматривал с боярской вышки московскую окрестность: он знал, что отдать врагам Москву означало бы потерять ключ ко всей волости. Он помнил, что говорил о военном значении Москвы его отец, князь Юрий. Услыхав про затеянный противником обход, осторожный Юрьевич велел московлянам воротиться вспять и блюсти домы свои. При этом Всеволод не упустил случая приобрести на Москве новых друзей, доверив начальство над московским полком не своему воеводе, а московлянину же, да еще какому: Воротникову большаку, великану!
Однако и под родными стенами московлянам не привелось на этот раз сшибиться с врагом. Младший Ростиславич, не дойдя до Москвы, поворотил назад, к Владимиру, и до тех пор крался по пятам за Юрьевичами, не смея ударить им в тыл, покуда не узнал о разгроме старшего брата. А тогда, по его примеру, пустился бежать.
Юрьевичи, утвердив за собой Андрееву волость, послали в Чернигов за своими женами. Один из северских князей, имевший удел в пограничной с московской округой Лопасне, проводил обеих княгинь до Москвы, где их перенял выехавший им навстречу княжой меченоша Дорожай. Он повез из Москвы во Владимир не только двух княгинь, а и свою молодую жену — Гашу — с кудрявым пасынком.
Кучковна осталась на Москве одна.
Боярской вотчиной стал править новый ключник, поставленный Дорожаем.
Глухой осенью, незадолго до первых заморозков, в заволжском медвежьем углу, под Ярославлем, в одной из вотчин Андреевой вдовы, булгарки Ульяны, была сыскана наконец и она сама и ее спутники — убийцы ее мужа.
Всех троих привезли во Владимир и, по приговору князя и веча, казнили смертию.
Тела казненных пометали в лубяные короба, точно такие же, как те, в которых Петр Замятнич увозил из Москвы пограбленное княжое добро. А оставшиеся в коробах пустые пазухи заложили камнями.
Неподалеку от Владимира, в Ямском лесу, есть небольшое тинистое озеро, обросшее кругом до того высоко и густо, что никакой ветер не порябит никогда его темной воды. Веками смотрятся в черное зеркало прибережные черные ели.
По преданию, это — могила Андреевых убийц. Сюда будто бы сбросили нагруженные камнями и трупами короба.
Озеро стало называться с тех пор Поганым. А иные зовут его Плавучим, потому что на его гладкой поверхности всегда покачиваются какие-то большие черные комья. Это всплывает донная бута: торф. Теперь все это знают и проходят мимо озера без страха, но встарину плавучие комья пугали суеверных людей, которые принимали их за короба Кучковичей.
VII
Гашино новое счастье было омрачено тревожными мыслями о покинутой матери.
Кучковна отказалась ехать во Владимир.
Гаша не знала, что и думать о ней. Порой она склонялась к мысли, что ее мать ослабла рассудком. Такого мнения держались многие. Но ответы Кучковны (сама она теперь никогда не заговаривала первая, а только отвечала на вопросы) были хоть и коротки, а всегда спокойны и здравы. В ее деяниях замечалась, правда, временами некоторая странность, однако же опять такая, что нельзя было принять ее за безумие. И притом эти необычные в боярском быту поступки Кучковны были таковы, что никому не могли причинить ни вреда, ни досады.
Она стала как будто деятельнее, чем раньше.
Дома по-прежнему никогда не сидела сложа руки: шила, вышивала, вязала, пряла и охотнее всего, кажется, пестовала внука.
Только с ним одним, когда оставались они вдвоем, Кучковна беседовала подолгу. Гаша иной раз не без зависти наблюдала издали, как бабка рассказывает внуку что-то длинное-предлинное, а он, занятый игрой, то ли слушает, то ли не слушает. Бывало, впрочем, что, увлеченный бабкиным рассказом, он вдруг бросал игру и, припав кудрявой головой к коленям Кучковны, о чем-то задумывался.
Но стоило Гаше подойти, как Кучковна смолкала.
На ласковые вопросы дочери мать отвечала ласково же, разумно и просто, но сама никогда ни о чем ее не спрашивала.
Прежде боярыня редко выходила за пределы сада. Теперь же ее часто видели и на дворе. Она пристрастилась сама кормить кур. А когда вечером пригоняли стадо, помогала доить коров.
Поначалу хаживала изредка и в поле. Находила себе дело и там. Молча брала грабли или серп и молча же, в одному ряду со своими холопками, не отставая от них, а иной раз и опережая, ворочала и огребала сено, жала хлеб, вязала снопы.
Холопок смущало ее соседство. Одни думали, что со стороны боярыни это хитрая уловка: новый способ доглядывать за ними изблизи, тянуть из них жилы, не давать передоху. Другие видели в этом лишь праздную боярскую причуду, которая не только раздражала их, но и оскорбляла тем, что их натужный полевой труд она обращает в предмет забавы. Даже ловкость в работе ставилась боярыне в укор: "С ее-то хлебов как удалой не быть!"
Почувствовав молчаливое осуждение и признав его справедливым, Кучковна перестала вмешиваться в холопью работу.
С этой поры она сделалась еще более грустна и задумчива.
Гаша, сколько ни приглядывалась к матери, не могла догадаться, что более всего удручает Кучковну вот эта самая неодолимая и нерушимая стена, которая наглухо отгораживает ее, богатую боярыню, от подвластных ей людей.
Сбыв с рук боярскую власть, передав ее Гаше, передоверив ей же и все боярское богатство, Кучковна на первых порах испытала некоторую отраду: теперь-то, думалось ей, уймется наконец неугомонный червь, глодавший сердце.
Но червь не унимался.
"Своим отказом от власти и богатства ты лишь одну себя тешишь и обманываешь, — так говорила ей совесть. — Перевалила хозяйские заботы со своих плеч на Гашины, только и всего. Никому от этого не легче. Как была ты боярыней, так ею и осталась, и челядь как была, так и осталась челядью. А между боярами и челядью миру да любви вовек не бывать. Чей хлеб ешь? По-прежнему чужой, не своим, а их трудом добытый, у них украденный хлеб. Суди же сама, кто тебе друг, кому ты враг".
Боярское дорогое, удобное платье давило Кучковне плечи хуже тюремных цепей. Боярский опрятный, теплый дом сделался и неприютен и страшен: от скрипа широких дубовых половиц под ногой она вздрагивала, как застигнутая на воровстве.
Особенно тяжелы стали ей встречи с людьми своего, боярского круга. Стоило знатному гостю переступить их порог, как она уж торопилась испуганно затвориться у себя наверху. И если доносился до нее снизу звук густого боярского голоса, на ее усталом лице мигом появлялось несвойственное ей прежде выражение мучительной брезгливости.
Когда к Гаше посватался Дорожай и дочь пришла к матери за советом, Кучковна ответила еле слышно:
— Твоя воля.
Однако вести положенную по обычаю беседу с женихом отказалась. Вежливый Дорожай, верный блюститель боярских обрядов, услыхав об этом отказе, только руками развел да губы вытянул. Так он и не услышал тещиного голоса.
Без слез проводила Кучковна в путь новобрачных и внука. Гаше на всю жизнь запомнился материнский прощальный светлый взгляд.
В разлуке с матерью Гаша утешалась мыслью, что остался при Кучковне вновь принятый в дом, но давно ей известный и всем сердцем ей преданный слуга. Это был старик-киевлянин, по имени Кузьма, или, как чаще его называли, Кузьмище, много лет прослуживший при князе Андрее Юрьевиче, а по смерти князя ушедший из Боголюбова в Москву.
Вскоре после того, как до Москвы дошла весть о казни Петра Замятнича и Якима Кучковича, боярыня в сопровождении этого самого Кузьмы отправилась по первопутку в тот Ростовский монастырь, где была могила ее матери. Она не раз езжала туда и ранее.
Однако на этот раз она не воротилась оттуда в Москву. А куда девалась, неизвестно. Не знал того и Кузьма-киевлянин. Груня, не довольствуясь его слезными показаниями, сама побывала в Ростовском монастыре.
Там сказали, что ее мать была у них в первозимье и что при ней был старик-слуга. На второе утро после ее приезда слуга явился к игуменье и спросил, не знает ли мать-игуменья, где его боярыня. Игуменья предприняла по свежим следам целый розыск.
Послушница, приставленная к Кучковне для комнатной услуги, видела, как боярыня, отстояв полунощницу, вернулась в отведенный ей покой. А наутро послушница нашла этот покой пустым.
Монастырская привратница говорила, что ежели бы боярыня выходила из ограды, то не миновала бы ее глаз, а она, привратница, боярыни не видела. Правда, на рассвете вышло из ворот обители несколько странниц-богомолок, но в их числе боярыни, по словам привратницы, не было.
Кузьмище кинулся догонять странниц. Догнал, расспросил, но ничего от них не узнал. Все они уверяли в один голос, что, кроме тех, кто перед ним налицо, никто другой с ними из монастырских ворот не выходил.
Груне показали в монастыре старый, заведенный еще матерью Кучковны поминальный синодик, куда в этот свой приезд боярыня попросила вписать несколько новых имен: Андрея, Иулианию, Петра, Иоакима, Иоанна, Симона, Олимпиаду, Прокопия. Имена были начертаны по-книжному, и Груня не сразу догадалась, что Иулиания — это княгиня Ульяна, булгарка, а Олимпиада — племянница боярыни, дочь Ивана Кучковича, слабоумная Липанька, погибшая во время боголюбовского пожара.
Груня объехала и все другие женские монастыри, какие были в Залесье. Побывала и в некоторых заволжских, доезжала до Белого озера. Куда же, как не в монастырь, могла уйти ее мать?
Но нигде и никто Кучковны не видел, и никто ничего про нее не слыхал.
Так и пропал навсегда ее след.
ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ
Новый век
I
Прошло четверть столетия.
Начался новый век, тринадцатый, в жизни древней Руси самый страдный.
Но на северо-востоке, за гривами вятических лесов, которые к тому времени успели утратить свое отжившее племенное название, где копились семена будущей великорусской народности и где уже зачиналось ядро будущего русского государства, — там эти первые годы нового века протекали светло и торжественно.
Для Владимиро-Суздальской земли, которой правил уж двадцать пятый год князь Всеволод Юрьевич, это были лета расцвета.
Всеволод, сочетая в себе лучшие достоинства деда, отца и старшего брата, но не похожий ни на одного из них, собрал с их посева обильный урожай, не потеряв ни колоса. Обходительный с людьми, как Мономах, осторожный, как Юрий, независимый от боярской знати, как Андрей, он, как они, был упорен в намерениях и тверд в решениях.
Летопись называет его великим. Он и впрямь был крупнее всех современных ему русских князей.
Его уменье действовать, не обинуяся лица сильных своих бояр, привлекало сердца смердов. Правда, вокруг его собственных обширнейших вотчин сироты были порабощены и обижены не менее, чем около боярских, но в этом винили не князя, а княжих огнищан и тиунов, сам же Всеволод так искусно отходил при этом в сторону, что на него никогда не ложилась тень.
Как и Андрей, он был подлинным самовластцем, однако, прислушиваясь к голосу горожан и уступая им иногда в мелочах, он успел завоевать доверие этих преданнейших когда-то Андреевых сподвижников, которых Андрей напоследях отпугнул от себя своею крутостью.
Всеволод Юрьевич был счастлив в супружестве и вырастил сильную семью — большое гнездо. Под таким прозвищем он и вошел в историю: Всеволод Большое Гнездо.
И смерды и горожане ценили во Всеволоде его радение о пользе и безопасности их земли. Он продвинул ее рубежи на восток, борясь, по примеру отца и брата, за владение Волгой, ужимая булгар, укрощая мордву. Разбойных соседей, рязанских князей, он обратил в своих послушных подручников. Когда на юге, в Поросье, была рать без перерыва, у Всеволода был мир. Он, подобно Андрею, любил мир паче, нежели войну, а если порой не хотел мира, то это означало, что война в этом случае выгодна его земле и успех верен. Только тогда он и воевал.
Одно имя Всеволода, говорит летописец, повергало в трепет все страны. В этом нет преувеличения.
Не расходуясь на захват ненужного ему, разоренного Андреем Киева, Всеволод не допускал, однако, чтоб тамошние дела решались без него. Властный и требовательный голос Мономахова внука был слышен и в Чернигове, и в Галиче, и в Смоленске, и в Новгороде. "Отец и господин" — так величали его русские князья. Подобного величания не удостаивался никто из его предшественников. Половцы, разорявшие Поросье, убегали в глубину степей при одной вести о приближении Всеволода. Его советов слушался польский король. Когда германский император Фридрих Барбаросса узнал, что вступивший с ним в переговоры галицкий князь находится в близком родстве со Всеволодом, Барбаросса во внимание к этому родству поспешил изъявить свою любовь Всеволодову сестричичу, оказал ему почетнейший прием, обещал помощь и действительно помог в меру своих сил.
"Великий княже Всеволод! Ты можеши Волгу веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти!" — восклицает современный Всеволоду южнорусский певец.
С ним перекликается другой певец, несколько более поздний, северорусский. "Лев рыкнет — кто не устрашится! — говорит он, обращаясь к одному из сыновей Всеволода, наследнику его власти. — А ты, княже, речеши, кто не убоится?"
Это не боярские голоса. Устами обоих певцов говорит если и не простой народ, то, во всяком случае, и не боярство, а тот средний слой тогдашнего общества, которому голос народа был хорошо внятен.
Этот голос был уже не тот, что сто лет назад — при Мономахе, и полвека назад — при Юрии, и четверть века назад — при Андрее. Живая вода киевской книжности, успев просочиться до глубинных народных пластов, напоила и залесский северо-восток. И тамошнему народу стала ведома рядом с волшебством книжного слова и тонкость процветших в Киеве художеств. Но, вкусив того и другого, северорусский народ и к тому и к другому приложил сокровища своего многовекового опыта: свою мудрость, свое искусство и свою твердую созидательную волю.
Рассказ нового залесского летописца полон новых звуков и новых образов, свойственных только народному красноречию.
Измечтанная хитрость русских рукодельников, которая прежде, по воле знати, устремляла главные усилия на внутреннее убранство храмов, украшая их столпы и стены златом, и финифтом, и каменьем драгим, и жемчугом великим, бесценным, и всякою добродетелью, выходит теперь наружу, из подсводных сумерек — на яркий свет городской площади — и переносит свои старания на внешнюю отделку зданий. Наружная облицовка нового залесского белокаменного, чаще же кирпичного сооружения уж не гладка, как прежде. Она бугрится затейливыми, нигде в мире еще не виданными, угодными народному глазу прилепами: из стенной кладки выдается то изваянный ангел, то вырубленный из камня крылатый лев, то из камня же высеченный травяной пучок, то клубок змей, то слон, то сказочный конь с человечьим туловищем вместо шеи и с человечьей головой. Перед этими изделиями дерзкого народного резца невольно останавливается уличный прохожий и внимательно озирает их одно за другим. Для его деятельного, свежего воображения они — та же книга.
Но, украшая лицо стены, северорусский строитель не забывал сообщать всему зданию в целом то выражение спокойной силы, которое издревле было присуще всем лучшим памятникам русского зодчества. В этом сказывалась опять народная мысль.
Миновавший век научил многому. Он воспитал в народе презрение к близорукому корыстолюбию ничтожных осподарей, раздиравших Русь на малые клочья особных владений, бессовестно ими истощаемых. Он привел народ к убеждению, что от неминуемой беды, к которой ведет слепота осподарских умов, хилость их воли, мелкота их чувств, может спасти только твердая государственная власть, черпающая силу в союзе с низовыми слоями народа.
Тем-то и люб был народу Всеволод, что сумел создать хоть некое подобие такой власти.
А под мыслью о сильной власти таилась более глубокая и более широкая мечта, чуждая тогдашнему княжью и боярству, но народу дорогая, пронесенная народом сквозь века, одушевившая все тогдашнее народное творчество: мечта о единстве светло-светлой и украсно-украшенной земли Русской.
Однако в те годы еще мало кто верил в осуществимость этой мечты. И никто не предвидел, что осуществит ее Москва.
Кто думал-гадал, что Москве царством быти!
II
Московская боярская усадьба, сделавшись заглазной, пообветшала. Боярские угодья позадичали. Боярское хозяйство порасшаталось.
Гаша, живя с мужем в стольном городе Владимире, бывала на Москве только изредка, не чаще раза в год.
Едучи туда, она иной раз брала с собой старшего сына, прижитого еще в первом браке, теперь уже взрослого, женатого. Лицом и всей статью он вышел в мать и был ее любимцем. Единственным изъяном его внешности был правый больной глаз: он был чуть меньше левого и всегда немного воспален.
Груня же хоть и часто думала о Москве, а никогда туда не ездила. С той самой ночи, как увез ее оттуда суздальский великий боярин, она не побывала там ни разу. Память об исчезнувшей матери зноилась в Грунином сердце: она-то и не пускала ее в Москву.
Да и своя жизнь сложилась у Груни так, что было не до разъездов.
Вскоре после второго вдовства она в третий раз, уже по своей доброй воле, вышла замуж за одного из малозаметных Всеволодовых подручников — за молодого муромского князька, который как услышал где-то случайно Грунино пение, так сразу и потерял голову.
Княжой двор на Оке, где Груня сделалась полновластной хозяйкой, был не высок, не обширен и не роскошен, скуднее иного боярского, но все же он был княжой, и это обязывало Груню к домоседству.
Пообвыкнув в муромских лесах, примирившись мало-помалу и с их глухим безлюдьем и с не всегда спокойным соседством вымирающей муромы и еще полудикой мордвы, Груня была уверена, что тут, над Окой, ей и кончать свой век.
Неожиданное событие разом изменило ее уже немолодую жизнь.
Где-то под Смоленском умер в глубокой старости один из тамошних помельчавших князей, двоюродный дед (или, по-тогдашнему, великий стрый) Груниного мужа. Он был бездетен. Вокруг освободившегося за его смертью княжеского стола, тоже невысокого, поднялась обычная в те годы княжеская распря, которая кончилась тем, что местные бояре, договорившись кое-как с городским вечем, где сильный голос принадлежал купцам, решили позвать себе в князья стороннего человека. Вспомнили о внучатном племяннике покойного князя, имевшем удел под Муромом.
Этот выбор был особенно удобен потому, что не мог вызвать возражений со стороны страшного владимирского самовластца: Всеволоду было выгодно ввести своего покорного подручника в круг не очень сговорчивых смоленских князей.
Муромский князек посоветовался с женой, съездил на поклон во Владимир и, получив разрешение от Всеволода, перебрался с родной Оки на верховья чужого Днепра, который в глазах князей еще оставался знаменитой рекой, дразнившей их не слишком заносчивое, но еще не совсем угасшее честолюбие.
Проводив мужа, тронулась за ним вслед и Груня.
На этот раз ей уж не миновать было Москвы.
III
Осенние дожди распутили лесную, болотистую дорогу на Владимир. Груне пришлось околить через Коломну.
Когда забрызганный черной грязью возок выехал из пооблетевшего, но еще зеленого ольхового леса и вдали обозначился со всей осенней, выразительной отчетливостью знакомый, царивший над всей окрестностью холм, увенчанный вековыми соснами, Груня приказала остановить лошадей. Она искала глазами островерхую вышку из старого дома и посадничьи голубятни, но сквозь слезы ничего не могла разглядеть. И велела вознице ехать не к переправе, а в Черемушки.
Древнее погребалище, заведенное еще при Юрии, так расширилось и так заросло деревьями, что Груня едва отыскала могилу Шимона.
В день его похорон она своими руками посадила в головах могильного холма три кленка. Их стволы (она хорошо это помнила) были тогда не толще ее пальца. Теперь она не охватила бы их и двумя пястями. Дубовый, вытесанный Нежданом крест с двускатной, усаженной лишаями кровелькой еще стоял, но уж вполпряма, а одевший могилу сруб, тоже сбившийся вбок, был еле виден из-под опалого солнечно-золотого кленового листа. Тот же лист шумел и под Груниными ногами.
А кругом под редкой сенью качаемых ветром пожелкнувших деревьев чернели такие же покривившиеся туда и сюда двускатные кровельки и выглядывали из-под осеннего рябого ковра такие же срубы, все больше ветхие, а иные и новые.
Груня не знала, что вон там, под хваченной утренником багровой осиной, лежит долгобородый воротник, который, не снеся потери своего меньшака, умер раньше других московских стариков. А там, под червлеными кистями рябины, — Неждан. И около рябины заботливо всажен в землю шест со скворечником. А поодаль от них, под голым черемуховым кустом, — Жилиха. Она сложила кости недавно, и сруб у нее на могиле был белее других. Жилиха протянула бы, может быть, и дольше, если бы прошлой зимой не перепарилась по неосторожности в черной бане. Вышла с пару на мороз да сразу и упала — так, бедная, всей варей в снег и рюхнулась…
Была пятница, торговый день. У переправы, дожидаясь парома, скопилось много простого народу. Но проезжей незнакомой княгине уступили место. Пристань была новая, крытая, с трехрогим причальным столбом, с забором вдоль берега.
Верховый холодный ветер гнал длинные волны, по которым ходили кое-где белые гребешки. Груня вспомнила, что на Москве эти гребешки зовут соловцами. На студеной воде колыхались остававшиеся от них разводы белой пены.
С переправы был виден кипевший людьми Пятницкий торжок. В Грунины молодые годы там никогда не собиралось такой густой толпы. Часовенка Параскевы-Пятницы стала заметнее, потому что сосновый борок рядом с ней был наполовину сведен.
Груня слышала в свое время, что в первые смутные годы после Андреевой гибели рязанский князь Глеб пожег Москву. Но она никак не думала, что новый посад, выросший на пожарище, окажется так не похож на старый. Он раскидался теперь чуть не впятеро шире, чем прежде, сползал одним концом к самой реке, другим тянулся к Кучкову полю и был прорезан не одной, как встарь, а тремя улицами.
Проезжая мимо устья средней улицы, Груня заметила, что в начале она довольно тесна, а дальше расступается пошире, давая простор деревянной церковке, поставленной в прогалке между двумя порядками изб. Церковка была срублена попросту, на четыре угла, и столь невелика, что росшая подле нее старая сосна накрывала своими ветвями и паветьями все церковное строение. Груня узнала потом, что эту церковку так и зовут: "Илья под сосной".
Городскую южную стену, пострадавшую сильнее других от Глебова поджога, перенесли теперь ближе к берегу. На прирезанном к городу склоне нагромоздилось много строений: верно, новые боярские дворы. Старые посадничьи хоромы обросли пристроенными в разное, как видно, время теремами, прирубами и крытыми переходами. На месте снесенных огнищаниновых палат высились чьи-то другие.
Но Нежданова напольная башня стояла нетронутая, все такая же коренастая, ничем, кроме зеленого моха на кровле, не выдавая своего старого возраста. Только теперь, рядом с недавно воздвигнутыми высокими теремами, она показалась Груне поприземистее, чем прежде.
Над городом в белом осеннем небе изворачивалась на все лады густая, несчетная галочья стая. Груня следила за плавным круговым вихрем ее движения и думала: "Сколько их! Те ли самые, что тогда? Или их птенцы? Или птенцы птенцов? Верно, никогда не переведется на Москве их живучее племя".
Когда муромский возок уж сворачивал на городской мост, мимо Груни проехало под гору несколько купеческих груженых подвод. На передней лежал раскосый булгарин в белом колпаке. Около задних шли русские торговые молодцы, судя по говору и по узким зипунам — новгородцы. Из услышанного обрывка их беседы Груня поняла, что они везут товар на здешний торжок. А ведь прежде, помыслилось ей, такие дальние гости бывали на Москве только проездом.
Незнакомый воротник, любопытно вглядываясь в приезжую, расхлестнул створки городских ворот, надставленные кое-где свежими досками. Сквозь пролет башни завиднелась красноватая, поросшая низкой муравой глина городской площади. Чьи-то ребятишки весело играли в бабки.
На Москве еще не было своего князя, и местные власти, встретив Груню, по ее княжескому званию, с почетом, предложили ей остановиться в пустующих княжих палатах, от чего она отказалась наотрез. Эти новые власти, зная, видимо, о близости Груниного мужа к князю Всеволоду, чрезвычайно досаждали ей и своей угодливостью, и наговорами друг на друга, а главное тем, что не давали ей оглядеться в родном углу.
Не успела она их спровадить, как явился новый, чернобородый поп с новым же, молодым безбородым дьяконом. Груня, еще не обойдя дома, отстояла долгий молебен с акафистом. Его пели в тех самых верхних сенях, где когда-то лежало мертвое тело Шимона и где справляли по нем поминки. Оконные круглые стекла, которыми так гордился Петр Замятнич, были почти все повыбиты.
Во время молебного пения Груня услыхала за собой чьи-то негромкие всхлипывания. Оглянувшись, она увидела рябую старушку, которая, обливаясь слезами, клала поклон за поклоном. Груня не сразу узнала в ней бывшую клетницу Лушу. Это было первое и единственное знакомое лицо, увиденное Груней на Москве.
С ней после угощения причта поднялась Груня на женский верх, в теремные горенки. От Луши она узнала, что ветхую вышку повалило неистовой бурей, которая пронеслась над Москвой года три назад. А набережный рундук сгнил еще раньше. От него уцелели только ввернутые в землю толстые сваи. Старые яблони, по Лушиным словам, все выплодились. Их срубили. На их месте зеленел молодой подсад.
В бывших девичьих горенках, Груниной и Гашиной, пахло сыростью и нежилью. По углам роились сонные осенние мухи.
Тот же пресный, плесенный дух стоял и в материнской светлице. На голых досках дубовой, ничем не застланной кровати лежал кем-то оставленный сухой полынный веничек. Груня долго оглядывала узор сосновых сучков на стенах, хорошо памятный с детства. Из сучков проступали кое-где прозрачные капельки смолы, тоже памятные до слез. Так же памятен был и вид из материнского окошка — очень широкий, на все Замоскворечье. Только и он переменился: береговая слободка повыросла и захватила часть Великого луга. На лугу темнели сенные стога, уже побуревшие от осенних непогод.
Груне хотелось побыть в этой светлице подольше и непременно одной, но усланная ею Луша скоро вернулась со словами, что внизу ждет сотский с хлеб-солью от московского посада.
Пришлось отбыть и этот обряд. Слушая вполуха приветственные слова осанистого сотского, Груня рассеянно глядела на его большие, почтительно напряженные руки, на резное деревянное блюдо в этих руках, на выпуклую блестящую корку хорошо пропеченного пшеничного хлеба и на врезанную в эту корку круглую серебряную солонку. Солонка привлекла Грунино внимание яркой позолотой и нежными узорными просветами белого серебра.
На Грунин вопрос сотский ответил с заметной гордостью, что солонка московского дела.
— Московского? — удивилась Груня: в ее время на Москве не было таких искусных златокузнецов.
Сотский объяснил, что златокузнец родом не московлянин, а боголюбовец, но московским коварником учен.
Оказалось, что солонку ковал, чеканил и золотил любимый ученик того знаменитого хитрокознеца, который был убит в Боголюбове почти в одно время с князем Андреем Юрьевичем.
Вдова убитого в благодарность за то, что ученик спас из огня ее ребенка, взяла безродного парня с собой, когда перебиралась из Боголюбова в Москву. В Москве ее, совсем обнищалую, пригрел деверь, брат ее мужа, известный московский кузнец, исполин. Но вскоре оскудел и его дом. Исполин умер от ран, полученных в бою с рязанцами, которых московляне отбили с большим уроном, после того как рязанский князь Глеб, налетев нечаянно ночью, пожег московский посад. Это случилось два года спустя после боголюбовского убийства.
Кудрявый ученик хитрокознеца к тому времени уже настолько возмужал, что решился принять на свои хлеба осиротевшие семьи обоих своих благодетелей. Из-за этого ему самому пришлось еще очень долгие годы жить впрохолость. И лишь когда поднял на ноги всех сирот, только тогда позволил себе жениться на терпеливо дожидавшейся своего счастья меньшой дочери бывшего предтеченского попа, ныне давно уже покойного.
Она-то, эта кузнецкая, теперь уже вполне счастливая жена, забытая подруга Груниных детских игр, — она-то и настояла, чтоб ее муж, тоже узнавший наконец полное счастье, отнес лучшую солонку своего дела сотскому в подарок проезжей муромской княгине.
Груня не захотела ночевать на Москве.
Подъезжая к Дорогомиловскому перевозу, она с нагорья, перед колеистым, ухабистым спуском к реке, оглянулась в последний раз на родимый город.
Начинал моросить мельчайший осенний дождичек-бусинец, и за его тонкой завесой царивший над всей окрестностью высокий гребень московских сосен уж едва различался в многоверстном отдалении.
Возница, натянув поводья, осторожно спускал возок к переправе, а Груня все повторяла про себя неожиданно пришедшие на память слова, слышанные когда-то от матери: "Старики вымерли — нас не дождались, молодые родились — нас не спросились".
Ей ясно вспомнилось, сколько светлого спокойствия было в тихой улыбке матери, когда она произносила эти слова.
IV
В те же годы в других русских лесах, очень далеких от Москвы, еще более северных, подвластных Великому Новгороду, ходила из села в село древняя старуха.
Все хорошо знали ее в лицо, потому что бродила она здесь уже давно, но никто не знал ее имени.
Иной проезжий, новый человек, увидав ее в углу избы за прялкой и поняв по обхождению с ней хозяев, что она не их семьи, спросит ее, бывало, из пустого, дорожного любопытства:
— Чья ты, баушка?
— Не ведаю. Ничья.
— А какого села?
— Ноне тутошнего, обночь тамошнего.
— Да прежде-то где обывала?
— Мало ль где.
— А родом откулева?
— Не упомню.
Но в такие праздные, ни к чему не ведущие разговоры вступали с ней только сторонние люди. Хозяева же тех домов, где она находила приют на день ли, на неделю, а иной раз и на месяц, никогда не досаждали ей подобным вопрошаньем, которое, впрочем, ничуть ее, видимо, не смущало. Она отвечала вопрошательно без всякого раздражения, спокойно глядя ему в глаза своими ясными, выцветшими, впалыми глазами.
Она никогда не просила подаяния, но если подавали добрые люди, не отказывалась. Однако жила не милостыней, а безустанным трудом своих исхудалых, сморщенных, загрубелых, но еще быстрых и спохватливых рук.
Кормившая ее лесная округа была богата озерами.
Летними ночами месяц, плывя таинственным дозором над лесами, ронял в эти озера свой белый лик.
А затем наступала долгая-долгая осень. Дорожная грязь ссасывала с ноги кожаный поршень.[62] Дождевые капли пронзали спину, как стрелами. И в темных избяных срубах день и ночь слышалось, как сечет кровельную дрань дождевое множество.
Потом приходила на смену другая пора, когда озера вдруг тускнели и, переглядываясь ночью с месяцем, отвечали ему уже иным, томленым сиянием. Это значило, что на них дохнул мороз.
А там, заковав лесные воды, становилась на ноги зима, еще более долгая, чем осень. На озера ложился снег, в котором вязли по чрево кони и по пазуху люди. От нестерпимых морозов шел в иные ночи по всем лесам звон и треск.
В косматых от моховой конопати, черных от копоти срубах люди сидели, скорчившись над малым огнем, терпя горесть дымную и большую беду глазам, согревая у печного пламени одни только руки. А заплечье дрогло от холода. Все глаза глядели на огонь, и по его цвету гадали, что будет наутрие: все знали, что красный огонь в печи — к морозу, а белый — к оттепели.
Людские селения, нечастые и малые — где в три, где в четыре, редко в шесть дворов, — жались к пологим озерным берегам.
Лесной смерд изо дня в день, из года в год воевал с лесом. И побеждал его.
По берегам озер стучали топоры. Долготерпеливый северный оратай с великою истомою выдирал из-под леса пахотную землю. И, выдрав ее, принимался, погукивая на мохнатую кобылушку, пометывать железным лемехом бороздочки с края в край, вывертывая из лесной душистой земли дубья-колодья, а каменья валя в борозду.
Три-четыре года работала пашня, то колебля ржаные зеленые волны, то щетинясь ячменным колосом, то потряхивая сережками овсов. Затем, отработав свое, отдыхала земля десяток годов, а то и полтора десятка лет.
Оратаю же было не до отдыха. Приходилось на смену усталой пашне отхватывать у леса другую, а там и третью, и там и четвертую. Приходилось тем же временем на ближних припольках вокруг своей избы сеять лен, конопель и горох.
Земля была первой и главной кормилицей лесного смерда. Озеро же не кормило, а только подкармливало. В задах избы, на песчаном берегу, где по грядам сухой тресты видно было, докуда в ненастный день долизывает озерная волна, лежал опрокинутый долбленый челнок. В углу сеней стояли весла. В огороде на ивовых развилках обсыхал невод, увешанный гончарными грузами и берестяными поплавками.
Подкамливало озеро и ту старуху, что бродила из села в село. Ее усердные пальцы чаще всего бывали заняты вязаньем рыбачьих сетей.
— Смотри, баушка, дослепу не довяжись! — шутя говаривали ей бабы, видя, как низко клонит она голову, закрепляя каждую ячею сети особым узелком.
— А и то верно, доченька, — отзовется баушка со своей всегдашней ясной улыбкой: — обезглазила старуху старость.
— Ладно, что не обезручила, — усмехнется собеседница.
С ней всегда говаривали именно так — ласково и чуть-чуть шутливо. Ласкали за тихость, за кротость, за безленостный труд. А шутили оттого, что уж слишком озадачивала людей несвойственной старухам молчаливостью, которую иные объясняли слабостью ума.
Бывало, стоит ей только показаться у околицы со своим высоким ореховым посошком да с заспинной небольшой котомочкой, где было все ее имение, и уж сразу же высунется в дверь какая-нибудь бойкая молодуха да и закличет на всю улицу:
— Здорово, баушка! Что больно гнешься?
— Неволей согнешься, доченька, как годы-то нажмут, — отвечает с улыбкой старуха.
Ей не приходилось проситься в дома. Всякий рад был зазвать ее к себе, зная, что чужого она вовек не тронет, что на еду не жадна и что, кроме скудной сиротинской пищи, ничего за работу не возьмет. А работы на каждом дворе было невпрогреб.
Баушка не отказывалась ни от какого дела. Стачать ли новое, залатать ли старое, спрясть ли, соткать ли, поколотить ли пральником белье на вынесенном в озеро портомойном плоту, подоить ли корову, остричь ли ярку, укрутить ли да упеленать грудного младенца, прополоть ли репу, выскрести ли пол песком, сварить ли уху, завести ли тесто — за все бралась баушка в охотку и со всем управлялась не хуже молодой.
Иной раз, в летнюю, страдную пору, звали ее и просто подомоседничать да поприглядеть за ребятами. А за детьми ходить было ее любимым делом. Да и дети льнули к ней больше, чем к родным бабкам.
Не раз говаривали ей хозяева:
— Оставайся, баушка, совсем у нас жить.
Она, ни дакая, ни некая, благодарила, низко кланялась, улыбалась, а потом незаметно складывала свои спицы да крючки в суконную котомочку, перекидывала ее за плечи, брала из угла ореховый высокий посошок, облоснелый до стекольного блеска, и уходила, согнувшись в три погибели.
Хозяева пожимали плечом, усмехались, не то болезнуя о ней, не то удивляясь, не то осуждая — ее ли, себя ли? — а потом за своим смердьим недосугом забывали про нее до тех пор, покуда через месяц, а то и через год под их волоковым оконцем, таким крохотным, что едва просунешь руку, не показывалось снова ее обветренное, загорелое, прокопченное, сморщенное лицо с доброй складкой ввалившихся губ, с приветливым взглядом впалых глаз.
Она никогда не ввязывалась ни в чью беседу, никому не докучала ни расспросами, ни советами, ни уговорами, ни утешеньями. Но довольно было одного ее прихода, чтоб даже в самые несогласные семьи вступала тишина, которую при баушке стыдились нарушать. Сварам, лаянию да за волосы рванию при ней не могло быть места.
Бывало, зимним вечером, когда налягут на озеро синие тучи и когда синее туч сделается обступивший озеро зубчатый лес, соберутся у обледенелой дожелта проруби бабы с коромыслами да, по своему исконному женскому обычаю, забалакаются невесть о чем, забыв и про стужу, и про тягость насевшего на плечи ведерного беремени, и про все на свете. И вдруг одна, быстроглазая, поглядит ненароком на белую гору с чахлой сосенкой, где зарывали богдашек — малых младенцев, померших некрещеными, которых поп не давал хоронить на погосте. Поглядит баба на гору, чуть заметно прочерченную змеевинкой зимней дороги, смолкнет говорливая, заулыбается, тронет, не снимая руки с коромысла, плечо соседки концом шерстяной вареги и скажет умягченным, ласковым голосом, показав глазами на еле видную вдали согбенную человечью стать, что чернеет на дороге, движась потихоньку под гору:
— Гляко-ся! Наша-то баушка еще жива.
V
Никто не помнил, с каких пор появилась баушка в этой озерной округе.
Никто не знал, какие у старухи мысли, какие тревоги. Да и не любопытствовали: кому до них дело?
Однако же заметили за ней одно: коренных приозерных оседлецов она не дичилась ничуть, а проезжих людей избегала.
Все полагали, что это у нее с того случая, когда владычный подъездчик, выбивавший у смердов какие-то сборы в пользу новгородского архиепископского двора, заподозрил ее в волхвовании.
— Кого медведь драл, тот и пня боится, — говаривали про нее потом лесные смерды.
Это произошло в ту памятную гнилую зиму, когда по всем избам ходила повальная огневица. А баушка пользовала недужных какими-то травами и многих подняла на ноги. Про ее целебничьи труды было в ту пору много горячих толков.
Они-то и смутили новгородского подъездчика.
За волшбу казнили в Новгородской земле страшными казнями, потому что тамошние смерды хоть и звались православными, хоть и хаживали к попу на погост, однако в домашнем обиходе еще крепко держались язычества. В иные летние белые, заветные ночи у озерной, поросшей тростником воды затевались странные игрища с плясаньем, с гуденьем и с плесканьем. Сюда, к этой воде, водили женихи своих невест. Здесь, уклоняясь от церковного благословения и венчания, совершали они втайне водяной, прадедовский брачный обряд. И жены так у них и назывались: не женами, а водимыми.
Оттого-то и хватал волхвов новгородский владыка, старавшийся укротить своих шатких в вере духовных детей. Оттого-то и страшно было впасть в руки этого владыки, который был грознее и сильнее многих князей.
Подъездчик чуть было не увез баушку в Новгород на владычный суд и только по слезной просьбе сиротинских жен отпустил старуху на волю. С этих пор спина у нее еще посогнулась, а уста сделались еще молчаливее…
На небольшом острове посреди одного из озер стоял мужской монастырь. Верстах в сорока от него, за великими болотами, среди осиновых лесов, выросших на еловом пожарище, расположился второй монастырь, женский. Баушка, в отличие от других странниц, никогда не наведывалась ни в ту, ни в другую обитель, довольствуясь посещением ветхого деревянного храма, который высился на погосте, установленном, по преданию, еще знаменитой княгиней Ольгой.
Были кругом и боярские дворы. На смердов они налагали и тут тяжкое ярмо работное. В эти домы славных мира сего баушка тоже никогда не заглядывала. Даже и близко к ним не подходила. А когда на селе появлялись боярские лютые и прожорливые вирники, она менялась в лице, работа валилась у нее из одубеневших, дрожащих рук, и, забрав котомку и посох, баушка спешила уйти в другое село.
Это никого не удивляло, потому что при таких посещениях руки начинали трястись не у нее одной.
Кроме подъездчиков и вирников, кроме княжеских данщиков, бывали на селе мимоходом и другие люди, не причинявшие смердам прямых обид: вольные купцы или их паробки, а иной раз новгородские княжие осетринники, посылаемые в те дальние приречные селения, где подать новгородскому князю платилась рыбою.
Один из них, бывалый, приметливый человек, обратившись однажды к тихой баушке с каким-то незначащим вопросом и внимательно вслушавшись в ее, как всегда, немногословный ответ, вдруг насторожился и сказал:
— Что-то, бабонька, говор-то у тебя больно высок. Не по-нашему аськаешь. Уж ты не с Москвы ли? — И, передразнивая московское певучее аканье, он произнес врастяжку, не без насмешливости: — С масковскава пасада, с авашнова ряда.
Баушку не смутила и не обидела его благодушная шутка. Но улыбка сошла с ее ввалившихся губ. Она посмотрела в глаза осетриннику ясным, пристальным взглядом и выговорила негромко:
— А на Москве не те же ль русские люди, что и у вас на Волхове?
Баушку ждала в последний год ее жизни еще другая встреча, более значительная.
VI
Это было летом, в самый сенокос.
Ее тогдашние хозяева уехали всей семьей на целую неделю в далекие луга, а ее оставили домовничать.
На то же время попросился к ним в избу еще и другой постоялец, совсем незнакомый. Пустили и его: баушка-то делалась дряхла и слаба, так мужская помощь могла ей понадобиться.
Он был молод, силен, подвижен, но нескладен: долговязый, узкий в плечах, со следами былой угреватости на линючем веселом лице.
Из его замысловатых речей, которые, по его же собственным словам, текли из его уст, аки речная быстрость, трудно было понять, кто он такой. Родился, если не врал, на Ильмень-озере; очень рано, видимо, ушел из отцовского дома и бежал в Новгород. Там он был взят еще мальчиком в дружину владычных ребят, которую держал архиепископ для переписки священных книг. Но оттуда малый ульнул и предался, как сам говорил, мирскому гонению, то есть попросту забродяжничал, перебиваясь, по его выражению, с пуговки на петельку.
Сейчас он шел будто бы с Белого озера, а куда — этого он и сам, должно быть, не знал.
Когда смерды, степенные, домовитые хозяева, с сокрушением и со смущением оглядывали неблагообразные отрепья, которые еле прикрывали его долгое тощее тело, он, ничуть не стыдясь своих лохмотьев, говорил с тонкой усмешкой:
— Не зрите на внешняя моя, но воззрите внутренняя моя.
Когда же обстоятельные смерды допытывались, чем же все-таки он кормится и как живет, он улыбался еще загадочнее и объяснял, что живет, как пчела, припадая к разным цветам и собирая медвяный сот.
Незнакомец, отказавшись ночевать в избе, спал на дворе, под навесом. Когда баушка вынесла ему туда старый овчинный тулуп, он гордо отмахнулся от него, сказав:
— Нам на перинах да под одеялами не спати: на брюхо лег, спиной укрылся.
Баушке, хлопотавшей по хозяйству, постоялец не досаждал разговорами. Вечерами он шатался по селу, шутил с девушками, задевал парней, а днем полеживал на берегу озера, что-то напевая, глядя на мелкие волны, на торчавший из воды тростник, на еловую горбину противоположного далекого берега, где на лысом боку едва обозначался погост, на чаек, неправдоподобно белых, будто сделанных из снега, на теплое летнее небо.
А в иные дни он вовсе не выходил из дому и дотемна просиживал в избе, под окошком, за чтением какой-то книги. Эта затрепанная и взбухшая от частого перелистывания книга, переплетенная в две обтянутые кожей доски, была единственным достоянием пришельца. Он, кажется, очень ею дорожил: каждый раз после чтения он старательно обертывал ее в ветхую тряпицу и прятал в свою пустую странническую суму.
Чтение так поглощало его, что он не слышал, как ходит по избе баушка, как погромыхивает ухватами и сковородниками, как кто-то на соседнем дворе набивенивает косу, как щебечут на лету ласточки.
Но когда зашла однажды к баушке какая-то плаксивая старушонка и стала, всхлипывая и вздыхая, многоречиво жаловаться на то, как сводит ей руки и ноги коркота и как перекатывается у нее что-то под мякитками, чтец вдруг освирепел и, не отрываясь от книги, цыкнул на гостью сквозь зубы:
— Довольно рюмить, бабка! Потешь попа: помри.
И снова умолк на много часов, до того погрузившись в чтение, что не заметил, как баушка поставила на стол горшок щей. Вернул его к жизни тихий баушкин голос, проговоривший не то с недоумением, не то с ласковым укором:
— Так уж ты, сынок, себя озаботил, что тебе и не до обеду. А живот-то с голоду давно уж, небось, подъежило.
Долговязый откинулся назад, затылком к стене, и, глядя в потолок, вымолвил:
— Слыхала ль, добрая старица, что про лебедей сказывают? Видом лебеди все одинаки, а норовом разны: лебедь-кликун кличет, а шипун только шепечет. Шипунам забота о своем животе да о своем достатке, а нам, кликунам…
Он оборвал речь, жалобно покивал головой и улыбнулся беспомощно-счастливой улыбкой.
Пока он хлебал простывшие щи, баушка безмолвно сидела в уголку, пришивая деревянные пуговки к косому вороту детской домотканой сорочки.
Отобедав, незнакомец опять взялся за книгу, но, прежде чем приступить к чтению, о чем-то задумался, подперев подбородок кулаком. Его рассеянный взгляд остановился на старухе.
— Добрая старица, — сказал он очень мягко, — дано ли очам твоим вникать в книжные словеса?
— Не учена, сынок, — отозвалась баушка.
— А знаешь ли цену писаным словесам?
— Где знать?
— Правду сказала: где знать цену неисчислимого! — торжественно произнес пришлец. — Волчица щенится волчатами. Орлица высиживает орлят. С дуба падают желуди, а из желудей вырастают новые дубы. И вы, матери человеческие, вынашиваете в утробах дочерей и сынов и в муках рождаете их на свет. Но всему, что живо, приходит в свою пору конец: и рождающим и рождаемым — и волчице и волчатам, и орлице и орлятам, и старому дубу и молодым дубам, и вам, матерям, и вашим чадам, и вашим внукам. Давно истлели в сырой земле и те, о ком в сей книге писано, — он показал пальцем на свое сокровище, — а написанному в ней не умирать! Писаное, книжное слово пребудет вовек! Чуешь ли, какую власть стяжали мы, тленные человеки, научившись порождать нетленное?
Он медленно перелистал конец книги, бегая глазами по строкам.
— Послушай, что я тебе прочитаю, — проговорил он вдруг негромко.
И, прокашлявшись, начал:
— "В лето шесть тысяч шестьсот восемьдесят третье[63] убит был великий князь Андрей Суздальский, сын Юрьев, внук Владимира Мономаха, месяца июня в двадцать девятый день.
Был у него Яким, слуга возлюбленный его. И услышал Яким от кого-то, что брата его князь велел казнить. И пошел к братье своей, вопия:
"Сегодня его казнили, а завтра — нас. Так промыслим о князе сем".
Начальник же убийцам был Петр, Кучков зять, и с ним Анбал, ясин, ключник, и Яким Кучкович. А всех неверных убийц — двадцать числом…"
Деревянная пуговка вывалилась у старухи из пальцев и покатилась по полу.
А чтец все читал да читал.
Косой солнечный луч воспламенил медовой, прозрачной желтизной исписанный кожаный, тонко выделанный лист, чуть трепетавший в руках чтеца. Потом и самому чтецу ударил в глаз, заставив отклониться всем телом и прикрыться рукой.
Незнакомец читал теперь о том, как после Андреевой кончины к убийцам пришел верный княжой слуга, Кузьмище-киянин, и стал допытываться, где труп его убитого господина. Убийцы ответили, что тело князя выволочено в огород, и запретили Кузьме брать его, пригрозив, что убьют и его, если он похоронит князя. Но Кузьмище, не побоявшись смерти, отыскал Андреевы останки.
— "И стал плакать над ним Кузьмище, — раздавался голос чтеца: — "Господине мой! Как не распознал ты скверных и нечестивых, идущих к тебе? Или как не домыслил победить их, как некогда побеждал полки поганых булгар?"
И пришел Анбал, ключник, ясин родом. Он держал ключи от всего княжого дома, и дал ему князь волю над всем.
И, взглянув на него, сказал Кузьмище:
"Анбал, сатана лукавый! Скинь либо ковер, либо что другое, чтобы постлать или чем прикрыть господина нашего".
И сказал Анбал:
"Иди прочь! Мы хотим выкинуть его псам".
И сказал Кузьмище:
"О еретик! Помнишь ли, в каком рубище пришел? Ты ныне в бархате стоишь, а князь наг лежит. Но молю тебя, скинь мне хоть нечто".
И сбросил Анбал ковер и корзно.
И, обернув тело, снес его Кузьмище в церковь и сказал:
"Отомкните храм".
И ответили ему:
"Свали его в притвор".
Они были пьяны.
И сказал Кузьмище:
"Теперь, господине, и слуги твои больше не признают тебя! А когда-то гость приходил к тебе из Царя-города, и от латынян, и от иных стран, и из всей Русской земли!.."
Голос чтеца оборвался.
Эти не раз читанные слова всегда особенно волновали его. Ему казалось, что они лучше других выражают главную сокровенную мысль, которой одушевлена вся книга. В чем эта мысль? Выразить ее он не сумел бы. Он понимал только, что, ведя речь о давно умерших людях, о низости одних, о величии других, книга говорит, в сущности, не о них, а о чем-то несравненно большем, о том, что дорого всему простому народу, о том, что со смертью Андрея, страстного исполнителя Юрьевых великих заветов, стала меркнуть надежда на воссоединение разодранной Русской земли.
Но кто проникнет в тайну книжного иносказания? Тронет ли книжное слово тех, кому предназначено?
Стыдясь своего волнения, он провел рукой по бровям и, не отрывая глаз от книги, спросил:
— Все ли уразумела, старица?
Она не отвечала ни слова.
Тогда он взглянул на нее.
Морщинистые руки, уронив работу, упали на колени. Лицо, потемневшее от старости, блестело слезами. А впалые глаза, устремленные куда-то поверх его головы, были полны такого света, что у него захватило дух.
VII
Зима застала баушку в той же округе, только в другом селе.
За истекшие месяцы в баушке произошла заметная перемена. Ноги еще носили, руки еще кормили, но сделались так слабы, что за тяжелую работу она больше не бралась. Поотупел и слух. Она плохо разбирала, что ей говорят.
Теперь уж почти никто не сомневался в ее скудоумии. В этом убеждало и то, что, отступившись почти вовсе от бесед со взрослыми, она с детьми способна была говорить часами, без умолку. Однако эти ее речи, по словам тех, кому доводилось улавливать случайно их обрывки, были таковы, что только детям их и слушать.
Детей же по-прежнему занимал ее разговор.
Да и взрослые люди ласкали ее по-старому. Только больше не пошучивали.
Миновала Аксинья-полузимница[64] и перемела дороги вьюгами. Мороз ночами бывал еще такой, что железо рвал. Медведь еще не поднялся. Сверчок не проснулся. Но солнце уж поворачивало на лето, обжигая снега.
Хозяйка дома, где жила в это время баушка, приглядывала на снегу места, где удобнее расположить стлища, чтобы на бокогрейном, самом резком в году, солнышке отбелить суровые холсты, которых за зиму наткала много. А как, кроме беления, понакопилось немало и других предвесенних хлопотливых дел, то хозяйка была истинно рада баушке, которая снимала с нее заботу о детях.
Детей было двое: два мальчика.
Старшему шел восьмой год. Он старался говорить грубым мужским голосом и был так быстр, что баушка звала его Вихорь Вихоревич.
А другой был еще совсем маленький — лет полутора, не больше, — но обещал сделаться таким же сломиголовой, что и старший. В своей теплой зимней одежонке он казался коротким обрубышем, не говорил еще почти ни слова и очень часто падал, из-за чего был всегда весь запурхан в снегу. Его круглые клюквенно-красные щеки вылезали из белых заячьих наушников, как две подснежные ягоды.
Салазки были на двоих одни. То-то и беда!
Маленький ходил еще плоховато, да и поленивался, так что когда отправлялись куда-нибудь с баушкой втроем, то баушка почти всю дорогу везла его на салазках. А он был непоседлив. И ноги у него зябли. Он принимался плакать, и ничего другого не оставалось делать, как поскорее заворачивать домой.
Старший не любил поэтому ходить втроем.
Он ждал с нетерепением, когда баушка после обеда уложит маленького спать. Ее тоже, видать, клонило ко сну, но старший дергал ее за рукав, и они — теперь уже не втроем, а вдвоем — шли на ручей.
Он шагал впереди, волоча за собой на лычной веревке тяжелые, зашитые досками салазки. Когда спускались под гору, он отводил салазки с раскатанной дороги в сторону и, отставив руку, тащил их по рыхлому снегу, чтоб не били по пяткам: он видел, что так делает его отец, когда ходит с салазками в лес за хворостом.
А баушка плелась сзади, опираясь на посошок, и говорила, говорила…
О чем?
Что было перед глазами, о том и говорила.
Вдоль дороги жались друг к другу молодые елочки, все разного роста. Баушка смотрела на них и приговаривала:
— А у елочки-то пальчики больно тонки, что у девушки, и крестиком сложены. А у сосенки-то у молоденькой, глянь-ка, пальчищи-то какие: толстые, мохнатые и все вверх торчат. А красная-то вербочка, смотри-ка, опоздать боится: уж заячьи лапки наружу выставила — авось, мол, не хватит мороз. Авось, авось! Оперся авоська на небоську, да оба в яму и попали.
— Как сказала? — обернулся мальчик.
— Не я сказала — люди говорят.
— Как говорят?
Но баушка сказанного ни за что повторять не станет. Он это знал. И все-таки переспрашивал. А она уж новое завела, и, слушая ее, он позабыл про свой вопрос. Она всегда говорила новое:
— Птица-то видишь какая пролетела? На глинчатой голове хохол в черных крапинах, с голубым зеркальцем. Это сойка: из всех лесных воровок самая бессовестная, из всех убивиц самая лютая. Вот в Залесье-то соек нет, зато другая птица водится, какой здесь не увидишь. Зовут ту птицу знаешь как? Пигалицей. Перо у пигалицы пестрее сойкина, да какое переливистое! По весне, как сойдет с земли снег, да как зачнет подснежная прель на солнце выпариваться, да как пойдет от нее тонкий рыбий дух, тогда примутся все птицы гнезда вить. А пигалица не научилась вить: кладет лазоревые яйца прямо наземь, в мелкую ямочку, посреди чиста поля. Сидит, глупая, на яйцах, уж и болтунов насидит, а не чует, что подбирается к ней сиротинская соха. А как оратай-то ближе подступит, так взовьется над ним бедная птаха и учнет кигикать, словно плачем плачучи. А ему-то, болезному, до ее ль птенцов?
— Какое, говоришь, Залесье? — деланно низким голосом спрашивает мальчик. — Где такое?
— Далече, — вздыхает баушка. — Ветер-то слышишь какой? В соснах-то по-зимнему, по-строгому шумит, а того, родименький, не скажет, что тепло несет. Березонька-то белая видишь куда гнется? Видишь, с какого боку власяницу ее плакучую ветер обметает? С того боку и Залесье.
Ветер, дувший из этого теплого угла, баушка всегда почему-то называла родименьким.
— А поляна-то смотри какая сделалась, — продолжает баушка: — снег черепкой ледянистой затянулся, на солнышке весь так и стекленеет. Только силы в черепке нет; не то что моей пяты, а и твоей не сдержит: ухнет да провалится. А проскачи по ней конь, все ноги себе изрежет в кровь.
За поляной — последний островок елового леса, а там и ручей.
Это их любимое место.
Ручей вьется по дну оврага. К узкому мосточку ведут с обеих сторон крутые спуски.
Салазки с молодецким седоком мчатся то с ближнего спуска, то со встречного, а баушка стережет на мосту, чтоб раззадорившийся седок не вильнул мимо моста в красноватую воду, накрытую непрочным, кое-где протаявшим льдом.
Ноги у баушки стынут, как у маленького, но в зимний холод всякий молод, и она не плачет. Только каждый раз чуть попятится, когда салазки разлетятся прямо на нее. И седок в съехавшей на глаза меховой шапке крикнет ей каждый раз мужским голосом: "Дорогу!" — совсем так, как кричат повозники, когда спускают с горы груженные кряжьём дровни и когда взлохмаченная, отощавшая от зимней бескормицы кобыленка, не выдержав попутного напора дровней, задыхаясь в подступившем к горлу хомуте, вдруг пустится под гору поневоле размашистой рысью.
Баушка недаром славилась на всю округу знанием погодных примет. Родименький ее не обманул: нанес тепла. Еще с ночи на дворе поотпустило, а к утру была уже полная ростепель.
Все вокруг помутнело, окунувшись в осевшую на землю густую, душную тучу.
Когда после обеда маленького уложили спать, старший, по обычаю, потянул баушку за рукав. Она послушно сошла с крыльца, но дальше не могла двинуться: задохнулась. И села на мокрую доску, которой была прикрыта завалинка.
Мальчик вертелся около нее, не зная, чем себя занять: то ковырял плотно утоптанную дворовую тропку навозной лопатой, соединяя лужи протоками, то мял в руках вязкий снег, то швырялся снежками, и они прилипали к почерневшим от сырости дощатым резным полотенцам, протянутым вдоль лицевых ребер избяной кровли.
— Баушка, что молчишь?
— Не под силу говорить, сынок. Слушаю. И ты послушай, как лето сшибает рог с зимы… Крыша капли роняет чуешь какие тяжелые? И каждая капля уходит в снег, и снег под ней шепечет. А там, подалее, — другая капель: почаще да потоньше, будто мелкий дождичек. Это с сосны. Сбегай-ка, посмотри: чай, на жальце каждой иглы собралось по слезинке. Как нальется, так и канет в снег. А от тех слезинок нарастет к утру под всей сосной ледяной щербатый поднос.
Когда мальчик убежал смотреть сосну, баушка закрыла глаза. По тому, как поднимались и опускались ее плечи, видно было, до чего трудно ей дышится.
Мальчик скоро вернулся, испуганный:
— Баушка, там то ли кто храпит, то ли хрюкает! Поглядим, а?
Пришлось встать и пойти.
Снег, погрязневший за одну ночь, был весь в еловых иглах, в березовом семени, в черных соринках, а вокруг деревьев уже обтаял кольцом.
По голому перелеску разносился странный звук, громкий и мерный, похожий и впрямь на человечий храп или, скорее, на скрип калитки. Он повторялся через ровные промежутки времени, будто отсчитывая какие-то сроки.
Баушка, поникнув головой, опершись обеими руками на посох, слушала, закрыв глаза, молча, с таким глубоким вниманием, словно только ее касался этот вещий, бесстрастный счет.
А мальчик дергал ее за рукав.
Они прошли еще несколько шагов и открыли тайну странного звука: рябой, красноголовый дятел лепился к пустому скворечнику и долбил его гулкую щеку.
После трех хмурых, тяжелых дней, когда на все веточки садилась скользкая изморозь, а временами медленно валились с неба мокрые хлопья снежной липухи, после трех робких утренников, которые всего на час или на два стягивали мозглую слякоть колючим ледком, проглянуло наконец солнце.
Баушка ожила и сама вызвалась сходить на ручей.
— Власий воду подпустил,[65] — говорила она старшему немного таинственным, возбужденным шепотом. — Идем смотреть.
Они ступали по крепко убитому студню потемневшей дороги, на которой белели только мелкие щепотки водополого снега, выбитые подковным шипом.
— Помнишь, — говорила баушка, — как до полузимья снег-то под ногой звенел, точно натянутая струнка? А сейчас-то слышишь как сседается да как скрипит сапожным скрипом? А те-то людские следы, что сбились с дороги в сторону, все как есть водой поналились.
— Бабушка, — спросил мальчик, — мы идем весну встречать?
— Что ты, сынок! Еще Евдокея порога не подмочила.[66] А и по ней еще собаку встоячь снегом занесет. Еще Морозко сорок раз проскачет по ельничкам да по березничкам. Не приспела пора сани на поветь закидывать. Только зиме-то, сколько она ни храбрись, конца не миновать. Весна-то под землей уж копится. Уж нет-нет украдкой и улыбнется из-под снега — где брусничным листком, где моховой зеленой звездочкой.
Над ручьем старуха и ребенок долго простояли молча.
Ручей был неузнаваем.
Старый лед сошел. Под их ногами бежала из-под мостка быстрая красная вода. Она весело играла с новым ледком, со вчерашним и с сегодняшним, который прикрывал ее только местами. Кое-где он нарос лишь вдоль берега и лишь изредка выставлял из воды свою зубчатую хрустальную кромку. А кое-где застилал всю ширину потока зыбким полупрозрачным пластом, будто из растопленного сала. И видно было, как под ним вместе с водой бегут, извиваясь, словно пиявки, беловатые воздушные пузыри.
Талая, трудная дорога, яркий пламень солнца на снегу и долгие речи утомили баушку. На обратном пути она часто останавливалась, чтобы перевести дух, и уж не могла говорить.
На доске, которая лежала на завалинке, корочка вчерашнего снега вчера же и подтаяла, потом за ночь замерзла, а сейчас, на солнце, опять обтаяла по краям.
Баушка выбрала место посуше и села, прислонясь спиной к срубу.
Было очень тихо. Только из голого перелеска доносился опять странный мерный звук, похожий на скрип калитки.
Глядя, как по зеленоватому, уже весеннему небу движутся две рваные завесы облаков — передняя, тонкая, побыстрее, задняя, тяжелая, помедленнее, — баушка проговорила еле слышным, очень слабым голосом:
— А перед вечером опять нападает снежок. Только денному-то снегу не лежать.
Это были ее последние слова.
Она закрыла глаза и будто задремала.
Дятел в перелеске гулко оттарабанил по пустому скворечнику один раз, другой раз, третий раз и примолк.
Со свеса кровли сорвалась ледяная сосулька и, упав рядом с баушкой на мокрую доску, разбилась с хрустальным звоном.
В соседней избе топилась печь. Из приоткрытой двери и из волокового оконца шел дым.
Мальчик, сидя на корточках перед лужей и постегивая воду тростинкой, рассеянно следил за тем, как легкая тень от дыма скользит по снегу, по частоколу, по розоватому стволу молодой березы, по блестящим на солнце веточкам, по луже, по завалинке и по восковому лицу уснувшей баушки.
Ее предсказание сбылось: под вечер все небо затянулось тучами и выпал мягкий снежок.
Он не пролежал и суток. И весны не остановил.
Кто в силах остановить весну?
Кто в силах остановить неиссякаемый поток жизни, который на смену старому, умирающему, ежечасно рождает новое и высшее?
Блок Г.П.
Б70. Московляне: Роман. — Д.: ВАП 1993. — 333 с.
Тираж 100 000 экз.
ISBN 5-86883-003-2
Редактор В.Леонов. Художественный редактор В.Горин. Технический редактор О.Глушкова. Корректор Л.Вайнер. __________________________________________________________________________
Текст подготовил Ершов В. Г. Дата последней редакции: 22.09.2005
О найденных опечатках сообщать в библиотеку: http://publ.lib.ru/