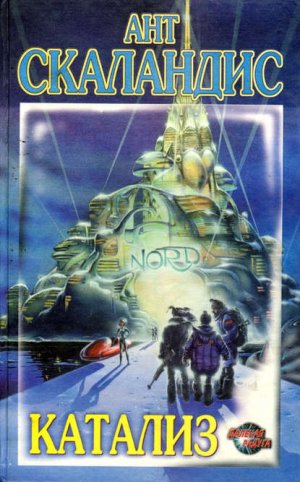
Пролог
Водки было больше, чем надо. Хотя никто не знает наверняка, сколько именно ее надо. Быть может, этого и нельзя знать. Ведь водки никогда не бывает в самый раз. Водки бывает либо много, и тогда она остается на столе и под столом, в холодильнике и на балконе, но никто уже не ищет ее, мы как бы забываем, зачем она нужна; либо водки бывает мало, и тогда, веселые, злые и жадные, мы выскакиваем на улицу, а на улице скверная погода: какой-нибудь противный липкий дождик или собачий холод и снегопад, и обязательно свежий, пронзительно свежий воздух, и ближайший магазин, конечно, оказывается закрыт, потому что уже не семь и даже не восемь, и нам удается купить пузырь за чирик со служебного входа у небритого грузчика в грязном халате, или не удается, и тогда мы ищем таксиста, и у того в заначке непременно есть бутылка, где-нибудь под сидением или в бардачке, и, видя наши пьяные морды, он заламывает несуразную цену – ну, скажем, червонца два, – и мы начинаем торговаться и сходимся на четырнадцати рублях, и это радость, и мы возвращаемся, и влажные хлопья снега тают на наших лицах…
Однако в этот день водки было явно больше, чем надо. Никто уже не мог даже смотреть на нее, а на столе оставалось еще две недопитых бутылки. И только Вадик вопреки всякой логике достал откуда-то еще одну, притом непочатую, емкость, вскрыл ее, сидя в кресле, и, отхлебнув из горлышка, поставил, на пол. Брусилов посмотрел на Вадика, и к горлу его подкатила тошнота. «Неужели опять блевать?» – c грустью подумал он. Помимо водки, он выпил много сухого вина и много разного съел, он чувствовал, что наполнился до краев. И все-таки блевать очень не хотелось. Не такой это был вечер.
Это был вечер совершенно особенный. Прощальный вечер. И, быть может, последний. Самый последний. И ощущение чего-то последнего, а точнее, всего последнего, ощущение, ностальгически горькое и вместе с тем сладостно пьянящее, как запах ранней осени, – ощущение это мучило всех. Оно возникло в самом начале вечера, сразу, и зудело внутри каждого, неуловимое, непонятное и неотвязное. И никто не мог бы объяснить настоящей причины этого чувства, потому что еще никто не знал, что случится через два месяца, никто не знал, какая чудовищная сила сорвет весь мир с насиженного места, в какой крутой вираж швырнет она нашу планету, сколько шуму будет на всю Галактику. Никто не мог этого знать. Но предчувствие было, глухое, томительное, как у зверья перед грозой. Ведь не случайно же все так спешили напиться и так старательно избегали серьезных разговоров. И не случайно Любомир, произнося первый тост, сказал:
– Мы собрались сегодня на наш последний вечер.
И стало тихо. И Черный шепнул:
– Не последний, Любомир, просто… прощальный вечер.
– Я хотел сказать последний вечер перед нашей экспедицией, – неуклюже соврал Любомир.
И Женька с мрачной откровенностью высказался за всех:
– Мы поняли, что ты хотел сказать.
Потом угрюмый настрой постепенно рассеялся в полном соответствии с количеством выпитого, но эпизод этот запал Брусилову в душу, и он весь вечер не мог отделаться от впечатления раздражающей несообразности, несоответствия всех остальных произносившихся тостов тому страшному, что так неотвратимо надвигалось на мир.
А тосты поднимались бодрые: за успех экспедиции, за здоровье участников, за хозяев дома, за гостей, ну и конечно, персонально за Эдика Станского и за его изобретение – антропоантифриз или сокращенно – анаф.
Эдику исполнилось уже тридцать семь, и впору было называть его Эдуардом Исааковичем, тем более теперь, когда он защитил докторскую (не будучи, кстати, кандидатом), однако был он парень простой, свой в доску, и для всего института так и оставался Эдиком Станским. Анафу исполнилось только два года, но он уже успел совершить революцию в биологии и медицине. Гибернация, или криоконсервирование, или анабиоз, или, наконец, совсем по-простому – замораживание людей с последующим воскрешением – из фантастики превратилось в реальность благодаря этому чудодейственному препарату.
Анаф, нагретый до температуры тела или чуть выше, вводился в кровь и, быстро проникая во все ткани, делал человека незамерзающим. Вода с растворенным в ней анафом не кристаллизовалась, а просто густела, не меняя объема. Кроме того, сам анаф обладал консервирующим действием и интенсивно тормозил биологические процессы еще при плюсовой температуре. А ниже нуля человек начинал терять сознание. Субъективно это воспринималось как прием дозы снотворного.
Гибернация с помощью анафа была идеально обратима, для возвращения организма в нормальное состояние требовалось лишь прогреть тело минимум до плюс десяти градусов по Цельсию. Да еще – принять внутрь таблетку постанафина для ускорения вывода из организма продуктов разложения анафа. Все эти свойства антропоантифриза были как нельзя более кстати для гибернации не только в специальных глубоко охлажденных резервуарах, на длительное время, но и для краткого замораживания в походных условиях. Так что в первую очередь анаф-гибернация призвана была спасать зимних путешественников от голода, болезней, ранений, наконец, просто от замерзаний. Разумеется, подумывали уже и о космосе, о межзвездных полетах. Заинтересовались изобретением Станского хирурги: как универсальный наркоз и одновременно кровоостанавливающее средство, для них он должен был стать просто манной небесной. И это только то, что лежало на поверхности, а дальше открывались ну прямо сверкающие перспективы.
Уже проводились опыты на людях и по глубокой, и по субнулевой гибернации (в безвредности анафа Станский убедился сначала на собственной шкуре); уже существовали и различные конструкции криокамер, и различные проекты применения анаф-гибернации, и самые разные взгляды на моральные, социальные, политические аспекты проблемы замораживания человека. Но мир, по сути, еще только готовился к надвигающемуся гибернационному буму. Открытие Станского еще только начинало овладевать умами людей. Однако принято оно было с таким энтузиазмом, будто каждый отчаянно стремился, если не сегодня, то хотя бы завтра, залезть в холодильник и отсидеться там до лучших времен.
Мир, вознамерившийся стать одной огромной морозилкой, ждал ответов на свои вопросы, и один из этих ответов должна была дать экспедиция Чернова, первая экспедиция гибернатиков-субнулевиков.
Перед четверкой испытателей стояла очень трудная задача. Высаженные из вертолета на дрейфующие льды примерно в четырехстах километрах от Северного полюса, они должны были выйти к нему, разбить там лагерь, вколоть себе анаф и, установив радиостанцию на автоматику, ожидать вертолета с большой земли. Предполагалось оставить их в состоянии анабиоза лишь на сутки, но, на случай непредвиденных обстоятельств (подвижка льдов, белые медведи и прочее), каждый путешественник должен был поместить свое тело в решетчатый, складной и чрезвычайно прочный контейнер из специального ярко-розового пластика. Контейнеры все четверо единодушно и сразу окрестили гробами, и это мрачноватое название приклеилось к ним намертво. Наверное, настоящие полярники не стали бы так шутить – у людей, чья работа сопряжена со смертельным риском, не принято говорить о смерти, – но среди отчаянных гибернатиков не было ни одного полярника.
Таков был замысел Станского: испытать анаф в ситуации, максимально приближенной к несчастному случаю. И здесь нужны были именно непрофессионалы. Что и говорить, замысел выглядел более чем смелым, почти безумным, и если на экспресс-подготовку группы ушел год, то едва ли не вдвое больше понадобилось Станскому на то, чтобы, даже при активной поддержке покровительствовавшего ему академика с мировым именем, пробить именно такую экспедицию. Эдик везде и всюду, начиная со своих друзей и кончая самыми высшими кругами, упорно твердил, что сумасшедший бросок на полюс с исчезающе малой вероятностью успеха и почти обязательной аварийной ситуацией, из которой испытателей гарантированно вызволит анаф-гибернация, необходим, абсолютно необходим для науки.
Но Брусилов всегда догадывался, что истинной причиной настойчивости Станского было его честолюбивое стремление самому, непременно самому испробовать в действии, в жизни, в реальных критических обстоятельствах собственное – он был уверен в этом – гениальное изобретение. А еще могло быть и так, думал Брусилов: от предчувствия всеобщего гибернационного бума в Эдике заговорила совесть ученого, «синдром Оппенгеймера», и, чтобы забыться, потянуло на острые ощущения, потянуло на белый кошмар безнадежного путешествия во льдах. И Станскому разрешили пойти научным руководителем группы, в состав которой вошли Андрей Чернов – командир, мастер спорта по лыжным гонкам, Любомир Цанев – врач, кандидат в мастера спорта по плаванию и Евгений Вознесенко – радист, кандидат в мастера по боксу. Сам Станский в прошлом был неплохим бегуном и в период подготовки к экспедиции сумел выполнить второй разряд на средних дистанциях – это в его-то годы! Словом, никто из них не мог пожаловаться ни на выносливость, ни на закалку. Что, впрочем, не исключало риска. Риск был огромен. Они старались скрывать это, но сами хорошо понимали всю меру опасности. Они шли на риск сознательно. И когда в компании близких друзей бывали откровенны, оказывалось, что Эдик просто не думает об опасностях, а думает лишь о науке и о своих успехах в ней; оказывалось, что Цанев, обрусевший болгарин, родившийся в Москве и не знавший ни слова по-болгарски, идет не только на риск, но и ради риска, видя в нем, в риске, единственный смысл своей дурацкой жизни («Такой врач, как я, не нужен настоящей медицине, а такая медицина, как у нас, не может воспитать настоящего врача», – бывало, повторял он); оказывалось, что Женьке просто-напросто надоело все на свете, и, наконец, оказывалось, что Чернов, по прозвищу Рюша Черный, готов из одного лишь спортивного интереса – а это для него был интерес высший – идти не то что на полюс, а куда угодно: хоть на Эверест, хоть под пули афганских душманов, хоть к черту в пекло – главное, испытать себя.
Они уходили через день. Улетали из Домодедова в Мурманск. А оттуда – в базовый лагерь. И после месячных полевых испытаний – в точку начала маршрута. А оттуда – в неизвестность.
Вот какой это был вечер.
Вот кого провожала безбожно загулявшая пьяная братия. Провожала с болью и с горечью, потому что уж очень жутким представлялось все это: бесконечный полярный день, снега, торосы, ледяная серая вода в разломах, ядовито-желтый анаф в специальных сосудах и розовые «гробы» и, наконец, целое человечество, забравшееся в холодильник в ожидании светлого будущего, которое построит для него добрый дядя.
Брусилов вышел из гостиной и через коридор и кухню прошел на балкон. На балконе было прохладно и сыро. Хорошо было на балконе. Но вдруг захотелось курить. Брусилов курил редко, все больше спьяну, но иногда возникало очень сильное желание. Он не знал, была ли это действительно потребность в никотине или просто полудетское стремление подымить, но преодолевать себя не хотелось. Хорошие сигареты могли лежать в пиджаке у Валерки. Пиджак был в спальне на стуле. Валерка тоже оказался в спальне.
– Свет погаси, урод, – сказал он, когда Брусилов открыл дверь и привычно, не глядя, шмякнув по выключателю, зажег люстру.
Валерка лежал на кровати с Зиночкой.
– Тьфу ты, мать вашу, – сказал Брусилов, гася люстру, – вы бы хоть простыней накрылись.
– Переживешь, не маленький, – проворчал Валерка.
– Жарко, – пожаловалась Зиночка.
Брусилов хмыкнул:
– А ты думала, тебе холодно будет?
В дверь просунулась пьяная морда Любомира и спросила:
– Есть тут кто?
Никто не ответил. Тогда морда дополнилась рукой – и снова вспыхнул свет.
– Да чтоб вы все сдохли! – заорал Валерка. – Нельзя уже…
– Спокуха, – оборвал его Любомир. – Все приглашаются в гостиную. Светка будет танцевать.
– Ох уж этот мне стриптиз доморощенный! – со вздохом сказал Брусилов.
– Без никаких стриптизов, – возразил Любомир. – Просто танец.
– Знаем мы эти танцы! Надралась опять до белых чертиков, – мрачно заключил Валерка.
– Валерик, ты не прав, – сказала Зиночка. – Светлана всегда очень красиво танцует.
– Да вы одевайтесь, свиньи, – разозлился Любомир, – тоже мне ценители искусства, критики без штанов!
Брусилов забыл про сигареты и вместе со всеми вернулся в гостиную. Зрители в ожидании номера пили шампанское. Много проливали на пол. Артур в углу целовал Анюту. Анюта была почти не пьяной и смущенно косилась на Брусилова, на Светку, на Вадика. Все так, когда только еще знакомились с компанией Рюши Черного, в первый вечер бывали трезвыми и рассеянно-молчаливыми, пришибленными какими-то. Но привыкали быстро.
Анюту привел Артур, как раньше он же привел Зиночку и как еще раньше привел Светку. За Светку вся компания была ему благодарна по гроб жизни. Во-первых, Светка была чертовски красива. Во-вторых, Светка была в прошлом фигуристка и актриса ледового шоу. В-третьих… Впрочем, об этом не скажешь в двух словах.
Светке было только двадцать четыре, но все у нее уже было в прошлом. Ей не повезло в спорте и не повезло в искусстве. И в любви ей тоже не повезло. Поэтому она не верила в любовь. Светка работала в какой-то конторе, а по вечерам медленно губила хмельными пирушками свое подорванное спортом здоровье. Все, что у нее оставалось теперь, – это ее красота, ее прекрасное, натренированное, многоопытное во всех отношениях тело. Светка была убежденной сторонницей свободной любви и столь же убежденной противницей детей. Она даже подводила под это идейную базу: дескать, таким, как она, детей рожать просто безнравственно. И звучало это весьма правдоподобно. Но Брусилов знал, что дело совсем в другом. Идейная база возникла после, а вначале была болезнь, после которой медики вынесли приговор: бесплодие. И было это еще шесть лет назад. Но неудачи и беды не озлобили Светку, скорее, она стала равнодушной ко всему, а пьяная делалась веселой, жизнерадостной, ласковой, нежной и рвалась раздать себя всем и каждому в отдельности.
Брусилов знал Светку уже почти три года, и щедрая порция ее любви и нежности выпала в свой черед и на его долю. А потом, когда настала очередь следующего, они сделались просто хорошими друзьями. В этом было еще одно удивительное свойство Светкиной натуры: ее никто ни к кому не ревновал, из-за нее не только серьезных ссор, но даже пьяных драк не выходило. А у Брусилова тем более не было оснований обижаться на Светку, потому что трудно было сказать, кто из них кого бросил. Ведь в то же самое время, когда всеобщая любимица переметнулась к Валерке, у Брусилова начался неожиданный, как снег в июне, неправдоподобный, как всякая первая настоящая любовь, бурный, шальной, стремительный роман с Ленкой по прозвищу Малышка с параллельного потока (прозвище он придумал ей сам, пока не знал имени), завершившийся в один невозможный месяц счастливой женитьбой.
И, быть может, самое невероятное в этой истории было то, что, женившись, Брусилов оставался постоянным гостем традиционных Рюшиных оргий, только теперь он приходил вместе с женой, и, хотя Ленка вовсе не пошла по рукам, а Брусилов не кидался на всех девиц подряд, как случалось раньше, им обоим всегда нравилось у Черного, и компания любила эту веселую супружескую пару, единственную в своем роде, но отлично вписавшуюся в общую картину Рюшиного вертепа. И более того, Ленка, зная все про отношения Светки с Брусиловым, ухитрилась стать едва ли не лучшей ее подругой.
А в тот прощальный вечер Ленки не было. Ленка уехала в Чехословакию со стройотрядом. И, уезжая, чувствовала себя неловко: ребята на полюс уходят, а она не может попрощаться прийти. Но что поделать, если уж так все совпало?
В другой раз Брусилову было бы совестно пускаться в такой загул без жены – не привык он к этому, – но сейчас, когда она впервые в жизни оказалась за кордоном и смотрела своими огромными глазищами на красоты древней Праги, в душе Брусилова смешивались радость, гордость за свою Малышку и элементарная, постыдная, но, в сущности, очень понятная зависть. Сам он за границей ни разу не был, и казалось, что отчаянная пьяная удаль этой вечеринки хоть в какой-то мере компенсирует ему невозможность быть сейчас там, рядом с Ленкой, в недоступной чужой стране. И он почти не чувствовал неловкости, и уж совсем не собирался сдерживать себя ни в чем.
И только смутное ощущение тревоги мешало, мешало, как внезапно натягивающийся поводок, отдаться веселью и праздности до конца.
Брусилов смотрел на Светку и завидовал ее умению ни о чем не думать. А Светка сидела в кресле, еще расслабленная, но уже готовая вскочить в любую минуту и окунуться в горячую стихию танца. Глаза у нее были шалые, на щеках румянец, купальный халат не одет, а накинут на плечи, а кроме него на Светке были только золотые трусики, застегнутые кнопками на бедрах, да широкая, тоже золотая, шелковая лента, завязанная бантом поперек груди. Ясно было, что лента непременно упадет, даже если Светка не станет прилагать к тому специальных усилий. С трусиками тоже расстаться было несложно.
– А Любомир обещал просто танец, – с улыбкой шепнул Брусилов Черному.
Легкий на помине Любомир ввалился в гостиную, зацепив ковер и растянувшись у дверей. Его полили шампанским.
– Можно начинать! – крикнул появившийся Валерка, на ходу застегивая брюки. – Маэстро, музыку!
Артур оторвался от Анюты, подошел к вертаку и опустил на диск серебряный шар с иголкой. Светка взлетела на стол. Середина его была уже предусмотрительно освобождена от посуды, и прекрасные тренированные ножки замелькали среди бутылок в продуманной, точной последовательности движений.
Брусилов вдруг почувствовал, что ему совсем неинтересно смотреть на все это, что он совсем не ждет, когда же соскользнет лента со Светкиных грудей. Не такой это был вечер. Он вышел из гостиной и снова отправился на балкон.
По дороге вдруг захотелось подставить лоб под холодный кран, но ванная была заперта. Она уже около часа была заперта. Должно быть, это Женька пошел блевать, да так и задрых где-нибудь на полу под раковиной. Женька был большой любитель заснуть с перепою в самом неподходящем месте. Брусилов помнил, как однажды они ехали в Ереван дальним поездом и Женька, надравшись, отключился в вагонном сортире. Дело было ночью. Пришлось растолкать проводника, грузного пожилого армянина, тоже не очень трезвого, и брать у него ключ от клозета.
Из гостиной послышалось дружное, перекрывшее музыку сладострастное «Ах!»
«Лента упала, – равнодушно подумал Брусилов. – А может, и все сразу».
Дверь на балкон была открыта, и за ней открывалась чернота ночи. Чернота была абсолютной. Как ничто. Дверь из залитой светом кухни в эту тьму представилась дверью в никуда, в другой мир, в пятое измерение. И Брусилова охватил настоящий мистический ужас. Он машинально налил себе рюмку коньяку (коньяк стоял на кухонном столе), выпил и лишь тогда шагнул на балкон. На балконе было все так же прохладно и сыро. Внизу в бледном свете фонарей блестели мокрые листья на тополях, вдали стали различимы слабые огоньки, а небо было угрюмо серым, синевато-серым, тяжелым, темным, но не черным, как пустота межзвездного пространства. И все-таки образ этой жуткой черноты все стоял и стоял перед глазами Брусилова. Ему казалось почему-то, что завтра ребята уйдут именно в такую черноту, в черноту, из которой не возвращаются.
«Вот дьявол, – подумал он. – И что это мне лезут в голову такие мысли?»
На балкон вышел Черный.
– Ты чего, Витька?
– Ничего. Дышу.
– Правильно, – сказал Рюша, – здесь лучше.
Из гостиной слышался визг.
– Светка все танцует? – поинтересовался Брусилов.
– Нет, уже закончила. Теперь ее Артур шампанским поливает.
– Зачем? Она же липкая будет.
– А может, Эдику нравятся липкие женщины, пахнущие шампанским.
– Она сегодня с Эдиком? – удивился Брусилов.
И тут они увидели с балкона, как в коридор высыпала целая ватага. Светка была голая, ее вели под душ. Похоже было, что Эдик не любит липких женщин, пахнущих шампанским.
Чтобы прорваться к душу, пришлось сломать щеколду и растолкать уснувшего на краешке ванны Женьку. Женька отлепил щеку от умывальника и, постепенно соображая, где он и что с ним, побрел, качаясь, по коридору. Женьке было скверно. Он вышел на балкон и, ежась от холода, присел на перевернутую мокрую корзину. Брусилов и Черный молча смотрели на него. Потом Черный протянул Женьке сигарету, и Женька, сломав две спички, от третьей закурил.
– Какой паскудный мир! – объявил он.
И повторил проникновенно:
– Не изгиляйся над поэзией, сволочь, – сказал Брусилов.
– Но мир, действительно, очень грязная штука, – настаивал Женька. – Грязная и лживая. Вот мы гуляем, пьем, обжираемся… (тут он сорвался на матюги), а когда подохнем… – он внезапно сделал паузу, поднялся, держась за край балкона, и стал вещать все громче и громче. – А когда подохнем, они станут говорить, что это были лучшие люди человечества, славные сыны своей эпохи. Они же памятник нам поставят! А за что? За то, что со скуки и перепоя мы ушли подыхать к черту на рога? За это?!
– Что ты мелешь?! – взорвался Черный. – Мы же вернемся. Понимаешь, ты, скотина, мы для того и идем, чтобы вернуться! Мы не можем не вернуться!
– Да нет, мы подохнем, – устало и как-то слишком равнодушно сказал Женька и снова сел на корзину.
Брусилову стало страшно.
«Что это? – подумал он. – Совпадение? Или мы так давно знаем друг друга, что научились читать мысли?»
Большая холодная капля упала ему на нос. Он встряхнулся и сказал:
– Черный, где у тебя кофе? Я заварю.
А пока Брусилов возился с двумя большими кофейниками на плите, круглая жестянка из-под индийского чая, в которой у Черного хранился кофе, стояла на столе, на самом краю стола, и крышку Брусилов закрыл неплотно. Поэтому, когда в кухне появился Валерка, беспорядочно махавший руками, – то ли, чтобы удержать равновесие, то ли от избытка чувств, – банка как-то сама собой сверзилась на пол, точнее, никто не успел заметить, как это произошло. А Валерка, нисколько не смутившись, сел на пол среди рассыпанного кофе, взял пальцами щепотку и, швырнув ее в рот, принялся молча вдумчиво жевать. Черный сидел на столе и смотрел на Валерку очень внимательно. Женька, скрючившись у балконного порожка, окидывал всех и все рассеянным и грустным взором. А Брусилов только оглянулся раз, коротко выругался и снова углубился в процесс заваривания.
– Мне необходимо протрезветь! – заявил Валерка и сплюнул на пол кофейную гущу. – Как там у Хэма: Фредерик Генри жевал кофейные зерна, чтобы прочухаться перед встречей с Кэтрин.
– Эрнест Хемингуэй в переводе Валерия Гридина, – прокомментировал Женька.
– А Виктор Банев у Стругацких, – не оборачиваясь, сказал Брусилов, – чтобы протрезветь, жевал чай. Хочешь чаю, Валерка?
– Хочу.
– Чаю не дам, – мрачно откликнулся Черный.
В наступившей тишине запели кофейники. Сначала один и сразу за ним второй. Валерка взял еще щепотку кофе, пожевал и снова плюнул на пол.
– Изобилие, – изрек Черный, – делает человека свиньей.
– Это ты про кофе? – спросил Брусилов.
– Скорее, про водку. Человек не знает, сколько ему надо водки. И вообще не знает, чего и сколько ему надо. Поэтому изобилие делает человека свиньей.
– Человека нельзя сделать свиньей, – возразил Женька. – Человек – свинья по определению.
– Изыди отсюда, Евтушенский, – заворчал в ответ Валерка, – изыди, стихотворец хренов.
Это была ошибка. Женьке нельзя было напоминать, что он Евтушенский и, стало быть, стихотворец. Он тут же начинал читать свои вирши, особенно, если был пьян. А «Евтушенский» – это была Женькина кличка и одновременно поэтический псевдоним, который он сам себе придумал. Да и трудно было придумать иначе. Его настоящая фамилия была Вознесенко. Немыслимая фамилия, ошибка паспортистки, допущенная где-то в маленьком украинском городке на заре советской власти при выдаче документа Женькиному дедушке, разумеется, Вознесенскому. Получился Евгений Вознесенко. И внука назвали так же. Ну как еще он мог подписывать теперь свои стихи? Конечно, «Андрей Евтушенский».
Женька поднялся, откинул со лба мокрую прядь волос и зловеще продекламировал:
– Чучело ты ходячее, – отозвался Черный.
– Чучело… – задумчиво произнес Женька. – Чу-че-ло. Чучело отлично рифмуется с фамилией поэта Тютчева:
– Абракадабра, – буркнул Валерка.
Женька его не слышал. Женька увлекся.
– Богатое слово – чучело, – говорил он.
«Ну вот, – подумал Брусилов, – теперь на всю ночь вариации на тему „Чучело“… Человек – свинья… Ну, Женька-то треплется, конечно. Как всегда. А Черный? Этот говорил серьезно. Изобилие делает человека свиньей… Да нет, неправда. Не прав он. А где доказательства? Доказательств нету. На Западе основная проблема сегодня – проблема бездуховности. Ведь это ж факт? Факт. Потому что они зажрались. А у нас? В общем, тоже не особо богатая духовная жизнь. Но у нас еще слишком многого не хватает. Из жратвы. Так что о духовности думать некогда. Не до грибов. А вообще-то, мы больше всех в мире думаем и больше всех читаем. Неужели лишь потому, что жрать нечего? А потом, когда всего будет в достатке? Медленное превращение в свиней? Да нет, чепуха это. Че-пу-ха. Знаю, что чепуха, а объяснить не могу. Почему же я так уверен, что Черный не прав?»
Кофейник вдруг яростно сплюнул на плиту, и Брусилов выключил обе конфорки сразу.
В кухню вошла Катя с подносом. Катя была в джинсах и в шлепанцах. Больше на Кате ничего не было. А на подносе были стаканчики с янтарно-желтой жидкостью, облепленные по кромке сахаром, и на каждом красовался ломтик апельсина. Соломинки торчали из коктейлей, пронзая апельсиновые ломтики.
– «Вана Таллинн» с шампанским! – объявила Катя.
– Мерси бьен, – сказал Брусилов, принимая стакан.
– Миль грасиас, – поднялся с пола Валерка.
– Обригадо, – все тем же мрачноватым голосом произнес Черный, протягивая руку.
– А это по-какомски? – удивилась Катя.
– Португалиш, – ответил Черный на языке, явно не португальском.
Женька прервал свое поэтическое словоблудие и тоже взял стаканчик. Несколько секунд он напряженно вспоминал слово «спасибо» на каком-нибудь экзотическом языке, но, так ничего и не вспомнив, поблагодарил на простом английском:
– Сэнк ю вери мач.
А потом не удержался и добавил:
Он поставил свой стаканчик на стол и положил ладони на Катины плечи.
– Катюха, – сказал он, – есть предложение. Или совет. Как хочешь. Ты ходи раздетой до пояса, но с другой стороны.
– С другой стороны – это как? – не поняла Катя.
Потом до нее дошло. Она прыснула и чуть не уронила поднос.
– Интересная мысль, – изрек Вадик, тоже забредший в кухню в этот момент.
– Мысль интересная, – глухо отозвался Черный.
– Мужики, – сказал Вадик, – нужна кастрюля.
– Бери, – Черный указал на полку, и Вадик, забрав кастрюлю, ушел.
Катя села за стол и стала тянуть коктейль из последнего оставшегося стакана. Ее уговаривали сменить наряд по Женькиной рекомендации. Катя не возражала. «Вот только коктейль допью», – говорила она.
Брусилов вдруг заметил, что под столом валяется апельсин, и Катя машинально катает его ногой, как мячик, и ему стало жалко апельсин, словно тот был живой.
Женька возобновил поэтические упражнения. Он читал:
Глядя вдоль по коридору, Брусилов заметил, что Светка скрылась в спальне вместе с Эдиком, а Артур ушел в кабинет, неся на руках Анюту. Вечеринка катилась к финишу.
Вошел Вадик с кастрюлей.
– Мужики! Водки кому?
Оказалось, он слил всю оставшуюся водку из бутылок и рюмок в одну кастрюлю.
– Чтобы не пропала, – пояснил Вадик.
Женька никогда еще не видел водку в кастрюлях и, не доверяя Вадику, решил понюхать. Нюхал он зря. Запах спирта ударил в голову, потом докатился тяжелой волной до живота и вернулся наверх омерзительной дрожью. Заметив у себя в руке стакан с коктейлем, Женька содрогнулся еще раз и выплеснул содержимое в Вадикову кастрюлю.
– Свинья, – сказал Вадик. – Так что? Никто не будет? – он был разочарован. – Тогда есть интересная мысль, мужики: сварить в водке картошку.
– Мысль интересная, – процедил Черный сквозь зубы.
Женька декламировал:
Черному надоели стихи, и он начал тихонько рычать от злости. Вадик чистил в раковине картошку. Женька декламировал:
– Евтушенский, ты зациклился. Бросай эту тему, – сказал Валерка, сметая веником на совок остатки кофе. Банка уже была водворена на место.
Брусилов взглянул на кофе и объявил:
– Господа, кофий стынет. Прикажете подать чашки?
Подали чашки. Все кто не разошелся по кроватям, вновь собрались за столом. Исключение составляла Машуня, уснувшая на диванчике в гостиной, и Любомир, которого не удалось вытащить из-под стола. Этот не спал – этот отбрыкивался и требовал подать ему кофе под стол.
А кофе пили с ликером, коего оказалось необычайно много. После составления коктейлей осталось целых два пузыря «Старого Таллинна», а Вадикова Лариска притащила еще бутылку «Арктики». Поэтому некоторые пили не кофе с ликером, а ликер с кофе. Другие предпочитали разбавлять крепкий напиток апельсиновым соком. Зиночка, например, успевшая сильно набраться и вдруг решившая, что с нее хватит, вообще пила один сок да еще напихала себе полный стакан ледяных кубиков.
Женька взял гитару и затянул жутко тоскливую песню собственного сочинения о бессмертном пророке, который живет с людьми все века и все века открывает им истину, а люди не верят ему, гонят его, а он приходит вновь к каждому новому поколению, а по ночам мечтает умереть, но не умирает, даже когда его расстреливают или сжигают на костре, ведь он бессмертный. Брусилов знал, что концовка у этой песни фарсовая. Пророк там говорит такие слова:
Но до конца Женька в этот раз не добрался, и на Брусилова это произвело прямо-таки давящее впечатление. А Лариска, большая поклонница Женькиного таланта, прильнула щекой к его плечу, и, когда она прикладывалась к чашке, кофе капал Женьке на пиджак. Пиджак у Женьки был белый.
– Брусника, а Брусника, – обратился вдруг к Брусилову Вадик, – слабо выпить стакан неразбавленного ликера одним залпом?
– Мне? Слабо?! Да Господи, хоть ведро!
Брусилов разошелся. Ему теперь было хорошо и казалось, что пить он может бесконечно.
– Ведро не надо. Стакан.
– Наливай! – с купеческой лихостью крикнул Брусилов.
– Ой, смотри, Витька, слипнется, – предостерег Черный.
Женька отложил гитару.
– Не надо, Витек, – сказал он, – не надо, ты пьян.
– Женька, друг, – повернулся к нему Брусилов, – ты меня уважаешь?
Женька промолчал, пытаясь понять, шутит Брусилов или это уже алкогольный бред. А тот продолжал:
– Это замечательный ликер, Женька! Ты только понюхай.
Женька встал и понюхал. Может быть, ликер и был хорош, но от него разило спиртом. И больше ничем. Давеча, когда Женьку передернуло от испарений из Вадиковой кастрюли, желудок его был идеально пуст, теперь же там обреталась чашка кофе. От запаха спирта чашка кофе встрепенулась и, как кабина скоростного лифта, взлетела по Женькиному пищеводу. Женька рванулся к двери. В коридоре раздался плеск.
– Не донес, – угрюмо констатировал Черный.
– Дурак, – сказал Брусилов. – Пить надо меньше. Только не мне, – добавил он и влил в себя стакан ликера. Быстро и беззвучно.
Все, что было потом, Брусилов помнил кусками. Помнил он, например, как в комнате появилась Катя, одетая в соответствии с Женькиным советом. Была на ней джинсовая куртка, застегнутая на все пуговицы, или батник, а может быть, вовсе водолазка. В руках она держала поднос с бананами или ананасами, а может быть, вовсе с какими-то омарами. И над самым ухом кто-то орал: «Браво, Катрин!»
Помнил Брусилов, как из-под стола вынули Любомира, как уложили его поверх неубранной посуды и что-то под Любомиром хрустело.
Очень смутно, но все же вспоминалась вареная картошка, тошнотворно пахнущая водкой. И почему-то – сиротливо лежащий на полу апельсин. Брусилов все порывался поднять его, но, кажется, ему так и не дали этого сделать. Еще Брусилов помнил таксиста, который все нудил: «Да не возьму я его, он мне машину заблюет». И Брусилов еще подумал тогда: «А что, ведь и в самом деле заблюю». Но с этим как будто обошлось.
Всплывала в памяти лесенка возле самого дома, где Брусилов падал раза три, когда друзья решили попробовать, может ли он идти сам.
Больше Брусилов ничего не помнил.
В комнате стоял желтоватый сумрак. Во рту было гнусно. Хотелось пить. И совсем нельзя было понять, который час. Друзей в комнате не было. Видимо, не было их и в квартире. Стояла тишина. Даже часы не тикали. В настенных села батарейка, а наручные оказались разбиты. Брусилов дотянулся до телефона, всунул в диск дрожащий палец и набрал «сто». «Двенадцать часов двадцать четыре минуты», – с нездоровой злобой произнес женский голос. Брусилов присвистнул и сел в постели.
«Самолет, – вспыхнула мысль. – Однако во сколько он, самолет-то? Ага, вспомнил: в час.» И еще вспомнил: «Не сегодня, а завтра. Слава Богу».
Он снова откинулся на спину. Однако лежать было нисколько не лучше, чем сидеть. Явилась дежурная мысль: «Завязывать надо с этими пьянками». Брусилов тут же одернул себя: «Только не об этом! Ведь есть же первая заповедь всех пьяниц – не зарекайся пить с похмелья. Женька даже стихотворение написал на эту тему. Как там у него?
И была еще одна строфа, но Брусилов ее забыл. А вспоминать не хотелось. Не утешали Женькины строчки. Утешиться можно, когда огорчен чем-то конкретным. Когда же огорчен всем белым светом, обижен на все мироздание в целом, это уже не огорчение и не обида, это – вселенская скорбь и ненависть. Ненависть и омерзение.
Мир казался Брусилову большой грязной, зловонной помойкой. В таком мире не на чем было остановить взгляд, в таком мире ничего не хотелось. Но Брусилов тем не менее попытался придумать желание. Желание получилось весьма оригинальным: пусть пропадет всё пропадом, начиная с меня.
– Боже! – возопил он, сбрасывая одеяло и опуская на пол ноги. – За что такие муки, Боже?!
Потом достал из холодильника банку с водой, предусмотрительно поставленную туда накануне. Первый глоток сделал с наслаждением, второй – со смешанным чувством, а третий был уже отвратителен: вода отдавала водкой. Отрады не было ни в чем. Словно незримый скальпель коварного хирурга ампутировал Брусилову орган радости.
«Черный, – подумал Брусилов, – надо позвонить Черному».
Трубку взяла Катя. Было слышно, как они там возятся. Черный ворчал спросонья. Потом он, наверное, полез через Катю к телефону, хотя можно было, растянув шнур, просто взять трубку. Катя вскрикнула, должно быть, он ей там что-то отдавил, и, наконец, раздался голос Черного:
– Командир полярной экспедиции слушает.
– Доброе утро, пьянь беспробудная. Ну как готовность?
– Готовность номер один.
– Отлично. А как последствия?
– Лучше, чем я думал. Грязновато, конечно, но мебель и окна целы. И даже посуда. Раздавили только два фужера и одно блюдце с чашкой. Мы с Катрин обязуемся все убрать нынче же вечером.
– Рюша, – Брусилов, наконец, решился задать вопрос, который давно его мучил. – Только честно. Тебе не страшно?
Черный молчал. И молчал довольно долго.
– Уходить? – спросил он, наконец.
– Нет, вообще.
– Вообще – страшно. За людей страшно. За то, что мы собираемся с ними сделать, за то, что Эдик уже сделал. Понимаешь, Эдик – отличный парень, но иногда мне кажется, что он советский вариант mad scientist[1].
– А Женька?
– Что Женька?
– Почему он талдычит всё время, что вы не вернетесь?
– Потому что он дурак, – сказал Черный. – Потому что он романтик, поэт и неврастеник. Из тех, что любят красиво умереть. Но он прекрасный радист, отличный спортсмен и настоящий друг.
– Да, – сказал Брусилов, – наверное, ты прав. Извини. Голова тяжелая. Так, значит, завтра в десять на аэровокзале?
– Завтра в десять на аэровокзале.
Брусилов лежал, смотрел в потолок и думал. О Черном, о Женьке, о Цаневе и о Станском. И было у него такое ощущение, будто это не они уходят на полюс, а он уходит куда-то. Уходит далеко, навсегда, насовсем. А они остаются.
Странное это было ощущение.
Часть первая
Отель на Эвересте
…В эту минуту я походил на покорителя Эвереста, который после неслыханно трудного подъема оказался наверху и вдруг увидел отель, переполненный отдыхающими, потому что пока он карабкался на вершину в одиночку, с противоположной стороны горы проложили железнодорожную ветку и организовали городок аттракционов.
Ст. Лем. Возвращение со звезд
1
А снег продолжал падать.
– Все, – сказал Женька, – дальше я не пойду.
– Брось придуряться, старик, – добродушно откликнулся Цанев.
– Не до шаток сейчас, – процедил Станский, не шевеля потрескавшимися губами, из-за чего буква «у» звучала как «а».
А Черный коротко прохрипел, как припечатал:
– Сволочь.
Они двигались вдоль полыньи, и до поры такое направление устраивало их, но теперь граница открытой воды все заметнее забирала к востоку, и Черный начал подумывать о переправе, то и дело пробуя палкой толщину молодого льда. Однако из-за снегопада сильно потеплело, и лед был никудышный, тоньше оконного стекла, а на середине его и вовсе не было.
Женька шел первым, и, когда он бросил палки, остановиться пришлось всем. Они стояли теперь, сгрудившись, наступая друг другу на лыжи, слегка покачиваясь, тяжело дыша, и были похожи на компанию перепивших ханыг у пивного ларька, выясняющих, кто кого уважает.
– Я вам морду набью, товарищ радист Вознесенко, – говорил Черный.
А Женька бубнил страшным бесцветным голосом, как заведенный:
– Я не пойду дальше. Дальше я не пойду. Не пойду я дальше.
…В каком-то глубоко запрятанном уголке Женькиного сознания еще тлел огонек совести и долга. Но накативший из белой бесконечности холодный снежный ужас заливал все: логику, стыд, память, самолюбие. Невыносимо болела ушибленная и потому обмороженная нога. И спасение было только в одном – в тепле. А тепла поблизости не было. И быть не могло. Так зачем же идти вперед, думал Женька, в мороз и метель? Надо найти тепло внутри себя. Остановиться (главное – остановиться) и начать искать. В каждом из нас есть тепло, думал Женька, надо только уметь найти его. И тогда можно умереть. Тогда уже будет неважно. Главное – чтобы было тепло. А уж после смерти будет тепло непременно.
Он вспоминал, как не любил всегда наступление декабрьской стужи, как зима одним ударом твердого морозного кулака отправляла его в нокдаун и как тяжело было подниматься каждый раз. Будильник звенел, а он не находил в себе сил выбраться из-под одеяла. В комнате стоял почти мороз. Он специально открывал форточку настежь – приучал себя к холодам. Но Амундсен оказался прав: холод – это то единственное, к чему человек не способен привыкнуть. Женька как был ужасный мерзляк, так и остался им, хотя готовился, тренировался, закалял себя, учился преодолевать дрожь, осваивал аутотреннинг. И он многому успел научиться. Но он не знал, что это будет так тяжело. А тут еще нога. (Чтоб ей совсем отвалиться, ненависть какая!). потом он вспомнил горячий крупный песок керченского пляжа и теплое соленое, как суп, море с прозрачными клецками медуз. Вот тогда он остановился, бросил палки и сказал:
– Все. Дальше я не пойду…
– Сволочь, – хрипел Черный, – ты пойдешь, сволочь.
И это было, как в кино. Вот только что же это за фильм, мучился Женька, и ведь хороший какой-то фильм…
– Успокоительного? – деловито спросил Любомир, сняв рюкзак, полез за лекарством.
– Ща как двину раз по зубам, мигом успокоится, ублюдок хренов, все сильнее закипал Черный.
– Попробуй, – сказал Женька, вмиг оживившись.
Черный взмахнул рукой и нанес сокрушительный удар. Удар пришелся в воздух. И, если б не заботливые руки Станского, командир упал бы, сломав как минимум крепление.
– Тихо, ажики, – сказал Станский, не двигая ртом. – Рекратите. Хиниш. Ознесенко не дойдет. Надо колоться здесь.
– Что?! – переспросил Черный.
А Цанев деловито осведомился:
– Анаф?
– Анах, – ответил Станский.
– Нет! Только не это! – вдруг почти завизжал Женька. – Идиоты! Радио не работает третий день. Никто же не знает, где мы. Пурга, уроды! Нас заметет. Нас никогда не найдут.
– Найдут, – сказал Черный.
– Лет через двести, – пошутил Любомир.
– Именно, – подтвердил Женька на полном серьезе. – А я не хочу. Лучше сдохнуть здесь в снегу, чем оказаться в мире, который будет через двести лет. Кретины! Вы же там будете не просто чужими – вы же там будете древнее мамонтов. Я не хочу с вами!
– Что ты несешь, придурок? – зарычал Черный.
– Непосредственно перед анафом нельзя колоть успокоительное, – деловито сообщил Цанев.
А Женька присел, стал расстегивать крепления на лыжах и заплакал. Он плакал и бормотал себе под нос:
– Не надо анаф. Анаф – это очень холодно. Только сначала тепло. Кажется, что тепло. Иллюзия. А на самом деле очень холодно. Мы замерзнем. Нас никто не найдет. Радиосвязи не будет. Никогда не будет. Нога болит. А умирать не страшно. Мы проснемся в будущем, а там холодно. Я не хочу в будущее. Я хочу в прошлое. В прошлом тепло. И умирать тепло. Не надо анаф. Не надо.
Любомир, делая вид, что не слышит Женькиного бормотания, достал из рюкзака пенопластовую обойму с двумя спецсосудами, снял крышку, блеснули круглые стальные головки, и снова надел ее.
– Все в порядке? – спросил Черный. – Значит, так. Быстро приготовились. Собрать «гробы», раздеться, упаковаться. Пять минут на все. Цанев, шприц! Вопросы есть?
Вопросов не было. Была по-боксерски быстрая Женькина рука, растерянный взгляд Любомира, его широко раскрытый в крике рот и мелькающие пятки обезумевшего радиста. Все трое рванулись за ним одновременно и все трое упали, цепляя друг друга лыжами. А Женька подбежал к краю полыньи и, размахнувшись как метатель диска, швырнул похищенную обойму вперед и вверх. Пенопластовая коробка, похожая на ровно обтесанный кусок слежавшегося снега, потрепыхавшись над серой водой, упала на лед по ту сторону, метрах в двух от кромки.
– Вот так! – радостно крикнул Женька. – И никаких анафов.
И тут, хрипя и ругаясь, подбежал Черный и обрушил сильнейший, на какой только был способен, апперкот, и Женька повис на его кулаке, как белье на веревке.
Цанев кричал:
– Ты сам поплывешь теперь за ними! Понял? Сам поплывешь!
А Женька всхлипывал и повторял одно только слово:
– Нет, нет, нет…
Станский молчал. Говорить ему было трудно, и он старался не произносить ничего сверх необходимого.
– Плыви, плыви, тебе говорят, – глухо и без выражения ворчал Цанев. – Плыви…
– Отстань от него, идиот, – вмешался Черный. – У нас лодка есть.
Но Цанев его не слышал. Цанев смотрел по ту сторону полыньи совершенно безумными глазами. Черный даже успел подумать, что вот и еще один член экспедиции помутился рассудком.
– Ползет, – прошептал Цанев.
– Кто ползет? – в голосе Черного зазвучал испуг.
– Лед ползет, – пояснил Цанев.
А лед действительно двигался. Разводье расширялось на глазах, и берега его смещались друг относительно друга.
– Видишь место?! – в панике закричал Черный. – Место видишь, куда упало?
Непонятно было, кого он спрашивал, и ответил Женька:
– Вижу.
– Следи, чтоб не потерять!
– Слежу, – вяло откликнулся Женька.
– Лодку? – спросил Цанев.
– Палатку, – непонятно, словно передразнивая ответил Черный. – Забрось туда палатку. Ее за километр видно. А эти – завалит, не найдем. Забрось, пока не поздно!
Цанев взглянул на Станского. Станский молча кивнул. Достали палатку.
– Дай мне, – сказал Женька.
– Метатель хренов, – процедил сквозь зубы Черный.
Женька пробежал бегом и, поравнявшись с нужной точкой (он уже и сам не видел коробку, просто запомнил расположение льдин), размахнулся и, что было сил, швырнул оранжевый сверток. Палатка легла на удивление удачно. Вряд ли между ней и сосудами с анафом могла пройти трещина. Снег, впрочем, продолжал падать, но Черный был прав: палатку быстро не занесет. И яркое апельсиновое пятно светилось теперь сквозь марево круговерти, как последняя надежда на спасение среди белой бесконечности верной гибели. Вместе с тем, благодаря палатке стало еще лучше видно, как быстро уходит противоположный берег. Все четверо смотрели на это неподвластное им движение, точно завороженные, и теряли драгоценные секунды.
– Лодку давай, – вспомнил Цанев.
Прозвучало это очень глупо. Лодка лежала в рюкзаке у Цанева. Черный обернулся и тупо поглядел на Любомира, потом проворчал:
– Я же говорил, идиотизм: два сосуда держать в одной обойме.
– Ну, знаешь, – не согласился Цанев, – кто же мог предусмотреть появление шизоида среди четырех абсолютно здоровых людей?
– Вот ты и должен был предусмотреть, эскулап хренов.
А Женька снова сидел на снегу и, сняв руковицу, смотрел, как снежинки падают на раскрытую ладонь.
– К черта лодка, – неожиданно и очень отчетливо произнес Станский.
– Есть третий сосад.
– Какой такой третий сасад? – не понял Цанев.
– Еще один псих, – прошептал Черный.
– Есть, – упрямо повторил Станский. – Я ео зял на сякий слачий.
Все помолчали, обдумывая новую информацию и печально провожая глазами уплывающую палатку. Было во всем этом что-то очень неправильное. Женька вдруг с удивительной ясностью почувствовал, что они губят себя. И захотелось остановить ребят, сделать все по-другому. Но он не знал, как. Приступ отчаяния прошел, боль в ноге затихала, холод сделался безразличен. И он не знал, что надо делать, только почему-то было очень жаль брошенной палатки.
– Палатку верните, – сказал Женька. – Нужна палатка.
Кажется, его даже не услышали. Во всяком случае, он был им теперь не интересен.
– Дураки, – сказал Женька, – нельзя третий сосуд.
Он еще не знал, почему, но чувствовал: нельзя.
Черный посмотрел на него как на идиота.
Станский достал анаф.
Потом они все четверо будут удивляться, как можно было поступить так глупо. Но тогда… Это было какое-то наваждение, какое-то массовое помешательство. Свинцовая гладь полыньи, тихие крупные снежинки, удаляющееся оранжевое пятно палатки и голубоватый блеск спецсосуда, о котором не знал никто, кроме Станского. Самое удивительное, что они еще и обсудили свои шансы, прежде чем уколоться и уснуть.
– Рацию на автомат и дрыхнем до прихода спасателей, – сказал Любомир.
– Цанев, – злобно буркнул Женька, – ты мне надоел. Какая рация?
Аккумуляторы сели.
– А без пеленга нас найдут? – как-то слишком легкомысленно для столь важного вопроса произнес Цанев.
– Естественно, – успокоил Черный, – нас же будут искать с вертолетов.
– А если занесет? – предположил Станский.
– Не занесет, – Черный говорил уверенно. – Во-первых, снег на исходе. Во-вторых, вертолеты будут здесь очень скоро. Сами подумайте, третий день без связи. И, наконец, мы же флажок поставим.
– Да, – согласился Цанев, – глупо думать, что не найдут.
Они уже скрепили лыжные палки и поставили флажок на растяжках, и собрали «гробы-контейнеры», и разделись, и аккуратно уложили вещи в герметичные пакеты, а пакеты в рюкзаки, и пристегнули все к «гробам», и, с усилием сдерживая дрожь, Станский свинтил и отжал последовательно три крышки на спецсосуде, наполнил анафом шприц, а Любомир протер спиртом руки всем четверым и, взяв шприц у Станского, по очереди, каждому, начиная с Женьки, ввел в два приема необходимую дозу препарата.
– С Богом, – сказал Цанев, защелкивая на себе контейнер.
– Тоже мне христианин, – усмехнулся Черный, – ни пуха!
– К черта! – откликнулся Станский, уже научившись выбирать слова, которые давались ему полегче.
Женька пошутил:
– Счастливо, братцы. До встречи в тридцатом веке!
Никто не ответил ему.
А Женьке было хорошо. Холод отпустил совсем. Нога болеть перестала. Анаф в крови давал блаженное ощущение растекающейся по всему телу теплоты, какое бывает, когда выпьешь с мороза стопку водки или легонько разотрешь все мышцы финалгоном. Теплота накатывала волнами убаюкивала, ласкала. Теплый, почти горячий туман таял, и прямо перед глазами прыгали сверкающие блики моря, подогретого солнцем, а вдоль берега лежали горячие серые камни и лохматые пальмы лениво шевелили большими теплыми листьями. Женька полулежал в шезлонге, а где-то у него за спиной рвался из динамика популярнейший шлягер шестидесятых – «Песенка о медведях» – его любимая. «Тоже мне, тридцатый век!» – думал Женька.
А потом началась чертовщина…
2
А потом началась чертовщина. Шипение, плеск, черное небо в звездах, огни сквозь туман, ржавая металлическая стена, розовые прутья «гроба», потоки воды, горячей и холодной вперемежку, скользкие льдины, крики, веревочная лестница, мелодия «Песенки о медведях» и надо всем этим – громкая английская брань. Судорожно дыша и отплевываясь, совершенно не понимая, где он и что происходит, и повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, Женька, беспомощный, в контейнере, как спеленутый младенец, вырывается, наконец, из него на свободу, некоторое время отчаянно и нелепо барахтается вместе с другими в странно теплой воде с ледышками и, наконец, поймав веревочную лестницу, лезет вверх. И когда все четверо оказываются чудного потрепанного суденышка и каждый из них начинает допускать мысль, что все это на самом деле, хотя сразу поверить в такое трудно, – выясняется, что рюкзаки спасены все, а вот «гробы» и лыжи брошены на произвол судьбы. Женька вспоминает, что вместе с его «гробом» тонет один из карабинов (это обидно), но думать об этом уже некогда. Четырех голых путешественников приветствует на палубе немолодой очень добродушный, очень обросший и всклокоченный, очень рыжий и, как тут же выясняется, очень пьяный моряк с трубкой в углу рта, в расстегнутом, несмотря на мороз, бушлате, из-под которого виднеется давно не стиранная тельняшка, в пижонских клешах и в бескозырке с надписью «NORD». А на ногах у него совершенно невообразимые серебристые ботинки, словно отлитые из металла, но явно мягкие. Поймав задержавшиеся на ботинках взгляды, моряк непонятно говорит:
– Что вы так смотрите? Мы с вами не в Норде.
Женька схватывает смысл этих слов, сказанных по-английски, но вообще моряк говорит очень много, он говорит непрерывно, и Женька успевает перевести для себя далеко не все. Кажется, Эдик понимает все и оттого больше других удивляется, а Любомир и Черный не понимают вообще ничерта, и, наконец, не выдержав, Черный злобно рявкает:
– Ви а рашен!
– О, рашен! Русо! – восклицает моряк и неожиданно легко переходит на русский: – Замерзли, небось, черти полосатые! Надеретесь вечно, как свиньи, а старику Биллу вас спасать. Хорошо – боком прошел, хорошо – случайно заметил, а если бы под утюг? Ну, ладно. Одеваться будем? Или вы из этих, из оранжистов, которые голыми по морозу бегают?
Удивительно уже то, как здорово старик Билл говорит по-русски. Невозмутимость моряка – вторая неожиданность для четверки полярников. И потому содержание его бурного монолога пока на третьем месте, так что даже на непонятном слове «оранжисты» внимание задерживается недолго.
– Как вас угораздило в лед-то вмерзнуть, сибр вашу мать! – продолжает меж тем старик Билл. – Я уж думал, трупы. Ан, нет! Гляжу – в упаковочке. Тепленькие, значит. Ах ты, думаю, брусника тебя возьми, насосались опять ликера с анафом да и драпанули из Норда, квазисты окаянные!..
Женька слушает и все больше изумляется объяснениям Билла. Бред какой-то. Пьяный бред. И только одно становится понятно: они вмерзли в лед. Значит… Что же? Значит, произошел разлом, подвижка льдов. На дно они не пошли – это понятно, но погрузились все-таки, а лед схватился. Вот и вся недолга. Но когда все это произошло? Был день – теперь ночь. Полгода, как минимум. А может, полвека? Или полтысячелетия? Нет, пять веков – это вряд ли. Чтобы через пять веков – и вот такая пьяная морда?
А Станский выхватывает другую фразу.
– Ликер с анафом?! – спрашивает он оторопело.
Губы у Эдика шевелятся теперь нормально, размягченные действием анафа и внезапным теплом, но они, разумеется, не зажили, и из трещин течет кровь, капельками повисая на бороде.
– Хорош придуряться-то, – говорит Билл, – пьянь оранжевая. Пошли в тепло.
Лишь теперь они замечают, что стоят на морозе голые. И лишь теперь Женька понимает, что «Песенка о медведях» звучала не только во сне, но и наяву. Мелодия как раз смолкает и начинается другая, совсем незнакомая. А мороз вообще-то не такой уж и сильный, вернее, он здорово смягчен густыми облаками пара, поднимающегося со всех сторон от растаявшего льда. Маленький ледокол старика Билла, стоящий в полынье, окутан клубами тумана, совсем как бассейн «Москва» зимним вечером, и Женька начинает догадываться, что это и не ледокол никакой, а – как бы это сказать – «ледотай» или, может быть, «ледотоп». Нос его представляет собой огромный утюг, раскаляющийся, видимо, во время движения. Вот только откуда такая пропасть энергии? Впрочем, тридцатый век…
Туман меж тем рассеивается, садится инеем на все поверхности корабля, и воздух остывает, вот почему раздетой четверке становится холодно. Но дверь каюты от пинка уходит в стену, и старик Билл приглашает всех внутрь, а там тепло, и это замечательно. Вот только отмороженная нога у Женьки начинает болеть в ушибленном месте. Стены каюты и потолок тлеют зеленым сиянием, как кривые на осцилографе, и от такого непривычного освещения сразу делается неуютно – все предметы кажутся загадочными, зловещими, а назначение многих из них действительно непонятно и хочется поскорее выбраться наружу.
– Выпьем, – решительно предлагает капитан (Похоже, он один на «ледотопе», а значит, ему и быть капитаном).
У ребят полно вопросов, но теперь, пока не выпили, спрашивать становится совсем неприлично, и они окончательно теряются. С самого начала они ждали вопросов к себе: как-никак четыре голых дурака среди льда и снега. А этот старик Билл подбирает их с таким видом, будто только этим и занимается каждый день. О чем же теперь спрашивать? Куда плывем? Так он вроде сказал: в некий Норд. Название очень понятное. Какой-нибудь порт в Гренландии или на Шпицбергене. Спросить, как устроен «ледотоп»? Глупо. Конструкция явно не нова, а Билл принимает их за современников. Ну, что еще?
Какой нынче год? Сочтет за издевку.
Мысли в голове ворочаются туго, хочется спать.
Билл извлекает откуда-то из угла квадратного сечения бутыль и два мутноватых стакана, наливает по самую кромку и говорит:
– За свиданку, ребята. Пейте по очереди. Стаканов больше нет.
И заглатывает свою порцию, быстро двигая кадыком.
Черный первым берет стакан и осторожно нюхает желтовато-зеленую в свете каюты жидкость.
– Думаю, можно выпить, – говорит он.
– Погоди, – останавливает его Любомир. – Чуть не забыли, уроды. Таблетку постанафина. А то уснули бы сейчас, как суслики.
Таблетки находятся быстро. Они в полной сохранности. А жидкость оказывается чем-то вроде виски или бурбона – в таких тонкостях люди советские разбираются слабо, однако качество напитка сомнений не вызывает и для запивания таблеток хоть и не очень, но он все-таки годится. На капитана таблетки никакого впечатления не производят.
Правда, он вдруг лезет под койку, достает маленькую баночку и предлагает Станскому помазать губы. Это какая-то заживляющая мазь, и, судя по выражению лица Эдика, действует она эффективно.
Капитан же опрокидывает еще стаканчик, ему делается совсем хорошо и на гостей он почти перестает обращать внимание.
– Давайте чувствовать себя как дома, – предлагает Любомир, начиная одеваться.
– Трудновато, – говорит Черный, – если учитывать, что мы не знаем не только, где мы, но и когда мы.
И тогда Станский рожает, наконец, вопрос. Видя, что Билл совсем не слушает их, Эдик говорит громко и почти в ухо капитану:
– А что, командир, какой у нас нынче год?
В первый момент старик Билл как будто даже трезвеет, и Женька думает про себя: «Ну, наконец-то, проняло! Сейчас начнет спрашивать», однако почти сразу лицо капитана расплывается в хитрой улыбке:
– Ой, ребята – оранжата, не надо мне заливать, что вы продрыхли больше года. Сейчас, небось, скажете, что ушли из Норда в сто двенадцатом?
Женька чувствует, как по спине его пробегает дрожь. А Станский слабеющим голосом, безо всякой надежды на успех спрашивает:
– А теперь-то какой?!
– Сто пятнадцатый, сибр вашу мать! – неожиданно взрывается капитан. – Будто не знаете!
– Две тысячи сто пятнадцатый? – уже совсем испуганно и еще более робко переспрашивает Станский. – От рождества Христова?
– Но, но, но! – непонятно грозит пальцем Билл. – Про рождество Христово будете в Норде спрашивать. Допились до зеленых апельсинов…
И он торжественно провозглашает после паузы:
– Сто пятнадцатый год Великого Катаклизма!
Последние два слова произносятся значительно как написанные с большой буквы. Капитан поворачивается к гостям спиной, щелкает чем-то на пульте. Смолкает музыка, раздается мерное низкое гудение, потом шипение, треск, и, качнувшись слегка, посудина старика Билла трогается в путь.
– Вот так и начались необыкновенные приключения группы испытателей анаф-гибернации в сто пятнадцатом году Великого Катаклизма, – дурачась произносит Цанев.
3
А когда старик Билл вышел из каюты, четверо решились, наконец, посмотреть друг другу в глаза. У Рюши была совершенно черная от расширившихся зрачков радужка. Любомир же сиял от восторга, кусая губы и нервно массировал ладони. Только Станский оставался спокоен. А Женька боролся сразу с двумя желаниями: ущипнуть себя и закричать дурным голосом.
– Какие будут мнения? – солидно и невозмутимо, словно шло заседание кафедры, спросил Станский. Он был уже почти полностью обмундирован.
– Бред, – хрипло проговорил Черный, – мы спим.
Эту гипотезу пришлось отмести сразу как не конструктивную. По той же причине Любомир решительно отверг массовый психоз.
– Может быть, розыгрыш? – робко предложил Женька.
– Дороговато для розыгрыша, – скривился Черный.
– А что, если киносъемки фантастического фильма? – придумал Любомир.
– А что если старик Билл – космический пришелец? – передразнил Станский. – Хватит, ребята. Хватит прятаться от очевидной истины: мы в будущем, собственно, ничего удивительного в этом нет.
По самим условиям эксперимента мы должны были оказаться в будущем.
Правда, недалеком – спустя сутки, двое. Но вышла какая-то ошибка.
Вовремя нас не нашли. Нас нашли позже. И теперь нам надлежит понять: когда же нас нашли, ясна задача?
– Погоди, – сказал Черный, – есть еще один вопрос: почему нас не нашли вовремя?
– По-моему, это очевидно, произошел разлом. И мы вместе со всеми вещичками, вместе с упавшим флажком вмерзли в лед, а снегопад довершил дело.
– Но это же не все, – возразил Черный. – Они должны были предвидеть такой вариант, они должны были искать нас.
– Где? – поинтересовался Любомир. – По всему океану?
– Зачем? – сказал Черный. – В районе последнего радиосигнала.
– В таком районе можно век искать, – заметил Женька, – мы же ушли на двое суток.
– А по палатке? – вспомнил Черный. – Почему они не нашли нас по палатке?
– Палатка далеко уплыла, – предположил Станский, – или ее занесло, или она тоже утонула…
– Или они не искали нас вообще.
Это сказал Черный, и все посмотрели на него, а он пояснил:
– Я не шучу. У них же случился Катаклизм. Стало не до нас.
Гипотезу не успели оценить, потому что Женька вдруг выдохнул:
– Понял! Третий сосуд. Я же предупреждал.
Он вспомнил, как совсем недавно говорил о третьем сосуде, и ему стало жутко от сознания, что это «недавно» отделено теперь от них бездной лет.
– При чем здесь третий сосуд? – агрессивно поинтересовался Станский.
– А при том! – закричал Женька. – Первые два лежали рядом с палаткой. Они их нашли. Понимаете, идиоты?! Они их нашли, а про третий никто не знал. Ведь никто не знал, правильно, Эдик? Ты гениальный дурак! Это благодаря тебе они решили, что мы погибли.
Сосуды-то были полные. Они просто не стали нас искать.
Никто ничего не ответил Женьке. Все поняли, что он прав. И все были ошарашены. А Женька вдруг добавил:
– Надо было плыть. Это Станский виноват.
– Станский виноват?! – взревел Эдик. – А кто просил швырять обойму через разводье? С больной головы да на здоровую! Да тебя судить надо, Евтушенский!
– Все виноваты, – жестко сказал Черный. – Женька, конечно, больше других. Только не надо сейчас об этом.
– Не надо, – поддержал Цанев.
– Ладно, – Станский успокоился так же внезапно, как и вспылил, – ты сбил меня, Рюша. А нам все-таки необходимо решить задачу, когда нас нашли. Когда? Высказывайте ваши мнения.
И так он это деловито предложил, что невозможно было не откликнуться. Их смятение, их страх, их растерянность как бы отошли на второй план, единственно важной была теперь задача – сложная логическая задача, которую интересно будет решать.
Станский потряс их своим самообладанием и основательностью. Сразу сделалось ясно, кто среди них старший. И Женька, как самый молодой, почувствовал это особенно остро. Несмотря на последнюю размолвку, ему захотелось, будто на экзамене, показать доценту станскому все, на что он способен.
– Я начну? – предложил Женька. – Итак: что мы имеем? прежде всего – человека, безусловно, знающего, в каком году он живет. Человек, к сожалению, пьян, но информацию от него мы получили. Значит, есть два варианта: верить информации и не верить. Если верить, мы прыгнули в будущее минимум на сто пятнадцать лет. При нашей жизни «великих катаклизмов» не было.
– Это еще вопрос, – возразил Черный, – великим катаклизмом можно назвать и Октябрьскую революцию.
– Можно, – признал Женька, – но я не думаю. Мне вообще слабо верится, чтобы наши современники или их ближайшие потомки отказались от существующего летоисчисления.
– Ну, знаешь, – не согласился Черный, – это смотря какой был катаклизм. Может быть, рядом с ним вся история человечества – тьфу.
– Ядерная катастрофа, например, – предложил Цанев.
– Не верю, сказал Женька. – Слишком просто, чтобы быть правдой.
– Ну, ладно, – прервал их Станский, – давай про второй вариант.
– Вариант второй, – с готовностью отрапортовал Женька. – Информация ложная. Тогда, не принимая ее в расчет, рассмотрим приметы времени. Первое: катер. Лет тридцать, я думаю, хватит на изобретение такого катера. Второе: ботинки. При всей их странности лет через пять после нашего ухода они могли появиться. Третье: стены. Люминофор для бытового освещения – такая задача, по-моему, уже стояла в наши дни. Четвертое: лексикон капитана. Не принимаем в расчет, так как бесполезно искать логику в пьяном бреду. Итак: выводим общий срок по максимальному – так, кажется, делают юристы – и получаем двадцать первый век, начало.
– Близко к истине, – похвалил Станский, – правда, ботинки можно было и не упоминать, а вот две важные детали ты упустил. Задатки полиглота у нашего нового знакомого. Сразу вопрос: каков его социальный статус? И – это главное – его реакция на наше появление. Это, брат, попахивает не тридцатью годами, это, брат, наводит на мысль о Великом Катаклизме и ста пятнадцати годах после него.
Вероятно, Эдик прав, но Женька видел, что ребятам понравилось и его выкладки. Конечно, тридцать лет – это тоже страшно. Это – состарившиеся и умершие родственники, это – изменившийся уклад жизни, это – безнадежное отставание во всех областях деятельности.
И все же. Тридцать лет, хоть и с грехом пополам, но умещались в голове, и потому хотелось, очень хотелось верить, что их действительно прошло только тридцать.
Одни, без чудака Билла, да к тому же согревшись, облачившись в привычную одежду и слегка захмелев от крепкой выпивки (после гибернации алкоголь действует сильнее), они теперь чувствовали себя гораздо уютнее. Странное освещение и незнакомые вещи в каюте перестали пугать. Да и такие ли уж они незнакомые? Пульт управления был, в целом, понятен, а для чего какая кнопка – не все ли равно, в конце концов. Стол, койка, темное пятно экрана – ничего особенного. В штуках, лежащих на одеяле, легко угадывались рыболовные снасти, в увесистом аппарате на стенке в углу – нечто вроде автоматической винтовки. А на столе, помимо бутылки и стаканов, торчал еще некий шарик на высокой ножке и на подставке с кнопочкой. Но тут Женька раньше других догадался: излучатель.
Стоило щелкнуть кнопочкой – и стены погасли. Еще раз – зажглись вновь. «Ерунда это, а не техника сто пятнадцатого года», – подумал Женька.
И тут вернулся старик Билл.
– Кстати, ребята-оранжата, у вас с собой, случаем, нету сейнера?
– Чего, простите? – ошалело переспросил Станский.
А Женька представил себе рыболовецкий сейнер, который четверо сбежавших из некоего Норда, как полагал про них старик Билл, прихватили с собой, чтобы где-то во льдах припрятать, и решил однозначно: допился капитан, теперь от него толку не добьешься.
А тот повторил настойчиво:
– Ну, сейнер, сейнер, – и добавил для ясности: – У меня там груз, в трюме, так я бы уж его прямо тут… зачем в Норд волохать, верно? Да вы пойдите, сами гляньте.
Он снова отпихнул в сторону дверь и показал, где искать трюм.
Потом налил себе полстакана, быстро выпил и, подвинув к стене сваленные на койке снасти, вытянулся поверх одеяла. Все четверо стояли в нерешительности, и Билл, вопреки всякой логике, повторил свое приглашение по-английски и проворчал еще что-то. Станский любезно перевел:
– Почему вы стоите, как мачты?.. непереводимо… может быть, вы… зелено-черные?
– Ну вот, – прокомментировал Женька, – уже зеленые человечки. Пошли, ребята.
А капитан вдруг сам сказал по-русски:
– Эй, мужики, да вы не из этих ли, не из грин-блэков?
И, не дождавшись ответа, отпустил пару смешанных, русско-английских ругательств и уткнулся лицом в подушку.
– Да, Эдик, – заметил Цанев, – переводчиком тебе тут работать рановато. Не знаю, кто такие зелено-черные, а мы здесь очень и очень серые.
Рюша вздохнул и предложил:
– Пошли-ка лучше осмотрим трюм.
Мысль была здравой. И, строго говоря, стоило осмотреть не только трюм. Но начали они все-таки с трюма.
К плотно прикрытой овальной двери вела небольшая, заляпанная чем-то темным, лесенка, фонарь над входом был расколот, а свет других огней доходил сюда в сильно рассеянном виде.
Легкомысленный Женька, хромая, спустился первым и без труда отвернул засов. Он услышал предостерегающий крик Черного: «Стой!
Мало ли что там!» – когда было уже поздно. Массивный овал со скрипом отошел от стены…
Разумеется, белый медведь из трюма не выскочил. Да и что вообще могло оттуда выскочить, выползти, вырваться такого, чему четверо полярных путешественников не сумели бы дать отпор, кабы подготовились? Ничего такого в трюме быть не могло. Но что-то там было.
Это что-то высыпалось темной массой сквозь проем двери прямо Женьке под ноги. И он невольно отпрыгнул, но оно не шевелилось.
Оно просто перевалило через комингс, потому что трюм был переполнен этим, и оно подпирало дверь изнутри.
Привыкающими к темноте глазами Женька вглядывался в образовавшуюся возле ног кучу. Какие-то странные морские твари. Или нет – одни только плавники или ласты. Женька нагнулся и подобрал одну штуку…
Ему показалось, что кто-то ударил его в живот: тупая боль и зарождающийся крик, который застревает в горле, превращаясь в мерзкий ком тошноты.
Это были не морские твари. И не плавники. Это были отрубленные у запястья человеческие руки – полный трюм окровавленных обрубков.
«Да, славный груз везет на своей посудине старик Билл, пожалуй, и впрямь самое время перегрузить его на какой-нибудь сейнер», – успел подумать Женька. Потом он стоял, перегнувшись через бортик, и его рвало.
Остальные оказались покрепче – и Рюша, и Станский, а Любомиру и вовсе не привыкать. Он тут же исследовал несколько обрубленных кистей и сообщил:
– Честно говоря, мужики, я не представляю, чем удалось так ровно обрезать все ткани. Конечно, можно вообразить некий очень тонкий и очень быстрый нож, но вероятнее всего, это лазер, причем в наше время такого еще не было, разве что у военных, а медицинские лазеры я, слава Богу, знаю. И далее – руки обрезаны сутки назад, не больше, и, похоже, были все это время на морозе. Трупов в трюме нет. Одни руки. Кошмар, мужики, я ничего не понимаю.
Женьку уже не рвало. Он тупо смотрел в клубящийся перед ним туман, и ему было так страшно, что он боялся даже повернуться, даже оторвать руки от перил фальшборта. Им, разбуженным неведомо кем и неведомо когда, предстояло еще много потрясений, но и спустя десятки лет Женька неизменно, как самый страшный миг, как самый страшный эпизод своей жизни, будет вспоминать именно этот, когда он открыл трюм старика Билла, а потом стоял, держась за перильца, стиснутый, скованный, скрученный ужасом, и смотрел, как в бесконечной черноте полярной ночи клубится призрачный белый туман.
Страх отпускал постепенно. И не столько отпускал, сколько просто облекался в конкретные формы. Например, Женька вдруг вспомнил висевший в углу каюты смертоубийственный агрегат. Сразу пришла мысль, что это и есть тот лазер, который жуткий капитан Билл отрезает всем подряд руки. Ахинея, конечно, но, видно, Станский думал о том же.
– Где наши винтовки, ребята? – сурово спросил он.
– Моя с рюкзаком в каюте. Но вряд ли она стреляет, – сообщил Черный.
А Женька признался виновато:
– Моя утонула.
– С тобой вообще разговор будет особый, – огрызнулся Эдик, вспомнив, должно быть, сразу все Женькины закидоны. – А сейчас план такой. Забрать из каюты вещи, главное, винтовку Чернова, и очень желательно – оружие Билла. Ведь он, кажется, спит. Вот т прекрасно. Вопросов никаких задавать больше не будем. Хватит.
Сразу по прибытии в этот проклятый Норд постараемся удрать.
Кстати, вы поняли, куда мы плывем?
– Я понял одно, – сказал Черный, – мы идем строго на север.
– Вот именно: строго на север. И значит, Норд – это не город и не порт, а просто какой-нибудь большой корабль, дрейфующая станция, плавучая база на полюсе.
«И как это они успели заметить? – подумал Женька. – Приборов на пульте было до чертиков. Поди, разгляди, где там компас».
А Станский вдруг сказал:
– Рюш, ты извини, что я раскомандовался. Просто все надо делать быстро. Ну так как, принимаешь программу?
– В целом – да, а там посмотрим. Я бы, конечно, сдал властям этого рыжего, но кто знает, какие у них тут власти. Мы же как на чужой планете.
– Это точно, – согласился Станский. – Мы не знаем, что они делают с отрезанными руками и что они делают с безрукими людьми. Мы даже не знаем, кому они режут руки, за что и кто этим занимается. Так что не стоит лезть не в свое дело. Но там, в Норде, должна быть какая-то власть, а любая власть, будь она хоть оранжевая, хоть зелено-черная, хоть трижды фашистская, обязана относиться серьезно к пришельцам из прошлого.
– А если у них пришельцев этих пруд пруди? – язвительно спросил Любомир. – Похоже, кстати, так оно и есть – капитан-то совсем не удивился.
– Тогда должна быть система работы с пришельцами, – ответил Черный.
– И потом, – добавил Станский, – таких древних, как мы, едва ли у них много.
– А вы не допускаете, – встрял вдруг Женька, – что у них может вообще не быть никакой власти?
– Ты поэт, – улыбнулся Станский. – Только поэту может прийти в голову такая нелепая идея.
И тут они увидели Норд.
4
Это был не корабль. И не дрейфующая станция. Это было море огней, море светящихся стен и крыш. Это был город, проступавший из тумана, как проступает фотоснимок на лежащем в проявителе листке бумаги. И в центре этого города ослепительным огнем сверкала огромная, роскошная, невозможная, как сказка, башня с длинным и острым шпилем. Вокруг нее лепились многоэтажные дома, высокие и узкие, как сталагмиты – этакий Манхэттен в миниатюре. Следующее кольцо образовывали здания самых разных стилей: готика, восточный, барокко, псевдорусский, модерн. Среди них много было церквей. А в самом нижнем и самом дальнем от центра поясе пестрело множество маленьких, иногда почти плоских разноцветных флюоресцирующих домиков. И все это мигало, мерцало, переливалось. И впору было проснуться еще раз, чтобы оказавшись во льду, в палатке или просто в московской квартире, со жгучей досадой вспоминать чудесное видение и понимать, что в сны не возвращаются.
Город меж тем приближался, становясь все яснее, все четче, ярче, лоханка старика Билла пошла быстрее, тумана стало меньше, сделалось морозно, а они все стояли на палубе, глядели завороженно вперед, и было им непонятно, как это потомки, умеющие строить такую красоту, зачем-то еще рубят друг другу руки и грузят ими тесные темные трюмы. Впрочем, разве дела их предков не были такими же противоречивыми?
Первым опомнился Черный:
– Капитан проснулся. Чуете, быстрее идем, подстрахуйте меня.
Крадучись, он подобрался к каюте. Дверь отошла почти беззвучно. Рыжий Билл спал, даже храпел, значит катер ускорился автоматически. Либо такая была программа, либо «ледотопом» управляли из города.
Черный тихо снял со стены непонятно как державшееся на ней оружие, потом вынес рюкзаки. Все сгрудились вокруг трофея. Рассматривали, осторожно трогали пальцами. И никакой это был не лазер. Тем более не бластер и не лучемет. А простой, вполне понятный автомат, помощнее только и системы незнакомой.
Женьке вдруг показалось очень странным, даже неуместным, войти в прекрасный светящийся город с автоматами наперевес. Но он ничего не сказал. Зачем? Решение принято. Они стояли теперь на носу в полной готовности. Но к чему? К тому, чего привыкли ждать в своем веке? А к чудесам века чужого, к страшным и восхитительным чудесам незнакомого мира – можно ли вообще подготовиться к ним?
– Дворцы на дрейфующих льдах строят, – ворчал Цанев, – летоисчисление изменили, руки режут почем зря… Оцениваю прошедший период времени века в четыре. Крышка нам тут, братцы.
– Уймись, Любомир, – сказал Станский, – в двадцать четвертом веке тоже жить можно. Пообвыкнемся как-нибудь. Вот старик Билл, например. Далеко ли от нас ушел? А живет.
– Старик Билл – это вообще загадка, – сказал Черный. – Не вяжется он с этим городом, никак не вяжется. И опять же архитектура – слишком уж наша. Конец двадцатого века, ей богу.
– Ну, это ты брось, – не согласился Станский. – С архитектурой как раз все понятно: город-памятник разным эпохам, музей под открытым небом.
А город-памятник был уже совсем близко. «Ледотоп» выключил свой мотор, и в наступившей тишине стало слышно, как он расталкивает носом последние льдинки, вплывая уже по инерции в специально, должно быть, подогреваемую полынью, протянувшуюся до самого берега. Заслоненный ближайшими домами город башен скрылся из глаз, от пристани виден был только вонзавшийся в небо золотой шпиль. И было в нем что-то до ужаса нереальное, что-то почти абсурдное.
Женька вдруг понял, что: шпиль торчал из планеты, как кончик оси из глобуса. Архитектор, наверное, так и задумал.
Голубой светящийся квадрат возле самого берега оказался большим плакатом на ножках, с которого, написанные тоже светящимися, но густо синими буквами, смотрели четырнадцать строчек – две фразы на семи языках: английском, русском, испанском, французском, арабском, хинди и китайском. «Добро пожаловать в город Норд!» – гласила первая. «Вход в город с сеймерами категорически запрещен!» – предупреждала вторая.
– Так значит сеймер, а не сейнер, – первым высказал Цанев общую мысль. – Станский, ты все знаешь. Что такое сеймер?
– Спроси для начала что-нибудь полегче, – отозвался Эдик.
– Может, оружие какое, – предположил Черный.
– Вряд ли, – сказал Цанев, – оружие у капитана было, а сеймер он спрашивал и с помощью него собирался что-то делать с отрубленными руками.
– К чему гадать, – сказал Станский. – Наберитесь терпения. Скоро спросим у кого-нибудь.
– А вот этого как раз и не стоило бы делать, – попросил Черный. – У них же запрещены сеймеры.
– Тоже верно, – согласился Станский. – Но знаете что, очень может быть, что нам и не придется спрашивать. Сами поймем.
– Ни черта мы не поймем! – мрачно возразил Женька.
«Ледотоп» мягко ткнулся носом в причал и замер, удерживаемый непонятной силой. Старик Билл не проснулся, было даже слышно, как он храпит. Встречать прибывший катер никто не вышел, на пристани вообще не было ни души.
Черный с совершенно обалделым видом смотрел на бетонный край причала, на бетонную стену, уходившую в воду.
– Неужели вот так вот до самого дна бетон?
– Вряд ли, – усомнился Любомир. – Откуда столько бетона? Думаю, они затопили океан какой-нибудь породой, доставленной из космоса.
– Глупо заполнять океан, – сказал Станский. – Вероятнее всего, бетонная подушка лежит на сваях из сверхпрочного материала. Или еще есть вариант: при тех энергиях, которыми они тут располагают, можно было проморозить океан до дна – вот тебе и фундамент.
А Женька молчал. Ему стало невыносимо грустно, и инженерно-строительная дискуссия совсем не трогала его. Он вдруг понял, что потерял почти все, что мог потерять, хотя в той, прошлой жизни ему так часто казалось, что терять совсем нечего. Он даже бравировал этим, заявляя в разных компаниях: «Я – человек свободный. Мне, кроме свободы, терять нечего».
Кандидат в мастера по боксу, он не боялся потерять свой институт – это институт боялся потерять его. Радист, получивший квалификацию по окончании школы ДОСААФ, он всегда мог бросить учебу и найти работу. Но спорт надоел, и радио надоело. И то, и другое не жалко было терять. Отец был уже потерян. Он бросил их с матерью, когда Женьке было девять лет. Они не встречались. И он не любил отца. А мать любил постольку-поскольку, уставший за долгие годы безотцовщины от ее назойливой заботы и опеки. Быть может, он и не признался бы себе в этом, но мать он тоже не боялся потерять.
Друзей всегда было много, так что и ими он не научился дорожить по-настоящему. Девушек было меньше, но были. Любимой – не было. С девушками вообще выходило всегда как-то нескладно. Ему все время было не до них. Все происходило внезапно и так же внезапно и заканчивалось. И почти никогда он не писал им стихов. А вообще стихи Женька писал с детства. Но и к творчеству своему не относился всерьез. Однажды, еще на первом курсе, по чьему-то совету показывал стихи в «Юности». И там вежливый редактор, похоже, так и не прочитавший их, спросил Женьку: «Кто ваш любимый поэт?» У Женьки не было любимого поэта, даже тогда он уже любил многих: Пушкина и Шекспира, Маяковского и Уитмена, Пастернака, Бедлера, Надсона, Вознесенского… А с собой у него случайно оказался сборник Семена Кирсанова, и так, ради эксперимента, Женька назвал его. «Ну, так это же „кирсановщина“, молодой человек», – ответствовал редактор, показывая на Женькины стихи. С тех пор от редакций он держался подальше. Не печатают – и не надо.
Уровень многотиражной газеты «Химик-технолог» его вполне устраивал. Но и сотрудничеством в многотиражке он тоже не дорожил.
А единственное – да, действительно, единственное – чем Женька по-настоящему дорожил, – это были воспоминания детства, воспоминания тех удивительных лет, когда отец еще жил с ними, и они все втроем ходили по выходным на утренний сеанс в кинотеатр «Аквариум» на Маяковке, а мороженое «эскимо» было круглым и в серебряной обертке, и в ларьках продавали чудесную воздушную кукурузу, а троллейбусы ездили синие с желтым и еще очень много встречалось на улицах «побед», а у мамы была красивая высокая прическа и замечательная, особенная-«воскресная» улыбка, а отец курил сигареты «Чайка»(по десять штук в маленькой пачке) и говорил с Женькой о самолетах. И много было еще всяких мелочей, которых теперь нету, но которые он помнил в подробностях, потому что именно из них складывалось его, Женькино, представление о счастье.
И никому не мог он объяснить этого, даже матери (попробовал как-то, а она не поняла, расстроилась только, у нее-то свои воспоминания были), и стало это его тайной. А еще – главной отрадой, когда накатывала депрессия и уже ничего не помогало: ни портвейн с друзьями после института, ни красная линялая груша, о которую можно было с остервенением разбивать перчатки. Он начинал вспоминать, погружаясь, как наркоман, в мерцающую сладкую мглу видений, и тоска отпускала понемногу… Потом он стал уходить в прошлое все чаще. Странное, пьянящее ощущение сопричастности той эпохе жило с ним теперь постоянно. И он любил книги шестидесятых годов, журналы, газеты, песни и – главное – фильмы. Фильмы – это были целые большие куски «запечатленного времени», почти живые фрагменты прекрасной эпохи. И был особенно любимый фильм – «Кавказская пленница». Он стал для Женьки почти предметом культа.
«Песенка о медведях» воспринималась как гимн эпохи, а счастливое улыбающееся лицо юной Натальи Варлей – как портрет мисс Шестидесятые Годы.
Конечно, Женька был достаточно образован, чтобы понимать: те годы имели свои плюсы и свои минусы, свои характерные черты, но в душе продолжал считать шестидесятые «золотым веком» и потому, стремясь хоть когда-нибудь вновь оказаться там, всерьез – (стыдно признаться кому-нибудь), совершенно всерьез мечтал о машине времени…
Вот таким был Женька. И так он жил. Бокс, мечты, пьянки, девушки, радиолюбительство, учеба, стихи, гитара… А потом появился Полюс.
Сначала, конечно, Станский с анафом, но это было так, вроде острой приправы к мечтам, стихам и пьянкам, а потом – Черный с полюсом. И вот это уже было настоящее: цель, смысл, дело, шанс, счастье – словом, нечто, ради чего бросаешь все и уходишь не оглядываясь.
Это было то, что, пусть неосознанно, но уже с самого начала он опасался потерять…
И теперь, ступив подошвой теплого унта конца двадцатого века на холодный бетонный монолит пристани Норда в сто пятнадцатом году Великого Катаклизма, он понял, что потерял это. Он потерял первое и последнее из того, что мог потерять. У него больше не было Полюса. У него ничего больше не было. И надо было все начинать с нуля.
– Ребята, проговорил Женька звенящим шепотом, – ребята, погодите!
Вы хоть понимаете, что у нас с вами больше нету Полюса?
И они поняли. Черный раньше всех понял.
– Приплыли, – сказал он угрюмо. – Будь я проклят!
– Опоздали, – уточнил Цанев. – Лет на четыреста.
И даже Станский, эта бесчувственная льдина, и тот понял. Он молчал и хмуро смотрел на золотой шпиль.
– Прощальный салют, – сказал Женька и, вскинув грозное оружие старика Билла, выстрелил в небо.
– Салют, – повторил Черный, и его допотопная винтовка тоже дала залп.
А Станский, осторожный рассудительный Станский, не стал хватать их за руки. Он все смотрел и смотрел молча на сверкающий желтым металлом шпиль.
Голос раздался совсем рядом. Говорили по-итальянски или, может быть, по-испански. Человек был в форме, имел большую кобуру на поясе и сразу бросавшуюся в глаза привычку командовать.
Перепуганный его внезапным появлением, Женька глупо спросил:
– Ду ю спик рашн?
– О, майн гот! – неожиданно вскричал человек в форме. – Рашн? А як же! Же парль рюс. Оф корзс. Ферштейн? Зачем шумите, ребята? Люди спят, – наконец-то он сказал то, с чего, видимо и начал на своем языке.
– Мы приносим наши извинения, – подоспел Черный, вмиг почувствовав ответственность за всю группу. – Мы не знали, который час.
Полярная ночь, понимаете ли.
– А какая разница, который час? – недоуменно сказал местный полицейский. – Вы что, не понимаете, что это спальный район?
Таким неожиданным вопросом Черный оказался выбит из разговора, и пришлось вступить Станскому:
– Мы прибыли случайными попутчиками вот на этом судне.
И он показал на нелепо торчащий у берега, очень похожий на старый, просящий каши ботинок, «ледотоп» рыжего капитана.
– А, ледовый башман старика Билла! – воскликнул полицейский, словно только теперь увидел причалившую посудину, потом спросил: – Вы первый раз в Норде?
Все дружно кивнули.
– Добро пожаловать, друзья! – страж порядка расплылся в улыбке и даже снял свою голубую фуражку. – Вы прибыли в самый лучший город на свете. Только у нас вы сможете по-настоящему отдохнуть, только у нас найдете настоящую работу, только у нас познакомитесь с настоящими людьми… Впрочем, все это вы, конечно, знаете, – прервал он вдруг сам себя и представился, приложив три пальца к фуражке: – Майор Кальвини.
– Очень приятно. Станский, – сказал Эдик.
– О, у вас знаменитая фамилия! – заметил Кальвини.
– А я и сам знаменитый, – обиженно сказал Эдик, не зная точно, его ли имеет в виду этот человек.
Майор улыбнулся. Потом представились остальные. Приятная была обстановка. И как-то сразу забылись все страхи, и непонятно было, в кого тут стрелять. Не в этого же майора Кальвини, такого симпатичного и любезного. Он представитель власти. Так где же бдительность? Где диктат? Что-то совсем непохоже на ужасную тоталитарную систему, в которой подавляется все разумное и доброе, а инакомыслящим рубят руки. И Женька шепнул под шумок Черному:
– Скажем?
И показал глазами на «ледовый башмак». Черный решительно кивнул.
– Господин майор, – начал он, потом осекся (почему, собственно, господин?), но Кальвини не отреагировал, и Черный продолжил: – Мы хотели сообщить вам, что у Билла в трюме довольно странный груз…
У него полный трюм отрезанных… ладоней.
– А, – Кальвини только рукой махнул, – старина Билл в своем репертуаре. Небось Хантега с Артемом опять наворотили. Идиоты! Но что поделаешь, – он развел руками, как5 бы извиняясь перед гостями города, – дуракам закон не писан. – Потом перешел на торопливый и решительный тон. – Ну, значит так, друзья. Вот это пятый радиус, – он показал на начинающуюся у пристани улицу, – пойдете по нему прямо, прямо, прямо, пересечете два кольца и через ворота попадете в центр. Андерстэнд? И не стреляйте больше. Договорились? Будьте счастливы. Чао.
Он повернулся и быстро зашагал в сторону города. Большая кобура смешно подпрыгивала у него на боку.
5
– Какие будут мнения? – поинтересовался Станский.
– Идти в центр, – простодушно ответил Любомир, – здесь тоска зеленая.
– Присоединяюсь, – сказал Черный, – идти надо, но насчет тоски – не согласен, по-моему, здесь очень весело: каждому можно носить оружие, а стрелять нельзя только потому, что люди спят. И уж конечно, отрубленные руки – здесь дело житейское. Подумаешь, какой-то Артем нарубил спьяну – что ж с него, с дурака возьмешь…
Слушайте! А может, у них перенаселение? Чем больше народу перебьют, тем лучше.
– Бред, – сказал Цанев, – скажи еще, что у них очень много лишних рук. В некоторых странах – буквально по пять–шесть на душу.
– Ну, не знаю! – Черный обозлился. – Сумасшедший дом какой-то.
– А я не верю, что они могут рубить кому-то руки.
Это сказал Женька. Он долго думал и пришел к выводу, что ни о какой изощренной жестокости в этом мире не может быть и речи.
Идеалист, скажут ребята, поэт, пусть подсмеиваются, а он все равно уверен в своей правоте.
– Может быть, эти руки не настоящие, – высказал Женька одну из утешительных догадок.
– Ну, знаешь, – Любомир даже обиделся, – кто здесь врач, Евтушенский, ты или я?
– Ты врач двадцатого века, – напомнил Женька, – а это могут быть руки биороботов.
– Запчасти что ли? Не смешите меня, дуся, я человек, измученный анафом.
– Кстати, рубить руки андроидам, может быть, еще большее варварство, чем людям, – заметил Станский. – Во всяком случае, это еще более ненормально. Больной мир.
– И все равно не верю, – упрямо повторил Женька. – Не верю. Просто здесь все по-другому. Слишком по-другому. Нам не понять.
– Ребята, не расслабляться, – в голосе Черного зазвенели командирские нотки. – Женька тут наплетет, по-другому, не по-другому – у нас с вами пока свои законы, своя жизнь, и мы ее должны защищать. Ясно? Старик Билл пьян, майор Кальвини – добродушен, а каким будет третий, мы не знаем. Так что – не расслабляться!
Но третий оказался таким, что не расслабиться стало совсем трудно.
Они уже отмахали по спящей улице почти квартал, и Женька, все время приволакивающий ногу, первый раз позволил себе пожаловаться, что ему трудно и хорошо бы идти помедленней, когда стало видно, что за перекрестком ряды все более высоких домов и гирлянды фонарей, бессмысленно ярких на фоне светящихся стен, начинают слегка поворачивать вправо. Вот тут-то и появился третий представитель нового века. Точнее, появилась. Она была стройная, фигуристая, черноволосая и очень хорошенькая, но поначалу все четверо, как они потом признались друг другу, приняли ее за робота. Наверно, под влиянием последнего разговора. Но вообще-то было с чего. Но вообще-то было с чего. На незнакомке сверкал скафандр – настолько облегающий, что она казалась обнаженной, тело выглядело как отлитая из серебра статуя, а голову накрывал сферический прозрачный шлем. На ногах прорисовывался каждый палец, но под ступней угадывалась довольно толстая, слитая со скафандром воедино, подошва. И еще – кобура на правом бедре из такого же серебристого материала. И, наконец, движения – медленные и как бы слишком правильные для человека.
Чем ближе она подходила, тем становилось яснее, что это, конечно, женщина, девушка, а не машина. Было только неясно, как можно не мерзнуть под такой пленкой, но вопросы, подобные этому, пришли позже, а поначалу был почти шок.
– Держите меня, – сказал Любомир, – я пять веков женщину не видел.
Станский мечтательно улыбался. Черный смотрел так, словно на него надвигалась пантера, восхитительно красивая, но смертельно опасная. А Женьку бросило в жар. Мир вокруг него закачался, поплыл дрожащими разводами, как бывает в кино, и только прекрасная незнакомка, идущая ему навстречу мягкой чарующей походкой, виделась ясно, резко, все резче и резче с каждым шагом.
«Гипнотизирует, стерва», – подумал Женька, но это была первая и последняя вспышка враждебности. А потом накатило откуда-то такое знакомое по мечтам о прошлом ощущение счастья. И Женька задохнулся от этого счастья, и смотрел в веселые рыжие глаза за стеклом скафандра, и ему казалось, что он смотрит в прошлое, в благословенную эпоху шестидесятых – уж такое лицо было у этой девушки. Счастливое лицо. В своем времени, откуда они четверо пришли, откуда они – к чему теперь кривить душой – попросту удрали, Женька никогда таких лиц не видел. Он видел их только в кино. И мечтал о них…
Женька смотрел в рыжие глаза незнакомки, и было тихо-тихо, и все двигались так, будто это фильм, снятый рапидом, медленно-медленно опускалась стройная металлическая нога девушки, медленно-медленно взлетала ее рука, невообразимо медленно поднимал свою винтовку Черный, и Женька, успевший подумать, что скафандр должен быть пуленепробиваемым, вдруг увидел свои руки, едва заметно, но совершенно недвусмысленно разворачивающие тяжелый автомат Билла в сторону Черного, а Станский медленно-медленно поднимал глаза на Женьку.
Обстановку разрядил Цанев.
– Добрый вечер, мисс, – сказал он, и кадры снова замелькали в нормальном темпе. Никто ни в кого не стрелял. Наваждение пропало.
– Мечтаю познакомиться с вами. Цанев, Любомир, врач-гинеколог.
«Врет и не краснеет, как всегда», – подумал Женька. Цанев был терапевтом.
– Привет, – сказала незнакомка. – Меня зовут Ли. Крошка Ли.
Общедоступности в Норде русского языка, должно быть, уже не стоило удивляться, но это «привет» было как-то уж слишком просто.
– А у вас знаменитая фамилия, – добавила Ли, обращаясь к Цаневу, и Женька подумал: «Неужели мы тут действительно знамениты, как погибшие покорители полюса? Вот это будет номер!» Цанев же почел за лучшее промолчать.
А Ли спросила:
– Куда путь держите, добры молодцы?
– В центр, – не задумываясь сказал Любомир.
– Впервые в Норде?
– Так точно! – это уже отрапортовал Черный.
– Рекомендую отель «Полюс». Лучший в городе. Как у вас с исходным кредитом?
– С исходным кредитом? – Черный был озадачен.
– Понимаю, – смутилась вдруг Ли, словно задала бестактный вопрос, – вы решили подписать чеки на весь остаток жизни. Кротов и Шейла будут вам лично признательны.
И тут не выдержал Женька. От всей этой непонятицы пропадало для него фантастическое очарование Крошки Ли. Было так, словно он слушал горячечный бред любимого человека. И Женька сказал:
– Милая моя Ли, мы не можем понять вас. Мы слишком долго спали. В состоянии гибернации. Мы не знаем этого мира.
Они были вполне готовы к ответу типа «Ну и что?» в духе старика Билла и майора Кальвини, но рыжие глаза Ли вдруг вспыхнули сумасшедшим радостным блеском.
– Сколько? Лет двадцать?
– Больше, – ответил Женька, боясь соврать.
– И все это время были в Норде?
– Нет… то есть… ну здесь, неподалеку.
На руке у Ли запел браслет, то ли радиотелефон, то ли таймер, и она заговорила очень быстро:
– Значит, никто на большой земле не знает о вас?
– Никто, – в этом Женька был уверен.
– Мальчики, какая прелесть! – щебетала Ли. – Я жутко спешу, поэтому вот что: обязательно поселитесь в «Полюсе», и я найду вас сегодня же вечером или… Привет, Юха!
Из-за поворота внезапно вылетела обтекаемая, как капля, ярко-красная машина, больше всего похожая на бобслейные сани. Она парила над улицей сантиметрах в двадцати, и поначалу Женька подумал об антигравитации, но когда эта сухопутная лодка подплыла ближе, стал явственно ощутим плотный поток воздуха, вырывающегося из-под нее. А сидела в лодке роскошная блондинка в таком же как у Ли скафандре.
– Привет, Крошка, привет, мальчики, – сказала Юха, и ее красная «гондола» с тихим шипением опустилась на уличное покрытие. – Садись, поехали. Время – жизнь. Кстати, ты знаешь, что ракетника на Москвузавтра не будет?
– Поеду подушкой, – Ли развела руками.
Черный кашлянул.
– Простите, вы говорили что-то про встречу в отеле «Полюс».
– Да, да, – Ли уже забралась в «гондолу», – любой номер в «Полюсе», а я буду у вас не позже полуночи. И главное, никому, никому не говорите, что вы из прошлого. Вы поняли меня? Это очень серьезно. Будьте счастливы!
– Будем ждать, – пообещал Черный с солидным видом начальника.
Цанев ухитрился поцеловать ручки обеим красавицам. Женька, глядевший на Ли неотрывно и одуревший от счастья, соображал туго.
И только Станский догадался задать практический вопрос, когда лодка уже поднялась над землей:
– А сейчас, сейчас сколько времени?
– Шесть, – крикнула Юха. – Шесть часов вечера!
6
Улица, на которую они вышли, была шире той, что вела к пристани, ярче освещена, но почему-то менее ухожена, кое-где лежал снег.
Направо вдалеке еще виднелась красная точка уезжающей машины, слева появилась другая машина – приближающаяся. Однако все четверо дружно решили не ждать новой случайной встречи, а двигаться прямиком в центр. До свидания с Крошкой Ли оставалось не так много времени, если учитывать всевозможные непредвиденные обстоятельства.
Миновав перекресток, где на всех углах синели большие цифры: «2» – вдоль кольцевой улицы и «5» – вдоль радиальной, а номера домов, написанные мельче, светились красным, они вновь увидели разнообразные, эффектные, вычурные здания центра. Теперь, с близкого расстояния, стало понятно, что город-сказка, город-памятник, город-музей построен как бы понарошку, составлен из уменьшенных копий знаменитых сооружений. Они узнали Норд-Дам, Биг Бэн, Спасскую башню, Кельнский собор, Эмпайр Стейт Билдинг, Пирамиду Хеопса, Храм Василия Блаженного, Эйфелеву башню, Афинский Акрополь, Капитолий, Тадж-Махал, и много там было еще такого, что выходило за рамки знаний среднего эрудита, а специально архитектурой ни один из них не занимался. Меж тем самым забавным было то, что все эти здания стояли как бы погруженные в захлестывающий их хаос торосов. Конечно, никакой это был не лед – это было, наверное, стекло, но тщательно продуманные причудливые изломы его создавали впечатление совершенно естественного пейзажа широкой торосистой гряды, из которой торчали тут и там шедевры мировой архитектуры, словно сметенные со всей планеты сюда, на полюс, каким-то гигантским катаклизмом. И в то же время было понятно, что все сооружение образует над центром города глухой защитный колпак. И, как апофеоз победившего стихии человека, господствовала, царила надо всем невозможная, чудовищно прекрасная золотая башня, устремленная ввысь – нечто среднее между костелом в стиле «пламенеющей готики» и космическим кораблем на старте.
От созерцания города их отвлек шум пролетающего самолета. Первым рассеянно взглянул наверх Женька, а за ним и все задрали головы, как зеваки на базаре в начале двадцатого века. Это был не самолет, а наверное, тот самый ракетник, который упоминала Юха. Белый, светящийся, как диск луны в ясную погоду, продолговатый, как дирижабль, предмет двигался сначала вертикально вверх, а потом, почти остановившись, развернулся на девяносто градусов и с заметным на глаз ускорением умчался вдаль строго параллельно земле.
– Что я говорил – двадцать четвертый век! – прокомментировал Любомир.
– Тридцатый, – отозвался Женька.
– Ничего особенного, – злобно буркнул Черный, – сарделька летающая.
А Станский промолчал, обдумывал что-то.
Тем временем они вышли на первую кольцевую улицу, и Черный сказал:
– А вот и ворота.
Ворота и надвратная башня, вмерзшие в ненастоящий снег и лед, сделаны были под старину, и, как и все здесь, являлись копией чего-то.
– Ребята, – обрадовался Женька, – да это же Таллин! Морские ворота в старом городе.
Эдик и Черный кивнули, а Цанев, который в Таллине никогда не был и потому сентиментальных чувств к воротам не испытывал, первый трезво отметил, что вход наглухо закрыт, а апостола Петра поблизости что-то не видно. Проблема, однако, разрешилась до смешного просто: ворота любезно разъехались в стороны, стоило только подойти к ним. Женька поймал себя на том, что и этому как бы по инерции удивился, а ведь такие штуки и в их время были. «В том же Таллине, – вспомнил он, – в аэропорту.»
Они стояли теперь в узком и высоком, как колодец, тамбуре, и двери за их спиной закрылись, а свет сочился какой-то тусклый и странно пульсировал, так что каждый успел подумать, что вот наконец-то и попался, когда на стене напротив вспыхнуло большое табло с инструкцией все на тех же семи языках. Текст был такой:
«Дорогой друг! Объединенное правительство вольного города Норда просит тебя набрать на дисплее свой персональный индекс. Если же ты впервые в Норде, дорогой друг, будь любезен, сообщи свои личные данные согласно заложенной программе, а также оставь на граф-пластинке образец своей личной подписи, а в фотокабине – свой портрет. Со всеми вопросами обращайся по б-телексу 0331. Добро пожаловать в вольный город Норд!» Вопросов было много, но как обращаться по б-телексу, никто не знал, и указаний на этот счет нигде найти не удалось.
– Что будем делать? – спросил Станский.
– Что приказано, сказал Черный. – Назад идти, полагаю, глупо, а скорее всего, и невозможно. И вообще – мы же пришли сдаваться властям.
И он первый шагнул к дисплею.
Именно там, в этой автоматизированной проходной двадцать какого-то века Женька, беспомощный и беззащитный, ощутил сполна всю нелепость железной тяжести автомата, наивно и глупо похищенного у ничего не подозревавшего старика Билла. Наверно, это был антикварный экспонат или семейная реликвия.
– Черный, – сказал Женька, – напиши там: профессия – вор. А мне стыдно таскаться по городу будущего с этой краденой пушкой-игрушкой.
– Ничего, до гостиницы допрешь, а при случае вернем капитану.
Вопросы в компьютерной программе оказались нехитрые, кроме некоторых, только уж больно неприятно отдавали они анкетой для приема на работу в «почтовый ящик».
Фамилия. Имя. Дата рождения. Дата вакцинации (здесь пришлось оставить пропуск, на который тут же выскочил вопрос – причина отказа, и Цанев хотел пошутить, но по трезвом размышлении они решили повторить ответ «пропуск»). Место рождения. Образование.
Профессия. Место жительства в настоящее время. (Не было ни графы «подданство», ни графы «национальность»!) Принадлежность к политической партии. (Станский воздержался упоминать КПСС, а Черный написал – пусть знают). Те же сведения о ближайших родственниках: мать, отец, жена (муж), брат, сестра, сын, дочь (каким кощунственным фарсом было это заполнение анкеты на покойников! Но что оставалось делать?) Отношение к существующей мировой системе (опять пришлось поставить пропуск, но это была ценная информация: значит, уже есть единая мировая система. «Слава Богу, – подумал Женька и тут же себе возразил: – Система может быть и ужасной. В любом случае странновато выглядит система, допускающая существование вольного города Норда с его «рукорезкой».») Причина приезда в Норд (предлагалось на выбор: иммиграция, отдых с возвратом, отдых без возврата, экскурсия, деловая встреча, личная встреча). Они выбрали самое безобидное – экскурсию. На этом допрос кончался. Потом фотокабина выдала на экран их портреты в фас и профиль. На граф-пластинке они расписались чем-то вроде щупа на длинном проводе, и следов на ней не оставалось, а подпись возникала опять же на экране. После этого каждому из них был присвоен персональный индекс – семизначное число, которое предлагалось «ввести в память». Надо полагать, имелся ввиду компьютер, и за неимением такового пришлось использовать Женьку с его уникальной памятью на цифры (в институте он был ходячим справочником физических постоянных и телефонной книжкой всего факультета).
И, наконец, могучие двери, преграждавшие путь в город, сами собой ушли в стены. И это было, как выйти на стадион в день финального матча из полумрака и тишины подтрибунных помещений. Центр обрушился на них переплясом огней и звуков. Музыка, крики, стуки, звон, шипение, скрипы, смех, лязги – будоражащее, привычное, родное многоголосье большого города – все это было несказанно приятным после давящего безмолвия полярного дня в течение почти целого месяца и после настороженного молчания спальных районов Норда. Вакханалия света тоже радовала, но к свету они уже успели привыкнуть, просто здесь его было еще больше. Центр Норда напоминал знакомый по фильмам вечерний Токио или ночной Лас-Вегас.
Только не было улиц в обычном понимании и не было автомобилей, а были лодки на воздушной подушке и – для любителей – нечто вроде игрушечных лошадок с тем же принципом движения. Все это скользило по навесным дорогам второго яруса, а первый был исключительно пешеходным, если не считать расползающихся во все стороны полос бегущих дорожек. Здания в большинстве своем упирались в прозрачный купол или, пронзая его, уходили выше, но были и такие, что размещались целиком внутри, некоторые даже дотягивались до «автомобильного уровня».
Людей было много. Одни просто шли, просто ехали (было бы глупо спрашивать, куда, хотя несколько озадачивало отсутствие сумок, портфелей, вообще ручной клади), другие стояли в очередях, толпились возле отдельных зданий, ларьков, третьи сидели, лежали прямо на земле. Были шумные, горланящие компании, некоторые – с клавишным музыкальным инструментом, носимым на ремне через плечо.
Эти носились друг за другом, устраивали возню. Попадались также сидящие в позе «лотоса» и стоящие на голове. Были, разумеется, парочки. Часто встречались, например, целующиеся лежа в обнимку под стенами домов, иногда эти свалки были массовыми. Кстати, все кругом сияло чистотой, и поваляться было одно удовольствие. И вообще при первом взгляде вся эта чехарда, вся эта куча-мала казалась достаточно невинной – просто взрослые резвятся, как дети.
А вот детей-то как раз и не было. Совсем не было, самые юные выглядели лет на шестнадцать. И еще одна особенность поразила пришельцев из прошлого: во всем центре им не встретилось человека старше тридцати, ну, может быть, сорока если предположить, что они теперь дольше сохраняют молодость. Впрочем, такое предположение тянуло за собой более смелую гипотезу. Они ведь могли научиться сохранять молодость вечно. И тогда, быть может, они сделали себя стерильными. Строго по Шопенгауэру. Женьке вдруг вспомнилась вычитанная где-то цитата (на цитаты память у него тоже была отличная): «Я сказал бы творцу: – Почему вместо половинного метода – беспрерывного создания новых людей и уничтожения живущих – ты не позволяешь совершенствоваться и жить в вечности тем, кто уже живет?» И вот у них нет детей. Жутковато. Слишком фантастично. И потом – старик Билл. Уж он-то совсем не вписывался в картину шопенгауэровского мира. Так что могла быть гипотеза и попроще: молодежный центр. Обыкновенный молодежный центр. А старики ютятся в спальных районах и, может быть, там же прячут детей от царящего в центре безобразия. А безобразия было немало. Бесчисленные, яркие, разноязыкие, прыгающие в глаза вывески и рекламные призывы говорили сами за себя и подтверждали самые нескромные догадки.
Беснующаяся молодежь была, мягко говоря, нетрезвой, а точнее – предельно возбужденной и одурманенной каким-то зельем. Похоже было, что здесь, в центре Норда, разрешалось все. Здесь повсюду были рестораны, ночные клубы, бары, а кое-где совершенно открыто, с рекламой – даже наркобары; здесь процветали игорные заведения всех видов; здесь слово «бордель» писалось аршинными буквами над входом и были специальные притоны для сексуальных оригиналов – видимо, так ласково называли в городе извращенцев; здесь рекламировались секс-театры, порнокинотеатры, некое секс-цирк-шоу и еще черт знает что. Какие-то правила поведения в обществе, разумеется, существовали (несколько раз довелось увидеть в действии голубую фигуру полицейского, и гости поняли, что запрещалось приставать к гражданам, если те явно не желают с тобой общаться, запрещались так же драки, но разрешалось тут гораздо большее). Что касается одежды, ходили буквально в чем угодно. Не позволялось, очевидно, лишь оставаться совсем голышом. Но и этот запрет был достаточно условен. Женщины определенной профессии и соответствующих наклонностей виртуозно обнажались ровно настолько, насколько было необходимо. Так что запрет был явно направлен не на защиту нравственности, а на защиту интересов тех, кто содержал бордели и порнозрелища.
Женька понимал умом, как все это плохо и даже ужасался, до чего живучи человеческие пороки – ведь это ж какой век на дворе! – но душа его, застигнутая врасплох, смятенная, взбудораженная, жаждала всех этих соблазнов, таких далеких всегда, таких недоступных, таких сладостно запретных; истомившаяся по порочным наслаждениям, душа рвалась на части от восторга предвкушения. Он боялся признаться в этом, боялся выдать свою похоть, свое нездоровое любопытство, свою тягу к мрачным тайнам жизни, но он знал, что теперь, в этом мире, ему будет доступно все. Рано или поздно, но он все получит, все попробует, все узнает. Спешить было некуда. И от сознания этого делалось внутри одновременно щемяще-сладко и – пакостно, стыдно, грязно. Ведь это, по сути, был плевок в лицо самому себе. И еще – шаг назад, к обезьяне. И еще – шаг в сторону, к безумию. И еще – малодушие, мелкое, мерзкое, гаденькое; дескать, можно бы и не делать, но отчего ж не сделать, если хочется…
И так они шли сквозь этот пестрый, шумный, пахучий, жаркий содом, и пот лил с них градом (они ведь были одеты по-зимнему), и Женька бледнел и краснел, и его била дрожь от этих реклам, и от этих женщин, и от своих собственных мыслей, когда Станский вдруг сказал злобно, сквозь зубы:
– Скучно. Прав Николай Василич. Скучно жить на этом свете, господа. Продрыхли века, а очнулись все в том же свободном мире по-американски. Будь он трижды проклят.
«Пижон, – подумал Женька. – Подумаешь, был на симпозиумах в Женеве и в Дортмунде. Америку в глаза не видел, а туда же – будь проклята! Небось, мечтал о ней всю жизнь – не вышло. А теперь втихаря слюнки глотает».
– Брось, Эдик, – не согласился Черный. – А ракетник? А самокаты эти на подушке? А весь этот город посреди океана?!
– А! – Станский махнул рукой. – Для кого? Для этих ублюдков? Что им, лимузинов с телевизорами мало было?
– Философы, вашу мать! – подал голос Цанев. – От имени медицины двадцатого века уверяю вас, что всякие рассуждения на голодный желудок характеризуются немотивированной злобой в отношении всех и вся. Я жрать хочу, братцы, а вы как – не знаю.
– А куда мы вообще идем? – поинтересовался Женька.
– Мы идем в «Полюс», – сказал Черный.
– А кто-то из нас знает, где он находится?
– Стыдно, товарищ радист полярной экспедиции, не знать, где находится полюс.
– Ты хочешь сказать, что отель расположен аккурат в точке полюса?
– Уверен в этом. И если вдруг он окажется в другом месте, я позволю вам, Евтушенский, плюнуть мне в лицо.
Женьку не слишком прельщала возможность плюнуть в лицо Черному, но похоже было, что такой возможности у него и не будет. Подумав, Женька мысленно согласился с командиром. Идти точно в геометрический центр города – это была правильная идея. Во-первых, в центре издревле находилось что-то самое главное: цитадель, ратуша, храм, святыня, управляющий комплекс, в конце концов.
Во-вторых, всем хотелось посмотреть на «земную ось» вблизи (почему-то они решили, что ось проходит сквозь башню до самого основания, хоть это и была явная глупость). Наконец, в-третьих, было интересно – просто как тест – не изменилась ли логика людей будущего настолько, что отель «Полюс» окажется размещен в стороне от полюса.
– И ты уверен, – спросил Любомир, – что в этой ночлежке светлого завтра нам дадут поесть?
– А Цаневу бы только пожрать, – буркнул Женька.
– И женщину, – поправил Цанев.
– В лучшем на весь город отеле не может не быть лучшего на весь город ресторана, – рассудил Черный.
– Кто знает, – усомнился Любомир. – От этих рукосеков можно ждать чего угодно. Так что я бы предпочел перекусить в ближайшей забегаловке. Видали, как их тут много?
– А чем ты думаешь платить? – поинтересовался Станский.
– Между прочим, – с гордостью сообщил Любомир, – у меня с собой десятка.
– У меня двадцать пять, – похвастался Женька.
– Идиоты, – сказал Станский. У него было рублей пятнадцать, а у всех вместе – около семидесяти. – Кому они здесь нужны, наши бумажки?
– Кто знает, – снова засомневался Цанев, – тут все так хорошо говорят по-русски…
– Если даже в ходу рубли, то не такие.
– Логично, Рюша, – Цанев согласился, – ну в отеле, что же, нас встретят, ты полагаешь, как родных, и не будут спрашивать этих самых нью-рублей?
– Не знаю, – огрызнулся Черный. – Просто нам надо в этот отель. И нету у нас других ориентиров в этом проклятом мире.
Женька никак не мог понять, отчего они так злятся, Рюша и Эдик.
Да, странного и даже страшноватого обнаружилось много, но, черт возьми, все было жутко интересно. И была Крошка Ли. Женька вдруг очень отчетливо ощутил, что в нем сильнее всего, сильнее всех соблазнов и искушений его симпатия, его влечение, его страсть (он еще не решился сказать «любовь») к Крошке Ли. И теперь, когда роскошная, ошеломляющая пестрота города уже немного примелькалась, он снова думал о ней, только о ней, о прекрасной серебрянотелой девушке с пятого радиуса.
– А вот еще одна Крошка Ли, – сказал вдруг Любомир, и Женька вздрогнул, словно Цанев подслушал его мысли.
У входа в некое заведение, построенное в восточном стиле и с надписью только на хинди, собрав небольшую толпу зевак, красивая женщина с очень тонкой талией исполняла под индийскую музыку – и исполняла блестяще – танец живота. Конечно, Женька сразу понял, что это не Ли, но скафандр на ней был в точности такой же, и волосы были черные. А надо заметить, путники уже несколько раз встречали женщин в скафандрах, но ни разу они не были серебристыми, а все время цветными, более или менее прозрачными, и всякий раз, провожая взглядом их роскошные фигуры, Женька пытался догадаться, кто они: инопланетянки? пилоты дальних рейсов? охотницы за жемчугом?
Эта была танцовщицей. И танцевала она прекрасно. Все четверо невольно остановились и некоторое время смотрели на виртуозные, манящие таинственной прелестью движения.
– Жрать хочу, – напомнил Любомир.
– Тьфу на тебя, – сказал Черный и вдруг спросил: – Ребята, а помните Светку?
Вопрос показался глупым: кто так спрашивает о человеке, которого знаешь вот уже несколько лет и которого видел в последний раз месяц назад? Но потом, когда дошло, что ведь не месяц минул с тех пор, совсем не месяц, сделалось страшно.
– Померла давно наша Светка.
Это сказал Любомир, и в его циничной фразе, совсем не ставшей ответом на вопрос Черного, был весь ужас их положения и все пренебрежение к этому ужасу. И Женька понял, что Любомир прав, что говорить об утраченном прошлом можно теперь только так – грубо и просто – или не надо говорить вовсе.
Танцовщица меж тем закончила, наверно, она была зазывалой, многие зрители потянулись внутрь, а они четверо пошли дальше, и Женька, вернувшись мыслями к Крошке Ли, вслух предположил:
– Артисты у них, что ли, так одеваются?
Но никто ему не ответил, а когда Женька взглянул на Черного, то увидел на лице его выражение упрямства, спортивной злости и бесшабашного отчаяния, выражение человека, идущего на смертельный риск, выражение, слишком хорошо знакомое Женьке. Это был Черный, рвущийся к финишу: бегун на последней прямой, лыжник на последнем подъеме трассы, полярник на последнем километре маршрута. Черный шел к Полюсу, шел упорно и неостановимо, как безумный капитан Гатерас у Жюля Верна, и плевать ему было, что полюс – теперь уже не точка во льдах, а шикарный отель с рестораном. Плевать! У него есть цель, и он обязан ее достигнуть.
И он заразил их всех своим сумасшедшим энтузиазмом. И взмокшие, голодные, злые, они шли, набычившись, переступая с бегущих дорожек на простые, а с них – опять на бегущие, шли, не замечая вокруг уже никого и ничего, шли, сжимая оружие побелевшими пальцами, шли, поднимаясь на мостики, перекинутые через быстроходные линии или через широкие каналы с прозрачной водой, в которой среди водорослей плавали красивые разноцветные рыбы, шли, не обращая внимания даже на появившийся справа лесной массив и замаячивший слева спортивный комплекс со знакомыми очертаниями площадок, рингов, кортов, бассейнов и большой чашей стадиона вдалеке. Они шли, зная только одно: впереди – Цель, впереди – Полюс, и Полюс возник перед их воспаленными взорами, возник из суеты, толчеи, мерцания и блеска, и они сразу поняли, что путь окончен.
7
Это было здание потрясающей архитектуры. Это была гигантская глыба льда, местами ослепительно гладкая, местами припорошенная снегом, местами сверкающая множеством кристаллов. Окон не было. Как и колпак над городом, здание отеля было прозрачным, а его верх (именно верх, о крыше говорить не приходилось) венчала такая же золотая башня, как и снаружи – огромный золотой сталагмит метров в двадцати в диаметре у основания, а вверху превратившийся в шпиль, в мачту, в ось, пронзавшую купол. И все сияло ярким до боли в глазах блеском отраженного света, льющегося непонятно откуда. И ледяная глыба дышала холодом, а золото над ней полыхало жаром, и у самого основания этот горячий сталагмит как бы плавился, тек и раскаленными до розовато-оранжевого оттенка, тяжелыми каплями оползал по морозным заиндевевшим граням огромного кристалла. И это парадоксальное, это невозможное зрелище завораживало, хотя, конечно, было понятно, что золото наверху абсолютно твердое, что лед – это вовсе не лед и что все вместе имеет комнатную температуру. Не лед-то оно не лед, а вот что? Женька, имевший по институту некоторое представление о кристаллографии и технологии роста кристаллов, задался этим вопросом сразу, еще не перестав восхищаться архитектурным шедевром. Стеклом это быть не могло: видно было даже на глаз, что коэффициент преломления гораздо выше, грани невероятного кристалла играли в лучах света, как у настоящего бриллианта. Да и по прочности для такой махины стекло не годилось. Значит, горный хрусталь, то бишь кварц. Или фианит? А может, лейко-сапфир? Но откуда же, черт возьми, этакая громадина?!
Потом Женька словно очнулся: ему ли судить, откуда. Угодил дуриком бог знает в какой век – и туда же – лезет судить о здешней технологии со своими куцыми знаниями. Да что угодно это может быть! Супергиперлейко – хренатит. Или просто алмаз.
(Позднее они узнали, что все здание отеля «Полюс» действительно было сделано из алмаза).
А двери обнаружились не сразу, хотя яркая зеленая вывеска четко обозначала место входа. Двери выдавали себя лишь золотыми круглыми кнопочками размером с шарик для пинг-понга. Стоило нажать на одну из них, и тяжелые прозрачные плиты бесшумно уплыли в стены. А в просторном вестибюле оказалось прохладно, уютно и как-то очень знакомо: кресала, люстры, ковры, лестницы, лифты, кадки с фруктовыми деревьями, фонтан, длинный ряд дисплеев для регистрации и – уже совсем как приятный сюрприз – привычная, но такая неожиданная здесь фигура портье за конторкой. Портье приветливо улыбнулся. Это был здоровяк лет двадцати пяти с пышными золотыми кудрями; такая внешность как-то совсем не вязалась с его должностью.
– Мы бы хотели номер, – робко, чуть ли не заикаясь и даже забыв поздороваться, сказал Черный.
– Господа желают один четырехместный номер?
И у этого нордянина был изумительно чистый русский язык.
– Да, – согласился Черный.
– Господа желают с видом на лес?
– Да, – вновь подтвердил Черный, будто он напрочь позабыл все остальные слова.
– Рекомендую господам тридцать третий на двенадцатом этаже.
Заполните, пожалуйста, – он показал рукой на четыре слабо замерцавших экрана и набрал что-то на своей клавиатуре.
А когда четверо в растерянности остановились каждый перед своим дисплеем, портье напомнил:
– Ваш персональный индекс, господа.
Вместе с индексами на экранах возникли фотопортреты, сделанные при входе в город, и некоторое время слышался тихий писк, видимо, происходило сличение внешности. Потом экраны погасли.
– Возьмите ключи, господа, – портье выложил на контурку четыре золотых монетки.
Черный сгреб их в ладонь и стал озадаченно рассматривать.
Собственно, это были не ключи, а только бирки от ключей, бляшки с красиво отчеканенными рельефными цифрами номера.
– Желаю господам приятного отдыха, – сказал портье.
И все! И ни слова о деньгах. А спрашивать они побоялись. Уж больно не хотелось менять номер в шикарном отеле на камеру в полицейском участке, даже если в конце пути ждали еще более роскошные апартаменты, что, впрочем, было сомнительно. Меж тем доброжелательный, почти заискивающий тон портье действовал успокаивающе, и Любомир набрался наглости поинтересоваться, где можно поужинать.
– Господа желают ужин в номер или предпочтут провести вечер в нашем ресторане? – портье продолжал демонстрировать образец любезности.
– В ресторане, пожалуй, – Любомир переглянулся со Станским, тот кивнул. Женька мысленно согласился: побывать на публике было гораздо полезней.
– Ресторан на восьмом этаже. Желаю господам приятного аппетита.
«Черт возьми, – напряженно размышлял Женька, – неужели и в ресторане не спросят о деньгах? Не может быть, чтобы у них вообще не было денег. Впрочем, есть два варианта. Либо все приезжающие в Норд безумно богаты (что-то такое говорила крошка Ли), и тогда персональный индекс равнозначен номеру счета в банке. Либо, черт возьми, у них тут коммунизм. Но если так, то коммунизм это довольно странный…»
Они уже шли к лифту и, словно мелкие жулики, стянувшие калач на рынке, спешили затеряться в толпе. Но никакой толпы в «Полюсе» не было. Были отдельные редкие постояльцы. Молодые. Здоровые. Крепко сложенные. Красиво одетые. Не обращающие никакого внимания на вновь прибывших чудаков с оружием, с огромными рюкзаками и с обветренными лицами. Да, разумеется, незаметными быть удобно – умом они понимали это, но эмоционально безразличные аборигенов подавляло. Быть может, поэтому неугомонный Любомир, увидев одиноко стоявшую под пальмой миловидную девчушку, одетую в этакие кожаные доспехи, пестрящие бляхами красной меди, подбежал к ней так быстро, что Черный даже не успел спросить, чего он хочет.
Разговор у Цанева с «будетлянкой» вышел короткий, но полный улыбок и выразительных жестов. Любомир почти все время стучал по часам и вернулся совершенно счастливым.
– Ты что, – спросил Женька, – договорился с ней о встрече?
Цанев молчал и глупо улыбался.
– Она сказала что-нибудь про нас? – полюбопытствовал Эдик.
– Что она тебе рассказала? – Черный произнес это страшным голосом, голосом человека, ведущего допрос. Черный вообще с тех самых пор, как они увидели эти проклятые руки в трюме, проявлял признаки шизофреника с манией преследования.
– Я узнал, – прорвало, наконец, Цанева, – я узнал, сколько лет мы проспали. Ровно сто пятнадцать.
– Как?! – это был общий выдох.
Потом заговорил Станский:
– Ты хочешь сказать, что Великий Катаклизм произошел в год нашего ухода на полюс?
– Именно. Но это не я хочу сказать – это так и есть.
Хитрый Любомир сказал той девушке под пальмой, что у него сбились все показания на часах, включая год, а поскольку часы у него древние, то и год его интересует по старому летоисчислению.
– Так это что же получается? – осенило вдруг Черного. – Изобретение анафа Эдиком и есть Великий Катаклизм?
– Вряд ли, – ответил Станский, и Женька сразу почувствовал, что Эдику хочется думать, больше всего на свете хочется думать, что это именно его изобретение перевернуло всю мировую историю – вот почему он пытается доказать обратное, – вряд ли, если б использование анафа приобрело характер катаклизма, это привело бы к регрессу. А здесь налицо явный прогресс. Учтите, сто пятнадцать лет не такой уж большой срок для создания города на Северном полюсе. Думаю, для этого понадобился какой-то более серьезный процесс, чем массовое общедоступное замораживание.
Безусловно, Эдик был прав, и Женька вдруг даже стало жаль его.
Анаф, черт возьми, великая вещь! Что же там такое произошло? И главное, в тот же год! Женька поймал себя на мысли, что никогда раньше, несмотря на уйму прочитанной фантастики, не задавался вопросом, а каким же будет мир через сто лет, и потому сейчас не мог, как Эдик, с гениальной небрежностью оценить, перекрыло ли человечество нормальные темпы или отстало в своем развитии.
Приходилось верить Станскому.
Возразить сумел Цанев:
– Чепуха, – сказал он. – Рисую элементарную схему Великого Катаклизма. Анаф на службе мира и прогресса. Представим себе: гибернация общедоступна. Кто захочет уйти от борьбы? Лентяи, трусы, подонки, мразь. А лучшие представители человечества принимаются, засучив рукава, – теперь им никто не мешает – строить дворцы на дрейфующих льдах. И вот прекрасный новый мир готов. Куда девать замороженную сволочь? Можно, конечно, пустить в расход. Но лучшие представители человечества гуманны. Подонков прошлого размораживают, создают им все условия. Резвитесь, теперь вы не опасны. И они резвятся, оплакивая прошлое, которое раньше проклинали, и барахтаясь в собственном дерьме. В такой, примерно, «резвятник» мы с вами и угодили. Уай нот? Как говорят англичане.
– Блестящая версия, – похвалил Женька. Ему понравились рассуждения Любомира.
– Но это же знаменитая концепция Сенклю, – хмыкнул Черный. – «Добровольная и принудительная селекция вида гомо сапиенс» – так, кажется, называлась эта статья?
– Да, – сказал оживившийся Станский, – но Любомир излагает по-своему. Так что я бы назвал это концепцией Цанева. А ты молодец, Рюша, помнишь еще наши дискуссии.
– Подумаешь, – ответил Черный, – продержать в памяти фамилию крупнейшего французского социолога и название его скандальной статьи в течение каких-то ста пятнадцати лет! Раз плюнуть.
И тут они вспомнили, что направлялись к лифту. В лифте тоже не обошлось без приключений. В кабину к ним вошла та самая девушка в кожаном с медью костюме. Любомиру она улыбнулась, как старому знакомому, но разговаривать была явно не намерена. Женька отметил про себя, что в глазах ее промелькнуло что-то необъяснимо странное, если не сказать, жуткое. Свой этаж девушка не назвала, и Черный растерянно произнес:
– Нам на двенадцатый.
После чего лифт бесшумно тронулся.
И вот тогда девушка, стоявшая в углу, закрыла глаза и стала медленно оседать на пол. Это было так неожиданно, что ни один из четверых даже не успел еще ничего сказать, когда лифт внезапно остановился, двери открылись, и вошли двое парней в джинсах и коротеньких курточках, точь-в-точь таких, какие носили сто пятнадцать лет назад. Парни перекрестились, потом очень грубо подняли девушку под мышки, с непонятной тщательностью изучили ее часы и, совершенно не обращая внимания на стоящих в лифте пришельцев, шагнули в дверной проем. Цанев первым вышел из оцепенения и, еще не придумав, что сказать, просто схватил одного из парней за рукав. Тот обернулся и произнес несколько слов на незнакомом языке.
– Что с ней? – спросил Цанев по-русски.
– Глупый вопрос, – по-русски ответил парень. – Она мертва.
– Вы что, врач?! – обозлился Цанев. – Может быть, ей просто стало плохо.
Парень выразительно постучал себя пальцем по голове, причем было ясно, что за сто пятнадцать лет смысл этого жеста изменился не слишком, а его спутник повернулся и, равнодушно двигая челюстями (он что-то жевал), коротко и непонятно выругался. После чего оба вышли на этаж и, не оглядываясь, поволокли недвижное тело по коридору. Двери лифта сомкнулись.
– Двенадцатый, – повторил Черный.
Кнопок в кабине не было, и он уже понял, что лифт воспринимает голос.
– Напьюсь, – сказал Любомир и в бессильной ярости сжал кулаки на лямках рюкзака.
– Все напьемся, – мрачно откликнулся Черный. – Только сначала я хочу избавиться от этой винтовки. Вы себе не представляете, как мне хотелось выстрелить! И не потому, что я собирался убить его. А просто, чтобы меня и мою винтовку, наконец, заметили, просто, чтобы расшевелить это болото!
– Ну, убил бы ты одного, – спокойно сказал Станский, – а второй поднял бы его и, не сказав ни слова, выволок бы из лифта два трупа.
– Сумасшедший дом, – сквозь зубы процедил Черный.
– Что-то вроде, – серьезно согласился Станский. – Думается, Норд – не совсем обычный город.
Дежурного на этаже не было. Не было и столика для дежурного. А у двери с номером 1233 они сразу поняли, как обращаться с ключами: вместо замочных скважин здесь были прорези для жетонов, как в метро. С противоположной стороны двери жетон падал в специальный карман.
– Подумаешь, «двадцать первый век»! – проворчал Цанев.
– Стиль «ретро» – предложил Женька.
– Именно, – подтвердил Станский. – Про что я и говорю, мужики. В концепции нашего эскулапа Цанева мне нравится то место, где он определяет Норд как резервацию для размороженной сволочи. Похоже на истину. Здесь слишком много примет нашего времени, а объяснение предельно просто: они и есть наши современники, и среди здешнего золота, хрусталя и мотоциклеток на воздушной подушке смотрятся идиотами. Ну, а на большой земле все иначе. Не верю, что весь мир такой.
– А я верю, – сказал Черный. – Все очень естественно. Катаклизм двинул вперед экономику, а нравственность, как водится, отбросил назад. И вот через сто лет у них всепланетное изобилие, в котором живут зажравшиеся свинки. Нет, хуже – жестокие, равнодушные моральные уроды. Уай нот? Как говорит Цанев.
– Чудовищный пессимизм, – заметил Женька, – дремучий пессимизм.
– И между прочим, тоже не ново, – сказал Станский. – В наше время такое будущее пророчил людям американец Стейнбридж.
– Слушайте, философы, сейчас я кого-нибудь пристукну, – Любомир стоял уже голый на пороге ванной в предвкушении горячего душа. – Давайте все делать быстро. Жрать хочу.
– Погоди, Цанев. А как ты думаешь, – спросил Женька, – эта девушка в лифте, она была мертвая?
– Я думаю, – раздельно и зло произнес Цанев, – что мы этой девушке ничем помочь не могли.
И хлопнул дверью.
– Не зли эскулапа, Евтушенский, – посоветовал Черный. – Думаешь, ему легко?
– А думаешь, мне легко?! – взорвался Женька.
– Всем трудно, мужики, – встрял Эдик. – Не надо ссориться.
Ссориться нам нельзя. Нас только четверо, и мы должны держаться вместе. А ты, Женька, вообще помалкивал бы. По законам двадцатого века ты – преступник. Не забывай об этом.
А Женька и впрямь уже забыл о своей выходке там, в далеком прошлом, о выходке, давшей начало всей этой страшненькой истории.
А, впрочем, такая ли уж она страшненькая? Так ли уж плохо, что они попали сюда, они – четверо несчастных детей больного века, которым нечего было терять. Еще спасибо скажут за экскурсию в будущее. А то – ишь, раскудахтался: преступник! преступник! Псих гениальный.
Но вслух Женька ничего не ответил Эдику, и тот не стал продолжать.
– Здесь есть второй душ, – поведал Черный. – Я пошел.
8
В ресторан они пришли как раз вовремя. Вот-вот должна была начаться вечерняя программа варьете. Об этом сообщил официант в белоснежном костюме с зелеными отворотами, который проводил их за свободный столик в центре зала почти у самой эстрады и очень скоро вернулся с меню в руках. В меню обнаружилось много знакомых названий, и настроение у четверки пришельцев из прошлого начало резко улучшаться. Ресторан «Полюс» вообще оказался удивительно симпатичным с его изысканным обслуживанием по высшему разряду, с его приятными белыми столиками и удобными мягкими темно-зелеными креслами и диванчиками, с его изумрудными коврами, похожими на поросшие травой дорожки, и большой зеркальной площадкой для танцев, с его радужно искрящимися люстрами, с его белыми и ноздреватыми, как весенний снег, стенами, с его роскошной, мощной, в три обхвата, уходящей в пол и потолок «земной осью», сияющей чистым золотом. Ось расположена была точно в центре зала, а вокруг оси ходили три белых медведя, старательно терлись об нее боками и то и дело норовили встать на задние лапы, словно хотели лечь спиной на золотую поверхность, и ось поворачивалась, как бы вращаемая ими, и звери были такие настоящие, что Черный даже пошутил:
– Эх, жаль винтовку в номере оставил!
А Женька смотрел на медведей и не мог отвести от них взгляда.
Внимание его друзей уже переключилось на меню, Любомир громко зачитывал наименования понятных и непонятных блюд, а Женька слушал вполуха и все смотрел и смотрел на ось и на медведей.
«Не может быть, я просто схожу с ума. Ну, при чем здесь песня шестидесятых годов. Вон ребята даже и не вспомнили. Ну, ось, ну, медведи, ну и что? Элементарное совпадение».
И тут зазвучала музыка. И Женьку бросило в дрожь. Волшебные ноты простой, но прекрасной мелодии Зацепина нельзя было спутать ни с чем.
Черный, Станский и Цанев замерли и перестали говорить. Строки старой песенки били не в бровь, а в глаз, словно сочиненные только что. После припева вновь зазвучал первый куплет, но теперь уже на английском языке.
– Ты смотри-ка! – сказал Эдик. – И через сто лет живы песни нашей юности. Кто бы мог подумать!
– Женькина любимая, – вспомнил Черный. – Специально для него заводили. А помнишь, Евтушенский, как Светка под эту песенку отплясывала?
А песня звучала уже по-французски, потом по-испански. Потом – на каких-то восточных языках. И Женька понял, что здесь это нечто вроде позывных к началу программы, нечто вроде гимна отеля «Полюс», а может быть, и города Норда. Но почему? Ведь не для того же раскопали эту древнюю песню, чтобы теперь поиздеваться над ним, над Женькой, сбежавшим из настоящего в будущее, а оказавшимся в прошлом, в благословенных шестидесятых – с Крошкой Ли, так похожей на «кавказскую пленницу», с чудной песенкой, принадлежащей той эпохе… Необходимо было узнать, в чем тут дело.
Женька встал и подошел к соседнему столику.
– Простите, я впервые в Норде. Вы не смогли бы объяснить мне, почему здесь исполняется именно «Песенка о медведях»?
– Как, вы не знаете?! – воскликнул курчавый юноша в смокинге, явно рисуясь перед своей спутницей.
Он оказался из той породы людей, которым доставляет истинное удовольствие выдавать какому-нибудь простаку общеизвестные вещи за сногсшибательную новость. И Женька узнал, что по результатам компьютерного анализа еще в 2001 году «Песенка о медведях» 1966 года была признана лучшим шлягером всех времен и народов по разряду песен, имеющих отношение к полярной тематике. Женька воспользовался случаем и как бы невзначай спросил:
– А Норд-то в каком году построили? (Дескать, вечно я забываю эту дату).
Курчавый ответил обстоятельно:
– Начали еще в прошлом веке, а закончили в 2025-ом.
Потом он подманил Женьку пальцем и шепнул ему на ухо:
– Вы что, юный квазист?
– Нет, – сказал Женька и соврал. Он просто еще не знал тогда, что все они четверо по сути дела юные квазисты.
– Ну что, забавно? – спросил Женька, изложив весь свой разговор друзьям.
– Впечатляет, – сказал Черный. – Чем дальше в лес, тем больше дров.
Принесли водку и коньяк в графинчиках, две бутылки вина, закуски.
На круглой эстраде, охватившей кольцом ось с медведями, шло яркое эстрадное представление с песнями, танцами, трюками, полуобнаженными девочками, то и дело сбрасывающими еще какие-то предметы своего туалета. И было оно в общем достаточно заурядным. Гости из двадцатого века отметили, разумеется, достоинства аппетитных фигурок танцовщиц «Полюса» и их безусловное мастерство, но мастерство поваров произвело на них более сильное впечатление, и, когда на сцене происходили не совсем понятные вещи или на вполне понятные вещи в зале возникала странная реакция, они поначалу не придавали всему этому значения. Фантазия дельцов шоу-бизнеса всегда была неисчерпаемой, а люди с годами меняются.
Но потом отдельные моменты в выступлениях артистов стали навязчиво повторяться, и не заметить это было уже невозможно.
Например, фокусник-иллюзионист жонглировал оранжевыми, похожими на апельсины мячами, которые внезапно прямо в его руках стали превращаться в этакие ящички наподобие портативных магнитофонов, ящички в свою очередь незаметно подменялись серебристыми, размером со спортивное ядро шарами, и, наконец, те вновь становились оранжевыми. Их фокусник один за другим ронял в отверстие в полу, а последний шар, оставшийся в его руках, оказывался настоящим апельсином, и под восторженные крики публики артист чистил его и съедал несколько долек.
Конечно, фокусник работал красиво, но чувствовалось, что экзальтация толпы не пропорциональна мастерству артиста и связана с чем-то еще.
Самое интересное началось, когда под рев, топот и визг на сцену выбрался из люка (а именно так появились и все остальные выступавшие) худощавый парень в линялых джинсах, трепаных кроссовках «Арена» и майке с эмблемой Олимпиады-80. Была у него короткая стрижка, темная бородка клинышком под Иисуса Христа и большие карие глаза.
– Витька! – невольно вырвалось у Черного.
Конечно, это был не Витька, но, черт возьми, кривлявшийся на сцене артист, как две капли воды, походил на Витьку Брусилова.
– Брусника, – прошептал Женька.
– Помер наш Брусника, – отозвался Любомир.
И, не говоря больше ни слова, все четверо дружно опрокинули свои рюмки.
А меж тем лже-Брусилов отплясывал на сцене сумасшедший танец.
Изломанные движения были красивы и страшны одновременно. И чем больше Женька смотрел, тем лучше понимал, что никакой это, конечно, не Брусника, да и похож-то весьма относительно, так, наваждение одно, ностальгия, тоска по прошлому.
Внезапно сверху свалился огромный апельсин, и похожий на Витьку артист замер перед ним в нелепой позе. А кожура апельсина раскололась с треском на несколько долек, и вместо мякоти, как в старой итальянской сказке, внутри оказалась ослепительной красоты девушка в белоснежном купальнике. И она была страшно похожа на Светку, но это уж, конечно, с пьяных глаз, все они, красивые, на Светку похожи.
Вдруг все на сцене и в зале сделалось черно-белым.
Монохроматические лампы врубили, догадался Женька, но от догадки этой легче не стало. Разум захлестывало ощущение ирреальной жути.
Красавица из апельсина изламывалась еще ужаснее, чем лже-Брусилов, и медленно наступала на него, выбрасывая вперед скрюченные ноги и руки. И лже-Витька дергался, сгибался, корчился и, наконец, упал.
И тогда освещение стало ярко-оранжевым, а из раскрытого апельсина одна за другой начали выходить изящные девушки в легких платьицах, и каждая несла в руках давешний ящичек, точь-в-точь такой же, каким жонглировал фокусник. Они танцевали вокруг лежащего ничком артиста, а потом поставили на пол свои ящички и, не прекращая слаженных ритмичных движений, принялись срывать с себя одежду и заталкивать ее в эти самые ящички, и оттуда повалил густой дым и стал обволакивать оранжевыми клубами уже почти обнаженные тела девушек, и те начали задыхаться, хватаясь за горло, качаясь, скрючиваясь, падая, а лже-Брусилов вскочил и метался меж ними…
Потом на несколько секунд стало совсем темно, а когда сцена и зал вновь возникли во всем многоцветье, на эстраде порхали стройные девушки в зеленых пачках и с букетами цветов в руках.
– Вы что-нибудь поняли? – поинтересовался Черный, возвращаясь к тарелке.
– Я понял, что все это неспроста, – изрек Станский.
– Ты необычайно проницателен, – сказал Любомир.
Следующий номер начался под звуки бравурного марша, видимо, хорошо известного собравшимся в ресторане. Уже самые первые аккорды были встречены аплодисментами и одобрительным гулом. На сцену выбрался все тот же любимец публики, только теперь он был во фраке, белоснежной манишке и лаковых штиблетах. И размахивал дирижерской палочкой. Откуда-то с потолка, с преувеличенным свистом разрезая воздух, брякнулся на эстраду неизменный волшебный ящик – любимый атрибут здешних артистов. Лже-Брусилов взмахнул своей палочкой, и маленький ящичек, казавшийся до этого металлическим, начал раздуваться, словно резиновый. И чем сильнее он раздувался, тем лучше была заметна его хитрая конфигурация: он то терял форму параллелепипеда, то обретал ее вновь, и в итоге оказался открытым с двух боков, а сверху имел углубление круглой формы. Все углы сгладились, поверхность огромной теперь коробки сияла голубовато-серым металлическим блеском, а сечение черных провалов по бокам было достаточным, чтобы зайти в них, лишь слегка пригнувшись, что артист и делал время от времени в процессе своего дурашливого танца. И когда все зрители поняли, что он надувал ящик именно для того, чтобы в него залезть, лже-Брусилов поклонился и изящным жестом вызвал на сцену ослепительную красотку, ту же как будто, что появилась из апельсина, а может быть, просто все они были на одно лицо. Красотка в брюках, плаще и с сумкой через плечо, танцуя, приблизилась к лже-Брусилову, и тот, поцеловав ее в щеку, указал палочкой на черный проем, оказавшийся чем-то вроде шторок, за которыми она и исчезла. Музыка прекратилась. Артист взмахнул палочкой и замер, раскинув поднятые руки, как черные крылья. Под барабанную дробь, звучащую все громче и громче, резиновый ящик начал мелко дрожать, и девушка в плаще, вошедшая в него слева, выскочила теперь справа с несколько ошалелым видом.
Публика почему-то была в восторге, а для четверки путешественников суть этого фокуса стала ясна лишь через несколько секунд, когда из левой половины ящика вышла точно такая же красотка, очень похожая внешне и так же одетая. Было это в общем довольно глупо, но всем нравилось, и спектакль с успехом продолжался. На левую красотку, скромно вставшую возле входа в ящик, лже-Брусилов никакого внимания не обратил, правая же – повергла его в величайшее уныние.
Артист запрокинул голову, карикатурно, со стоном обхватил ее руками, и со звуком молота, бьющего по пустой цистерне, врезался лбом в стенку своего ящика. И это, пожалуй, было действительно смешно. Тут же, как по сигналу, левая девица вошла обратно сквозь шторки, а правая быстро и весьма изящно вскарабкалась наверх и скрылась в углублении, после чего послышалось бульканье и шипенье, вызвавшее взрыв смеха в зале. Лже-Брусилов сделал несколько отчаянных пассов руками, музыка опять смолкла, и под барабанную дробь снова затрясся серебристый ящик. Красавица, выскочившая справа, была теперь в джинсах, в футболке и босиком. А слева вышла со скучающим видом все та же, в плаще.
– Ну, братцы, – сказал Станский, – такого сверхоригинального стриптиза я еще ни разу не видел!
Женька обозлился: ишь, специалист по стриптизам! Можно подумать, что за две недели симпозиума в Дортмунде Станский обошел все тамошние ночные рестораны. Пижон! Почему-то Женьке очень не хотелось верить, что это просто стриптиз. Но события на сцене развивались бурно, спорить было некогда, хотелось побольше увидеть, услышать, прочувствовать. И хотелось побольше понять. Черт возьми, сквозь все низменные, свинские инстинкты пробилось-таки и это лишь человеку свойственное стремление – понять. И Женька смотрел во все глаза и думал, думал, думал.
В новом наряде лже-Брусилов принял свою красавицу спокойнее, но все-таки опять в отчаянии ударился лбом о стенку, и девице пришлось вновь исчезнуть в ящике, запрыгнув в него на этот раз рыбкой, и что-то вновь булькало и хлюпало, словно огромная раковина всасывала в себя воду.
На третий раз красотка оказалась в колготках и рубашке, завязанной на животе узлом, а в ящик прыгнула красивым, профессионально отработанным флопом. В четвертый – на ней был лишь бикини ярко-розового цвета, а скрытый в полу трамплин позволил сделать сальто, прежде чем упасть в ящик. В остальном все было так же. А вот пятое появление стало сюрпризом: красотка вышла в золотистом скафандре, таком, как был на Юхе, подруге Ли. И зал ответил на это шквалом аплодисментов, криками, пальбой из хлопушек, – словом, радостью небывалой. Женька растерялся, все мысли его спутались, и что-то говорил Станский, и Черный упрямо раскрыл рот, но ничего не было слышно.
А лже-Брусилов в ответ на скафандр изобразил гнев и ярость: подпрыгивал, топал ногами, рвал на себе волосы, клочьями бросая их на пол, а под занавес огреб в охапку прекрасное золотистое тело и собственноручно запихал его в ящик сверху.
От шестого же выхода Женьку бросило в жар.
Да, танцовщица была очаровательна даже в плаще, да, тело ее было само совершенство, да, в колготках и, тем более, в бикини она не могла не возбуждать, но все это были детские игрушки рядом с ее шестым выходом. Рядом с шестым выходом этой королевы секса казались смешными и несерьезными все самые блистательные танцы Светки, все когда-либо виденные Женькой эротические сцены в кино, наконец, все, что он успел увидеть и нафантазировать здесь, в Норде.
Наготу танцовщицы прикрывали теперь лишь две ярко-салатовых звездочки на сосках, да такого же цвета узкая полоска ткани между ног. Но не это было главным. Главным были ее движения, ее позы, жесты – невероятные, неподвластные уму, гипнотизирующие.
И лже-Брусилов упал на колени, издав вопль восторга, и на коленях пополз к ней. И вот тогда в шестой раз безропотно вышедшая из ящика слева девушка в плаще подошла к коленопреклоненному артисту и, подняв его за шиворот, под веселый смех публики подтащила к ящику и затолкала туда же, где исчезали все ее «двойняшки». И снова было бульканье, а обнаженная продолжала танцевать как ни в чем не бывало. Потом та, что в плаще, взяла и проткнула пальчиком пресловутый ящик, и он стал со свистом сдуваться, сморщиваться, а обнаженная все танцевала, и, наконец, волшебная конструкция легла грудой серебристого тряпья у ног девушек, и тогда в зале погас свет.
Вспыхнул он уже при пустой сцене. Только белые мохнатые звери все так же монотонно вращали ось, и тихо, будто откуда-то очень издалека, быть может, из прошлого века, доносилась мелодия «Песенки о медведях».
9
Любомир наполнил рюмки, и они выпили, молча и не чокаясь. Выпито было уже немало, но хмель не брал их. Или почти не брал.
– Никто не желает прогуляться в сортирное заведение? – спросил Женька.
– Пошли, – сказал Цанев.
Петляя между столиками, они прислушивались к разговорам. Здесь объяснялись на разных языках, в том числе и абсолютно незнакомых, но русский был все-таки очень популярен в Норде, и фразы на нем то и дело слышались отовсюду.
– Кротов сегодня будет здесь. Я тебе точно говорю. Кротов…
– … потрясающее впечатление. Она выходит из воды вся в грязи…
– Представляешь, он прямо так подваливает ко мне и говорит:
«Оранжисточка ты моя…»
– Куда ведет сценический прогресс, этого еще никто не знает…
– … разговаривать с человеком, который не может отличить зеротан-А от зеротана-Б…
– Действительно, – тихо сказал Любомир, – о чем можно говорить с таким человеком.
Женька грустно хмыкнул.
Они уже входили в сверкающий белизной и зеркалами туалет.
– … так что я не против грин-блэков в принципе, но методы!..
– Сибр твою мать, прости Господи, но это же бардак!..
– … эти антисеймерные шоу. Они, по сути, превращаются в антибрусиловские. Противно…
«Вот именно, – подумал Женька. – Антибрусиловское шоу».
И тут же: «Что?!!»
Он чуть не бросился догонять говорившего, но тот уже скрылся за дверью.
– Слышал? – спросил Женька у Любомира.
– Что? – не понял Любомир.
– Про Брусилова.
– Про Брусилова – только от тебя.
И Женька понял: Цанев ничего не слышал. Может быть, и не было ничего.
– А что такое? – спросил Любомир.
– Да так, зеротан-Б, зеротан-А, лабуда всякая.
«Схожу с ума, – думал Женька в панике. – Антибрусиловское шоу и артист, похожий на Витьку. Впрочем, Брусиловых на свете много.
Ведь так? Ну, а эта секс-бомба? Вылитая Светка. Может, Цанева спросить? И ведь еще не пьян. Антибрусиловское шоу… Зеротан-Б…
Сибр вас пересибр! Господи, какой еще сибр?! Схожу с ума».
И снова со всех сторон доносились русские слова:
– Пей до дна! Пей до дна!
– Апельсины только резиновые…
– … говорить по большому счету, Конрад, конечно, не дурак…
– Мамочка, куда же ты пресся?
– А вот и наши сортирные гуляки. Ну, как оно там?
Спрашивал Черный.
– Нормально. Все сделано под старину, – сказал Цанев. – Двадцатый век.
– А вообще очень чисто, – добавил Женька, – и свежайший воздух.
– Предлагаю тост за чистоту сортиров, – провозгласил Цанев.
И тут подошел официант.
– Господа желают чего-нибудь?
– Принесите, пожалуйста, сигарет, – попросил Женька.
– Марка? – спросил официант.
– «Чайка», – брякнул Женька, почему-то вдруг вспомнив детство, школьный двор, майский солнечный день и сигарету «Чайка», одну на троих, которую он тайком стянул у отца.
Официант записал. Потом наклонился над столом очень низко и шепотом спросил:
– Господа не зеленые?
– Нет, – решительно сказал Черный.
– Я так и подумал, – официант расплылся в улыбке. – Тогда могу вам предложить восхитительный деликатес, который есть сегодня в меню – девичьи соски, обжаренные в оливковом масле.
Женька поперхнулся. Цанев приоткрыл рот. Черный смешно хлопал глазами. Станский переспросил:
– Какие, простите, соски?
– Девичьи, – повторил официант все тем же шепотом. – Соски девушек шестнадцати–семнадцати лет. Это лучший возраст, – пояснил он. И видя странную реакцию гостей «Полюса», счел нужным добавить: – Господа пугливы. Я понимаю. В случае чего говорите, что это… ну, я не знаю… пикадульки, что ли, или горох. Хорошо? А вообще имейте ввиду, мы почти не нарушаем закона. Мы получаем соски в виде консервов. Мы не любим рассказывать об этом, но раз уж господа так пугливы… Так что же? Я слушаю вас.
– Давайте соски, – сказал Станский.
– Четыре порции? – поинтересовался официант.
– Три, – сказал Станский, поглядев на белого, почти как столик, Женьку.
– Я тоже не буду есть, – сквозь зубы процедил Черный, когда официант уже ушел.
– Вегетарианцы всегда были мне смешны, – жестко сказал Станский. – А абстрактные гуманисты еще более нелепы в обществе каннибалов. Мне – так будет очень интересно откушать жареных сосков. И никого, заметьте, никого я этим не убью.
– Ты псих, Станский, – выдохнул Черный.
– Надо быть проще, Рюша, – вступился за Эдика Цанев.
– Молчи, эскулап. Вы, медики, все людоеды. По определению.
А Женька ничего не говорил. Женька вспоминал трюм с отрубленными руками и представлял себе другой трюм – полный консервных банок с сосками, нарезанными с шестнадцатилетних девочек… Мелькнула идиотская мысль: сколько же должно стоить такое блюдо? Это ведь даже не соловьиные язычки… Он вспоминал отрезанные руки и чувствовал, что весь роскошный ужин может очень скоро оказаться где-нибудь в невероятно чистом сортире со свежайшим воздухом.
– Очнись, Евтушенский! – толкнул его в бок Цанев. – На вот, выпей.
Рюмка водки пошла на пользу. Тошнота отступила. Но пришел страх.
Мир, в который они попали, был до жути чужим. И коварным. Он расставлял повсюду потрясающе хитрые ловушки с восхитительными приманками в виде примитивных соблазнов, в виде красоты и любви, в виде тепла и уюта, в виде таинственно воскрешенных воспоминаний прошлого. Но на поверку он, этот мир, оказался гадким, грязным, уродливым. Мир, где царила бессмысленная жестокость, разврат, каннибализм и равнодушие к смерти.
Женька порадовался, что наконец-то в голове его зашумело, потому что шум этот все-таки заглушал страх и вместо страха вылезало что-то другое: ясность, злость, даже радость. И поперли стихи.
Именно поперли, грубо расталкивая все и вся, и Женька забормотал:
– Все, привет, – сказал Цанев. – Евтушенский допился.
– Напротив, – возразил Женька. – Я очень ясно соображаю. И я им сейчас прочту.
– Что, это? – спросил Цанев.
– Нет. «Мой апокалипсис».
– Ну, давай, – сказал Цанев.
– Пусть прочтет, – заметил Эдик, – я думаю, это будет интересно.
Черный промолчал. Видно, считал, что все это не всерьез.
А Женька встал и пошел к сцене, где в это время ребята из ансамбля настраивали свою аппаратуру, вспрыгнул к ним и сразу стал заметен в своих ярко-красных штанах из полиэстера и черном свитере грубой шерсти. Он ухватился за первый попавшийся микрофон и сообщил:
– Буду читать стихи.
Раздался свист и одобрительные возгласы. Пополам. Ребята из ансамбля бросили свои дела и оглянулись на Женьку.
– Андрей Евтушенский. «Последнее предупреждение», – объявил тот. И добавил после паузы. – Исполняет автор.
Потом он начал.
И весь ресторан «Полюс» затих. Ресторан насторожился. Женьку слушали. «Будетляне» слушали Женьку.
Включившийся в игру ударник ансамбля где-то на середине стихотворения начал выстукивать ритм, а под конец добавил и другие звуковые эффекты. И получилось здорово. Великолепно получилось.
Непризнанного поэта двадцатого столетия с восторгом принял век двадцать первый. И Женьку распирало от гордости, он спрыгнул со сцены, как, бывало, спрыгивал с ринга после боев, красиво законченных нокаутом. А теперь он нокаутировал весь мир, весь этот проклятый, чужой, непонятный, ужасный мир. Вот он валяется у него под ногами. Ох, какая это была радость! Или, может быть, счастье?
Наверное, счастье.
Это уже потом, на трезвую голову, Женька подумает, как это страшно, когда сочиненное тобой в кошмаре двадцатого века «Последнее предупреждение» спустя столько лет все еще звучит как только что написанное. А в тот момент, в тот прекрасный момент было только одно чувство – чувство упоения победой.
Друзья сразу налили водки. Сухо поздравили. Подходили какие-то люди. Говорили на всяких языках. На русском чаще.
– Преклоняюсь перед вашим талантом.
– Ура Андрею Евтушенскому!
– Что же это ты пишешь, сволочь?!
– Вы специально взяли такой псевдоним?
– Да это же издевка над памятью погибшего!
– Вы из Норда?
– Ах, он из Москвы! Вы слышали, это поэт из Москвы.
– Из Москвы – и такая силища. Каково!
– Не сходите с ума. Это же дешевка.
– Просто попал в струю.
– Это тоже надо уметь.
– Вы слышите, Евтушенский, вы попали в струю!
Потом все постепенно успокоились. Грянула музыка. Начались танцы.
Цанев облапил какую-то полуодетую девочку и был счастлив. Станский танцевал с красоткой в строгом черном костюме и с зеленым бантом на шее. Рюша сидел и пил водку. Женька ему помогал. Официант принес три порции обжаренных в масле сосков и к ним фирменное блюдо ресторана «Полюс» – салат из брусники с апельсинами.
Сигареты «Чайка» официант тоже принес. Сигареты были те самые, шестидесятых годов. Женька уже ничего не соображал. Он вынул сигарету из пачки и закурил. «Ничего особенного, – говорил он себе, – ресторан в стиле «ретро», и сигареты в нем старые. Ничего особенного». Кажется, Женька попробовал даже сосков из тарелки Черного, к которой тот даже не притронулся. А Станский, вернувшийся с танцулек, соски жевал вдумчиво и нахваливал их божественный вкус, особенно в сочетании с брусникой и апельсинами. Цанев есть не стал, зато развел за столом настоящую медицинскую экспертизу – исследовал соски на предмет установления природы среза. Потом выпили еще, и Цанев принялся традиционно ругать себя как врача, а заодно всех советских врачей и всю советскую медицину. Станский напомнил ему, что, скорее всего, никакой советской медицины уже давно нету, а остался только один советский врач – Любомир Цанев, и с ним еще три советских каннибала в качестве гостей вольного города Норда. На мгновение Цанев запнулся, призадумался, но тут же завелся снова, так, видимо, и не поняв горькой иронии Станского.
– В нашей медицине все кругом сволочи, – поведал он.
– В науке то же самое, – возразил Эдик.
Потом они еще выпили.
Потом Женьке стало плохо.
10
Женька сидел на полу в кабине идеально, невероятно, невозможно чистого клозета будущего и, обхватив руками унитаз, мучительно выворачивался наизнанку. Уже вышли грибки в сметане и несколько разных салатов, уже вышли ореховые хлебцы с икрой и розовые ломтики ветчины, уже вышли жульены, пикули, мясные крученки и жареные соски, если это были они, уже вышли водка, коньяк и вино, уже пошла пронзительно горькая зеленоватая желчь, а его все скручивали и скручивали новые спазмы. И было это так противно, так невыносимо – и так знакомо! – что весь пестрый, страшный и безумно чужой мир отодвинулся куда-то на третий, десятый, сто двадцать пятый план. И сквозь боль, усталость, омерзение, слезы сверлила мысль: «Абсурд, абсурд, нелепость! Вот так вот дуриком, чудом, посредством невероятного стечения обстоятельств попасть в далекое, неведомое, пусть страшное, но ведь необычайно интересное будущее, и не найти ничего лучшего, как только напиться вдрызг, упрятаться в сортире и блевать над унитазом, да так, что на все, абсолютно на все стало начхать. Абсурд! Абсурд и нелепость».
Сходное чувство Женька уже пережил однажды, когда двоюродная сестра, работавшая гримером в одном из лучших московских театров, пригласила его встречать Новый Год вместе со всеми сотрудниками, то бишь и с актерами тоже. И столики были накрыты в экспозиционном зале, и было невероятно много живых знаменитостей, собравшихся в одном месте, и любопытных забавных тостов, и веселых аттракционов, и остроумнейших шуток, и просто интересных разговоров, и был чудесный капустник, и танцы, и масса симпатичных молодых артисток… И ничего этого Женька не видел или не помнил, потому что в первый же час праздника ухитрился выпить какое-то чудовищное количество водки, благо никто выпитого не считал, и остаток ночи провел над унитазом в мучениях, потом – около него на полу в полудреме, а будучи разбужен, бродил по театру, как тень отца Гамлета. И, таким образом, вся культурная программа встречи Нового Года в знаменитом театре ограничивалась для Женьки прочтением за столом принятого «на ура» четверостишия, посвященного наступающему году и прозвучавшего пророчески, как ядовитая издевка над самим собой:
И теперь, согнувшись над унитазом двадцать первого века, Женька вспоминал давнюю праздничную ночь в театре и удивлялся собственному умению наступать многократно на одни и те же грабли.
Причем на этот раз грабли достигли поистине циклопических размеров. И в глубине Женькиного сознания забрезжила надежда: на то, что столь могучий удар по лбу имеет право, наконец-то, стать последним.
Все эти мысли заметно смягчили тяжесть его мучений, но новый приступ нескончаемой рвоты жестоко свел на нет достигнутые успехи.
Женька стоял на коленях перед унитазом и плакал. Он плакал от обиды, презрения и жалости к самому себе.
Какое счастье, что он не защелкнул дверь, когда, качаясь, ввалился в кабинку! Станский нашел его сразу, как только начал искать, и доволок до лифта, а в лифте с ним ехал уже не Станский, а какой-то тип с большим зеленым значком на отвороте куртки. Почему-то запомнился этот значок. И еще запомнилось почему-то, отложилось в подсознании, что тип ехал не просто случайным попутчиком, а ехал именно с ним, но потом, на этаже, исчез куда-то.
Дальше – опять довольно смутно – мелькание номеров дверей, и вспышка радости в голове от номера 1233, и монетка, брошенная в щель, и неодолимое желание спать, и приглушенный свет в комнате, и в этом свете серебристая фигура в кресле, и жуткое, омерзительное самочувствие, и, сквозь усталость, тошноту т головную боль, – удивительные глаза Крошки Ли и ее слова: «Дурачок! Напился, как мальчишка. Забыл про все. На вот, полечись», и маленький брусочек, под пальцами Ли выросший вдруг в коробку размером с обувную, и в ней – стакан с темной жидкостью.
Удивительная это была жидкость. Ее название, не только по систематической номенклатуре, но и официальное сокращение, было неудобнопроизносимым. На жаргоне же чудодейственный напиток величали просто похмелином. Похмелин снимал разом все неприятные ощущения и придавал человеку необычайную бодрость. Уже после первого глотка жизнь показалась Женьке не такой уж пустой и не такой уж глупой шуткой, какой в свое время посчитал ее поэт, ну а после стаканчика радист полярной экспедиции Вознесенко просто решил, что, в полном соответствии со своей фамилией, он без особого труда, взмахнув руками, сможет улететь на небо. Конечно, дело тут было не только в похмелье. Разумеется. Ведь перед Женькой во всей своей дивной прелести стояла крошка Ли. Была она все в том же скафандре, только отстегнутый шлем лежал на столе и под ним небрежно стянутые, наполовину вывернутые серебряные перчатки и серебряная сумочка, при первой встрече принятая с перепугу за кобуру, а теперь показавшаяся Женьке просто косметичкой.
– Поцелуй меня, – сказала Ли.
Такого поворота событий Женька как-то не ожидал. Он растерялся.
Все это было слишком уж быстро, слишком сразу. Впрочем, быть может, в этом их новом мире так и положено. Может быть, так и надо. Кто знает? В конце концов, тем, что едва знакомая девушка просит тебя поцеловать ее, и в двадцатом веке никого удивить было нельзя. Не в том дело, что Ли так быстро, так сразу кидается в его объятия – это-то здорово, ведь он любит ее! – а дело в том, что вообще все слишком быстро, всего слишком много. Еще вчера он был окоченелым трупом во льду, а теперь… Как все завертелось! Целый мир, огромный незнакомый мир свалился ему на голову, и меньше, чем за сутки он успел пережить в этом мире все мыслимые чувства и несколько совершенно немыслимых-таких, о которых раньше невозможно было даже догадываться. Это было чересчур для одного человека. Разум не справлялся, вдалеке маячил призрак безумия. И нужно было отбросить все. Отбросить и забыть.
Ли, прекрасная Ли, он хотел ее, он ждал ее, он мечтал о ней, но сейчас он не знал, что делать.
Наверное, в этот момент было весьма глупое выражение лица. И Крошка Ли рассмеялась. Весело, звонко и очень по-доброму.
– Я тебе не нравлюсь? – спросила она сквозь смех.
И Женька не нашелся, что ответить, он только улыбнулся и шагнул к ней. И его встретила прохладная, очень похожая на нежную, шелковистую кожу, ткань скафандра, и ласковые руки, и горячие влажные губы. И он задохнулся от счастья и понял, что это – главное, а может быть, вообще единственное, что ему нужно в этом мире. Любовь была лучшим спасением от подступающего безумия. В любви он мог раствориться, в любви он мог забыть и отбросить все, как и хотел. Потому что любовь была выше и сильнее всего. Сильнее страха. Сильнее тоски. Сильнее времени. Эта банальщина – любовь сильнее времени – приобретала для Женьки новый особый смысл: ведь Крошка Ли как бы принадлежала двум эпохам сразу, как бы протягивала тончайшую невидимую ниточку из мира чуждого и страшного через Женькино сердце к миру желанному, щемяще родному и еще тогда, еще в двадцатом веке, безвозвратно утраченному.
Он так долго прижимал ее к себе, что Ли сказала:
– Пусти. Душно.
– Открыть окно? – заботливо спросил Женька.
– Окно? – не поняла Ли. – Зачем?
– Ах, да, – сказал он, вспомнив, где находится. – Действительно, какое, к черту, окно, тут, наверно, кондиционер, или как это у вас называется…
– Душно, – повторила Ли, словно и не слушая Женькину болтовню, и добавила полувопросительно и как-то на удивление робко: – Я разденусь?
Женька вспомнил, как Ли ходила в этом же наряде по морозу, и торопливо произнес:
– Да, да, разумеется.
И это тоже прозвучало очень глупо.
А Крошка Ли закинула руку за голову – вроде как собралась расстегнуть пуговицу – и вдруг рванула скафандр красивым резким страстным жестом, словно больше была не в силах терпеть его на теле, и под скафандром, конечно, ничего больше не оказалось, и Женька обмер от восторга, но вместе с тем его поразило и другое: скафандр, роскошный серебряный скафандр с белой подкладкой из материала типа полиуретана был теперь явно и окончательно испорчен, неровный лоскут ткани, оторванный чуть ли не до пояса, болтался сбоку, обнажив правую грудь.
– Порвала? – испуганным шепотом спросил Женька.
– Что? – не поняла Ли. Она явно ждала совсем другой реакции.
– Порвала, – повторил Женька и показал рукой, будто Ли могла не видеть этого. – Такую вещь порвала.
– Господи, какой ты смешной! – она улыбнулась. – Да у меня на складе еще почти тысяча костюмов до следующей поставки. И потом, если… Ой, да! Ты же не понимаешь…
Она вдруг замолчала, а он действительно не понял. Тысяча костюмов… С ума сошли от изобилия. Впрочем, рвать на себе одежду, пожалуй, это красиво и эротично. Что ж, если они могут себе позволить…
– Помоги мне, – попросила она, и это было сказано так просто, будто речь шла о том, чтобы подержать сумочку или снять пальто.
И он протянул руку и взялся за край скафандра, теплый, мягкий, но в этот момент напомнивший вдруг кожуру апельсина. Может быть, потому, что серебристая оболочка так же легко и приятно счищалась – именно счищалась, а не снималась – с аппетитного, как спелый фрукт, тела Крошки Ли. У Женьки даже мелькнула нелепая мысль, что скафандры эти только так и снимаются. Как они в таком случае одеваются, подумать он не успел. Думать было уже некогда. Думать было невозможно. Три чувства затопили все – восторг, страсть и растерянность. Она стояла обнаженная в полумраке среди отсвечивающих металлом клочьев на полу, и серебристые звездочки плясали в ее черных глазах, а губы шептали ему ласковые слова. А он не знал, не помнил, не понимал, что должен делать. Ох, с каким наслаждением он разорвал бы свою одежду, но ни шерсть свитера, ни красный полиэстр брюк были ему не по зубам, и он стал просто яростно сдергивать с себя один за другим все эти ненавистные покровы…
… И потом он оказался очень плох. Он знал это точно, знал наверняка, и все-таки Крошке Ли непостижимым образом удавалось соответствовать каждому движению его, каждому мимолетному чувству, и он видел, он знал, он ощущал, что ей было тоже хорошо с ним. И от этого оставалось странное двойственное впечатление, словно тебя ведут за руку, все время ведут, но ведут именно так, как ты сам того хочешь.
И он вдруг вспомнил, как однажды – из чисто дружеских побуждений – с ним провел бой чемпион Европы Юрий П. Превосходство Юрия было колоссальным. Женька знал это, но не чувствовал совершенно. Если он вдруг раскрывался, Юрий не бил, а лишь обозначал удар, и Женька запоминал ошибку, но оставался уверен, что в последний момент все-таки сам, именно сам, сумел уйти от удара. А ударные комбинации Женьки Юрий подчеркивал, легонько, едва заметно подыгрывая ему и смачно натыкаясь на хлесткий джеб или быстрый и точный хук. И все это дарило изумительное ощущение собственной силы и мастерства, но где-то в глубине сознания горьковатым привкусом обиды, не переставая, сочилась мысль: «Обман, обман, обман…»
Что-то подобное было и теперь. Ли до такой степени совершенно владела своим телом, что мастерства ее с лихвой хватало на них обоих. И это было прекрасно. Это было восхитительно. И это же было обидно. «Обман, обман», – стучало в мозгу. Но не хотелось верить.
И он придумал для себя другое объяснение: «Она любит меня. Она меня любит!» И он повторял эти слова вновь, вновь и вновь…
11
Они лежали утомленные, не одеваясь, лень было даже встать и пойти в душ.
В голове у Женьки внезапно с удивительной четкостью проступили вопросы. Вопросов было много, и Женька выбрал главный:
– А где ребята?
– Чернов спит в соседней комнате, а Эдик и Цанев в разных номерах с женщинами. Любомиру я сама подобрала подружку.