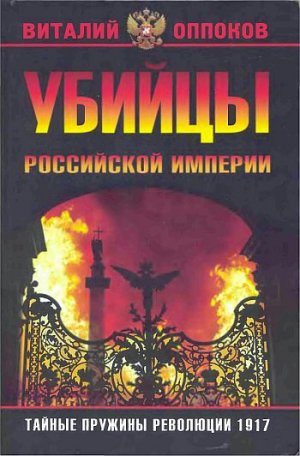
Предварительные комментарии к теме
Вот уже в течение девяноста лет не затихают дискуссии о революционных событиях, происшедших в России весной и осенью 1917 года. Но самые противоречивые суждения о тех событиях, как правило, сводятся к единому мнению, ставшему расхожей фразой: что-то надо было делать, поскольку верхи не могли управлять по-новому, а низы не желали жить по-старому. При этом упускается из виду (кем-то, по всей видимости, намеренно, кем-то, возможно, по недомыслию), что вооруженные столкновения если и происходят на полях сражений даже в самых глубинных местах страны с втягиванием в свой огненный водоворот огромных масс людей, то это всего лишь последствие основных событий, происшедших в столице и центральных областях. Отзвуки заговоров, переворотов, революций слышны и сказываются повсеместно, но планируются и осуществляются они в кабинетах и дворцах. Так что для того, чтобы потаенное молчаливое недовольство чем-то и кем-то, копившееся разрозненно в низах, смогло переплавиться в сгусток организованного открытого возмущения, выплеснуться огненной лавой бунтов, восстаний, революций, нужно, чтобы именно представители верхов не пожелали жить по-старому. Именно верхи и планируют революционные перемены, и подталкивают народные массы на воплощение своих замыслов. А замыслы по своей сути, в общем-то, примитивны — смена власти с пользой для самих себя.
Ведь буржуазное Временное правительство, пришедшее после Февральской революции на смену царского управления, с чего начало утверждаться во власти? А с суда над царской семьей и царскими министрами. Правительство — к уголовной ответственности, а бывшего императора со всеми домочадцами — сперва под арест в царской резиденции, а затем — в ссылку в Сибирь. Об этом почти не пишут, а еще меньше говорят. Больше твердят о том, что большевики, дескать, и сослали, и уничтожили Романовых. Еще часто вспоминают о второй акции Временного правительства — о судебном процессе над большевиками после так называемого июльского вооруженного мятежа 1917 года. До суда дело не дошло, поскольку, как свидетельствуют документы, большевики, наоборот, препятствовали вооруженному столкновению в тот период, переводя провокационные вылазки подставных лиц в настрой масс на мирные демонстрации.
Эту судебную тяжбу Временное правительство затеяло не столько для выяснения истины, сколько для громкого политического скандала с использованием прессы, чтобы обесславить своих противников — очередных претендентов на власть. В то время позиции временщиков сильно пошатнулись. Они в глазах общественности выглядели еще более несостоятельными, чем правящая верхушка при Николае II. Но удержать ускользающую из рук власть им очень хотелось, поэтому, спровоцировав вооруженное выступление, они обвинили в государственной измене большевиков, выдавая их за ставленников Германии и немецких шпионов.
Низложение Николая II и привлечение свергнутого царя и его кабинета министров к судебной ответственности происходили в иной обстановке — на волне утверждения нового, так называемого конституционно-демократического строя. Временщикам во что бы то ни стало нужно было доказать, что монархия себя изжила, что ее последние представители — преступники во власти. Вот почему затеянное судебное следствие велось под символическим девизом — «Темные силы». И эта сверхзадача, которую поставили перед собой временщики, виделась ими настолько важной, что когда в октябре 1917 года поступила информация о том, что группа неких лиц отправилась с Кавказа в Сибирь с намерением освободить из ссылки Николая Романова, судебный следователь по особо важным делам Петроградского окружного суда П.А. Александров срочно прекратил следствие по делу «большевиков-шпионов», которое возглавлял, и выехал в Кавказский регион для наведения справок о таинственной группе монархистов. Большевиков временщики ненавидели и боялись, монархистов опекали и остерегались.
Вот эти две акции Временного правительства, деятельность этих двух следственных комиссий временщиков по обвинению царского правительства и большевистских лидеров чрезвычайно важны для понимания глубинной сути февральских и октябрьских событий 1917-го. Они, можно сказать, — зеркальное отражение и предпосылок двух революций, и характера революционных движущих сил.
Парадоксально, как говорится, но факт: первыми, кто присягнул на верность Временному правительству, были самые ближайшие родственники низложенного монарха — почти вся целиком великокняжеская рать, а великий князь Кирилл Владимирович явился народу одной из главных «движущих сил революции», шествуя впереди матросского революционного отряда с красным бантом на груди. Впрочем, многие великие князья неистово подталкивали Николая II отречься от престола еще задолго до того, как к царю заявилась депутация думцев с подобным предложением. И действовали они так напористо, отсылая Николаю письма, досаждая ему двусмысленными намеками, откровенными советами и настоятельными просьбами при личных встречах, не только по собственной инициативе, не только от имени своего сословного клана, но и, можно предполагать, по велению общеевропейской романовской семьи, этого всемогущего буржуазного интернационала. Николая Романова, в котором правящие общеевропейские верхи разочаровались и разуверились, настойчиво готовили к тому, чтобы он пожелал «не жить по-старому». И он в конце концов пожелал, причем, как утверждали, поразившись, его современники, с таким равнодушным спокойствием отрекся от престола, «словно сдал эскадрон»,[1] а не власть над страной.
А не потому ли без особых пререканий, а быть может, даже с облегчением сделал это, что соглашался на царствование под страхом смерти за отказ со стороны тех же тайных сил?
Это предположение, которое я уже высказывал в печати более десяти лет назад,[2] стоит того, чтобы на нем остановиться более подробно. Оно, будь более доказательным, смогло бы убедительнее объяснить сравнительную легкость, по крайней мере внешнюю, с которой Николай II отрекся от престола, обеспечив тем самым успех Февральской революции в целом.
Итак, 23 октября 1890 года двадцатидвухлетний цесаревич Николай Александрович отправился в длительное морское плавание с посещением Египта, Индии, Японии. Отправился он из Санкт-Петербурга в дурном расположении духа, поскольку эта поездка была принудительной: Александр III отправлял непутевого и шалопутного сына-наследника подальше от столичной богемы, цепко втянувшей склонного к кутежам и разврату, податливого на всевозможный соблазн цесаревича в свои театральные и затеатральные оргии. Дневник Николая того времени пестрит короткими записями о том, как он «хлыщил по набережной», веселился на катке, посещал спектакли и вечеринки, засиживался допоздна в загульных компаниях, откуда его приносили домой на руках. Поначалу это были большей частью мальчишники, вызванные, по утверждению Ф.А. Головина,[3] нездоровой однополой страстью, которую Александр III пытался лечить связью сына с балериной Кшесинской.[4] Податливый на увлечения Николай влюбился в танцовщицу. Но прошло не так уж много времени, и он еще более страстно увлекся смазливой еврейкой, заявив однажды, к ужасу родителей, о желании жениться на неожиданной избраннице. Вот тогда-то царь-батюшка и решил отослать шалопута-цесаревича с глаз долой да подальше от столичных соблазнов.
Была еще одна причина путешествия, тоже связанная с женской проблемой, а точнее, с закулисными дворцовыми распрями европейского значения. За «обладание» наследником российского престола, а значит, и за влияние на политику России схватились германская и французская партии. Последнюю поддерживали царь и частично царица. Вот почему ими была отвергнута в то время Гессен-Дармштадтская принцесса и сделан выбор в пользу дочери Людовика-Филиппа-Альбера, графа Парижского. Но поскольку наследник склонялся в сторону германской партии, отец решил его отдалить от излишнего «немецкого влияния».
Александр III просчитался: длинная рука Вильгельма II, уже два года пребывавшего на престоле и желавшего видеть поскорее у власти в России Николая совместно с кузиной Алике Гессенской, достала цесаревича и в его кругосветной отцовой ссылке. Из длительной поездки Николай возвратился еще более прогермански настроенным, чем раньше. День ото дня он все более настойчиво говорит о своем обязательном соединении в браке с немецкой принцессой. И в этом упорстве сквозят отчаяние, какой-то внутренний надлом, непонятная окружающим боязнь перед несговорчивостью отца.
Дневник Николая красноречиво передает его внутренние переживания той поры. «Не могу сказать, чтобы сожалели, что 1891 год кончился: он был положительно роковым для всего нашего семейства», — отметил он в преддверии очередного года. Внешне это ощущение он связывал со смертью близких родственников, не доверяя бумаге потаенные переживания. И все же нет-нет да и проскакивали истинные опасения за продолжение жуткого «объяснения» в японском городке Оцу (Отсу). Вот почему, по всей видимости, он и считал, что «1891 год — год самых тяжелых испытаний для оставшихся в живых». На словах тяжело переживая смерть близких родственников, он, когда отец пожелал послать его на похороны английского кузена, всячески стал отказываться от этой поездки. А 5 января 1892 года с облегчением и не свойственной ему откровенностью записал: «В 8 часов обедали т. Михен, д. Владимир и д. Алексей. Последнего, а не меня, посылают в Англию на похороны бедного Эдди. Я очень этого побаивался!»
Спустя год тяжело заболел Александр III. Могучий организм одолел внезапную болезнь, и окружающие о ней как будто забыли. Но наследник заторопился со сватовством особенно неистово, словно предчувствуя скорую отцову смерть. А со свадьбой — совсем, казалось, потерял голову. Сумел убедить, очевидно, и мать в том, что его женитьба должна состояться даже раньше похорон отца. Неизвестно, какие аргументы он приводил матери, но в дневнике по этому поводу сделал в октябре 1894 года такую, тоже не свойственную его скрытному характеру запись: «22 октября. Суббота. Вчера вечером пришлось перенести тело дорогого Папа вниз, потому что, к сожалению, оно быстро начало разлагаться… Слава Богу, милая Мама совсем спокойна и геройски переносит свое горе! Только и делал, что отписывался от туч телеграмм. Происходило брожение умов по вопросу о том, где устроить мою свадьбу. Мама, некоторые другие и я находим, что всего лучше сделать ее здесь спокойно, пока еще дорогой Папа под крышей дома; а все дяди против этого и говорят, что мне следует жениться в Питере, после похорон. Это мне кажется совершенно неудобным!..»
Ну прямо-таки шекспировские страсти! Не иначе, как новые безнравственные лицедейства Датского королевства, перенесенные на русскую землю!.. Еще не остывший, но уже быстро разлагающийся труп императора ужасает близких своим присутствием. Еще тело странно ушедшего из жизни монарха не предано земле, а дух витает над поганящим его память южным царским домом. Но вот сын вместе с матерью — датской принцессой Дагмарой-Софьей-Доротеей, в русском обращении Марией Федоровной — уже готовы предаться свадебному веселью!..
Отчего так внезапно заболел и сгорел Александр III? Отчего наследник русского престола так торопился выполнить не волю усопшего отца, а желание германского императора — осуществить брак с немецкой принцессой?..
Вразумительные ответы на эти непростые вопросы поищем в обстоятельствах происшествия в злополучном Оцу, где произошло мнимое покушение на наследника.
Первое упоминание о предстоящем отъезде из столицы на длительное время в дневнике Николая встречается 15 февраля 1890 года: «Утро было довольно занятое, у меня был Леер. После службы завтракали Оболенские. На каток приехал только Сергей. Пили с ним чаи втроем, много рассуждали о кругосветном плавании осенью…»
Казалось бы, молодой человек, обремененный тягостным присутствием на официальных мероприятиях, надоедливыми встречами с профессорами Академии Генерального штаба Леером да Пузыревским, поскольку общее образование он, к его радости и по его же словам, уже закончил «окончательно и навсегда», должен быть счастлив предстоящим романтическим путешествием. Но он о нем отзывается с такой же скуловыворачивающей скукой, как и о встрече с преподавателем Леером или о других надоевших ему до чертиков приемах и заседаниях. К примеру, 29 января он записал: «Сегодня не было заседания Государственного Совета, и я этого не оплакивал». Подобные скупые замечания, но уже о предстоящем плавании встречаются в дневнике в течение нескольких месяцев всего лишь два-три раза.
Еще меньше любил вспоминать Николай о происшествии в японском памятном для него городке. В его дневнике, скупом на слова о важных событиях, но богатом на всевозможные подробности (сколько застрелили всевозможной дичи, с кем столкнулся на катке и как страдал от этого, кого и каким образом покусала собака, кто и почему умер, сколько кто выпил за ужином и как сильно «нализался», о большом облегчении развеселой компании, избавленной от «Патриотического концерта», на который «Мама поехала», и о многих других безделицах), упоминание об инциденте в Оцу встречается лишь дважды.
«Не могу сказать, чтобы сожалели, что 1891 год кончился: он был положительно роковым для всего нашего семейства, — провожал он трагическим тоном, от которого веет годуновскими покаянными нотками, уходящее страшное для него двенадцатимесячье. — Смерть тети Ольги, дяди Низи и милой Алике,[5] болезнь и долгая разлука с Георгием и, наконец, мой случай в Оцу — все следовало быстро одно за другим. И голод присоединился к этим семейным несчастьям! Нечего сказать! Тяжелый год! Молю Бога, чтобы будущий 1892 год был похож на прежние, на восьмидесятые. Единственным светлым воспоминанием для меня является благополучное возвращение домой из Сибири и радостная встреча с семейством в Фреденсборге, и то вскоре омраченная ужасной смертью Алике!» (Дневник императора Николая II. 1890–1906 гг. М.: «Полистар», 1991. С. 38.)
Другая запись, преисполненная не меньшей экспрессии, появилась несколько раньше, 8 октября, в том же мрачном Фреденсборге, осенней резиденции датских королей: «Я положительно взбешен дошедшими до меня слухами, будто Барятинский позволяет себе продолжать, что не Джорджи[6] спас меня в Оцу, а оба дженрикши.[7] Не понимаю, чего он этим хочет достигнуть, себя ли выгородить (кто же его обвиняет в бездействии?) или же очернить Джорджи; но зачем? — это, по-моему, просто подло!»[8]
Если Николая Александровича что-то очень беспокоило, угнетало или обнадеживало, он, обычно сдержанный и скрытный, мог быть расточительным и на слова, и на эмоции. В этих двух пространных, по сравнению со множеством других, дневниковых записях он представил много пищи для размышлений. Похоже, что сказал то, в чем всю жизнь боялся признаться не только другим, но и самому себе. Впрочем, как иначе может вести себя отцеубийца или сын, причастный к подобному злодеянию?
В первой приведенной записи — отчаяние и страх наказания водят рукой безвольного наследника. Злодейство, возможно, еще не совершено. У Николая еще есть время на раздумье, как имел его Александр, тот самый, которому европейская масонская закулиса предложила престол взамен на жизнь отца — Павла I, оказавшегося третьим лишним в околотронной возне тоже двух европейских партий — на этот раз профранцузской и проанглийской. Александр согласился и стал Александром I.
Николай станет Николаем II почти три года спустя после своего возвращения через Сибирь в ставку датских королей. Он еще может приостановить преступление, которое, по всей видимости, было затеяно и начало которому положено в том же Фреденсборге. Туда осенью съехалась почти вся европейская родня царского буржуазного интернационала. Именно туда зазвали и Александра III под предлогом встречи чудом спасшегося от руки японского маньяка Николая. Не исключено, что о роковой участи супруга знает и царица, Мария Федоровна. Ведь она презирает мужиковатого, с простыми грубыми манерами мужа-великана не только в душе, но и порой открыто, называя его во время размолвок, точно так, как и высокомерная общеевропейская родня, — «медведем». Ведь она, дочь датского короля Христиана IX, принцесса Дагмара, предназначалась в жены другому российскому принцу, но после внезапной смерти того, что часто случалось в императорских семьях, вышла замуж за Александра, оказавшегося после смерти старшего брата наследником, а затем и царем.
Мария Федоровна царствующего супруга презирала, а царский буржуазный интернационал, разделяя это чувство, Александра III, твердо державшего в руках не только Россию, но и Европу, ко всему прочему еще и боялся. Устранение очередного «третьего лишнего» на российском престоле ускорил укрепившийся на германском престоле своевольный и амбициозный Вильгельм II, которому авторитет «царя-медведя» мешал занять в Европе ведущую роль.
Заговор, если он существовал, мог начаться с того, что Николая свели с младшей сестрой Елизаветы Федоровны (Эллы), жены великого князя Сергея Александровича. Германский и английский императорский дома прочат Алике, так звали немецкую принцессу, которую за своенравность и нервозность в близком окружении Александра III прозвали «гессенской мухой», Николаю в невесты. Ну а он боится не только ее самой, но и ее имени. Ведь вместе с той женитьбой он, можно полагать, должен принять участие в медленном убийстве своего отца.
Николай соглашается с этим предложением или делает вид, что соглашается. Вместе с тем пускается во все тяжкие, прожигая и пропивая государственные обязанности наследника, полковую службу, сыновний долг, чувство любви. Чтобы не думать о навязываемой ему заговорщической родней невесте, он готов день и ночь пропадать то у ног балерины Кшесинской, а то жениться на первой встречной еврейской девушке. И над всеми этими причудами витает, как дух смерти, как напоминание о том, что он должен совершить, имя Алике. Вот почему, не исключено, он так нервозно воспринимает смерть тети с этим именем.
12 сентября 1891 года, размышляя над ультимативными передрягами путешествия, во время которого его до смерти напугали и сделали ему, быть может, последнее предложение и предупреждение, он в датском королевском замке Фреденсборг оставил в своем дневнике запись, которая так похожа на гамлетовское сакраментальное «быть или не быть». Разве что издерганный российский принц, в отличие от датского, явился не сторонником приговоренного отца, а его противником.
«…Когда я пошел наверх поздороваться с Папа и Мама, — плачется в подушку-дневник напуганный наследник, — узнал о роковой вести, что дорогой, незабвенной Алике ночью уже не стало! Я не мог представить себе, чтобы это случилось наяву, все казалось каким-то зловещим сном. Боже! Что должны чувствовать и страдать д. Вилли, т. Ольга и в особенности бедный д. Павел. Не мог также смотреть без слез на Джорджи, Ники и Мини. Да! Все кончено! Как грозно проявил наш Господь свой гнев. Впрочем, да будет святая воля Его!.. В 3 часа отслужили панихиду по ней. Целый день все мы бродили как тени по комнатам и по саду. Маленький итальянец,[9] так невпопад навестивший Фреденсборг, убрался в Копенгаген после завтрака… Решено, что мы едем завтра же в Москву — греки тоже! Обедали семейством в нашей столовой. Кому могло прийти в голову ровно месяц тому назад, когда мы сюда прибыли, что придется так неожиданно уезжать из этого милого места, в котором прежде находили спокойствие и радость настоящей семейной жизни. Во всем волен Бог!» (Дневник императора Николая II. 1890–1906 гг. С. 39.)
Здесь, в этих тягостных потаенных раздумьях, как и в речах каждого двойственного человека, несомненно, больше сказано между строк, чем в строках.
Николай знает, кому пришла в голову «ровно месяц тому назад» задумка (конечно, придерживаясь излагаемой версии) убрать российского императора при участии сына по культовому масонскому сценарию — на этот раз с розыгрышем спектакля на шекспировские мотивы. Он ведает и о другом: Александру III преподнесен кубок с медленно действующим ядом, и это уже не царь возвращается из Фреденсборга в Москву, а «тень отца Гамлета». В течение двух лет отрава постепенно разрушает могучий организм. В январе 1894 года происходит первый тяжелый приступ неведомой болезни, от которого царю на некоторое время удается оправиться, но не настолько, чтобы побороть надвигающуюся смерть. Он умер в тяжелых муках, и его огромное тело, еще не успев остыть, уже источало трупный запах и разлагалось изнутри от разъеденной ядом плоти.
Наследник же, не предав тела отца земле, не справив святой тризны по нем, не выдержав и года, как должен был поступить православный христианин, да и вообще любящий сын, не вступив, в конце концов, на престол, торопится сыграть свадьбу с Алисой-Викторией-Еленой-Луизой-Беатрисс… Такими были условия, надо полагать, сговора буржуазного интернационала. На таких условиях Николаю отдавался трон и происходило запугивание в Оцу.
О мнимом покушении на наследника российского престола почему-то сложилось твердое мнение: он стал жертвой психопата-маньяка. Но никто публично и последовательно не проанализировал обстоятельства происшествия. Никто не задумался над тем, почему сам Николай, изо дня в день ведший тщательно свои записки, внося в них всякий вздор, не попытался рассказать о подробностях покушения на него, а когда заикнулся об этом, сразу же разразился бранью в адрес князя Барятинского, который «позволил себе» уточнить некоторые подробности происшествия. Редко кто, создается впечатление, вчитывался и в воспоминания другого очевидца инцидента в Оцу — князя Ухтомского, хотя ссылки на его роскошное издание можно встретить довольно часто. Похоже, что пользуются только его выводами, в которых именно версия о маньяке-одиночке и трактуется.
Что ж, заглянем в пятую часть этого издания,[10] пролистаем этот фолиант в твердой обложке не менее чем полметра в длину, откроем его на тридцатой странице, где прочитаем: «…существует мнение, что дикое нападение в Отсу вызвано отчасти проникновением Августейших путешественников в „святая святых“ японского народа, где им оказывались почести, как потомству Солнца, несовместимые с крайним национальным самолюбием. Это положительно неверно, с одной стороны, по отношению именно цесаревича…»
По мнению Ухтомского, именно с этой стороны не было никакого повода. Но здесь не столько истина, сколько тонкий намек, сколько неполный ответ на досужие разговоры и уточнения, которые и «позволил себе» сделать тот же князь Барятинский. Говорили, что два принца — российский Ники-Николай и греческий Джорджи-Георгии веселились вовсю, не всегда соблюдая правила приличия. Да и как могло быть иначе, если Джорджи, имевший сильное влияние на Ники, являлся, по выражению графа Витте, «молодым человеком, наиболее склонным к таким действиям, которые не могут служить образцом для Великих князей и принцев». Не потому ли, опасаясь подтвердить пересуды о дурном поведении царственных кузенов во время путешествия, в частности по Японии, а может, желая того, князь Ухтомский подчеркнуто резко отвергает мотив покушения такого свойства «по отношению именно цесаревича».
Отвергает-то выводом, а факты приводит иные.
«За два дня до поездки в злополучное Отсу, — пишет он на странице 33, — Августейшие путешественники в первый раз ездили после обеда взглянуть на японских танцовщиц». И в то же время отказались, прибыв в Оцу, как утверждается на странице 37, осмотреть предложенные им местные святыни под предлогом того, что «видели главные храмы Киото».
Итак, ощутившие свободу вдали от строгого присмотра принцы развлекаются так, как желают, и даже предпочитают святыням, с которыми знакомят только иностранцев императорской крови, посиделки у гейш.
Не сумев доказать убедительно несостоятельность мотивов покушения на почве оскорбления местных вековых традиций «с одной стороны, по отношению именно цесаревича», недалекий, а может, и хитроумный, Ухтомский, с другой стороны, с японской, сперва выставляет Николая в дурном свете, а затем наносит по нему неосмысленный или нарочитый удар. Получается так, что покушение со стороны японца, религиозно и даже мистически настроенного, оправдывается.
Можно поверить Ухтомскому, что японцев, трепетно почитающих монархические принципы, вряд ли оскорбило бы почтительное посещение августейшими иноземцами, да еще с разрешения властей, «святая святых» или оказываемые им почести, как «потомству Солнца». Он убедителен и тогда, когда приводит примеры подобного отношения к иным принцам. Но в остальном не прав.
Не посмел или не пожелал сказать князь Ухтомский всю правду до конца, в любом случае его вывод требует логического продолжения, а точнее — других акцентов: японцы скорее бы разозлились на гостя, отдавшего предпочтение танцовщицам перед глубоко почитаемыми храмами, за оскорбление святынь, нежели за то, что эти святыни ему показали.
Почему же свидетель допускает столь очевидные противоречия при описании инцидента? Да потому, что он твердо знает: покушения не было, и цесаревича только напугали и предупредили.
К этому же мнению пришли и офицеры русской эскадры, ожидавшей в японском порту Сасебо возвращения из странствия по Японии цесаревича-путешественника.
21 апреля (11 мая) 1891 года эскадру взволновали слухи о каком-то трагическом происшествии, приключившемся с царственной особой. Слухи подтвердились затребованием в Киото корабельного врача для оказания помощи то ли тяжело раненному, то ли умирающему наследнику. Вечером стало известно: на Николая Александровича покушался жандарм, ударив его самурайской саблей по голове, но все обошлось благополучно.
Моряки с облегчением вздохнули: хорошо, что жив, иначе бы — быть войне. И тут же стали недоумевать и вслух рассуждать. Позвольте — это как так, жандарм, самурайской саблей, по голове?! И жив?? Уж на эскадре знали, что такое самурайский клинок, у многих офицеров имелось это превосходное оружие, приобретенное здесь же, в Японии. Да в умелой руке, а жандармская, конечно же, такая, достаточно одного удара, чтобы разрубить тело пополам… «Вот не сошел бы на берег, остался бы на эскадре, ничего бы такого и не было», — то тут, то там слышалось чье-нибудь иносказательное замечание. А в офицерских кают-компаниях, зная нрав наследника, рассуждали более откровенно: видимо, тут что-то не так, не иначе как сам наследник попал в неприятную историю, иначе не сносить бы ему головы: побыстрее бы возвращался на корабль да домой…
Переживали за непутевого цесаревича, как за шкодливого младшего брата, опасались, как бы еще чего не произошло. Вместе с тем неприятность с наследником престола воспринимали как оскорбление России, но, не зная обстоятельств происшествия, не ведали, кого винить в содеянном. Впрочем, догадывались. И это выразилось в том, как происходила встреча Николая, приехавшего в Сасебо из Киото в сопровождении свиты.
Лишь только в порту появился почетный кортеж, на европейских судах, стоявших здесь на якоре, зазвучало российское «ура». Но на русских кораблях царила гробовая тишина. Русские моряки, душой чувствуя, кто мог быть инициатором чрезвычайного происшествия, не желали присоединять свои голоса к интернациональному хору, славившему царственную родню европейской элиты. И лишь только тогда, когда Николай ступил на русскую территорию — родную корабельную палубу, когда угомонился буржуазный интернационал, прогремело истинно русское приветствие наследнику русского престола.
Военные моряки знали толк в том, о чем судачили между собой: пожелай самурай Тсуда Санцо покуситься на жизнь российского принца, не сносить тому головы. Но самурай-жандарм, не желая лишать жизни непочтительного к японским святыням высокородного чужеземца, выполнял, похоже, лишь роль наемного «пугалыцика»… Не исключено, что те, кто нанимал его, подвигнули Тсуду на преступный шаг с мотивом отмщения за нанесенное японскому народу оскорбление, может, соблазнили высоким гонораром, причем, как свидетельствуют факты, он не сразу решился на столь рискованный поступок.
«Злодей Тсуда Санцо стоял между охранителями безопасности Августейшего гостя Японии», — писал князь Ухтомский. Но ведь он, Тсуда, находился в охранении, которое отбиралось властями со всем тщанием, и утром, когда процессия направлялась в дом губернатора на завтрак. Решился же наказать «обидчика японского народа» лишь тогда, когда почетные гости и эскорт двигались в обратном направлении, то есть в средине дня. Что могло подтолкнуть Тсуду к выполнению замысла организаторов инцидента, если они действительно имелись?
Джинрикша с российским принцем двигалась впереди джинрикши с принцем греческим. Кузены, разгоряченные обильным угощением за затянувшимся завтраком, на ходу перебрасывались всевозможными замечаниями и шуточками. Произнес какую-то реплику и Ники, повернув голову к Джорджи, именно в тот момент, когда его коляска поравнялась со стоявшим в охранном оцеплении Тсудой. С царственных губ могла сорваться уловленная жандармом какая-то непристойность.
«Лишь только джинрикша Его Величества проехала мимо него, — вспоминал Ухтомский, — он выскочил из рядов и, обнажив саблю, нанес справа, несколько сзади, между джинрикшей и правым возницей, с размаху и держа саблю обеими руками, удар по голове Цесаревича, который, обернувшись и видя, что злодей замахивается второй раз, выскочил из коляски…»
Именно за уточнение подробностей своего позорного бегства с места события, что «позволил себе» впоследствии Барятинский, так разгневался на князя Николай. Эти подробности, конечно же, прояснили бы, что удар «мистик-самурай» нанес не с целью убийства острием клинка, а ради наказания — плашмя. Не зря, возможно, и с подачи того же зубоскала Барятинского, после поражения в Русско-японской войне, после того, как Россия лишилась выгодных военно-морских баз на Дальнем Востоке, инцидент в Оцу высмеивался остряками, как шлепок по царскому затылку с последующим порт-артурским пинком ниже пояса.
Но это было позже, когда незадачливый Николай стал уже не только императором, но и приобрел, можно сказать, образ ходячей революционной ситуации. В Оцу же события разворачивались следующим образом.
Перепуганный нападением наследник убежал, а подбежавшие к нападавшему жандармы скрутили того, впрочем, даже не сопротивлявшегося. Нашлась работа и для джинрикшей, которые пустились вдогонку за прытким, потерявшим голову не от удара, а от испуга цесаревичем. Догнали, уважительно остановили, посадили на скамейку возле одного из домов. Первое, что ощутил Николай, приходя в себя, это последствия от своего недостойного поведения, это чувство собственной вины, это реакцию сурового отца, которого он, предположительно, должен предать по настоянию безжалостного длиннорукого кузена Вильгельма.
«Первые слова Его Высочества, когда его усадили на скамейку соседнего дома, — вспоминал князь Ухтомский, — были: „Это ничего, только бы японцы не подумали, что это происшествие может что-либо изменить в моих чувствах к ним и признательность Мою за их радушие“.
Ухтомский подтвердил и легкость удара, нанесенного самураем наследнику, а также предположения, которые высказывали офицеры эскадры по этому поводу.[11] Он писал: „Тут же подошел доктор Рамбах и сделал Его Высочеству крепкую перевязку. Во время этой перевязки Цесаревич приветливо разговаривал о случившемся с пораженными ужасом и донельзя растроганными лицами обеих свит… Хотя самочувствие Его Высочества и подавало надежду на то, что рана Его не представляла опасности, тем не менее вполне успокоительные сведения могли быть получены только по приезде в Киото и после того, как выписанные с эскадры доктора сделали к вечеру вторую перевязку…“
Николай, оправившись от испуга и легкой раны, согласившись на жестокое приглашение к цареубийству в обмен на личную жизнь и российский престол, пожелал продолжить путешествие. Но Александр III, узнав о случившемся, решил точно так же, как и в корабельных кают-компаниях офицеры: хватит, пора домой, а то непредсказуемость в поведении наследника может привести и к худшему.
Возвращался Николай домой через роковой датский замок с тяжелым сердцем: понимал, что предает отца, отступает от православной веры, от имени которой после устранения Александра III должен был быть богопомазанным на царение.
Не потому ли прослыл впоследствии богобоязненным и богомольным, порой даже чрезмерно? Замаливал тяжкий грех? Не потому ли поспешно отказался от трона и за себя, и за сына? Не потому ли последний российский император, которому в 2008-м устроят чествования по случаю 140-летия со дня его рождения и 90-летия со дня „мученической гибели“, исчез с поля зрения в июле 1918-го, объявившись, по пересудам и публикациям, в виде безвестного старца? Неужели повторил выходку Александра 1 с мнимыми похоронами, таинственным перевоплощением в иную личность? По поводу такой метаморфозы Л.Н. Толстой писал: „Еще при жизни старца Федора Кузьмича, появившегося в Сибири в 1836 году и прожившего в разных местах двадцать семь лет, ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий свое имя и знание, что это не кто иной, как император Александр Первый; после же смерти его слухи еще более распространились и усилились. И тому, что это был действительно Александр Первый, верили не только в народе, но и в высших кругах и даже в царской семье в царствование Александра Третьего. Верил этому и историк царствования Александра Первого, ученый Шильдер“.[12]
Не исключено, что с детства знавший эту то ли быль, то ли придумку Николай, впоследствии Николай II, решил повторить путь изгнанника, избранный некогда его дальним царственным предком.
Так или не так, но все то, что сумел натворить во время пребывания на престоле последний российский император, заслуживает тщательного объективного анализа для понимания сущности происшедших в 1917-м в России революционных событий. Именно Николай, еще не вступив во власть, стал источником скорого всеобщего недовольства, отстранившего не только его самого от этой власти, но и вековой монархический строй.
Но версия версиями, а исследовательский труд требует более веских реальных доказательств. Именно это желали услышать от меня будущие потенциальные читатели будущей книги, для которой я собирал в конце 1980-х — начале 1990-х годов документальный материал. Особенное неприятие моей версии выражали во время встреч и дискуссий лица монархического толка.
— О чем эта книга? — слышу я теперь словно обобщенный коллективный читательский вопрос.
— О трагедии России и ее последнего царя, предавшего монархию и вместе с тем наказанного ею же.
— Но эта тема — стара, как мир! В литературе вообще, а в отечественной в частности, к примеру у Лажечникова, о царских трагедиях писано-переписано. Еще больше — в истории. В тех же летописях. Что нового вы можете рассказать?
— Действительно, какое уж тут открытие, наверное, любая царская семья пережила какую-то трагедию, почти что каждая царская судьба — трагична. То ли восхождение на престол, то ли свержение с трона сопровождались подлостью, предательством, убийством. Вымыслы и наговоры, интриги и шпионаж, похищения и ловушки, пытки и тюремные заточения, борьба с дальними родственниками и расправы над самыми близкими… Обо всем этом много написано. Но данная книга не вообще о царской трагедии, а об исчезновении последнего русского царя как носителя революционной ситуации.
— Исчезновении?
— Да, именно так.
— Но ведь это тоже старая и, насколько известно, убедительно отвергнутая версия.
— Отвергаемая, скажем так. Причем не совсем убедительно.
— У вас новые доказательства? Новые факты? Может, как сейчас модно говорить. Николая Второго похитил НЛО, инопланетяне?
— Нет, пришельцы здесь ни при чем. К этому делу причастны земные силы.
— Но какие?
— На этот вопрос точного ответа нет. Подозревать можно многих.
— Кого именно?
— Ну хотя бы иностранцев: немцев, белочехов. Или соотечественников: анархистов, монархистов…
— Монархистов? Ну это уж слишком.
— Почему слишком? Их подозревать в причастности к исчезновению Николая Второго и его семьи не меньше оснований, чем какую-либо другую политическую группировку. Кстати, к расстрелу — тоже.
— Но это же парадокс, мягко говоря.
— Не скажите. На этот счет собрано немало сведений.
— Кем собрано? И каких?
— Давно, по свежим следам, их собирал Соколов…
— Соколов? Николай Алексеевич? Который по поручению Колчака вел расследование по расстрелу царской семьи?
— Он самый. Судебный следователь по особо важным делам при Омском окружном суде, как он именовал себя даже будучи за границей.
— И что, он пришел к выводу в отношении монархистов?
— В том-то и дело, что выводы у него другие. Он сделал заключение, что царя и царскую семью расстреляли большевики.
— Так об этом очень много написано.
— Написано много, сказано мало. На самом деле о последних днях Николая Второго почти ничего не известно. А если быть более точным — совсем ничего.
— Ну уж нет! О расстреле царя и царской семьи большевиками, пожалуй, писала в последнее время каждая газета.
— Каждая-то каждая, да пишут все об одном, повторяя только выводы Соколова.
— Вы сказали только выводы. А есть разве что-то другое, кроме выводов?
— Материалы следствия.
— Это понятно. Но ведь их вы не могли видеть.
— Почему же?
— Да потому, что Соколов, насколько известно, после разгрома армии Колчака и расстрела „Верховного“ вывез все следственные материалы за границу.
— Не совсем так. К примеру, мне довелось изучить довольно много документов предварительного следствия по делу Николая Второго и царской семьи, младшего брата Николая — Михаила, других великих и невеликих князей. Среди этих документов, собранных как самим Соколовым, так и его предшественниками, расследовавшими это дело, немало подлинных, в том числе и рукописных материалов: показаний свидетелей, протоколов осмотров вещественных доказательств, объектов и местности, различных актов и справок. Сосредоточив все это в своих руках, Соколов не имел возможности вывезти весь архив за рубеж. Подтверждением может служить хотя бы вот такой документ, подшитый в „Деле об убийстве бывших Великих Князей в городе Алапаевске“.
Как видно из предложения министра юстиции от 7 февраля 1919 года за № 25/а 2437 сим предложением было возбуждено производством у того же судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н.А. Соколова дело об убийстве отрекшегося от престола Российского государства Государя Императора Николая II, Его Семьи и находившихся при ней лиц (дело № 20).
В виду уничтожения большевиками трупов Царской Семьи и крайней сложности следственных действий, направленных на ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ФАКТА УБИЙСТВА (выделено мною. — Авт.) Царской Семьи при отсутствии трупов, работа судебного следователя протекала главным образом по делу об убийстве Царской Семьи в г. Екатеринбурге и на руднике, где были уничтожены трупы.
11 июля 1919 года за № 1294 Главнокомандующий фронтом генерал-лейтенант М.К. Дитерихс передал следователю повеление Верховного Правителя выехать, в целях спасения следственных актов, на Восток России.
7 февраля 1920 года, в момент падения власти Верховного Правителя адмирала Колчака и убийства его в этот день большевиками в г. Иркутске судебный следователь находился в пределах Маньчжурии в г. Харбине.
Вследствие развития анархии в стране и возможности сохранения актов следствия в местонахождении судебного следователя последний, по соглашению с бывшим Главнокомандующим генерал-лейтенантом М.К. Дитерихсом, решил вывезти акты следствия в Европу. Ввиду полной физической невозможности для судебного следствия вывезти с собой ящик с находившимися в нем предметами за №№ 1—28 включительно, значущийся в пункте 5 протокола 30 июля 1919 года, таковой был оставлен судебным следователем в г. Харбине состоящему при нем (по распоряжению Главнокомандующего фронтом генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса) гвардии капитану Павлу Петровичу Булыгину для помещения ящика на хранение у купца в г. Харбине Ивана Тихоновича Шолокова.
20 марта 1920 года судебный следователь выбыл из г. Харбина и прибыл 4 июня того же года в Венецию (Италия) и 16-го того же июня означенный ящик с находящимися в нем предметами был помещен капитаном Булыгиным у названного Шолокова через гвардии есаула Александра Александровича Грамотина, расписка коего от 24 марта 1919 года в принятии ящика с вещами для составления его Шолокову при сем прилагается в опечатанном конверте.
Судебный следователь Н. Соколов“.
— Вот видите, в документе определенно сказано, что царя и царскую семью расстреляли большевики.
— Ваше суждение подтверждает непреложную истину: документ нужно читать со скрупулезной точностью. Отступил от этого правила — ошибка в выводах, неверное заключение. В приведенной справке не сказано о расстреле, а об убийстве. Нет и о том, что это сделали большевики. Отмечается лишь уничтожение трупов царской семьи большевиками. А это большая разница. Правда, в других документах, содержащихся в материалах предварительного следствия, есть сведения и о том, и о другом. Но на примере невнимательного прочтения данной справки хочу показать первопричину многих не совсем точных и логичных выводов, которыми пестрят многие публикации, отражающие трагедию последнего русского царя. Да и то, о чем говорится в справке (обобщающая часть), — опять же выводы Соколова, которыми пользуются, зачастую бездумно, иные писатели, публицисты, историки. Случается, что и факты перевирают. Сошлюсь на одну из таких многочисленных публикаций. В еженедельной газете Московского строительного комитета и ЦК профсоюзов строительства и промышленности строительных материалов „Московский строитель“ (17–24 июля 1990 г., № 28; это начало публикации, которая продолжалась в последующих номерах) помещен очерк Н. Обручева. Он перепечатан, о чем извещается в примечании, из сборника „Государь Император Николай II Александрович“ (сборник памяти 100-летия со дня рождения; Всеславянское издательство, Нью-Йорк, 1968 год). Не стану возражать здесь (разговор об этом впереди) по поводу „ангельских“ оценок, данных Обручевым Николаю Второму. Остановлюсь лишь на том, как автор очерка, не утруждая, видимо, себя тщательным изучением документов, переместил некоторых участников этой трагедии из Екатеринбурга в Пермь, из Перми в Екатеринбург и т. п. Так, Челышева, камердинера Михаила Александровича, содержавшегося в пермской тюрьме, он „делает“ камердинером царской семьи, „увозит“ в Екатеринбург и там „убивает“ вместе с царскими особами. Подобным образом Обручев поступает и с придворными царской семьи Гендриковой и Шнейдер, содержавшимися вначале в екатеринбургской тюрьме, а затем в пермской. Вместо Челышева Обручев „определил“ в камердинеры к Михаилу Александровичу управляющего делами великого князя Сергея Михайловича — Ремеза, „вывезя“ его из Алапаевска в Пермь. По данным Обручева, Ремез вообще в Алапаевске не числится, хотя его труп нашли именно там, в шахте, вместе с другими погибшими. Впрочем, Обручев изменяет и имя, и отчество Ремеза. Можно предположить, что при написании своего очерка он бегло ознакомился с некоторыми документами Екатеринбургского окружного суда. Так, в протоколе осмотра места происшествия, датированном 25 октября 1918 года и подписанном членом Екатеринбургского окружного суда И.А. Сергеевым, товарищем прокурора А.Т. Кутузовым и старшим милиционером Тихоном Мальщиковым, в перечне фамилий трупов значится и фамилия Ремеза. Но ее нет в другом документе. Процитирую его:
Судебно-медицинский осмотр и вскрытие трупов б<ывшего> Великого князя Сергея Михайловича, князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей Романовых, б<ывшей> В<еликой> княгини Елизаветы Федоровны, графа Владимира Павловича Палея и монахини Варвары Яковлевой. Осмотр и вскрытие произведено под открытым небом, при пасмурной погоде, при температуре наружного воздуха в 2 градуса выше нуля по термометру Реомюра…“
Не упоминается Ремез и в заключении, составленном членами судебно-медицинской экспертизы. Не исключено, что именно этим документом мог воспользоваться Обручев. Но тогда непонятно, каким образом он „переместил“ Ремеза в Пермь, не только понизив последнего в должности, но и изменив ему имя и отчество. Ведь во всех материалах дела за исключением одного (речь идет об исследованных документах), в том числе и метрической книге об умерших за 1916 год (метрическая книга Свято-Троицкого собора, Алапаевского завода, Верхотурского уезда, Екатеринбургской епархии; часть третья), Ремез числится как Федор Семенович (Феодор Симеонович). Ну а в каком документе по-иному? Процитирую выдержку из него:
1918 года, декабря 28 дня, в городе Алапаевске член Екатеринбургского окружного суда И.А. Сергеев, рассмотрев настоящее дело, нашел:
20/7 мая 1918 года по распоряжению областного Совета Раб. Кр. и Кр. — Арм. Деп. Урала в городе Алапаевске были водворены на жительство следующие члены бывшего императорского Российского дома Романовых: Великий князь Сергей Михайлович, Великая княгиня Елизавета Федоровна, князь Иоанн Константинович с супругой Аленой Петровной, князья Константин и Игорь Константиновичи и сын б<ывшего> Великого князя Павла Александровича от второго (морганатического)[13] брака граф Владимир Павлович Палей… Одновременно с князьями прибыли и поселились с ними: доктор (личность его пока не обнаружена), состоящие при В. кн. Елизавете Федоровне монахини Варвара и Екатерина; камердинер[14] Великого князя Сергея Михайловича Федор Петрович Ремез и два лакея…“
Как видите, Сергеев тоже здесь обозначил Ремеза-управляющего Ремезом-камердинером. Но если допустить, что Обручев пользовался именно этим документом, то он не только обязан был заметить, что извращает имя и отчество Ремеза, делая его вопреки Сергееву Петром Федоровичем (в объемном постановлении, которое заняло в деле листы со 114 по 118 об., Ремез упоминается несколько раз), но и „выдворяет“ из Алапаевска в Пермь.
— Ну, хорошо, — быть может, возразит будущий читатель, — Обручев и другие ему подобные ошибались в цифрах, датах, фамилиях, но какие основания утверждать об извращении фактов, а тем более основной линии следствия?
— Эти основания можно найти в самих материалах следствия.
— Значит, вы хотите сказать, что тот же Соколов преднамеренно переиначил логику своих выводов по делу? Вот вы здесь много цитировали документов. Разрешите и нам это сделать. Вот, к примеру, что писал о Николае Алексеевиче Соколове Гелий Рябов в журнале „Родина“ (№ 7 за 1990 г.): „…23 ноября 1924 года Н.А. Соколов внезапно скончался от разрыва сердца и был похоронен в местечке Сальбри, недалеко от Руана, во Франции. Друзья поставили на его могиле простой деревянный крест и сделали надпись: „Правда Твоя — правда вовеки“. Я думаю, что, если бы они продолжили „…и слово твое — истина“, они сказали бы чистую правду, ибо жизнь Николая Алексеевича была несомненным подвигом во имя раскрытия истины, что же касается обстоятельств расследования гибели Николая II и его семьи, то и особенно“. Что вы на это скажете?
— А то, что Соколов мог иметь любые убеждения — это его право. Но как официальному лицу, ему не следовало участвовать в расследовании этого дела.
— Что вы имеете в виду?
— Вот вы процитировали выдержку из публикации в журнале „Родина“ Гелия Рябова. Но повыше этой выдержки там же есть такая фраза: „Крушение императорской власти, а затем и Временного правительства определило его позицию — убежденного монархиста — на всю оставшуюся жизнь“. Это сказано о Соколове, который был действительно убежденным монархистом, то есть заинтересованной стороной в этом деле. Более того, к его заинтересованности прибавилась не менее острая заинтересованность сделать большевиков и Советскую власть „исчадиями ада“ со стороны Колчака. Тут уже приводилась „Справка“, подписанная Соколовым, в которой извещалось, что следственное действие направлялось на „доказательство факта убийства“. Значит, даже в отсутствие трупов и при наличии всевозможных противоположных или противоречивых сведений следствие сразу же получило узконаправленную программу действий. Если же кто-то не укладывался в ее рамки, он отстранялся от ведения дела или переводился на второстепенные роли.
Первым, если судить по постановлению от 30 июля 1918 года, возглавил рассмотрение этого дела „судебный следователь Екатеринбургского окружного суда по важнейшим делам“ (исполняющий должность судебного следователя) Наметкин. Он оставил описание места предполагаемого сокрытия трупов членов царской семьи, произвел и запротоколировал осмотр дома Ипатьева (подробнейший протокол осмотра составил более десяти — с 12-й по 25-ю — страниц дела), сделал опись некоторых вещественных доказательств, допросил первых свидетелей. В следственных материалах его подпись встречается еще и в сентябре, но уже возглавляет дело Сергеев. Немало потрудился в выяснении обстоятельств дела товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда Магницкий. Приведу несколько строк из его представления прокурору этого же суда, помеченного 30 декабря 1918 года: „Вследствие личного предложения доношу вашему высокородию: в начале августа сего года мне было предложено исполняющим обязанности прокурора товарищем прокурора Кутузовым наблюдать за производством дознания по делу об убийстве государя императора Ник. II… Я с разрешения прокурора взял на себя наблюдение со второй частью дознания — за розыском трупов“.
Много документов в материалах дела подписаны начальником Екатеринбургского уголовного розыска Кирста и его заместителем Плешковым. Но все же львиная доля работы, в чем легко убедиться, ознакомившись со всеми бумагами, составленными им, принадлежит члену Екатеринбургского окружного суда Ивану Александровичу Сергееву. Он работал дотошно и кропотливо. Но именно эта кропотливость, по всей видимости, не нравилась заинтересованным лицам, в первую очередь адмиралу Колчаку, жаждавшим „фактического, убедительного и неотложного“ всеобщего осуждения большевизма. Но именно фактического материала во всем ворохе бумаг и вещественных доказательств, собранных Сергеевым, а также его предшественниками и помощниками, явно не хватало для убедительного и неоспоримого суда над большевиками и Советской властью. Стали поговаривать, что Сергеев умышленно затягивает и запутывает следствие. Имели ли эти слухи и пересуды реальную основу? На мой взгляд, нет: после внимательного ознакомления с „сергеевским архивом“ они не вызывают желания опровергать их. По всей видимости, Сергеев не терпел халтуры и суетливости в такой ответственной работе и старался, не в пример Соколову, быть по возможности объективным, хотя те же материалы свидетельствуют о его трудно скрываемом желании доказать вину в содеянном именно большевиков. Как бы там ни было, но не прошло и полгода с начала следствия по столь серьезному и запутанному делу, как появился следующий документ:
„В.Р.И. д. Копия
Главнокомандующий Члену Екатеринбургского
Западным фронтом окружного суда
23 января 1919 года И.А. Сергееву
№ 119 г. Екатеринбург
На основании повеления Верховного Правителя от 17 января сего года за № 36 приказываю Вам выдать мне все подлинное следственное производство по делу убийства бывшей Царской Семьи и членов Дома, а равно все документы, вещи и материалы, принадлежавшие членам Семьи и состоявшим при них приближенным лицам, также убитым.
Передачу произвести по описи. Один экземпляр описи, скрепленный подписями г. Прокурора, г. Следователя и моей, должен быть заготовлен для передачи Верховному Правителю.
Настоящая передача мне всего материала и вещей не прекращает продолжения Вами следственного производства, для чего Вы имеете право сохранить у себя копии необходимых документов.
Генерал-лейтенант Дитерихс“.
Нетрудно догадаться, что указание продолжить следственное производство при передаче всего следственного материала носило формальный характер. Тем более что уже было принято решение о передаче всего дела „рвущемуся в бой с большевизмом“ Соколову.
— Вы хотите сказать, что Соколов воспользовался результатами труда Сергеева и других? — быть может, возмутится наиболее недоверчивый и предвзятый читатель, и я ему отвечу:
— Да, именно так. По крайней мере не совсем правильно считать, как нынче утверждают иные публицисты и даже наследники Соколова, что архивный материал по делу Николая II, его семьи и великих князей — это только его достояние. Не совсем законно приписывать право „владения“ архивом тому же Сергееву или кому-нибудь еще другому, а тем более лицам, пребывающим за границей. Связанные с этим делом документы и вещественные доказательства — это часть нашей истории и принадлежат нашей стране, к тому же Соколов вывез не только то, что по приказу Колчака принял от Дитерихса, а тот — от Сергеева, но и часть советских архивов города Екатеринбурга. Наверное, а точнее, несомненно, что большая справедливость — в наличии основных документов именно в нашей стране.
И тут самый язвительный читатель бьет меня, как ему кажется, под самый дых:
— Все то, о чем вы здесь нарассуждали, не стоит и выеденного яйца. Вашим цитатам и умозаключениям не устоять против публикаций в „Огоньке“ Эдварда Радзинского. Ну, вот хотя бы в майском, двадцать первом номере журнала за 1989 год. Обнародовав воспоминания руководителя и непосредственного участника расстрела царской семьи Юровского, которые тщательно прятались в советских архивах, Радзинский поставил, по его же словам, жирную точку в этом деле, а на всяких оправдательных объяснениях вроде ваших — жирный крест. Он ведь так и заявил, что теперь, мол, со всеми этими версиями покончено и публикация добытого им архивного документа… „закрывает навсегда все догадки и споры“. Кстати, вы читали эти публикации Радзинского?
— Читал. И я им не верю. Даже в большей степени, чем соколовским.
— Неверие — это не аргумент, — снисходительно замечает читатель, и я вижу на его губах уничтожающую улыбку.
— У меня есть и аргументы. Я могу обстоятельно ответить на вопрос, почему я не верю Радзинскому, столь безапелляционно „закрывшему“ шумное дело.
Язвительный читатель несколько настораживается, хотя надменность в его голосе звучит еще более явственно:
— Любопытно, любопытно. Ну что ж, валяйте. И я начинаю „валять“.
— Во-первых, — обращаюсь я теперь уже к другим оппонентам, а возможно, и сторонникам, — как можно верить исследователю, который, на мой взгляд, не совсем уважительно относится к читателям, злоупотребляя их доверием и невозможностью с их стороны проверить все то, что выдается за архивные находки. Поставить все точки над „i“ публичным заявлением — это еще не значит, что проблема закрыта. В „Огоньке“ (1989. № 21. С. 30) Радзинский пишет: „Дело о семье бывшего царя Николая Второго“ закрывает навсегда все догадки и споры, ибо „Дело“ заканчивается той самой „Запиской“ — несколькими страничками машинописного текста…» Но как «Дело» не закрывает все догадки и споры, так оно и не заканчивается этой самой «Запиской». Помогу читателю убедиться в том, перечислив, что же находится в «сенсационной тоненькой папке», обнаруженной в архиве Радзинским. Я тоже внимательно ознакомился с ее содержимым и вот что увидел в ней. Перечислю по пунктам:
1. Телеграммы из Тобольска в Москву и обратно.
2. «Оригиналы» некоторых телеграмм.
3. Выписка из заседания Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 18 июля 1918 г. Протокол № 1.
5. Оригинал телеграммы на имя Свердлова.
6. Письма на французском и русском языке о планах освобождения царской семьи.
7. Сообщение французского радио из Лиона.
8. Так называемая записка Юровского в 2 экземплярах.
9. Препроводительная под грифом «Совершенно секретно», направляемая из Омска, а точнее — из Военно-административного управления восточного фронта армий, помощнику командующего войсками Иркутского военного округа генерал-лейтенанту Марковскому и помеченная октябрем 1919 года.
10. Приложенная к упомянутой препроводительной фотография расписки, датированная 30 апреля 1918 года, «в получении» Белобородовым от Яковлева доставленных из Тобольска в Екатеринбург царя, царицы и их дочери Марии.
11. Копия телеграммы от 6 октября 1919 года с просьбой к начальнику контрразведывательной части, переданной через «второго Генкварверха Красноярска», о срочной высылке (вероятно, в Омск, Соколову) фотографии Яковлева, «причастного к убийству семьи Романовых».
12. Часть списков, заверенных судебным следователем Н. Соколовым, содержащих «сведения о лицах, причастных к убийству государя Императора и его августейшей семьи». Первый список, озаглавленный «Физические участники убийства», включает следующие фамилии и «сведения» о них: «1. Еврей-лютеранин Яков Михайлович Юровский, мещанин гор. Каинска, Томской губернии. 2. Рабочий Прокопий Александрович Никулин. 3. Рабочий Верхне-Исетского завода Петр Захарович Ермаков; 4. Рабочий Верхне-Исетского завода Александр Егорович Костоусов; 5. Рабочий Верхне-Исетского завода Николай Сергеевич Партии; 6. Рабочий Верхне-Исетского завода Василий Иванович Леватных; 7. Немецкий пленный мадьяр по национальности Андраш Бергаш». В списке «Участники уничтожения трупов» значатся 22 фамилии. В третий список — «Участники уничтожения следов преступления в самом доме Ипатьева, где содержалась августейшая семья», внесено 22 фамилии рабочих Сысертского завода и 38 — Злоказовской фабрики и Екатеринбурга. В четвертый — «Интеллектуальные участники убийства» вписан 51 и в пятый — «Шоферы, причастные к делу» — 33 человека.
По всей видимости, все эти копии документов, пунктуально собираемые в свое время Соколовым, затем осели после разгрома Колчака в советских архивах. Об этом свидетельствует и пометка, сделанная на папке: «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Дело о семье быв. царя Николая II. 1918–1919 гг.». Выходит, и так называемая записка Юровского тоже составлялась до 1919 года. Но некоторые сведения, попавшие в нее (более подробно об этом будет изложено позднее), не могли быть известны в это время Юровскому, а если еще учесть, что она составлялась от третьего лица, то предположения о принадлежности «Записки» к Соколовскому архиву не такие уж безосновательные…
— Ну, уж и нет! — возмущается несговорчивый читатель. — Сами призываете других к внимательному прочтению документов, но поступаете совершенно иначе. Последняя строка «Записки» о чем говорит? Да о том, что ее писал большевик, красный. «Секрет был сохранен вполне, — так заканчивается этот документ, — этого места погребения белые не нашли». Если белые искали и не нашли, то хоронить тела могли, естественно, только красные.
— Вполне логично. Но ведь могли прятать и от тех, и от других.
— То есть? Кто мог это делать?
— К примеру, группа монархистов, которая не участвовала ни в белом, ни в красном движении. Или представители иностранных контрразведок. Их во время правления Колчака в Сибири и на Урале было хоть пруд пруди: японская, английская, французская, чешская, итальянская, польская, сербская. Вполне могла принять участие в этой акции и немецкая разведка. Кроме того, мне не хотелось бы спорить по этому поводу, поскольку придерживаюсь мнения, что трупов царя и его семьи, по крайней мере главных из них, вообще в упоминаемом захоронении не должно быть.
— Это тоже несерьезно. А как же тогда раскопки, произведенные Гелием Рябовым и Александром Авдониным в 1979 году и последним — двенадцать лет спустя? Посмотрите, посмотрите публикации об этом событии. Хотя бы в «Известиях» в июле — августе 1991 года. Ведь в первый и во второй раз были найдены останки трупов. И как установлено, царской семьи.
— Такой твердой определенности, на мой (и не только мой) взгляд,[15] еще не установили. Более того, высказывались совершенно иные предположения о принадлежности найденных останков. Нужна квалифицированная и непредвзятая экспертиза.
— Ну а если ее результаты подтвердят предположения тех же Рябова, Авдонина. Что вы на это скажете?
— Соглашусь с результатами экспертизы, поскольку верю только фактам и объективным документам. Но и после этого мне трудно будет поверить в большевистскую версию расстрела, так как я вижу в ней мало логики и еще меньше доказательств. Аргументов в пользу антибольшевистской версии значительно больше. Бросающиеся в глаза детали жестокой акции, порой нелепые и необъяснимые, скорее говорят о провокации, чем о какой-то крайней необходимости. А смысл в провокации довольно явный: возбудить против большевиков вражду и ненависть даже у временных союзников и попутчиков, не говоря о противниках.
— Довольно, — раздражается оппонент. — Мы здесь согласия не найдем. Вернемся лучше к Радзинскому. Рассматривая его публикации в «Огоньке», вы остановились на «во-первых». А что «во-вторых»?
— Во-вторых, скрытое неуважение к читателю с его стороны усиливается более явным неуважением к исследуемому документу. Речь снова идет об этой самой «тоненькой папке» (ЦГАОР.[16] Ф. 601. Оп. 2. Ед. хр. 35), в частности о «Записке Юровского». Я не только внимательно ознакомился с содержимым папки, но и тщательно сверил текст опубликованного документа в «Огоньке» с подлинником. Хотя Радзинский и предупредил читателей, что текст представляет из себя несколько страничек, напечатанных на машинке, но не уточнил, что это далеко не первый экземпляр, судя по машинописным строчкам. Можно ли быть уверенным даже не на сто, а на пятьдесят процентов, что эти «воспоминания» принадлежат именно руке Юровского, если нет не только оригинала, но и первого машинописного экземпляра настоящего документа? Радзинский убежден, что можно, поскольку карандашные правки и вставки на полях, обведенные впоследствии чернилами, сделаны, по его мнению, рукой Юровского. Он утверждает, что «аккуратный, четкий почерк, знакомый почерк человека с бородкой», т. е. Юровского, и что «почерк Юровского остался на документах Ипатьевского дома». В следующем же абзаце, нисколько не смущаясь, он сознается, что «читал описания той чудовищной ночи», которые все были «с того берега», все были опубликованы «врагами Октября». Так какие же «документы Ипатьевского дома» мог видеть Радзинский, если их вывез в свое время Соколов?.. Его ссылка на этот злосчастный дом такая же сомнительная, как и рассказ Ельцина репортеру Ленинградского телевидения в одном из его многочисленных интервью. Он говорил о том, что в бытность его первым секретарем Свердловского обкома партии поступил якобы приказ от Брежнева взорвать дом Ипатьева. Как ни противился Ельцин, подчиниться пришлось. Конечно, разве мог он тогда оставить перспективную должность и «перспективную» партию? Разве мог, как сделал это позже, в удобный и даже выигрышный для себя момент, громогласно заявить о выходе из «изуверской» партии? Ни смелости, ни духу, ни желания не хватило. Правда, в интервью нет подробностей, каким образом Ельцин заставлял других осуществить этот приказ (не сам же ночью возил и подкладывал взрывчатку и уничтожал дом!), кому грозил отлучением от партии, как это делал якобы по отношению к нему Брежнев. Документов, «узаконивших» эту акцию, обнародовано не было. Инициативу в ее осуществлении теперь так же легко приписать покойному Брежневу, как Радзинский делает это по отношению к Ленину, приписывая ему руководящую роль в расстреле царской семьи. Но если главное действующее лицо в уничтожении дома Ипатьева известно — Ельцин, публично признавшийся в содеянном, то с «главным действующим лицом расстрела» — Юровским немного сложнее. Радзинский не только не поставил точку в этом деле, не только не прояснил ситуацию, но «насыпал» многоточий и заронил еще большее сомнение в причастности большевиков к исчезновению царской семьи.
Специалисты-графологи неделями, иногда месяцами тщательно сравнивают начертания букв, чтобы узнать тот или иной почерк, а Радзинскому хватило беглого взгляда, чтобы убедиться — этот почерк ему знаком, этот почерк «человека с бородкой». Причем заявить так, не сравнивая двух документов. Документом из несуществующего дома Ипатьева, сидя в архиве, он не обладал, документ из архива для сличения не выносил. Но и это, прав читатель-скептик, тоже еще не аргумент. Есть еще более спорные моменты. Описывая «тоненькую папку», или «Дело о семье бывшего царя Николая Второго», Радзинский оговаривается, что оно, это «Дело», заканчивается «той самой „Запиской“», т. е. «воспоминаниями Юровского». Но это вовсе не так. Вслед за «Запиской» подшиты еще несколько документов, из содержания коих следует, что они извлечены из «колчаковского архива». Словом, это те самые агентурные донесения, которыми, не исключено, пользовался Соколов, расследовавший по заданию Колчака «Дело о царской семье». Почему же нельзя допустить, причем даже в большей мере, чем утверждение Радзинского, что и «Записка» составлялась в том же ведомстве — в колчаковской контрразведке? Ведь «воспоминания Юровского» ведутся от третьего лица, и он, Юровский, здесь именуется «комендантом».
Радзинский этот момент отмечает, но, в других местах склонный к пространным комментариям, в этом — обходится только короткой репликой. В остальном же — читателю навязывается неоспоримый факт, что эта «Записка» принадлежит именно Юровскому, что это именно «воспоминания» главного действующего лица екатеринбургских событий. Удивительно, что открыватель «сенсационного документа» не замечает противоречий, которые сам же и породил. «Все, что случилось в ту ночь, которую он считал исторической, — пишет Радзинский, — Я.М. Юровский изложил в памятной записке, которую составил через два года. Как считается — для знаменитого историка М.Н. Покровского». Где считается или кем считается, он не уточняет. Эти недомолвки пусть тоже остаются на его совести, но для нас важно иное: Юровский, по мнению Радзинского, изложенному в приведенной выше огоньковской цитате, описываемые события самолично «изложил» и «составил». Но несколькими короткими абзацами ниже с удивлением читаем: «И вот передо мной лежит записка, составленная со слов Якова Михайловича Юровского…»[17] Вот те раз. «Со слов» — это значит кем-то, не собственноручно. Тогда кем же?.. Может, отгадка таится вот в этой фразе, взятой из другой публикации: «Слово самому Юровскому. Он пишет в своих показаниях…».[18] Дальше приводится выдержка из уже упоминавшейся «Записки». Если «показания», то они даются то ли в качестве обвиняемого, то ли свидетеля. Вместе с тем не приводится никаких данных о том, что Юровский выступал в том или другом качестве. Соколов его не допрашивал, поскольку в собранных им материалах сказано однозначно, что Юровский скрылся и разыскать его, чтобы привлечь к ответственности, не удалось. Вместо него арестовали и содержали в заключении престарелую мать Юровского. Об этом в «архивах» Соколова упоминается. Не привлекался Юровский к суду и Советской властью, впрочем, тот же Радзинский уточняет по этому поводу, что «ровно через 20 лет после расстрела в Екатеринбурге, в таком же июле, но уже страшного 38-го года, в Кремлевской больнице в Москве Юровский умирал от язвенной болезни».[19] Он же, Радзинский, с «завидной последовательностью», которую вряд ли не заметил читатель, сам же себя поправил в смысле «показаний», причем (спасибо ему!) сделал, возможно, и не желая того, прозрачный намек, что «воспоминания» Юровского не очень-то заслуживают внимания. По «показаниям» самого Радзинского, «расстрел царской семьи и их родственников…породил группу небывалых документов». К этим «небывалым документам» он относит и многочисленные «воспоминания», авторы которых старались добиться первенства в убийствах, соперничали между собой за «честь расстрела». А потом делает примечательный вывод: «Одно из воспоминаний этой серии — „Записку“ Я.М. Юровского о расстреле царской семьи — мы уже опубликовали».[20] Более того, он даже изобличает Юровского в откровенном подлоге с помощью «живых свидетелей», в частности, историка-архивиста М.М. Медведева, утверждавшего, что его отец, Михаил Александрович, застрелил царя. «Если все это действительно так, — рассуждает Радзинский, — значит, в своей „Записке“ Я.М. Юровский приписал себе пулю, убившую царя! Что ж, для него эта пуля была исторической миссией, желанная высокая честь…»[21]
Но здесь вполне уместны иные рассуждения. Мог ли человек вот с такой амбицией, имеется в виду Юровский, для которого, по выражению Радзинского, даже пуля в царя — «историческая миссия», писать свои «мемуары», «показания» или «Записку» от третьего лица, не упоминая при этом даже своей фамилии? Сомнительно, и даже очень. Эта самая «Записка», выдаваемая Радзинским за сенсационные откровения Юровского, скорее всего из того же разряда, что и рапорт субинспектора уголовного розыска Летучего отряда Талашманова. 22 августа 1918 года он доносил начальнику уголовного розыска города Екатеринбурга агентурные сведения, в соответствии с которыми «числа около 15 июля с.г. в одно из воскресений в лесу» компания подгулявших комиссаров обсуждала судьбу царя и его семьи. Назывались фамилии комиссаров, кроме одного неизвестного, и развлекавшихся с комиссарами девиц, сообщалось, кто и что говорил, т. е. одни ратовали за то, чтобы «все семейство расстрелять», а другие — за сохранение царя и уничтожение одной царицы, «т. к. во всем этом деле виновата она». Можно только поражаться ловкости и смелости агента, сумевшего так близко подкрасться к компании и искусно спрятаться. Ведь нужно было, не выдавая себя, всех рассмотреть, все услышать. Тем более что комиссары и девицы не сидели на месте, а, не закончив разговор, «разбрелись по лесу гулять». Похоже, что этот самый искусный и дерзкий агент находился среди развлекавшихся. Правда, все сомнения развеял другой документ, хранившийся, как и упомянутый рапорт, в «соколовском архиве». 25 декабря 1918 года наблюдатель уголовного розыска Алексеев письменно доносил своему начальнику: «Агент уголовного розыска Михаил Ефимович Талашманов… объяснил, что сведения… по поводу предполагаемого убийства Царя, Царицы и членов Царской Семьи… он получил агентурным путем и проверить их не представляется никакой возможности, так как свидетелей на эти факты никого Талашманов указать не может и по полученным им сведениям никого свидетелей при этом не было, а было лишь одно лицо, которое сообщило ему все эти сведения и просило сохранить имя в тайне…»
Внимательно изучив «сенсационное открытие века» Радзинского, т. е. «Записку Юровского», я пришел к выводу, что она больше похожа на фальшивку, чем на подлинный серьезный документ. Причем составили ее, по всей вероятности, не два года спустя, как это утверждает Радзинский, а несколько позже 1920 года.
— Доказательства! Где доказательства? — уже не улыбается, уже не ехидничает, а настаивает неистовый читатель, желающий уничтожить не только строптивого и упрямого оппонента, не только живых и мертвых коммунистов, но и всякое воспоминание о большевизме вообще и вдруг увидевший угрозу своим намерениям.
— Доказательства в самом обычном сравнении материалов расследования с текстом сомнительной «Записки». Например, такое сравнение. В «Записке» читаем (выдержку даю по архивному документу, так что с огоньковским текстом будут некоторое расхождения): «При этом кое-что из ценных вещей (чья-то брошь, вставлен, челюсть Боткина) было обронено, а при попытке завалить шахту при помощи ручных фанат, очевидно, трупы были повреждены и от них оторваны некоторые части — этим комендант объясняет нахождение на этом месте белыми (которые потом его открыли) оторванного пальца и т. под.». Но в 1920 году, когда якобы писались эти «Записки», их предполагаемый автор (Юровский) не мог знать этих деталей о челюсти, пальце и прочих находках колчаковской контрразведки. Убеждает в этом постановление (составленное Соколовым 24 октября 1920 года), а также дополняющая его справка. В последней имеются такие строки: «Во исполнение постановления от 24 октября 1920 года к делу приобщаются сведенные в систему фотографические отпечатки предметов, о коих приводятся нижеследующие сведения в настоящей справке». Дальше дается описание снимков. На двух первых из них изображен человеческий палец, «обнаруженный на дне большого колодца шахты № 1… в августе месяце 1918 года» и сфотографированный и описанный 10 февраля 1919 года. Тогда же была проведена и врачебная экспертиза, в результате которой было высказано наиболее вероятное предположение, что находка принадлежит ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ Александре Федоровне, имевшей, как это видно из следующих за фотографическими изображениями пальца изображений ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, «тонкие длинные пальцы…». Так что еще в конце двадцатого года Соколов не мог с полной уверенностью определить принадлежность найденного пальца, тем более что в собранных им материалах имеются высказывания отдельных лиц о невозможности (из-за деформации пальца) точного определения. Правда, имелись и другие сведения, совпадающие с мнением автора «Записки». 30 декабря 1918 года товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда Магницкий докладывал письменно прокурору того же суда, что в результате проводимой им поисковой работы «при промывке фунта… на дне шахты в иле оказался отрубленный палец и верхняя вставная челюсть взрослого человека». Он же сообщал, что, «по высказанному тогда же мнению придворного врача Деревенько, палец этот и челюсть принадлежат доктору Боткину». Но все эти находки и доклады строго засекречивались. 20 августа 1918 года прокурор Екатеринбургского окружного суда, а точнее, исполнявший его должность Кутузов препровождал возглавлявшему в то время следствие Сергееву под грифом «Срочно. Секретно» официальную бумагу и вещественные доказательства. «По моему распоряжению, — сообщал он, — палец и два куска кожи врачом А.И. Белоградским залиты спиртом и опечатаны моей печатью». Ну а сам И.А. Сергеев не разрешил допустить к следственному материалу профессора Э.В. Диля, хотя тот имел официальное поручение командующего Сибирской армией генерал-майора Гришина-Алмазова с целью изучения собранных документов и вещественных доказательств «с исторической точки зрения». В своем постановлении от 6 сентября 1918 года он отмечал по поводу обращения к нему Диля: «При обсуждении означенного заявления по существу и с формальной точки зрения прежде всего надлежит установить… предварительное следствие в отличие от судебного следствия производится в условиях строгой негласности, причем круг лиц, участвующих в деле и имеющих право как присутствовать при следственных действиях, так и знакомиться со следственным материалом, крайне ограничен и точно перечислен в законе…» Следует заметить, что если в печать и просачивались некоторые сообщения, то они носили общий пропагандистский характер, преследующий «разоблачительную» антибольшевистскую шумиху.
В «тоненькой папке» из Центрального Государственного архива Октябрьской революции (ЦГАОР СССР), о которой упоминает Радзинский, цитируемую им «Записку Юровского» предваряет «не замеченное» автором сенсационного открытия сообщение Французского радио (1919 г.):
«Из Лиона 26/8 00/30
Комиссия по выработке ответа Антанты на контрпредложения Австрии окончила свои работы, и передача всех результатов Реннеру[22] неизбежна. „Франкфуртская газета“ говорит, что Реннер не обязан спрашивать мнений Верховной комиссии Национального собрания Австрии. Тела великих князей Сергея и Елизаветы и других членов семьи Романовых, убитых в прошлом году около Перми (пропуск) Тела царя и его семьи, разрезанные на куски, были сожжены сейчас же после преступления. Новые доказательства и указания, собранные на местах, подтверждают эти факты».[23]
Вот такая «достоверная» информация сообщалась в 1919 году. Мало что прибавилось к ней год спустя. Так, русская эмигрантская газета «Время», издававшаяся в Берлине, 6 сентября 1920 года поместила заметку под сенсационным заглавием «Новые данные относительно убийства бывшей царской семьи». И какие же эти «новые данные», собранные, как сообщала газета, «еще по распоряжению адм. Колчака» и переданные «из Копенгагена»? В заметке сообщалось, что колчаковские следственные материалы установили «главную вину в этом преступлении за Центральным исполнительным комитетом и за красной охраной». Подтверждалось «соучастие председателя ЦИКа покойного Свердлова», состоявшего «в тайной связи с неким Голошпекиным», который в свою очередь характеризовался «чрезвычайно кровожадной личностью с садистскими наклонностями». Пожалуй, переиначивание Голощекина в Голошпекина и определение его «в комиссары всего Приуралья»[24] и является одной из сенсаций этой публикации.
Впрочем, есть здесь и сообщение о Юровском, названном «неким Суровским», который «по приказу Голошпекина и производил убийство Николая II». Делалось также сенсационное открытие, что Юровский, «этот субъект был часовщиком в гор. Томске. Затем он временно куда-то исчез, пока не объявился в Екатеринбурге уже владельцем магазина фотографических принадлежностей. Говорят, что деньги ему на открытие этого дела дали из Берлина. Когда власть перешла к большевикам, он сделался их екатеринбургским агентом. С покойным цесаревичем он сумел как-то сблизиться и часто подолгу с ним беседовал, а под конец не задумался собственной рукой застрелить его». Как видим, никаких челюстей, никаких пальцев…
— Но ведь сообщение о находках в шахте, о которых сообщается в «Записке Юровского», могло просочиться не только от юридических лиц, — не сдается оппонент-читатель, хватаясь за эти самые челюсть и палец, словно за спасательные щепку или соломину.
— Что просочилось, то и сообщалось. Кстати, в том же номере газеты «Время» невольно называется и возможный источник «новых сообщений об убийстве царской семьи». В рубрике «маленькая хроника» извещалось о том, что в сентябре—октябре текущего, т. е. 1920 года состоится «мировой съезд монархистов». Хотя проходить он предполагался тайно, газета, явно симпатизировавшая его учредителям, а может, и представлявшая их, не скрывала, что инициаторами съезда являлись русские и германские монархисты, что он пройдет в Мюнхене, что ожидается «приток большого количества» участников. Именно прибывающие на съезд делегаты могли доставить в газету кое-какую информацию, хранимую и усиленно пополняемую Соколовым. Не исключено, что и сам он, являясь убежденным и последовательным монархистом, являлся делегатом съезда и самолично прибыл в Германию, куда довольно часто наведывался для сбора антибольшевистской информации, в частности, о «германских агентах» и «немецких шпионах». Изобличительным фактом по отношению к самим собирателям подобной информации является довольно активное участие в этой пропагандистской шумихе германских официальных кругов, их не только терпимость к изданиям типа газеты «Время», но и поддержка этих изданий. Ведь именно в Берлине была издана в 1925 году книга Соколова по материалам, собранным им и другими следователями, — «Убийство царской семьи». Именно к 1925 или 1924 году, когда эта книга вышла в свет или готовилась к печати, можно предположительно отнести и «Записку Юровского», если бы он был ее действительным автором.
Но в этом «документе» имеются моменты, которые дают еще больше оснований, чем предыдущий, считать его фальшивкой. «В лесу отыскали заброшенную старательскую шахту (добывали когда-то золото) глубиной аршин 3 1/2. В шахте было на аршин воды». А что писал в своем представлении прокурору Екатеринбургского окружного суда Магницкий 30 декабря 1918 года? «Около костров обнаружена была шахта, забросанная ветками, причем при поверхностном ее осмотре, а детального произвести было невозможно, ибо шахта эта была наполнена водой глубиной до 26 аршин…» А что он показал при допросе его 15 января 1919 года? — «…шахта эта была наполнена водой, глубиной до 28 аршин». Он же сообщил, что первые находки — те же злополучные палец и челюсть — были найдены по истечении трехнедельной интенсивной откачки воды с помощью насосов. Работы эти производились в августе 1918 года, т. е. спустя месяц после предполагаемого убийства царской семьи. 26–28 аршин — это не 3,5 аршина, означенные в «Записке Юровского». Около 20 метров — это не 2,5 метра. Так что если столь заниженную цифру в «Записке» можно при горячем желании принять за описку, то рассказ о сокрытии в этой шахте трупов и их извлечении оттуда в течение суток, желай того или не желай, звучит как несуразица. Точно так как и уточнение автора «Записки» о том, что Романовых «не предполагалось оставлять здесь — шахта заранее была предназначена стать лишь временным местом их погребения». Несуразность еще более усиливает «оправдание» нахождения «на этом месте белыми… оторванного пальца» попыткой «завалить шахту при помощи ручных гранат». Если временно укрыли трупы до вечера да еще приставили к шахте часовых, то зачем заваливать ее да еще при помощи гранат?
Так что вряд ли удалось бы то ли Юровскому, то ли кому-либо другому извлечь из двадцатиметрового, заполненного водой шахтного колодца жертвы преступления обратно в столь короткий срок. А по всему получается, что не было «сенсационного перезахоронения», не существовало второго «семейного кладбища», открытого Радзинским. Кстати, непонятно зачем он добавлял собственного туману к вымыслу (так мне кажется) Лжеюровского. Возможно, Радзинскому захотелось подогреть интерес читателей к его огоньковской публикации, а может, попытался сделать рекламу своей, точнее, еще не написанной, но заявленной в том же «Огоньке» книге. Так или иначе, но он уведомил читающую публику, что в архивных материалах, которыми он пользовался, в частности, в упомянутой «Записке» имеются точные координаты этого нового «сенсационного» захоронения. Его он не сообщает по вполне понятным, на его взгляд, соображениям, чтобы, надо понимать, не было нового ажиотажа и паломничества. Но, честное слово, у него получилось, на мой взгляд, как с заваленной с помощью ручных гранат шахтой в «Записке». Или как у Ильфа и Петрова: мы, дескать сидели на берегу Н-ского моря, а позади нас раскинулся Севастополь. Обнародовав не совсем приемлемым способом «сенсационный документ», сообщив его точный «адрес»: архив, фонд, опись, дело, листы, — Радзинский вдруг самолично все засекречивает, как будто только он знает заветные слова потайной двери: «Сим-Сим, открой!..» Ну узнают эту приговорку другие, ну произнесут ее, ну войдут в «сенсационную архивную пещеру», ну полистают нервно, словно дорвавшись до карты Острова сокровищ, «тоненькую папку»… Ну а дальше что? Да ничего сокровенного. Они почерпнут некоторые дополнительные сведения из «уральской географии». Узнают, что деревня Коптяки находится в 18 верстах от Екатеринбурга к северо-западу. Что линия железной дороги проходит на 9-й версте между Коптяками и Верхнеисетским заводом. Ну а затем поймут, что ради смеха или издевательства над легковерными снова очерчивается таинственный круг поиска, который, дескать, находится между местом пересечения железной дороги и Верхнеисетским заводом «саженей во 100» ближе к последнему. Вот такие эти координаты, которыми создавалось впечатление, владел монопольно Радзинский.
Впрочем, он сделал в своих публикациях еще одно невероятное открытие. На этот раз — с «новыми живыми участниками убийства века». Он отыскал, как уже упоминалось, «историка-архивиста» М.М. Медведева, который якобы — «сын того самого… М.А. Медведева», который участвовал в расстреле царской семьи. Во-первых, «тот самый» и не М.А., и не Михаил Александрович, а П.С. — Павел Спиридонович. В том легко убедиться не только после ознакомления с «архивом Соколова», но и с публикацией самого Радзинского в майском (№ 21) номере «Огонька» за 1989 год. Во-вторых, Михаил Александрович Медведев, вполне возможно, что и «благополучно прожил жизнь и умер своей смертью», как утверждает Радзинский, но Павел Спиридонович ушел из жизни в тюремных колчаковских застенках. Соколов утверждает, что от сыпного тифа. Но, если анализировать собранные им материалы по отношению к другим, кого пытали в колчаковской контрразведке (к примеру, протокол осмотра материалов «Следственной комиссии г. Алапаевска», составленный Соколовым 21–30 июля 1922 года), Медведева, надо полагать, постигла иная участь. Дав нужные показания в отношении других, он никак не хотел соглашаться, что являлся непосредственным участником расстрела царской семьи. Это несогласие, вероятно, и ускорило его конец.
Таким образом, в материалах Соколова нет по-настоящему ни одного показания непосредственного участника трагедии, происшедшей в Ипатьевском доме и у шахты № 7. Если внимательный исследователь, отвергнув пристрастия и амбиции, не станет на Соколовскую тенденциозную позицию, не будет выискивать и принимать во внимание только те факты и сплетни, которые вкладываются в заранее придуманную версию, то он увидит в доступных ему документах множество самых различных сведений. Но главное, что он поймет следующее: все, кто самолично зачислял себя в свидетели, а тем более в участники расстрела царской семьи, — самозванцы или лгуны…
— Доказательства!.. Давайте доказательства!.. — снова торопит меня, злится на меня сердитый читатель.
— Доказательства? А вот они…
После того как Юровский принял «комендантство» над домом Ипатьева, он сменил весь внутренний караул. Его составили десять человек — «латыши», как их называли. А еще именовали «мадьярами», «немцами», «немецкими мадьярами», чаще — «чекистами». Они несли внутреннюю охрану дома Ипатьева. Там же и спали в нескольких нижних комнатах. Охрана из рабочих, обитавшая в доме Попова, выставлялась только на внешние посты. И если кто говорил, что он в ночь с 16 на 17 июля 1918 года из дома Попова вызывался в дом Ипатьева, — это вымысел. В том числе не мог там быть П.С. Медведев (не говоря уже о совершенно постороннем М.А. Медведеве!), который являлся разводящим рабочего караула и обеспечивал смену часовых только на внешних постах.
Нелепым выглядит и приказание Юровского собрать в доме Попова все револьверы. Рабочий караул, возможно, за исключением разводящего, был вооружен ружьями. Ну а если уж эти караульные вооружались револьверами, то внутренний караул, из чекистов, тем более должен был иметь это вооружение. Да и какая разница, в конце концов, из чего расстреливать невооруженных людей, беззащитных, беспомощных, среди которых — половина женщины? Зачем «сбором револьверов» и «предупреждением» в доме Попова (чтоб не пугались, когда услышат выстрелы, это, дескать, расстреливают царскую семью) разглашать то, что собирались делать тайно, ночью? Какой смысл был поднимать в центре города стрельбу, а затем везти трупы в тайгу, в «засекреченный, охраняемый район»? Разве нельзя было под каким-либо предлогом увезти тайком все семейство в этот самый район живыми для казни? И шума никакого, и следов в городе не осталось бы… Зачем, впрочем, искать предлог для перевозки находящихся под стражей узников? Из Царского Села перевозили. Из Тобольска перевозили… А из Екатеринбурга, что ж, особое разрешение нужно было? Более того, оказалось, что для перевода содержащихся под стражей с верхнего этажа в нижний — тоже нужно было искать какой-то хитрый предлог. В «Записке Юровского», а затем в легковесной фальшивой агитке-фильме «Цареубийца» все спускаются вниз — с подушечками… Револьверы и подушечки — это элементы той же самой дезинформации о несостоявшемся расстреле в доме Ипатьева. Вернее, он состоялся, но не царской семьи…
Внимательный читатель, ознакомившись дотошно с протоколами осмотра этого дома, обратит внимание, что следы от выстрелов имеются почти по всему периметру комнаты, в том числе и у двери. Создавалось впечатление, что стрельба велась из помещения в сторону двора, а отдельные неглубокие пробоины, проникнув лишь в верхний слой штукатурки, напоминают следы отдаленных выстрелов. Так не оборонялся ли внутренний караул от нападавших на него?.. «Сбор револьверов» в показаниях должен был оправдать эти самые револьверные пробоины. Ведь было известно, что даже чекистские отряды вооружались, как правило, ружьями и винтовками. Так что на десять бойцов внутреннего караула могло иметься несколько револьверов. Чтобы скрыть нападение на караул, а заодно «объявить о расстреле царской семьи» в доме Ипатьева, — все, кто находился в ту ночь в этом доме, «получили» из рук следствия револьверы. Да, но тогда чем объяснить штыковые следы, а тем более выгодную для следствия кровавую расправу именно с помощью штыков над недобитыми жертвами?.. Находится один свидетель из дома Попова, у которого имеется штык, ну а жертва спасается от выстрелов, прикрывшись подушкой…
Пусть читатель и мне безоглядно не верит. Пусть так же слепо не отвергает сказанное мной. Я высказываю предположение на основе тщательного изучения материалов. К примеру, в «архивах Соколова» мое внимание привлекло сообщение о вскрытии двух свежих могил на одном из екатеринбургских кладбищ. Могил, возможно, красноармейцев, причем одетых в нижнее нерусское полосатое белье. В те дни, когда состоялось захоронение, боя в городе не было, кроме предполагаемого (мною, в данном случае) нападения на дом Ипатьева. Застигнутый врасплох, поскольку на внешних некоторых постах могли стоять «свои» люди, внутренний караул сопротивлялся недолго и был весь перебит. Ведь на кладбище имелось еще несколько свежих могил — красноармейских, как говорилось уже определенно. Царская семья была увезена неизвестно кем и неизвестно куда. Возле упомянутой шахты было сымитировано сожжение трупов. Некоторые «вещцоки» бросили в колодец шахты. Подтверждением может служить тот факт, что тщательные «поиски трупов» стали вести именно в этой шахте, хотя в урочище «Четыре брата», как засвидетельствовал Магницкий, находилось до шестидесяти старых шахт, где «лет 10–12 тому назад производилась добыча железной руды» (в «Записке Юровского» — золотодобывающая шахта; составитель записки не знал фактических деталей!). Из шестидесяти выбрали именно ту, в которой покоились «вешдоки». Хотя Магницкий и делает оговорку о «показаниях местных жителей», о кострах и т. п., — это обоснование не совсем убеждает, тем более в сравнении с «обнаружением» шахты с трупами «великих князей».
Вот как описывал эту ситуацию милиционер Тихон Мальщиков в своей докладной записке «о производстве розыска места казни Великих Князей дома Романовых, проживающих в г. Алапаевске и казненных красногвардейскими бандитами в ночь с 17-го на 18 с. июля». По его словам, он руководствовался собранными им «негласными разными сведениями» о том, что трупы были брошены в одну из шахт Алапаевских горных заводов. И Мальщиков сразу же определяет, что это за «одна из многих шахт». Исходя из собранных неопределенных данных, а главным образом «по своему соображению», он прямохонько направился на «старую запушенную около 15 лет каменноугольную шахту в 12 верстах от г. Алапаевска». Чтобы добраться до ствола шахты, пришлось снять толстый слой мусора, а также земли. Ствол же оказался заваленным «разным хламом, обломками досок, бревен, огородных гнилых столбов и жердей», прежде чем на глубине около полутора метров были обнаружены «зацепившиеся за гвозди обшивки в ходовом отделении изорванные с завязанными узлами белые ленты от женского полотняного фартука с красной меткой». Такое упорство могли проявлять только люди, твердо знавшие, что они ищут, а главное — что ищут там, где нужно. Соколов в подобных моментах, обвиняя большевиков, говорил об одинаковости почерка преступления. Но здесь, на мой взгляд, большевистским почерком и не пахнет.
— Позвольте! — возмутится упорный читатель. — Очень даже пахнет. И именно большевистским почерком. Если бы это сделали не большевики, а другие, кто надеялся затем извлечь трупы обратно, чтобы обвинить именно их, этих изуверов века, в содеянном, зачем же было так тщательно укрывать трупы, создавая тем самым самим себе дополнительные трудности?
— Как зачем? Разве у белой силы была твердая надежда на то, что они выбьют красных из этих мест? У них не было такой уверенности. А не спрячь они трупы надежно, их могли бы обнаружить большевики и так же громогласно обвинить истинных убийц… Но есть еще одна веская улика в схожести почерка жестоких и циничных провокаторов. В материалах «Соколовского архива» имеется немало протоколов изъятия и задержания различных лиц за сокрытие вещей, принадлежавших царской семье. Арестовывается даже человек, у которого хранятся старые заплатанные царские штаны, хотя они могли быть или выброшенными хозяином, или подаренными (Николай II часто общался с охранявшими его рабочими и солдатами, называл их даже «товарищи красноармейцы»), или врученными за какую-то услугу. А тут уничтожается богатая (и не только по рабочим и крестьянским меркам) одежда, в костер бросаются самые различные наряды, причем необследованные, с зашитыми внутри драгоценностями. Да если бы «кровожадные и жадные чекисты» и стали расстреливать царскую семью, то они не только не разрешили бы взять с собой «подушечки», но и, чтобы не портить дорогую одежду, заставили бы переодеться приговоренных во что-нибудь попроще, не опасаясь сопротивления с их стороны и не придумывая для них каких-то обманных уловок. Да и, находясь под постоянным надзором, навряд ли удалось бы царице и ее дочерям зашить в одежду драгоценности, да так плотно, что, как утверждается в некоторых показаниях «свидетелей», пули отскакивали да штык не проникал. Ну а если и удалось зашить, значит, не было «строгого жестокого режима» в доме Ипатьева. Если не искались драгоценности и уничтожались дорогая одежда и украшения, то в этом доме пролилась не царская кровь, а костры разжигали не большевики. Все это делали те, кто не очень-то привык дорожить лишней одежонкой и трудовой копейкой.
Еще больше улик сокрыла в себе алапаевская шахта, «открытая» милиционером Малыциковым. Трупы опускали в шахту (не бросали, а именно опускали — бережно, чтобы не повредить лиц!) не только в одежде, не только с различными украшениями и дорогими вещами, но и в карманах убитых имелись документы. Потрясающая расточительность и тупость большевиков, даже несмотря на то что, как признал Соколов, они все-таки люди и им присущи человеческие слабости. Внимательное знакомство с протоколами расчистки алапаевской шахты позволяет обнаружить в них поистине потрясающие факты. Ну, например, в некоторых публикациях можно встретить даже такие сообщения, которые может посчитать абсурдными и антибольшевик. «Три дня и три ночи слышали окрестные жители пение псалмов, — скорбно сообщил потрясающую весть уже упоминавшийся здесь Гелий Рябов. — Это пение доносилось из-под земли. Пели умирающие». Но в «соколовском архиве» четко зафиксировано, что смерть «алапаевских узников» наступила почти мгновенно в результате тяжелых травм. В желудках были обнаружены следы пищи. Возле шахты остались следы костра. Можно предположить, что приговоренные к убийству мирно ужинали в кругу «друзей» и были «казнены» от сильных ударов в основном в затылочную часть. Великий князь Сергей Михайлович, сильный высокорослый мужчина, был пристрелен, тоже, надо полагать, внезапным выстрелом. Затем трупы бережно прятали в шахте довольно своеобразным способом: из могилы делали «слоеный пирог». Опускали один-два трупа (одетыми, с драгоценностями и документами), а затем закладывали их бревнами, досками, хворостом. Труп — слой хлама и обломки. Труп — слой хлама и обломки. И так до самого верху… Первый труп был обнаружен только на вторые сутки на глубине более трех метров (4,5 аршина). Описывая его, милиционер Малыциков сообщал: «…лицо и все тело покрыты трупной гнилостью и плесенью, огнестрельных и от холодного оружия ран не найдено, в правом кармане брюк около 1/8 фун. табаку, в правом внутреннем кармане пиджака бумажник с деньгами и документами… По найденным при нем документам труп оказался гражданином Федором Семеновичем Ремезом». О мирном предсмертном ужине свидетельствует и тот факт, что «голова завязана белым батистовым платком, с узлом под скулами» (у некоторых трупов подобная примета; не исключено, что нанесенные на голове раны закрыли от попадания туда грязи, предотвращая таким образом преждевременное разложение трупов). Похоже, что живой еще Ремез защищался таким образом от комаров.
Два последних трупа отрыли только на шестые сутки на глубине около 14 и 15 метров. Ими оказались великий князь Иоанн Константинович и великая княгиня Елизавета Федоровна. Еще сутки спустя «на мусоре, который плавал в воде шахты», обнаружили «изобличающие большевиков» самые различные документы и другие бумаги, удостоверяющие личности убитых. Удивляет и строгое соблюдение «рангов» при зарытии трупов. Камердинер Ремез — отдельно. Фрейлина и монахиня Варвара Яковлевна — вместе с просто князем, рожденным от морганатического (связь лица царского происхождения с лицом нецарской крови) брака, графом Владимиром Палеем. Дальше на разных глубинах находились великокняжеские тела. Кто, кроме «убежденных» монархистов, смог бы так строго и последовательно соблюсти эту «социальную иерархическую лестницу» даже после столь жестокого и расчетливого убийства? По крайней мере большевики до этого уж никак бы не додумались. Шахты под Екатеринбургом и Алапаевском хранят в себе еще много следовательских загадок и тайн, требуют тщательного, вдумчивого, а главное, честного исследовательского, а также следовательского поиска и анализа.
Необходимо отметить, что ни Николай II, ни его семья, преданные и приговоренные к смерти еще до прихода к власти большевиков не только их политическими противниками, но и ближайшими родственниками, совершенно никого не тревожили как в февральские, так и в последующие дни семнадцатого года. Трагедия последнего русского царя, превратившегося из «помазанника божия» в простого гражданина, да еще содержавшегося под стражей, волновала только отдельных лиц, то ли искренне преданных царской семье, то ли огорченных лишением каких-то личных привилегий, то ли еще надеявшихся эти привилегии возвратить. Ну а шум и истерия, всевозможные провокации вокруг этого непростого и таинственного дела, которые не утихают и по нынешний день, поднимались и поднимаются с единственной целью — нанести удар по большевикам. Это явно просматривается в постановлении Н.А. Соколова от 6 августа 1922 года. Приведу из него одну примечательную выдержку:
«Ввиду обстоятельств, установленных показаниями свидетелей Александра Федоровича Керенского, Владимира Львовича Бурцева, Павла Николаевича Переверзева и других, осмотром книги немецкого генерала Людендорфа, в коей помещены его „Воспоминания“ о Великой Европейской Войне, и осмотром представленной свидетелем Бурцевым к следствию сводки по данным предварительного следствия судебного следователя по особо важным делам при Петроградском окружном суде Александрова по обвинению Ульянова и других лиц в государственной измене, представляется доказанным, что как попытка к свержению власти Временного правительства в июле месяце 1917 года, так и самый переворот 25 октября 1917 года имели в своей основе помощь немцев и их интересы».
В этом откровении, думается, заложена вся соль «Дела о царской семье», интересы которой не желает последовательно защищать даже такой убежденный монархист, как Соколов. Он не обвиняет Временное правительство в упразднении монархии, в аресте и ссылке царя на родину Распутина (надежда на самосуд крестьян?), а входит в союз с Керенским против большевиков. Ему нужно сделать их врагами народа и «европейской цивилизации», и именно для этого находится веский повод — убийство царской семьи. Но самое главное обвинение против большевиков — отнюдь не цареубийство, а… приход их к власти. Вот почему Соколов так настойчиво продолжает незаконченное антибольшевистское дело, которое вел по поручению Временного правительства и персонально — Керенского, следователь Александров. С материалами этого дела редко кто из специалистов знакомился, а широкий круг читателей — подавно. Именно поэтому я сосредоточу и на нем свое внимание. Так что читатели, приобретшие настоящую книгу, получат возможность ознакомиться и с еще одним редким историческим архивным материалом.
Часть первая
ТЕМНЫЕ СИЛЫ
Соколов приступил к выполнению задания Колчака спустя семь месяцев после чрезвычайного и таинственного происшествия в Екатеринбурге, в печально известном доме Ипатьева. Об этом свидетельствует следующая запись в одном из томов дела: «Предварительное следствие, произведенное судебным следователем по особо важным делам Н.А. Соколовым по делу об убийстве отрекшегося от престола Российского государства Государя Императора Николая Александровича, Государыни Императрицы Александры Федоровны (Гесс), Их детей: Наследника цесаревича Алексея Николаевича; Великих Княжон: Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны, Марии Николаевны, Анастасии Николаевны и находившихся при Них: доктора Евгения Сергеевича Боткина, повара Ивана Пантелеймоновича Баритонова,[25] лакея Алексея Егоровича Труппа, комнатной девушки Анны Степановны Демидовой.
Начато 7 Февраля 1919 года».
И все же предлагаю читателям[26] совершить еще один временной прыжок от главного происшествия (длиной почти в полгода, отталкиваясь от приведенной записи) и последовать за Соколовым из Екатеринбурга в Париж. Поможет нам в этом еще одна запись из дела:
1920 года июля 2—4-го дня Судебный Следователь по особо важным делам при Омском окружном суде Н.А. Соколов в г. Париже, в порядке 315–324 ст. ст. уст. угол, суд., производил осмотр рукописи товарища прокурора Екатеринославского окружного суда Руднева, полученной от начальника Военно-административных управлений генерал-майора С.А. Домонтовича (л.д. 174, том 8-й[27])…»
Рукопись эта, озаглавленная «Правда о Русской Царской Семье и темных силах», позволяет изобличить «правдолюбца» Соколова как фальсификатора. Вместе с тем она дает возможность уточнить многие оценки близкого окружения царя, а также историческую обстановку, предшествовавшую отречению от престола Николая II и Февральской революции. Для товарища прокурора Екатеринославского окружного суда Владимира Михайловича Руднева, командированного «по распоряжению бывшего министра юстиции Керенского в Чрезвычайную следственную комиссию по расследованию злоупотреблений бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц», главной темной силой являлся Григорий Распутин. Для судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Николая Алексеевича Соколова — большевики. Ненависть к ним настолько ослепила его, настолько затмила разум, что он позабыл о своем «природном правдолюбстве», об обязанности «юридического беспристрастия», закрыл глаза на свой долг перед законом, на показания многих лиц, которых с таким тщанием допрашивал и показания которых так подробно записывал. Ненависть эта была настолько сильна, что, признавая вслед за Рудневым темной силой Распутина, он считает его если не большевиком, то по крайней мере распропагандированным большевиками и их агентом в царском доме и в России. Переплюнув в своей неистовой злобе против большевизма всех своих единомышленников в этом деле, Соколов в своей книге писал: «Я не верю в „германофильство“ Распутина… Эта идея была не по плечу Распутину. Если она была продуктом его собственного мышления, это был выкрик большевика-дезертира.
Конечно, это была не его мысль: „Кровь… Довольно проливать кровь…“ Эту идею внушали Распутину, чтобы он, как слепое орудие, пользуясь своим необычным положением, внушил ее Императрице».[28]
Неистовый антибольшевизм и шпиономания по отношению к «большевику-дезертиру» Распутину так захватили Соколова, что он усмотрел в деревенской привычке Распутина давать клички окружавшим его людям… условную замену фамилий с конспиративной целью. Распутин, по мнению Соколова, не только распропагандированный большевиками темный человек, но и что-то вроде подпольного резидента. Ну а его резидентура — Протопопов (министр внутренних дел), Штюрмер (министр иностранных дел), епископ Варнава, получившие от Распутина шпионские клички — Калинин, Старик и Мотылек соответственно. «Думаю, что эта терминология указывает на конспиративную организацию», — глубокомысленно оценивает распутинскую прихоть Соколов, почему-то упуская из виду, что «большевик-дезертир» величал царя не иначе, как Папой, а царицу — Мамой. Что ж, и они входили в «конспиративную организацию» Распутина? Но если «идея германофильства», по словам Соколова, не по плечу ограниченной деревенщине — Распутину, то уж куда ему до вожака подпольной организации в таком вот представительном составе. Да и клички — Папа и Мама, следуя логике следователя по особо важным делам, должны принадлежать истинным руководителям «организации». Ну а если отойти от вымыслов и домыслов, то именно императрица Александра Федоровна вела кружок, о котором в материалах дела упоминается довольно часто. Здесь же, а также во многих мемуарах той поры именно Папа и Мама представлялись значительному числу их современников главной темной силой. Соколов, к примеру, почему-то «не обращает внимания» на примечательный факт в рукописи Руднева. Характеризуя дворцового коменданта Воейкова, Руднев отмечает, что еще в 1915 году жена Воейкова в своих письмах к мужу, находившемуся в ставке царя, «умоляла его оставить службу ввиду нараставшего революционного движения, причем она предостерегала мужа, что при крушении государственного аппарата его постигнет ужасная участь». Правда, письма жены Воейкова, сообщает Руднев, «проникнуты болезненной ненавистью к Распутину как к несомненному виновнику грядущих, по ее словам, кошмарных событий».
Еще более определенно говорил об общественном подозрении царя и царицы в «измене» и «государственных преступлениях» допрошенный Соколовым в июле 1920 года (в Париже) князь Львов, первый председатель Совета министров Временного правительства. «Временное правительство, — показывал Львов, — было обязано, ввиду определенного общественного мнения, тщательно, беспристрастно обследовать поступки бывшего Царя и Царицы, в которых общественное мнение видело вред национальным интересам страны…» Это же подтвердил и последний глава этого правительства эсер Керенский. В беседе с Соколовым (август 1920 года) он напомнил следователю о своем выступлении на пленуме Московского совета 1 марта 1917 года. По его словам, на него обрушился целый поток злости и раздражения, высказываемых в адрес царя. Звучали и призывы к расправе над бывшим государем. «Там раздались, — вспоминал Керенский, — требования казни его, прямо ко мне обращенные». Хитроумный Александр Федорович даже, по его признанию, пошел на обман «солдатских тыловых масс и рабочих», настроенных крайне враждебно по отношению к Николаю. От имени правительства он пообещал, что все факты, если такие имеются, об антигосударственной деятельности царя разберет беспристрастный суд. Ну а в случае неподтверждения выдвинутых обвинений, тогда, дескать, Временное правительство отправит Николая в Англию. Но поскольку этот вопрос не обсуждался не только в Англии, но и министрами России, Керенский не знал, как к такому, внезапно возникшему в его голове варианту отнесутся та и другая стороны. И все же, чтобы придать больший вес этой версии и себе, заверил, что «сам, если нужно будет, буду сопровождать его до границы России». Ну что ж, покрасоваться он любил. Особенно на «историческом фоне». В данном случае — лихорадствующей страны и умирающей царской династии. Отвергая, дескать, призывы к расправе и «протестуя от имени правительства против таких требований», Керенский якобы «сказал лично про себя», что никогда не примет «на себя роли Марата».
Керенский высказал Соколову предположение, что простой народ, выказывая неприязнь Николаю, особо не задумывался над его конкретной личностью, да и дело было не в этой или другой личности, а в самой идее «царизма», именно эта идея и вызывала злобу и чувство мести.
Вместе с тем они, «рабоче-крестьянские массы», были равнодушны, так считал Керенский, к направлению внешней политики царя и поддерживавшего его близкого окружения, на которое также распространялся народный гнев. Но была и вторая сила, направленная против царя и исходившая, по мнению Керенского, из иных причин. Он говорил следователю: «Вторая группа причин лежала в настроениях иных общественных масс… интересы буржуазной массы и, в частности, высшее офицерство определенно усматривали во всей внутренней и внешней политике Царя и в особенности в действиях Александры Федоровны и ее кружка ярко выраженную тенденцию развала страны, имевшего, в конце концов, целью сепаратный мир и содружество с Германией…»
В словах Керенского о недовольстве низов «царской идеей», думается, есть резон, исторические факты — убедительное свидетельство тому. Даже в официальной монархической литературе трудно было притушить искры народного недовольства всевластной жестокостью, а подчас и самодурством «помазанников божьих». Вот как, к примеру, отмечалось такое настроение, конечно же приукрашенное, в одном из исторических изданий николаевской (Николая II) поры:
«18 марта 1584 года московские колокола своим печальным перезвоном возвестили жителям столицы о кончине Царя Ивана Васильевича Грозного.
При этой вести народ забыл все великие жестокости Грозного Царя, забыл всю ненавистную его опричнину, а вспоминал только такие великие дела его царствования, как взятие Казани, завоевание Астрахани и Сибири, издание Царского Судебника и построение в Москве великолепного храма Василия Блаженного. Русские люди искренно молились о упокоении грозного, но вместе и великого по своим деяниям Государя».[29]
Вековое недовольство накапливалось по отношению к Рюриковичам. Эта «традиция» продолжилась и в годы царствования династии Романовых. Впрочем, в исторических источниках немало противоречивых сведений, оспаривающих если не существование этой династии, то по крайней мере «трехсотлетие дома Романовых». Порой ставится под сомнение законность их воцарения. Так, современники-соперники первого русского царя из этой фамилии — Михаила Романова, пытаясь не допустить его избрания, утверждали не без оснований, что отец Михаила патриарх, Филарет (в миру Федор) получал поддержку от «воровских царей».[30] Ведь было известно, что последний стал митрополитом не без помощи Лжедмитрия I, а патриархом — Лжедмитрия II, так называемого «Тушинского вора». Оспаривалась и правомочность «Великого Земского Собора» 1613 года, положившего начало царского дома Романовых. В монархической литературе, в течение многих лет тщательно скрывавшей все острые углы этой непростой и противоречивой истории, этот собор преподносится как величайшее и справедливейшее событие, угодное богу и России, как волеизъявление всего народа. В подобных романовских жизнеописаниях отмечалось, что этот Земский собор прежде всего постановил, чтобы отнюдь не выбирать «Воренка» — сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II («Тушинского вора»)[31] или какого-нибудь иностранного принца, а иметь над собой царем представителя из русских великих боярских родов. 7 февраля 1613 года состоялось предварительное утверждение кандидатуры, а спустя две недели — официальное. Вот как об этом говорилось в уже упоминавшихся «Очерках из русской истории за время с 1613 по 1913 год»: «В неделю Православия, 21 февраля, в Успенском соборе после торжественного молебна все выборные люди, от знатного боярина до простого крестьянина и казака, единогласно избрали Царем своим Михаила…».[32] Дальше приводился отрывок из текста избирательной грамоты, подписанной участниками собора. Но ни слова не говорилось о том, кто же были на самом деле эти «выборные представители от всех сословий русскаго народа, в том числе и от казачьяго».[33] Попытаемся восстановить этот пробел официальной царской летописи.
На избирательной грамоте имеется 277 подписей, в том числе: 57 принадлежало духовенству, 136 — служилым чинам, 84 — выборным от городов. К последним были прикреплены также «уездные» люди, которые, по всей видимости, и должны были придать собору «демократический фон». Но такими представителями было поставлено всего 12 подписей, принадлежавших далеко не рядовым «избирателям». Они представляли собой мелких служилых людей с юга, а также жителей свободных северных общин, сидевших на «черных» государевых землях. Так что настоящие народные низы, составлявшие крестьянские крепостные массы, на соборе «всероссийском» не были представлены совсем.[34]
Была и третья версия, пожалуй, наиболее важная, которая в течение трехсот лет передавалась из уст в уста и довольно остро соперничала с официальной романовской династической. Пропагандистов этой версии подвергали преследованиям, но слухи, причем время от времени подкрепляемые документально, не затихали. А утверждали они следующее. Многие исследователи считали, что романовской династии хватило всего лишь на четыре поколения, и по мужской линии она прекратила свое существование Петром II, являвшимся императором всего лишь три года (1727–1730 гг.), да и то формально. Еще меньше носил этот титул Петр III — шесть месяцев. Примечателен отзыв известного историка Ключевского о нем, высказываемый неоднократно на лекциях в университете: «После смерти Петра I много чудес перебывало на русском троне, бывали на нем и умные люди, и круглые дураки. Бывали и старики, и грудные младенцы, бездетные вдовы и незамужние матери многочисленных семейств. Но никогда не было на русском престоле скомороха. Судьбе угодно было пополнить этот пробел, — и на престоле появился Петр III». Но династию тревожили не столько подобные оценки, как убедительные доводы о вырождении «русской крови» и «русского наследства» в царском доме. И именно прародителем новой династии — Голштинской, сменившей Романовскую, стал Петр III — немецкий принц Карл-Ульрих Шлезвиг-Голштинский. Он тоже, как и Петр II, считался внуком Петра I. Но в отличие от своего предшественника[35] в его жилах текло больше немецкой, чем русской крови.
Еще меньше, как утверждали настроенные резко антигермански исследователи, ее имел последний царь Николай II. Некоторые сделали даже точный подсчет — одна тридцать вторая доля.[36]
Были мнения, которые, подтверждая факт прекращения рода Романовых на Петре II, ставили под сомнение «родоначальство» Петра III в новой царской династии. Начало этим разговорам положила, пожалуй, сама Екатерина II. В своих дневниковых записках она довольно откровенно дает понять, что ее «муж-дитя» ни на что серьезное не способен. Она же довольно прозрачно намекала на свою любовную связь с русским дворянином Салтыковым, который, выходило так, имел больше прав считаться отцом ее сына (Павел I), чем муж. Откровения Екатерины обрастали всевозможными подробностями, возможно, преследовавшими цель «разбавить густеющую немецкую кровь русских царей впрыскиванием русской добавки». Вместе с тем приобретала гласность и вторая сторона острой проблемы — незаконность наследования русского престола Павлом I и его последователями, что тоже имело широкое хождение в пересудах и умах. Правда, если быть до конца объективным, то вся трехсотлетняя история царствования Романовых, независимо от того, фиктивная она или действительная, основана на изменах, наговорах, предательствах, убийствах, и, естественно, при ее детальном рассмотрении весьма затруднительно говорить о законном престолонаследии того или иного царствующего лица. Впрочем, этим характерно любое самодержавное правление. Будь то в России или еще где-либо. Вот почему народные массы имели много поводов для недовольства царствующими особами, относящимися так неуважительно друг к другу.
Но самодержавие обрызгано не только царской кровью. Жертвы среди «черни», записанные им на свой счет, намного многочисленнее. Так, великие деяния Петра I, по мнению некоторых исследователей, обошлись России в 3 миллиона человек, и общее население в стране во время его правления не только не знало прироста, но и сократилось с 16 млн. до 13 млн. человек.[37] Конечно же, царская гласность пыталась сглаживать подобные острые углы в своих богоугодных делах. Так, оставляя в стороне человеческие жизни, царские хроники превозносили петровский период за то, что «доходы государства при Петре Великом увеличились в три с лишком раза сравнительно с предшествующими царствованиями».[38]
Много душ своих подданных загубил и последний русский царь, которому в наше время очень уж старательно и настойчиво приделывают ангельские крылышки. Если в народной памяти тот же Петр I наряду с эпитетом «Великий» приобрел не без оснований второй эпитет — «Жестокий», то Николая II нарекли, и тоже без особой натяжки, «Кровавым». Так что Керенский в беседе со следователем по особо важным делам Соколовым, высказывая мысль о народном недовольстве самой «царской идеей», был насколько прав, настолько и не прав. К царской власти даже в период ее агонии существовало далеко не однозначное отношение. Еще в 1905 году рабочие, веря в справедливость и человеколюбие «помазанника божия», пошли к нему с верноподданнейшей жалобой и за отцовскими советом и помощью. Еще в 1917 году, в водовороте февральских событий, многие надеялись получить «лучшего» царя взамен обманувшего их прежние надежды. Так что скорее больше правды в том, вопреки утверждению Керенского, что недовольство народа было вызвано не столько «царской идеей», сколько конкретным лицом, воплощавшим эту идею. В нашем случае — Николаем Романовым-Салтыковым-Ангальт-Цербстским-Голштинским или еще каким-нибудь иным, трудно сказать, каким точно. Но настало время поведать более подробно и об этой «темной силе».
О Николае II, хотя он по времени ближе всего к нам, чем другие русские цари, сказать что-нибудь определенное очень трудно. О нем столько самых противоречивых отзывов, что порой создается впечатление, будто представляемые на суд николаевские словесные портреты его современников (не говоря уже о тех, кто «рисует» его с чужих слов и своим собственным воображением) — это фрагменты стодушного человека. Даже порой одно и то же лицо, знавшее Николая, давало о нем неоднозначный отзыв. Вот, к примеру, что говорил о последнем царе бывший председатель Совета Министров Коковцов (часто встречается — Коковцев) в беседе с французским послом в России (последние предреволюционные годы) Палеологом:
«Царь рассудителен, умерен, трудолюбив. Его идеи чаще всего здравые идеи. У него возвышенное представление о своей роли и полное сознание своего долга. Но ему недостает образования, и величие проблем, которые он призван решать, слишком часто выходит за пределы его ума. Он не знает ни людей, ни дел, ни жизни. Его недоверие к себе самому и к другим заставляет его остерегаться всех, кто выше его. Поэтому он терпит возле себя одни ничтожества. Наконец, он очень благочестив, узким и суеверным благочестием, которое заставляет его ревниво охранять верховную власть, потому что она дана ему Богом».[39]
Одни считали его безвольным, ограниченным, ничтожным. Другие — ровным, благожелательным, учтивым, благоразумным. Словом, что ни человек — то какое-то особое мнение.
Но, поскольку речь идет о материалах судебного дела, которыми располагал Соколов, то попытаюсь разыскать некоторые оценки в этих материалах.
Князь Г.Е. Львов (июль 1920 года):
«Мне, как общественному деятелю, приходилось иметь общение с Императором, беседовать с ним, делать ему доклады. Учитывая мои личные впечатления в результате этого общения на протяжении многих лет и события жизни государства, я так себе представляю его личность. Он был человек не глупый, даже, быть может, более в этом отношении одаренный, чем многие другие люди; безусловно хитрый, весьма скрытный, в высшей степени сдержанный и молчаливый; не без лукавства „в византийском духе“. По духу это был безусловный самодержец, питавший, вероятно, в глубине этой мысли идею мистицизма. У него были прекрасные глаза, приятный голос, мягкие манеры…» Нарисован действительно сложный, поистине «византийский» характер. Львов подкрепляет свои наблюдения и выводы довольно примечательными примерами, с которыми читатель сам сможет ознакомиться. «Если Вы обратитесь к изучению многих таких фактов Императора Николая II, которые предшествовали созванию первой Думы, — говорил Львов, — вы увидите в них одну и ту же черту: недоговоренности. Они о чем-то трактуют, рассуждают, но ничего реального, осязаемого не устанавливают… У него в этом отношении вырабатывалась определенная манера „поддакивания“. Он соглашался, говорил „да“, но в глубине у него была иная мысль: не знаю, как поступлю».
Оценки, данные Львовым Николаю II, столь же противоречивы, насколько непредсказуемыми были решения царя. Так, Львов, с одной стороны, ярко и убедительно «рисуя византийский коварный портрет» бывшего государя, с другой — заявляет, что это был… «безвольный человек». Конечно, заявлять так у князя имелось немало оснований, поскольку Николай II давал множество поводов судить о нем как о «послушном правителе», «игрушке» в более сильных руках и т. п. И все же есть вполне достаточно фактов для иного предположения: «безволие» — это была ширма, это было оружие из все того же «византийского» арсенала. Ведь не зря князь Львов, по всей видимости, невольно, но объективно поставил на первый план — безусловную хитрость, устоявшуюся скрытность, в «высшей степени» сдержанность и молчаливость, самодержавное лукавство. Именно на эти качества обращали главное внимание и другие свидетели Соколова.
А.Ф. Керенский (август 1920 года):
«Он был человек очень ушедший в себя, скрытный, недоверчивый к людям и бесконечно их презиравший; человек ограниченный, неинтеллигентный, но с каким-то чутьем жизни и людей». Оценка, как видим, во многом совпадает с мнением Львова и вместе с тем разнится кое в чем с ним. Еще большее несовпадение с высказыванием, уже приводившимся здесь, бывшего царского Председателя Совета Министров Коковцова, считавшего, что Николай II «не знает ни людей, ни дел, ни жизни».
Впрочем, у того же Коковцова есть и другое наблюдение за двуличным поведением царя в отношении к не менее непостоянным в словах и поступках членам Государственного Совета. Со слов «близкого друга», Коковцов, давно не видевший царя после своей отставки с поста Председателя Совета Министров, был огорчен «глухим голосом, впалыми щеками и взглядом недобрым» Николая II. Еще большее беспокойство у Коковцова якобы вызывало недоразумение между царем и правительством. Обычно сдержанный в публичных высказываниях на этот счет, царь в узком кругу высказывал недовольство Государственным Советом, говорил о его членах с раздражением.[40]
Именно в отношении к представителям «бумажной демократии» — членам различных «советов» и «дум», которых он презирал и ненавидел, поскольку должен был с ними вынужденно, пусть и частично, но все же делиться властью, — именно по отношению к этому «сословию-злословию» и проявлялось главным образом «византийское коварство помазанника божьего». С одной стороны, он не любил тех, кто пользовался авторитетом, кто старался вести себя независимо, насколько это позволяло делать взаимоотношение с царем, и подрывал, по его мнению, основы самодержавия. К примеру, откровенно резко и даже агрессивно, опять же неофициально, он воспринимал деятельность Председателя Совета Министров СЮ. Витте, а также его самого. Смерть Витте явилась для него даже облегчением. В этот день, 28 февраля 1915 года, Николай II уезжал в ставку. И в этот же день он писал жене, что, хотя ему грустно покидать ее, Александру Федоровну, и детей, все же на этот раз уезжает «с таким спокойствием в душе…». Удивляясь неожиданному своему спокойствию, он не скрывает, что одной из причин такого состояния может быть газета, «которую Бьюкенен дал… о смерти Витте».[41] Еще более определенно по этому поводу он высказался в разговоре с французским послом: «Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением, я увидел в ней знак божий (?)».[42] Вместе с тем он терпел тех, кто, вопреки суетности Витте, известного творца русской Конституции, и других подобных ему «либералов» и «демократов», признавал безоговорочность самодержавной власти русского царя. Одним из таких сторонников неограниченной монархии, ставшим «особой, приближенной к императору», был министр внутренних дел (1912–1915 годы) Н.А. Маклаков. Это он, потакая «помазаннику божьему» в его «византийском коварстве», предлагал Николаю II осуществить «государственный переворот» в декабре 1916 года, т. е. разогнать Государственную Думу. Подобные советы выдвигались им еще раньше, в октябре 1913 года. Причем они горячо приветствовались Николаем II. Более того, на этот счет имелись специальные «бланковые указы» царя с его предварительной подписью и пустым местом для даты, которая должна была быть внесена то ли Маклаковым, то ли другим министром в день роспуска Думы или, в крайнем случае, созыва новой, более «удобной» и «сговорчивой». Показательным является письмо Николая II Маклакову от 18 октября 1913 года:
«Также считаю необходимым и благонамеренным немедленно обсудить в Совете Министров мою давнишнюю мысль об изменении статьи учреждения Госуд. Думы, в силу которой если Дума не согласится с изменениями Госуд. Совета и не утвердит проекта, то законопроект уничтожается. Это, при отсутствии у нас Конституции, есть полная бессмыслица!
Представление на выбор и утверждение государя мнений, и большинства и меньшинства, будет хорошим возвращением к прежнему спокойному течению законодательной деятельности, и при том в русском духе».[43]
Нет, Николай II не был безвольным. «Поддакивание», о чем говорил Коковцов, — это скорее всего не подлаживание под чье-либо мнение, а усыпление бдительности настойчивого просителя или советчика, попытка отвязаться, а еще чаще — метод оттачивания своей тайной идеи. Кроме того, большинство «советчиков», в первую очередь наиболее настойчивые, беспокойные, а значит, «опасные для самодержавия», со временем устранялись, изолировались, предавались осмеянию или даже уничтожались. Нельзя, к примеру, упорно отрицать версию причастности Николая II к убийству Григория Распутина, поскольку тот превращался в посредника между богом и царем, чего «помазанник божий» допустить не мог. Также нельзя отвергать и того, что тот же Григорий, как и другие «советчики», состоял при царском дворе в качестве громоотвода от дворянского и общенародного гнева, готовился на роль «козла отпущения» в случае крайней необходимости, которую нетрудно было предвидеть. Как бы там ни говорили иные современники Николая II о его безразличии к царской власти накануне Февральской революции, о легкости, с какой он якобы отказался от прав на престол, большинство фактов и его поступков скорее утверждают в обратном: царские привилегии были в его жизни бастионом, и он цеплялся за последний камушек этого бастиона. Как последовательный монархист, олицетворявший, по его представлению, божью волю быть монархом, Николай II непреклонно придерживался одного из самых основных правил, утвердившегося задолго до его царствования, которое довольно метко сформулировал известный историк К.Д. Кавелин. «Всякие ограничения верховной власти в России, — писал он в 1877 году, — кроме идущих от нее самой, были бы невозможны, и потому, как иллюзия и самообольщение, положительно вредны».[44]
Когда нынче на разных перекрестках вновь зазвучали достаточно «запетые» в свое время лозунги о возвращении России в «лоно цивилизованной Европы», в «общий европейский дом», то не каждый, кто пользуется этими лозунгами, задумывается над тем, что красивые призывы не содержат в себе исторической правды. Единой цивилизованной Европы, как и общеевропейского дома, никогда не существовало, ну а если эту часть света и представить каким-то условным домом, то это был поистине «дом, где разбиваются сердца». Конфронтация за конфронтацией. Конфликт за конфликтом. Война за войной. Страны, словно игральные карты, переходившие из одной колоды в другую, видоизменяли враждующие группировки и коалиции. Та же Россия только в течение ста лет, отделивших завоевательские походы Наполеона от Первой мировой войны, кому только не противостояла и с кем только не союзничала. Хотя сказать Россия — тоже большая натяжка и несправедливость, поскольку страны втягивались в вооруженное соперничество правящей верхушкой, повязанной между собой настолько тесными семейными узами и тяжбой за передел «вотчинных границ», что создавалось порой впечатление: и впрямь идет дележ домашнего скарба между неразумными наследниками.
В исторической литературе известен случай попытки датского короля Христиана X (1915 год) взять на себя роль мирного посредника (Дания в Первую мировую войну придерживалась нейтралитета). Рассчитывал он на успех своего предприятия именно по причине наличия этих «семейных уз». Так, его дед Христиан IX являлся отцом Марии Федоровны (мать Николая II) и английской королевы Александры (мать короля Георга V). Так что Николай II являлся двоюродным братом своего союзника — английского короля. Но ведь и их противник — германский император и прусский король Вильгельм II сам называл себя «полуангличанином», поскольку покойная английская королева Виктория была его бабкой.[45] Считала себя англичанкой и Александра Федоровна — жена Николая II, немка по рождению, так как воспитывалась в английской королевской семье. Навряд ли ее глубоко волновали проблемы чужого народа — русского.
А какие истинно российские интересы могли, к примеру, волновать Екатерину I — ливонку Марту Скавронскую, прервавшую своим недолгим незаконным правлением династическую линию Романовых на престоле? Что российское могло заботить Анну Ивановну, дочь фиктивного царя Ивана V, в течение двадцати лет (начиная с семнадцатилетнего возраста) являвшуюся герцогиней курляндской, а затем, почти так же, как и ее отец, фиктивно правившую Россией десять лет, отдав управление страной и свое «вотчинное» герцогство фавориту Бирону? Чем исконно российским могла изводить себя немецкая принцесса Софья Фредерика Августа, с помощью гвардии свергнувшая царствующего мужа и ставшая Екатериной II? Ведь любая из них, сложись их судьба иначе, носили бы иные имена и титулы, хлопотали бы об иных «европейских домах» и вотчинах, слали бы войска не для защиты интересов России, а для их ущемления ради процветания тех земель и стран, где бы воцарились.
Но это царствующие женщины, невеликие и великие. А что же — «мужики»? Разница небольшая. Вот Петр II. Его отец, опальный царевич Алексей Петрович, убежавший от гнева не менее немилосердного, чем великого батюшки-государя, за границу, под крылышко супруги своей принцессы Бланкенбургской-Вольфенбюттельской Софьи Шарлотты, стал козырной картой в руках недоброжелателей Петра I, недовольных его нововведениями. Алексей пал от руки сурового петровского суда, а его сын, унаследовавший дедовский престол в двенадцатилетнем возрасте и не успевший избавиться от иноземной вычурности, спустя три года, так и не дождавшись коронации, умер от оспы, поставив точку в роду Романовых по мужской линии. «Младенческим» нероссийским отношением к российскому царствованию прослыл второй внук Петра Великого, который появился на свет три года спустя после смерти великого деда, а на российском престоле — в тридцатитрехлетнем возрасте. Он всю жизнь так бы мог и остаться Карлом или Ульрихом, не подвернись случай заменить на престоле не ко времени состарившуюся тетку — Елизавету Петровну, возведенную в свое время на царствование гвардейцами. Она, видимо, вместе с престолом передала онемеченному племяннику и трагический способ избавления от «божиевого помазанничества». Петр III тоже был свергнут гвардейцами и убит в тюремной камере, как и Иван VI (Иван Антонович — сын принца Антона Ульриха Брауншвейгского и мекленбургской-шверингской герцогини Анны Леопольдовны).
Для всего этого племени временных и случайных престолосидельщиков интересы России — это интересы их вотчинных земель, в которые их водворили, да и царствовали они довольно условно, окруженные сонмом фаворитов, опекунов, правителей. Некоторые из них напоминали кукушек в механических часах, заявляя о себе в обозначенное время придворных приемов и дворцовых заседаний. Иные и вовсе были безголосыми по причине малолетства или бесхарактерности. Но действия как первых, так и вторых направлялись купеческим и дворянским механизмом. Они появлялись или исчезали, повинуясь вращению шестерен и шестеренок царских межродовых интриг, различных заговоров и переворотов, концы нитей которых находились не только в отечественных, но и зарубежных руках заинтересованных лиц и группировок.
С годами царское самодержавие крепло и его авторитет возрастал, по крайней мере внешне. И все же межродовые антипатии и противоречия, не переводившиеся в российской царствующей семье, зачастую сводили на нет усилия наиболее решительных и последовательных борцов за прочный государственный престол «помазанника божия». Остановлюсь более подробно на утверждении в императорской роли последнего из российских государей.
Оставим в стороне многочисленные медово-елейные публикации прошлого, а особенно нынешнего времени о воспитанности, образованности, порядочности, «голубоглазости» и прочих, как мнимых, так и действительных, достоинствах Николая Александровича. Возьмем во внимание лишь исторические факты да вполне логичные варианты возможных перекосов в судьбе законного и незаконного монарха.
Доказать законность престолонаследия Николая II несложно: корона перешла к нему из рук умершего отца. Но не представляет большого труда убедиться и в обратном — в незаконности этой передачи символа высшей власти. Несколько подробностей, имевших место, так сказать, на дальних подступах Николая и его прямых предшественников к званию монарха.
Екатерина II воцарилась на престоле после свержения и убийства мужа — Петра III. Спустя два года был убит в тюремной камере обладавший формальным правом на корону Иван VI, пребывавший в заключении с младенческого возраста более двадцати лет. А тут еще пересуды, что сын Екатерины — Павел родился от побочной связи. Будь живы более законные наследники престола и превратись пересуды в доказанный факт, тому же Павлу не только не мыслить о престоле или великом княжении, но и близости к царской семье. Еще меньше перспектив имелось бы у его прямых наследников. Вот, скажем, граф Владимир Павлович Палей, погибший в июле 1918 года (материалы следствия из дела «Об убийстве царской семьи») близ города Алапаевска. Ведь его отец — великий князь Павел Александрович, а вот сын удостоился только титула графа, поскольку родился от морганатического брака, то есть жена (вторая) великого князя оказалась нецарской и некоролевской фамилии.
Но свели счеты и с Павлом І. С молчаливого согласия его наследника — Александра, с Павлом расправились, как отмечалось в записках одного из участников заговора — Чарторийского, обвинив в «безрассудности разрыва с Англией, благодаря которому нарушаются интересы страны и ее экономическое благосостояние». Прошло еще почти четверть века — и снова не совсем законная передача престола. Второй после Александра I сын Павла I — Константин якобы тайно отказался от престолонаследия, и царем был провозглашен, через голову старшего брата, третий сын — Николай. Это был дед Александра ІІІ и прадед Николая II. А ведь оба наследника взошли на престол не по прямому наследованию. Первый из них стал наследником после преждевременной смерти старшего брата, а царем — после убийства отца — Александра II. Второй — тоже не был первенцем в семье, и ему путь к трону освободила кончина в раннем детстве претендента на престол.
Так что воцарению Николая II, как и многих его предшественников, способствовала целая цепочка заговоров, переворотов, убийств, случайностей. И вполне понятно, что те, кто не имел звена в этой цепочке, а тем более те, у кого это звено было вырвано другими, таили в себе обиду, зависть, призрачную надежду на возвышение. Особенно это касалось великих князей, которые, словно члены-корреспонденты Академии наук, желавшие стать, но не очень-то многие становившиеся академиками, с особой остротой чувствовали себя обойденными на иерархической лестнице. Ведь каждый из них, ревниво изучавший родословные (свою и потенциальных соперников), мог явственно просчитать, кем мог быть на самом деле, если бы не всевозможные случайности, царствующий Николай II. Не исключено, что женился бы он на безызвестной принцессе Гессенской, осел бы с ней в заштатном немецком городишке Дармштадте, со временем унаследовал бы, быть может, герцогский титул тестя, да и стал бы подручным у своего могущественного кузена Вильгельма II. Так что в Первую мировую войну он мог оказаться на стороне Германии против России…
О великокняжеских возни и кознях вокруг престола можно узнать из многих источников. Например, один из них — дневниковые записи двоюродного брата Николая II великого князя Андрея Владимировича, оказавшегося впоследствии во Франции. Но ценность предлагаемых записей в том, что это именно дневник, а не воспоминания. Это фиксация впечатлений и мыслей по свежим следам, причем не для печати, а для себя, где человек становится более точным, откровенным и объективным. Это сиюминутный взгляд на факты, события, окружающие уверенного в себе человека, отдаленного пока что только от трона, а не обидчивое или злобное брюзжание эмигранта. Дневниковая тетрадь, которой воспользуюсь, охватывает время с 18 апреля по 23 октября 1915 года.
Выдержка из дневника:
«12 августа. Царское Село.
У мама[46] обедал министр иностранных дел С.Д. Сазонов. После обеда вот что он нам рассказал.
„Начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Янушкевич позволяет себе совершенно невероятные вещи. При этих условиях вести дела совершенно невозможно… Янушкевич низкий, грязный человек, совершенно опутавший Николая Николаевича…[47] К счастью, всему этому будет положен скоро конец. Государь сам вступит в командование армией. Государь уже давно этого хотел, но долго колебался и, наконец, решился. Он послал в ставку генерала Поливанова[48] передать Николаю Николаевичу, что он назначается наместником Кавказа и что его величество сам вступит в командование…“
Сазонов высказал при этом некоторое опасение, что всякая неудача падет на государя и даст повод его критиковать. Ввиду этого ему хотелось знать мнение Бориса,[49] какое впечатление это произведет на войска. Борис высказался весьма категорично, что это произведет такой огромный эффект на армию, подымет ее нравственный элемент и будет встречено с большим энтузиазмом.
При этом он прибавил, что уход Николая Николаевича пройдет совершенно незамеченным. По моему же мнению, уход Николая Николаевича будет замечен. За год войны он все же, несмотря на ряд крупных неудач, пользовался большой популярностью и честно исполнял возложенные на него обязанности… Несомненно, что замена Николая Николаевича другим генералом была бы неудачной, но принятие государем на себя командования армией исключает всякое соревнование или обиду. Я тоже присоединился к мнению Бориса, что впечатление на армию будет огромное, и это имеет, кроме того, еще и другое преимущество, что армия почувствует ближе своего государя, что, при некотором шатании умов, будет иметь свои плоды. И Сазонов должен был согласиться….[50]
Мое мнение, которое я и высказал Сазонову, заключалось в том, что в день объявления войны была допущена крупная ошибка тем, что Николаю Николаевичу дали титул верховного. Этот титул присущ исключительно государю и никому другому. Тем, что дали этот титул, государь как бы сложил с себя верховное управление армией и флотом, что было недопустимо, так как он всегда есть верховный вождь и должен был оставаться таковым. Ежели он не хотел сразу вступать в непосредственное командование, то Николаю Николаевичу следовало бы дать звание главнокомандующего, что исключало бы необходимость государю, как это теперь происходит, самому вступать в должность своего же подчиненного…Тогда не пришлось бы Николая Николаевича сменять и делать такую ломку всего штаба и столько шуму в деле, которое принципиально не может вызывать ни споров, ни осуждений и могло бы осуществиться в любой момент простым выражением словесно своего желания государем. Ошибка и заключается в том, что с титулом верховного была дана власть государя, что и приходится теперь изменять. Теперь, конечно, трудно без шума привести все в нормальное состояние, так как приходится уничтожать титул верховного, изменить в церквах ектинию,[51] т. е. придавать всему большое значение, подчеркивать то, что не следует подчеркивать… Но за старые ошибки приходится теперь расплачиваться. Но я заметил Сазонову, что следовало бы все это обставить уже более аккуратно и не допускать новых ошибок, которые лишь вводят народ в недоумение… К концу разговора Сазонов согласился с нами, что решение государя правильное. Он колебался раньше, потому что в думских сферах это решение было встречено с большим опасением. Да и сам военный министр Поливанов был против этого, — по крайней мере он это говорил Сазонову…
Нас всех очень интересовал вопрос, кто надоумил государя принять такое решение. Сазонов уверял, и это вполне вероятно, что императрица настаивала на этом. Ей страшно показалось, — и в этом она права, — что государя лишили власти, устранили совершенно от всех дел. Такое положение не могло продолжаться без существенного ущерба для престижа государя… Мне лично кажется, что командование армией принесет и пользу государю лично. Это его успокоит. Он очень мучился удалением от армии, тяготился неведением, что делалось, и чувствовал, что долг ему велит быть при армии. Это выработает у него твердость воли…
15 августа.
По поводу решения государя принять командование над войсками оказывается, что против этого решения восстали многие во главе с императрицею матерью. Как я уже писал выше, и министры были против этого решения, и в результате государь колебался. По словам лица вполне верного (С),[52] государь последние дни был очень расстроен. Он стал чувствовать, что все его надувают, верить ему никому нельзя, и не знал, как выбраться из создавшегося положения. Кроме того, известия с войны не могут служить утешением. Верховный к тому же написал ему письмо панического оттенка, что еще больше его расстроило, и он даже плакал…
24 августа. Петроград.
За последние дни снова много говорили о предположении государя стать во главе армии и о назначении Николая Николаевича наместником Кавказа… Толки по этому поводу делились на две группы. Одни находили, что государю вовсе не следует становиться во главе армии, так как это его отвлечет от дел государственных; другие, наоборот, что это очень хорошо, но при условии, что Николай Николаевич останется на месте. На последнем условии почти все согласились. И действительно, Николай Николаевич случайно попал на этот пост после того, что совет министров упросил государя не брать верховное управление армией в начале войны. Для поднятия престижа Николая Николаевича в церковных службах была установлена для него особая молитва. Государь осыпал его милостями и достиг того, что личность Николая Николаевича была известна всей России и его популярность не была даже поколеблена последним периодом войны, когда нашей армии пришлось все отступать. Казалось, что результат был блестящий. Но вот именно этот блестящий результат, созданный трудами государя, не понравился А.[53] Тут и причина, почему государь назначает Николая Николаевича на Кавказ. Люди осторожные уверяют, что это вызовет всеобщий ужас и негодование и приведет к тяжким последствиям. Вот вкратце общее настроение…
Днем я был у тети Minny[54] на Елагином острове. Нашел ее в ужасно удрученном состоянии. Ее волнует больше всего вопрос о Николае Николаевиче. Она считает, что его удаление поведет к неминуемой гибели Н.,[55] так как этого ему не простят. Во всем разговоре она выгораживала Ники, считая Алике виновницей всего. Когда Ники был пред отъездом у нее, она долго его молила подумать обо всем хорошенько и не вести Россию на гибель. На это он ей ответил, что его все обманывают и что ему нужно спасти Россию — это его долг, призвание. Напрасно тетя его уговаривала, что он мало подготовлен к этой трудной роли, что дела государства требуют его присутствия в Петрограде, он остался неумолим и даже не обещал пощадить (т. е. оставить при ставке) Николая Николаевича.
Во время этого разговора Алике сидела в другой комнате с Ксенией,[56] которая спросила ее, неужели Николашу сменят: он так популярен теперь.
„Опять про Николашу, все только о нем и говорят, — ответила Алике, — это мне надоело слышать; Ники гораздо более популярен, нежели он, довольно он командовал армией, теперь ему место на Кавказе“.
Тетя Minny, передавая мне эти разговоры, так волновалась, так возмущалась, что мне страшно стало… Тетя Minny мне еще говорила, что у нее был дядя Алек,[57] который молил ее уговорить Ники не ехать в армию. Он предвидит ужасные последствия до народных волнений включительно. Дядя был прямо в отчаянии. „Он катался по полу“, — так выразилась тетя… Когда мама была у нее, она еще прибавила, что это ей напоминает времена императора Павла I, который начал в последний год удалять от себя всех преданных людей, и печальный конец нашего прадеда ей мерещится во всем своем ужасе.
Мы действительно переживаем в эти дни очень тревожное время. Малейшая ошибка может создать огромные события, непоправимые по тем впечатлениям, которые они оставляют. Удаление Николая Николаевича на Кавказ есть уже одна огромная ошибка. Он сам по себе мало причастен к той популярности, которой он пользуется в России. Как я писал выше, это было создано самим государем и это его огромная заслуга, ибо только человек популярный, который пользуется доверием массы, способен эту массу двигать и одухотворять.
Что скажут теперь в России? Как объяснить народу и армии, что Николай Николаевич, который был покрыт всеми милостями царя, вдруг сменяется? Естественно, спросят, что же он сделал, чтобы заслужить такую немилость. Хорошо, если правительство так обставит этот вопрос, что государь сам становится во главе армии, и, естественно, верховный должен свой пост покинуть. Но он мог бы у него остаться помощником. А молитва за ектенией? Что с ней делать? С уходом Николая Николаевича народное впечатление будет задето глубоко. Во всех судах его фотографии, все за него молятся, — и в один день херь все. Да за что, невольно спросит себя всякий. И, не найдя подходящего ответа, или скажут, что он изменник, или, что еще может быть хуже, начнут искать виновников выше. Еще одно соображение. С принятием государем командования армией, естественно, все взоры будут устремлены на него с еще большим вниманием. И ежели на первых порах на фронте будут неудачи, кого винить?..
В истории не было примера со времен Петра І, чтобы цари сами становились во главе своих армий. Все попытки к этому, как при Александре I, в 1812 году, так и при Александре II, в 1877 году, дали скорее отрицательные результаты. Главным образом вокруг ставки создавалась атмосфера интриг и тормозов… И в те времена государя отговаривали ездить в армию и вмешиваться непосредственно в дела главнокомандующего.[58] Во всем этом много верного. Государь должен быть вне возможных на него нападок. Он должен стоять высоко, вне непосредственного управления…
1 сентября.
Итак, совершилось то, о чем так много все говорили, судили, волновались и беспокоились. Одна группа лиц осталась недовольна, а именно, мне кажется, та группа, для которой всякое усиление власти нежелательно. Естественно, что государь, опираясь непосредственно на свою армию, представляет куда большую силу, нежели, когда во главе армии был Николай Николаевич, а он сидел в Царском Селе. Большинство же приветствовало эту перемену и мало обратило внимания на смещение Николая Николаевича. Отмечают лишь, что рескрипт Николаю Николаевичу холоднее рескрипта графу Воронцову…[59]
6 сентября. Петрофад.
На днях Алике заехала к мама в Царское Село с двумя старшими дочерьми чай пить. Следует отметить, что за двадцать лет это первый раз, что Алике без Ники приезжает к мама. Но самое интересное — это разговор, который происходил. Алике горько жаловалась, что все, что бы она ни делала, все критикуется, в особенности в Москве и Петрограде. Все восстают против нее и связывают ей этим руки… Мама спросила, правда ли, что она и весь двор переезжают в Москву. „Ах, и до тебя это дошло! Нет, я не переезжаю и не перееду, но „они“ этого хотели, чтобы самим сюда переехать (тут она дала ясный намек, кто это „они“: Николай Николаевич и черногорки[60])“, к счастью, мы об этом вовремя узнали, и меры приняты. „Он“ теперь уедет на Кавказ. Дальше терпеть было невозможно. Ники ничего не знал, что делается на войне; „он“ ему ничего не писал, не говорил. Со всех сторон рвали у Ники власть. Урывали все, что было возможно. Это недопустимо в такое время, когда нужна твердая и непоколебимая власть среди этого развала во власти…
24 сентября.
…Можно пока лишь строить догадки о том, что Ники стали известны какие-то сведения относительно Николая Николаевича, и эти сведения побудили его сменить Николая Николаевича и выражаться крайне резко про „ставку“. Но в чем дело — мы не знаем. Можно сделать одно заключение. Ники всегда очень сдержан, никогда резко про кого бы то ни было не говорит и в принятии коренных мер всегда нерешителен. Ежели теперь он принял такие серьезные меры, как это было 23 августа, и выражается так откровенно про Николая Николаевича, можно с уверенностью сказать, что причины должны быть серьезны, и его долготерпению пришел конец…
27 сентября.
Мамак пила на днях чай у Ники и Алике. Она мне передала, что Ники выглядит очень бодро. Доволен своим новым положением и тем, что в курсе дел… Одно лишь чувствовалось в его разговоре, как это заметила мама, это много горечи к бывшему верховному. Тут, по-видимому, кроется неизвестная для нас причина. Что-то произошло между ними и произошло что-то нехорошее. Иначе он так бы не выражался каждый раз про Николая Николаевича, которого осыпал всякими милостями…»
Из приведенных выдержек довольно явственно проступает непростой конфликт между Николаем Александровичем и Николаем Николаевичем. Непростой, потому, что он начинался в глубине царской династии, и эти фигуры были действующими лицами многоактной борьбы за власть на верхних этажах императорского дома.
Великий князь Николай Николаевич Младший впервые ощутил огромную разницу между своим положением и положением царского наследника, пожалуй, в десятилетнем возрасте. Его двоюродный брат по отцу, Александр Александрович, вот этой магической приставкой — «наследник», доставшейся ему довольно неожиданно, становился чужим и далеким. Особой близости между ними и раньше не было. Но до того, как умер старший брат Александра, претендовавший на наследство престола, определенное отчуждение между двоюродными братьями объяснялось разницей в возрасте. Один — мальчишка, другой — двадцатилетний юноша. И все же оба, как и многие из их российской и нероссийской родни, находились в одинаковом положении: до короны, как и до бога, — немыслимо высоко и далеко. Но вот для одного из них свет в конце тоннеля забрезжил более явственно. Правда, осчастливился он этим светом спустя шестнадцать лет и мог оставаться наследником еще неопределенный срок, если бы не свершилось убийство отца террористами-народовольцами.
Ну а Николаю Николаевичу и это не светило. Точно так же, как и его отцу — Николаю Николаевичу Старшему, третьему сыну в царской семье. Хотя, если более строго отнестись к фактам, то у Старшего имелись кое-какие иллюзии. Все-таки он родился не в великокняжеской семье, как его тезка-сын, а в царской. Да и пример отца, Николая І, тоже третьего сына в царской семье, мог вселить в ум определенные надежды. Но затем, когда у старшего брата Александра (впоследствии Александра II), пока еще наследника, появились сыновья (Николай, затем Владимир), рухнули и эти надежды. Ему оставалось удовлетворяться только тем, что в обращении к нему, великому князю, прибавлялось — «ваше императорское», да еще претензиями на высокие воинские должности. Так, в русско-турецкую войну 1877–1878 годов он являлся главнокомандующим Дунайской армией, в 1878 году удостоился звания генерал-фельдмаршал. Еще больших успехов на воинском поприще добился его сын — Николай Николаевич Младший. Как уже известно из дневника великого князя Андрея Владимировича, Николай II доверил своему дяде верховное главнокомандование над всей русской армией, обеспечив тем самым и публичные царские почести.
Что за этим скрывалось, попытаюсь разобраться несколько позже, а сейчас попрошу читателей возвратиться к извечным мотивам конфликта между высокородным дядей и его царствующим племянником. Это, подчеркну, не отвлеченная тема, а главенствующая в нашем разговоре. Конечно, вывод, к которому подвожу читателей, — сугубо личное мнение автора. Вместе с тем он, этот вывод, подкреплен всевозможными фактиками и фактами, почерпнутыми из исторических источников. А суть его в том, что основной «темной силой», подтолкнувшей монархию к пропасти, а последнего русского царя к бесследному исчезновению или к смерти, была великокняжеская элита. Склоки, раздоры, зависть, месть, убийства — все это, как и многое другое, копившееся веками, словно грозовые тучи, и, будто тучи грозами, разражавшееся периодическими заговорами и дворцовыми переворотами, но полностью так и не исчезавшее с монаршего надголовья «помазанника божия», — все это способствовало «февральской буре». Примечательной иллюстрацией такого вывода может служить выдержка из воспоминаний князя Владимира Андреевича Оболенского — «Моя жизнь и мои современники». Сам себя он считал республиканцем и с 1917 года являлся не только членом влиятельнейшей партии того времени — конституционно-демократической (кадетов), но и членом ее Центрального комитета, а с весны того же года — секретарем.
Вот что можно прочитать в его воспоминаниях: «На второй день революции в Думу стали являться депутации от всех полков петербургского гарнизона. При мне пришла депутация от Гвардейского флотского экипажа, во главе которой с красным бантом на груди находился ныне провозгласивший себя Императором всея Руси Великий князь Кирилл Владимирович».[61]
Следует уточнить, что названный великий князь — это родной брат автора дневника, выдержки из которого приводились выше, — Андрея Владимировича. Кирилл Владимирович упоминается в дневнике несколько раз. Особенно примечательно то место в записях великого князя Андрея, касающееся его старшего брата Кирилла, где речь идет о важной миссии — поездке в Румынию с целью воспрепятствования немецкому усилению в этой стране и склонения последней на сторону России. Вместе с Кириллом должна была ехать его жена — Даки, Виктория Федоровна, сестра румынской наследной принцессы. В организации этой миссии самое активное участие приняли все Владимировичи во главе с их «мама». Последняя настойчиво советовала «Ники и Алике» разрешить эту поездку и, как будто, по словам Андрея Владимировича, сумела убедить их в ее необходимости. «Вчера мамак была у Ники и Алике, — читаем в дневнике, — и сообщила им этот проект. Ники и Алике были вполне согласны, и Алике, в особенности, нашла, что это крайне своевременно и необходимо. Ники добавил, что он сам об этом уже думал. Теперь мы ждем, что будет. Мама советовала Кириллу ехать к Ники и переговорить с ним об этом. Но он что-то не желает сам начинать этот разговор».[62]
Из последней фразы не совсем понятно, кто именно не желал «сам начинать этот разговор» — Кирилл Владимирович или же Николай Александрович, но в других источниках можно отыскать сведения, которые приписывают «нежелание» скорее всего последнему. Это исходило из не совсем понятного для других недоверия царя к Владимировичам, высказываемого исподволь. Возможно, его наблюдательный и обостренный до болезненности, если речь шла о каких-либо притязаниях на корону (пусть даже и смутно угадываемых), его скрытый для многих природный ум уловил в поведении старшего из Владимировичей — Кирилла какую-то чрезмерную «невеликокняжескую» амбицию. Как бы то ни было, но в одном из писем жене Николай II писал, что, посоветовавшись с генералом Алексеевым и министром иностранных дел Сазоновым, принял решение Румынию пока «оставить в покое и не посылать Кирилла».[63]
Есть основание предполагать, что о «Кирилловых кознях» были осведомлены и другие люди. В некоторых местах дневника явно проглядывается намерение старшего из Владимировичей собирать на особо доверенных лиц Николая II (к примеру, на генерала Алексеева) порочащую их информацию. Несколько цитат из дневника: «Вчера перед отъездом Кирилла из Седлеца к нему пришел морской офицер, состоящий в оперативном отделении штаба, и просил Кирилла от имени всего штаба передать Янушкевичу их ужас перед теми распоряжениями, которые отдает Алексеев по фронту. Кирилл все это передал сегодня Янушкевичу. До какой степени должно быть доведено отчаяние всего штаба, чтоб дерзнуть обратиться к Кириллу в такой форме и с такими словами. Только на краю гибели люди могут дерзнуть на такой шаг, который почти равен бунту…», «Сегодня Кирилл был у Рузского, который прямо в отчаянии от назначения Алексеева начальником штаба при государе…», «Кирилл говорил мне, что в морском штабе, где есть выдающиеся люди, Алексеева винят во всем…», «Кирилл писал на днях из ставки Decky, что Алексеев действует все хуже и хуже. Его приказы один глупее другого. Ники начинает это видеть, но неизвестно, как он поступит».[64]
Как же так получилось, что один из неистовых защитников интересов империи и приверженцев монархии вдруг так же яростно ринулся в Февральскую революцию, ниспровергнувшую царский режим? Думаю, что ответ можно найти в откровениях сына старшего из Владимировичей — Владимира Кирилловича, унаследовавшего от самозваного монарха-отца титул «Императора всея Руси». В одном из недавних интервью тогда еще здравствующий «помазанник божий» вот о чем поведал миру: «Когда покойный государь Николай II и вся его семья погибли, то линия Александра III кончилась. После него старшим членом нашей семьи был бы мой дед великий князь Владимир Александрович, то есть следующий брат Александра III. Моего деда уже не было в живых, и, когда эта трагедия произошла, мой отец, великий князь Кирилл Владимирович, оказался в положении старшего в семье, разумеется, не по возрасту, а по старшинству. Тем самым он стал главой дома Романовых. Его сменил я, как его единственный наследник в нашем роду».[65]
Знакомясь с этим признанием, невольно ловишь себя на мысли, а точнее — подозрении: а не делали ли Владимировичи все возможное, чтобы «линия Александра III кончилась»? По крайней мере, не таким уж необоснованным предположением может явиться оценка действий Кирилла Владимировича в предфевральские и февральские дни. По всей видимости, он воспринимал грядущую, а затем и произошедшую революцию как очередной… дворцовый переворот, совмещенный с новой бунтарской волной «черни». Нет сомнений, что и он и другие великие князья надеялись извлечь из этого «бунта», окунувшись в него, определенную выгоду, а избавившись от Николая II, еще приблизиться к трону. Монархию они, каждый в отдельности, действительно считали незыблемой и единственно правильной системой, но только в том случае, а точнее — в большей мере тогда, когда царственный ореол будет окружать не чужую голову. В одно и то же время все они были и родня и враги друг другу в стремлении к заветной короне, точно так же, как и те, кто стремился к власти, отвергая и свергая монархию.
Но на что надеялись Владимировичи, всячески поддерживая и подогревая недовольство против близкого окружения Николая II? Ведь откажись последний от престола, корона должна была переходить к его сыну — Алексею или, в крайнем случае, к младшему брату — Михаилу Александровичу, который уже некоторое время ходил в наследниках, пока не появился на свет племянник.
Алексей, вне всякого сомнения, в расчет не брался. Наследственная болезнь крови, от которой в роду его матери — Александры Федоровны умерло несколько человек, была всем известна и значительно снижала шансы малолетнего царевича на долгое пребывание на престоле, если бы он ему и достался.
Михаил Александрович тоже не воспринимался как серьезный претендент. «Его заставляют передать престол отроку сыну и слабому маловольному регенту — брату Михаилу»,[66] — отмечал в своих записках официальный историограф при царской ставке генерал Д.Н. Дубенский. Он же зафиксировал и примечательные слова генерал-адъютанта Нилова: «Михаил Александрович — человек слабый и безвольный и вряд ли он останется на престоле»,[67] — прокомментировав их после отказа Михаила так: «Прав был К.Д. Нилов, говоря, что Михаил Александрович не удержится и за сим наступит всеобщий развал».[68] Не очень высокого мнения был о младшем брате и Николай. Это явно ощущается в одной из его дневниковых записей, скупых, как большинство из них, не только на слова, но на чувства и откровенность. «Оказывается, Миша отрекся, — писал он 3 марта 1917 года. — Его манифест кончается четыреххвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!..»[69] Советчиков и надоумщиков «на гадость» хватало. Одних великих князей, жаждавших, не в пример Михаилу Александровичу, однрому из немногих опасавшемуся «тяжелой шапки Мономаха», да еще в такое смутное время, — не перечислить. Кроме того, Михаил, зная скрытный и жесткий до жестокости характер старшего брата, мог опасаться какого-нибудь подвоха с его стороны с этой неожиданной и скоропалительной передачей монаршего престола.
По воспоминаниям флигель-адьютанта царя полковника А.А.Мордвинова, Николай ІІ рано утром 3 марта послал с дороги (при переезде из Пскова в Могилев) телеграмму в Петроград великому князю Михаилу Александровичу, «уведомляющую о передаче ему престола». Но это не совсем так. Михаил узнал о «своем великом счастии и предназначении» лишь из «Манифеста отречения», подписанного в ночь со 2 на 3 марта и, как вспоминал В.В.Шульгин, переданного по прямому проводу в Петроград ночью же. Ну а в телеграмме, адресованной Михаилу и отправленной спустя несколько часов, содержалось не «уведомление», а каверзное извинение: «…прости меня если огорчил тебя и если не успел своевременно предупредить».[70] Так что если Мордвинов и прав, выказывая сомнение в доставке телеграммы адресату, не много последний извлек бы из нее, ознакомившись с ней. Вот почему Михаил (по воспоминаниям В.Д. Набокова) выразил вполне оправданные подозрительность и недовольство, заявив, что брат «навязал» ему престол, даже не спросив его согласия.
О том, что Михаил Александрович пользовался услугами «советчиков», можно узнать, к примеру, из любопытного сборника, составленного в 1921 году по неизданным документам Александром Блоком. В коротком предисловии, помеченном июлем 1921 года, составитель сообщил, что «вся деловая часть предлагаемой книжки основана на подлинных документах, в большинстве своем до сих пор не опубликованных и собранных учрежденной Временным правительством Чрезвычайной Комиссией для расследования противозаконных по должности действий бывших министров». В изложенной в этом сборнике хронике предреволюционных событий за 27 февраля можно прочитать следующее. После 8 часов вечера в кабинете последнего царского председателя Совета Министров князя Голицына сошлись, кроме хозяина кабинета, военный министр генерал Беляев, председатель Временного комитета Государственной Думы Родзянко, государственный секретарь Крыжановский. Прибыл на это высокое собрание и Михаил Александрович, чтобы ознакомить присутствовавших с текстом телеграммы, которую он подготовил на имя Николая II. В ней сообщалось о «серьезности положения», а также о необходимости «…назначить председателя Совета Министров, который сам подобрал бы себе кабинет». Но главное, чем примечательна эта телеграмма, заключалось в том, что Михаил (не такой уж «скромный» простак!), спустя неделю упрекавший старшего брата, что тот, дескать, не спросясь его, Михаила, навязал ему престол, брал инициативу на себя. Он не только давал рекомендации в отношении «самостоятельного председателя», но и называл кандидатуру князя Львова. Более того, он предлагал «принять на себя регентство»! Получалось так, что младший брат навязывал свою идею старшему, а еще точнее — сталкивал его с престола. И обижаться было больше повода у Николая, который в сдержанном ответе по телеграфу в тот же вечер сообщил через генерала Алексеева, что «благодарит за внимание, выедет завтра и сам примет решение».[71]
Советчиком у Михаила Александровича, что вполне допустимо, если судить по вышеприведенной хронике, мог быть в числе других и великий князь Кирилл Владимирович. Вот как описываются активные, с «великодержавным значением» действия последнего в тот же самый вечер, т. е. 27 февраля 1917 года:
«Приехавший в градоначальство великий князь Кирилл Владимирович рекомендовал Беляеву принять энергичные меры и, прежде всего, сменить Протопопова;[72] выражал неудовольствие, что ему не сообщают о событиях, и спрашивал, что ему делать с гвардейским экипажем, на что Хабалов[73] доложил, что гвардейский экипаж ему не подчинен. Кирилл Владимирович прислал к вечеру две „наиболее надежные“ роты учебной команды Гвардейского Экипажа».[74]
А ведь, кроме Владимировичей, были еще и Михайловичи — ближайшие потомки четвертого сына Николая I. Из дневниковых записок генерала Дубенского можно узнать, что один из них, Александр Михайлович, вместе с великим князем Борисом Владимировичем в числе первых присягнул на верность Временному правительству. В документах сохранилось письмо того же Александра Михайловича к Николаю II, датированное 25 декабря 1916 — 4 февраля 1917 года. В нем, в частности, есть такие строки:
«Дорогой Ники… Мы переживаем самый опасный момент в истории России… И вот, в это святое время, когда мы все, так сказать, держим испытание на звание человека, в его высшем понимании, как христианина, какие-то силы внутри России ведут Тебя и, следовательно, Россию к неминуемой гибели. Я говорю: Тебя и Россию — вполне сознательно, так как Россия без царя существовать не может, но нужно помнить, что царь один править таким государством, как Россия, не может; это надо раз навсегда себе усвоить… немыслимо существующее положение, когда вся ответственность лежит на Тебе и на Тебе одном. Чего хочет народ и общество? Очень немногого — власть… Разумная власть должна состоять из лиц первым делом чистых, либеральных и преданных монархическому принципу, отнюдь не правых или, что еще хуже, крайне правых, так как для этой категории лиц понятие о власти заключается: „править при помощи полиции, не давать свободного развития общественным силам и давать волю нашему никуда не годному, в большинстве случаев, духовенству“… Председателем Совета Министров должно быть лицо, которому Ты вполне доверяешь; он выбирает себе и ответствен за всех других министров… Теперь замечается как раз обратное: ни один министр не может отвечать за следующий день, все разрознены; министрами назначаются люди со стороны, которые никаким доверием не пользуются и, вероятно, сами удивляются, что попадают в министры, но так как людей честных вообще мало, то у них не хватает смелости сознаться перед Тобой, что они не способны занимать посты, на которые назначаются, и что их назначение для общего дела приносит только вред, их поступки граничат с преступлением… Ты окончательно решил вести внутреннюю политику, идущую в полный разрез с желаниями всех Твоих верноподданных… Сколько ни думал, не могу понять, с чем Ты и Твои советники борются, чего добиваются… Можно подумать, что какая-то невидимая рука направляет всю политику так, чтобы победа стала немыслима. Тот же Протопопов мне говорил, что можно опереться на промышленные круги, на капитал; какая ошибка! Во-первых, он забывает, что капитал находится в руках иностранцев и евреев, для которых крушение монархии желательно… Как видишь, прошел месяц, а письмо мое я еще не послал, все надеялся, что Ты пойдешь по пути, который Тебе указывают люди, верные Тебе и любящие Россию не за страх, а за совесть. Но события показывают, что Твои советники продолжают вести Россию и Тебя к верной гибели; при таких условиях молчать является преступным… Приходишь в полное отчаяние, что Ты не хочешь внять голосам тех, которые знают, в каком положении находится Россия, и советуют принять меры, которые должны вывести нас из хаоса, в котором мы все сегодня находимся…».[75]
В письме Великого князя Александра Михайловича нетрудно уловить недоверие и иронию по отношению к мерам, предпринимаемым Николаем II, а также ультимативное предостережение. Есть здесь и строки, перекликающиеся с «рекомендациями» Михаила Александровича в его телеграмме царствующему брату о «самостоятельном председателе Совета Министров». Не исключено, что они подсказаны одному из главных претендентов на престол именно автором вышеизложенного письма. Он же, Александр Михайлович, мог посоветовать Михаилу Александровичу мотивацию «временного отказа от престола», которая так вывела из себя сдержанного Николая Александровича. В воспоминаниях Мордвинова отмечается: «5 марта было воскресенье. Утром мы узнали, что великий князь Михаил Александрович отказался принять власть впредь до подтверждения его императором Учредительным собранием».[76] Можно предположить, что «авторитет Учредительного собрания» соблазнил Михаила исторической параллелью — его тезка, первый русский царь из «династии Романовых» — Михаил Федорович был посажен на трон Земским собором. Но такой соблазн, кроме коварства и амбициозных целей определенных лиц, хотя бы тех же Владимировичей и Михайловичей, ничего рационального в себе не нес, и, по всей видимости, у Николая II было достаточно оснований считать его «такой гадостью». «После известия об отказе Михаила Александровича не только среди лиц, окружавших государя, но и среди всей Ставки не было уже почти никаких надежд на то, что Россия сможет вести войну и продолжать сколько-нибудь правильную государственную жизнь, — вспоминал генерал Дубенский. — Надежда, что „Учредительное собрание“ будет правильно созвано и утвердит царем Михаила Александровича, была очень слаба, и в нее почти никто не верил».[77]
Еще более нелицеприятные и жестокие версии связывали с именем великого князя Сергея Михайловича, погибшего в июле 1918 года под Алапаевском. Об этом высказывала озабоченность царица в письме мужу 23 июня 1916 года: «Бедняга <Штюрмер> был очень расстроен слухами, которые ему передали от лиц, бывших в Могилеве, а когда Родзянко на него набросился, он пришел в полное недоумение. Будто бы предполагается военная диктатура с Сергеем Михайловичем во главе, что министров также сменят и т. д.; и дурак Родз<янко> налетел на него, спрашивая его мнения по этому вопросу и т. д. Он ответил, что он ничего по этому делу не знает, и потому у него не может быть никакого мнения. Я его утешила, сказав, что ты мне ничего об этом не писал, что я уверена, что ты никогда бы не назначил на такое место великого князя, а меньше всего С.М., у которого достаточно дел, которые он должен привести в порядок».[78]
Думается, что Александра Федоровна в этом случае была права, поскольку с ее мужа-монарха оказалось достаточно одного «военного диктатора», от которого он избавился, — великого князя Николая Николаевича, о чем уже шла речь. Кстати, последний тоже поторопился присягнуть на верность Временному правительству. Вот как описал этот, по сути дела, предательский акт генерал Дубенский: «Кажется, 10 марта поезд великого князя Николая Николаевича прибыл в Могилев. С ним прибыли великий князь Петр Николаевич с сыном Романом Петровичем, пасынок Николая Николаевича герцог Лейхтенбергский, князь В.Н. Орлов, генерал Крупенский и несколько адъютантов. Их рассказы полны интереса… Кажется, на второй день великие князья Николай и Петр Николаевичи и князь Роман Петрович, его высочество принц Александр Петрович Ольденбургский и пасынок великого князя Николая Николаевича, герцог Лейхтенбергский, и вся свита их приняли присягу Временному правительству в вагоне поезда его высочества. Николай Николаевич очень нервно был настроен, и его руки, подписывая присяжный лист, тряслись. Приводил к присяге священник Ставки, и присутствовал при этом, вместо генерала Алексеева, дежурный генерал-лейтенант П.К. Кондзеровский. Все это мне передавали очевидцы присяги».[79]
Трудно предположить, что нервозность великого князя объяснялась тревогой за судьбу «помазанника божия», уже бывшего, и его семьи, поставленных актом присяги на верность новому строю и правительству «вне закона». Ведь он, царский дядя, сам подготавливал трагическую участь своему племяннику, добиваясь, настойчиво, возможно, и безотчетно, но не настолько, чтобы не понять последствий своей настойчивости, — отставки Николая II. Об этом свидетельствует, к примеру, телеграмма с подписью — «генерал-адъютант Николай», адресованная через генерала Алексеева царю. Последний ознакомился с ней 2 марта 1917 года и смог узнать из нее напутственное слово дяди «спасти Россию и… наследника». В нескольких словах очертив «создавшуюся небывало роковую обстановку», которая великому князю почему-то представляется не из его личного видения остроты момента, а из разъяснений генерала Алексеева, он, тоже по подсказке, предлагает и выход из невероятно тяжелого положения — отказ от престола. А это для Николая II, как уже отмечалось, было равносильно самоизоляции, самозаточению и даже самоубийству. Молва давно уже объявила царя и царицу преступниками. Для сведения счетов нужны были лишь «законные» мотивы и «законная» обстановка. Они-то, эти мотивы и обстановка, подготавливались (по совету заинтересованных лиц) руками, в первую очередь, великих князей. Ну а те и не заставляли себя долго уговаривать на предательство царствующего родственника, к подведению его к приговору. Тот же Николай Николаевич. Лишь только генерал Алексеев заикнулся об удобном варианте устранения монарха-племянника, а у царского дяди уже и текст ура-патриотической телеграммы готов. Не исключено, что если Михаилу Александровичу были обещаны регентство, а затем и престол через Учредительное собрание, то Николаю Николаевичу послужило соблазном взамен на предательство возвращение ему звания верховного главнокомандующего. И он получил на короткое время (во второй раз) эту дорогую игрушку, которую у него так же бесцеремонно (как и первый раз) отобрали. Возможно, что спасение собственной жизни и выезд за границу были обеспечены той же ценой.
Но это что касается конкретных причин и субъективных факторов, обусловивших трагический конец «помазанника божия», ведущую роль в котором сыграла царская элита. А ведь она, эта элита, и объективно подготавливала заключительный акт романовской трагедии. Уж так повелось, что само звание — «великий князь» обеспечивало, независимо от ума, способностей и желаний, особые привилегии и особую карьеру. В первую очередь это касалось воинской службы, где великим князьям были зарезервированы, по сути дела еще до их рождения, высокие должности. Если в мирные дни, когда все их командование сводилось к потехе да церемониям, сумасбродство отдельных военачальников-высочеств сходило с рук, то в боевой обстановке их непомерные амбиция и некомпетентность оборачивались потерями и поражениями. Если в старину великий князь — это, как правило, был действительно великий воин, то с годами от былой славы осталась только величественная мишура. Любопытны рассуждения по этому поводу великого князя Андрея Владимировича, которого в апреле 1915 года намеревались назначить командиром лейб-гвардии конной артиллерии.
«История моего назначения имеет некоторую своеобразность, а потому в двух словах напомню, в чем было дело, — писал он в своем дневнике. — Еще осенью 1913 года… мамак мне писала, что д. Николаша[80] был у нее и спрашивал ее мнения относительно моего назначения на эту должность. Я тогда же ответил мамак, что ничего ей не могу ответить, так как считаю, что эти вопросы должны решаться непосредственно между мною и д. Николашей, который мог бы мне об этом сам написать. Ответ мамак был написан в обиженном тоне… Весной 1914 года… я просил меня уволить от командования батареею по расстроенному здоровью. Через месяц от командира л. — гв. конной артиллерии Н.А. Орановского я получил письмо, в котором он мне сообщает, что скоро получает новое назначение, и спрашивает меня, желаю ли я быть назначенным на его место. Я ему ответил почти как и мамак… Затем снова получил от мамак запрос по тому же делу, и мне пришлось в этот раз ответить отказом. Я не считаю себя вправе, только что отказавшись от командования батареею по расстроенному здоровью, принимать высшую должность… Затем уже во время войны я неоднократно видел д. Николашу, и лишь один раз он меня спросил, как мое здоровье. Я в то время страдал головокружением, в чем чистосердечно и сознался ему… В январе этого года в Петрограде я был у Сергея Михайловича,[81] который спросил меня, желаю ли я быть назначенным командиром л. — гв. конной артиллерии. Я ему сказал, что если предложат, то не откажусь…».[82] Итак, вопреки желанию самого великокняжеского отпрыска, вопреки здравому смыслу и недовольству специалистов, считавших непозволительным подобное назначение, поскольку великий князь Андрей больше увлекается кутежами, чем службой, вопрос решился в пользу династической прихоти и настояния «мамак». Вечером 20 апреля 1915 года Андрей Владимирович получил от командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта Безобразова телеграмму следующего содержания: «Прошу ваше императорское высочество не отказать сообщить о согласии принять вами должность командира лейб-гвардии конной артиллерии».[83] Согласие было дано. Новоиспеченный военачальник не осмелился больше противиться династической установке и великокняжеским традициям. Ну а как выполнял свои военачальнические обязанности, об этом могут поведать символические строки из его же дневника: «Разговор зашел о кухаркиных сыновьях. Ген<ерал> Борисов… заметил Николаю Михайловичу, что в старину князья шли впереди и первые рубились, а в образовавшуюся брешь лезли кухаркины сыновья. Теперь же кухаркины сыновья впереди».[84]
Заканчивая разговор о околопрестольных кознях главной «темной силы» в деле Николая II — великокняжеской элиты, следует высказать предположение еще об одной безнравственной акции, осуществленной этой силой. В рукописи товарища прокурора Екатеринославского окружного суда Руднева «Правда о Русской Царской Семье и темных силах», приобщенной следователем по особо важным делам Омского окружного суда Соколовым к делу, центральной фигурой, олицетворяющей «темные силы», обозначен Распутин. Причем заканчивается рукопись, видимо, не случайным акцентом. Руднев считает «нужным обратить внимание» на то, что «выдвижением Распутина ко Дворцу принимали в свое время особо горячее участие… Великие Княгини Анастасия и Милица Николаевны». А ведь это и есть те самые «черногорки», которых так опасалась и не любила Александра Федоровна — Алике. А ведь это — жены великих князей Николая и Петра Николаевичей, которые и сами были ярыми сторонниками «выдвижения Распутина ко Дворцу». Зачем? Это очень примечательный вопрос. Он в духе традиционных дворцовых заговоров и переворотов. При дворе нужна была одиозная фигура для компрометации царя и царицы, чтобы за спиной этой фигуры элита смогла «законно» свергнуть «помазанника божия», свалив всю вину на эту фигуру. Расчет, в общем-то, оправдался. Распутин ославил и Ники, и Алике, «благородный гнев» великокняжеской элиты, расправившейся с «черным царедворцем», нашел сочувствие и оправдание.
О том, как Николаевичи «выдвигали Распутина ко Дворцу», имеются некоторые подробности в воспоминаниях бывшего французского посла в России Мориса Палеолога. Он писал: «В 1905 году архимандриту Феофану, ректору Петербургской Духовной Академии, духовнику императрицы, пришла в голову несчастная мысль вызвать к себе Распутина. Он ввел его в круг своих благочестивых клиентов, среди которых было много спиритов, во главе последних очень влиятельная группа: Николай Николаевич, в то время командующий императорской гвардии, его брат Петр; затем их жены, Анастасия и Милица, дочери Черногорского короля… Они же в 1907 году представили Распутина царю и царице».[85] Затем Николай Николаевич, «осчастливив» племянника — «помазанника божия» знакомством с «божьим человеком», сам же решил и избавить скомпрометированного царя от этого «счастья». О своих хлопотах он говорил буквально каждому встречному, и скоро «создалось общественное мнение», что великий князь, осознав свою ошибку, стал тревожиться, как бы она не стала «роковой для династии». Один из «биографов» Распутина сообщал: «Николай Николаевич, впрочем, считал, что ему особенно легко достичь желанного по той простой причине, что он был, как и царь, мистиком-спиритом и вместе с тем лицом, представившим ему в 1906 году, вместе с женой своею Анастасией (тогда еще невестой) их бывшего фаворита о. Григория».[86] Надо заметить, что уже шла война, и Николай Николаевич являлся верховным главнокомандующим русскими войсками. Но, переключившись на время с фронтовых забот на тыловые, он пытается возглавить «операцию по ликвидации опасного внутреннего врага», а для этого поручает директору департамента полиции Белецкому вооружить его изобличающими фактами о преступных делах Распутина. По словам Белецкого, «великий князь решил определенно поговорить с государем об удалении Распутина из Петрограда».[87]
Но это была не прихоть Николая Николаевича, а династическая установка. Ее довольно откровенно выразил в разговоре с членом Государственной Думы Пуришкевичем старейшина великокняжеского рода, пропагандист и поборник династических традиций, президент «Русского исторического общества» Николай Михайлович. Он признался, что почти вся «семья Романовых подала государю записку о Распутине». При этом, по словам Николая Михайловича, он «получил серьезное поручение от государя и, выполнив его… написал доклад».[88]
Великие князья «пригрели» Распутина, «выписали» ему путевку в высший свет и… на тот свет. И все же их стратегическим замыслом (если он был; автор не настаивает на своих предположениях и относится к ним только лишь как к предположениям) воспользовались не они. Нашлась не менее темная и безнравственная сила, чем великокняжеская элита, — партия кадетов (конституционно-демократическая). Кстати, в ее рядах были и отпрыски княжеских родов, которые предали и продали не только монарха, но и монархию. Причем сделали это ни за понюх табаку. Понюхали и пошли прочь… Зато теперь их отпрыски — неистовые защитники монархии и непримиримые обличители цареубийц.
Проектом выборов в V Государственную Думу, который подготавливался и обсуждался в 1915–1916 годах, как один из важных пунктов предусматривался сбор средств на предвыборную агитацию и деятельность правой прессы. «Потребуется около 5 000 000 рублей, — отмечалось в плане выборной кампании, — из коих 2 миллиона и даже свыше должно быть отпущено из казны и 2–3 Миллиона может быть получено от банков. За счет этих средств должна быть организована и памфлетическая литература (по примеру прошлых изданий „Правда о кадетах“ и т. д.)…».[89]
Упомянутая брошюра, изданная почти за десять лет до описываемого времени, имела официального автора — Н.П. Васильева.[90] Но под этим псевдонимом скрывался член Совета министра внутренних дел И.Я. Гурлянд. Видимо, в этом сокрытии имелся свой резон, поскольку стрелы острой критики, иронии и ехидства, вылетевшие со страниц небольшой книжонки, метили в реальную, опасную и мстительную силу. Впрочем, подобными качествами были в не меньшей мере наделены и те, кто начинял эти стрелы ядом. Словом, шла жестокая и бесчестная, принципиальная и беспринципная борьба за власть и привилегии. А тут уж и не до морали, и не до гуманности. Впрочем, в этом читатель сможет убедиться сам по некоторым выдержкам из названной книги. В наше время это, конечно, бестселлер. Не по тиражу, а по редкой встрече. Не стану комментировать неточности или предвзятости цитируемых из книги мест. Пусть читатель сам оценит, насколько приводимые описания уместны для исторического понимания рассматриваемых здесь проблем. Пусть он сам убедится, кто действительно расшатывал устои нашей государственности.
Вот о чем писал Васильев-Гурлянд:
«Кадеты, т. е. бывшие конституционалисты-демократы, а ныне партия народной свободы, занимают в ряду существующих политических партий совсем особое место. В действительности едва ли можно говорить о кадетах как об одной партии. Три, пять, десять различных групп и подгрупп входят в состав кадетской партии. Но и этого мало: группы, входящие в партию, в сущности, совершенно разнородны и по общественному положению, и по задачам, и по степени революционного напряжения…»
Не вдаваясь в излишние подробности, отметим хотя бы всем уже давно и одинаково известные основные три кадетские группы: центр, состоящий из лидеров, их ближайших учеников, друзей и агентов; правое крыло, охватывающее часть городской буржуазии, и левое крыло, которое, главным образом, состоит из воинствующей… интеллигенции и некоторой группы, весьма, впрочем, немногочисленной, студенчества.
Правое крыло, как мы сказали, охватывает часть городской буржуазии. Сюда, следовательно, входят: доктора из числа тех, кто, обладая независимой практикой, желал бы добиться и хоть некоторого внешнего почета; адвокаты из числа тех, которые должны быть в оппозиции, чтобы не навлечь на себя опасных гонений… служащие в банках, страховых обществах, комиссионных и иных конторах, особенно если знакомые студенты успели поколебать в них веру в существующий порядок, а отсутствие политического развития не позволяет разбираться в том, где кончается скорбь о недочетах правительственного механизма и где начинаются революционные замыслы. Сюда же входят и группы чиновников разных ведомств, зачисляющих себя в оппозицию из нерасположения к своему ближайшему начальству, из-за уменьшенной порции праздничных наградных, из-за неполученного места, на которое имелись расчеты…
Сюда же входит и некоторая часть купечества, а именно те торговцы, которые «до всякой высшей политики своим умом доходят» и недоброжелательство по отношению к своему участковому приставу распространяют на саму идею правительства. Сюда же входит и та часть приказчиков, у которых нет смелости рисковать местом из-за прямого сочувствия революции с ее бомбами и грабежами, но которым чается, что если министрами будут не графы да князья, а «хороший господин Набоков», или «знаменитый во всей Европе ученой головой» Кареев, или Ковалевский, то всякому служащему и жалованья прибавят, да и полиция будет «меньше безобразить». «Помилуйте! — говорят такие кадеты, — хозяин намеднись напился сверх всякого безобразия, и хоть бы что! А мы, маленькие люди, чуть где в ресторане развернешься, сейчас тебя в участок! Разве в Европе такие порядки?!»
Словом, все это крыло было бы правильнее назвать отчасти оппозицией по необходимости, в силу ряда нелепостей русской действительности, отчасти кадетами во имя всякого рода практических чаяний… Такие, конечно, пальцем о палец не ударят даже во имя того же «нового» порядка, но не прочь заранее приобщиться к тем, кто, по их мнению, сумеет его устроить. На всякий случай. Тем более что такие обыкновенно решительно ничем не рискуют.
Именно эта группа и составляет главный фонд партии, тот фонд, на котором центр партии строит все свои расчеты…
Совсем иное представляет собой левое крыло партии.
Оно состоит из людей воспламененных, из людей, в такой мере ненавидящих существующее правительство, что когда они говорят о нем, глаза их принимают рубиновый оттенок, лица искажаются, а некоторых даже начинает как бы подергивать. Здесь…адвокаты, журналисты и педагоги по профессии, социалисты по убеждениям, люди с революционным прошлым, с определенными революционными связями, застрявшие в рядах кадетов и не пошедшие в глубь левых партий только потому, что они слишком интеллигентны, чтобы не сообразить всех выгод такого серединного положения… Напомним лишь ту основную ноту, которая звучала в целом ряде предвыборных речей и думских заявлений этих кадетов. «Мы здесь, в Думе, — говорили они, — а наши товарищи там, в ссылке, в каторге, в крепостях. Разница между нами только та, что мы оказались счастливее их…» Это — изнанка той программы, лицевую сторону которой представляет собою правое крыло. Это та агентура, при помощи которой кадетский центр нащупывает свои шансы в революционном подполье и при помощи которого, с другой стороны, делает свои наиболее бешеные атаки на уравновешенную часть общества.
В этом же уголке кадетской партии подготавливаются директивы, которые потом, правда, всегда урезываются центром, но не считаться с которыми центру нельзя. Для центра это левое крыло своего рода кнут, и кнут не из очень деликатных…
Если правое крыло можно сравнить с воробьем, которого провели на мякине, а центр с волком в овечьей шкуре, то левое крыло, конечно, нельзя сравнить ни с чем, как только с гиеной, которая питается трупами и, в зависимости от того, больше трупов или меньше, воет с большим или меньшим напряжением, с большей или меньшей энергией. Трупы — работа других, но вакханалию над этими трупами устраивают они… Если правые кадеты в большинстве случаев просто не понимают замыслов своего центра и идут за ним более или менее бессознательно, то левые не понимают нерешительности и колебаний центра.
С их точки зрения давно пора приступить совсем к иным приемам борьбы, но, конечно, руками… правого крыла…
Центральную группу партии народной свободы мы сравнили с волками в овечьей шкуре… Если бы эта группа честно и откровенно заявила обществу, чего она именно добивается, она могла бы в одних вызвать сочувствие, в других — несочувствие; но, во всяком случае, она ни в ком не вызвала бы того вполне естественного негодования, которое обязательно там, где речь идет о лицемерах, о людях, из сознательной лжи сделавших основной прием своей политической тактики.
Чтобы не быть постоянно лжецами, им следовало без всяких оговорок и колебаний заявить: «Да, мы — революционеры, если только под этим именем можно понимать людей, стремящихся к решительному перевороту, к превращению России в буржуазную республику, к передаче власти из рук исторически сложившихся правящих кругов в наши руки… Да, мы — революционеры, — должны были бы они сказать, — потому что мы в своих стремлениях не остановимся ни перед какими преградами, будь это законы, традиции, предрассудки, будь это даже кровь ни в чем не повинных людей…»
Но, конечно, это не случайность, что они не сделали подобного заявления. Не случайность и то, что они сделали ряд заявлений как раз противоположного содержания, а сделав их, с настойчивостью, иногда решительно комической, любили и любят возвращаться к ним. Особенно если их припрут к стене… Следовательно, тактика определялась сама собой: до поры до времени не только сочувствовать, но и содействовать заговорам; однако все время помнить, что может наступить решительное столкновение между заговорщиками и ими; в последнюю же минуту отречься от заговорщиков.
Старый девиз стремящейся к власти буржуазии: все через революцию, чтобы потом все обратить против революции…
Осев везде, где только можно было найти более или менее удобную почву для проведения в жизнь своих стремлений, эта группа, в общем, весьма малочисленная, то увеличивавшаяся, то уменьшавшаяся в числе, вела агитацию всегда с той энергией, какую дозволяли обстоятельства. Три сферы деятельности были предметом ее особенных стремлений: земство, профессура и пресса…
И путем земства, и путем прессы, и путем университетского преподавания старательно создавалась та атмосфера недовольства и раздражения, которая должна была привести прежде всего к двум следствиям: к «переоценке ценностей», т. е. к отказу от всего, что так или иначе отдавало традицией, привычкой, а следовательно, мешало вкоренению новых начал, во-вторых, к естественной уверенности, что на смену старого порядка уже готов новый и что, во всяком случае, уже определялись лица, которые лучше других могли бы осуществить такой новый порядок…
Кто же, наконец, эти основные, эти главные силы кадетского центра?
Во главе стоит, конечно, П.Н. Милюков. «Признанный глава партии», — говорят о нем и тогда, когда собираются превозносить его, и тогда, когда собираются посмеяться над ним… Он бросил заниматься наукой, как наукой, и усмотрел в ней лишь одно из средств политической борьбы.
Глава партии, тот, кто имелся в виду для роли ни более ни менее, как председателя совета кадетских «фютюр-министров», — это обязывает. Мы не можем отнестись к нему как к какому-нибудь бывшему камер-юнкеру вроде Набокова или как к какому-нибудь «масону», как г. Кедрин. Если человек не только заставил о себе говорить целую партию, но сделался предметом интереса даже для европейских политических журналистов (правда, особого рода), то все-таки, значит, что-то есть в этом человеке.
Что же именно?.. Его политическая нравственность? Тут, конечно, перед нами крайне сложная задача… К счастью, перед нами выписки из его статей и речей почти за целый год…
На съезде земских и городских деятелей в Москве, накануне образования кадетской партии, г. Милюков, «кооптированный» в состав бюро, иначе сказать — свалившийся как снег на головы земцев и думцев, проводил мысль о необходимости конституционной монархии на условии свобод и автономии… Он, вообще говоря, старался держаться такой почвы, будто речь идет только о реформах во имя улучшения правительственной машины. Это, однако, не мешало ему несколько погодя в целом ряде политических митингов забрасывать удочки совсем в другую сторону…
В это время события пошли более быстрым темпом. Не зная, пора еще или не пора обнаружить большую смелость, г. Милюков, с одной стороны, принимает участие в тайном соглашении с поляками, с другой стороны, обнадеживает на одном из митингов армян, поднявших тогда резню на Кавказе, с третьей стороны, усиленно хлопочет, чтобы крайние революционные партии не зарывались, давая им в целом ряде статей понять, что они слишком нерасчетливы. Одобрял ли он деятельность этих партий? Конечно, и даже очень одобрял, поскольку она расчищала почву для его комбинаций. Он боялся лишь одного: зарвутся, мол, глупые, и тогда опять начнется реакция.
Это был момент, когда все громы метались против бюрократии, но идею непосредственного единения Царя с народом берегли и лелеяли…
События пошли еще более быстрым темпом. Подготавливалась всеобщая забастовка. В успех ее г. Милюков не верил и не скрывал этого. Но он понимал, что, если бы он высказался решительно, он подвергся бы опасности потерять нужные ему и ценные связи. Он поэтому выжидал. Его речи потеряли вдруг всякое содержание, да и вообще он еще более стал избегать определенных ответов. Он, впрочем, придумал довольно удачный способ выйти из затруднения: повсюду являлся не иначе, как с г. Родичевым. Этот говорил, а г. Милюков сосредоточенно слушал, улыбался, приветливо кивал головой направо и налево. А ведь г. Родичев такой, что может все сказать, даже то, о чем за минуту перед тем и не думал, а через минуту, наверное, забудет. Таким образом, получалось впечатление, что г. Милюков, хоть и не говорит, а сочувствует. Если же г. Милюкову нужно было достичь как раз обратного впечатления, — у него и на это было средство: ведь говорил не он, а г. Родичев.
Но забастовка «удалась». Приятная неожиданность для г. Милюкова! Он оживился и засуетился… не рассчитал момента и попал под запрещение, которое потом помешало ему войти в первую Думу. Но уже начиналась предвыборная борьба. Надо было во что бы то ни стало образовать и укрепить партию. Какой же избрать путь? Прежде всего г. Милюков занялся приноровлением программы к моменту. Ничто крайнее не было вычеркнуто из нее, и, если угодно, кое-что было даже усилено. Но это крайнее не мешало включению в программу начал, специально принятых для умеренных. А чтобы не так был заметен фокус, г. Милюков прикрыл его новым названием партии.
«Партия народной свободы»!.. Звучит гордо, независимо, вызывающе, а вместе с тем ровно ни к чему не обязывает. Название на все вкусы и оттенки вкусов. Тут же началась и соответствующая агитация.
Вот описание одного из таких предвыборных собраний, на котором нам лично пришлось присутствовать. Довольно большой зал, битком набитый народом… За столом г. Кареев, который, очевидно, в эту минуту обдумывал, какой из новых книгоиздательских фирм выгоднее продать написанные им за два вечера накануне четыре новые книги для самообразования грудных младенцев; с ним рядом озабоченный г. Милюков; небрежно великолепный г. Набоков, откинувшись на спинку кресла, любовался своей независимой позой и, должно быть, думал: «Черт возьми, революция — революцией, а когда же, наконец, власть?!»
Говорит, само собою разумеется, г. Родичев. Что именно? Ах, это трудно сказать. Он говорит о произволе, о трупах расстрелянных 9 января, кровь которых не дает ему спать, о генерал-губернаторах, о евреях, о резне в Баку. Не успел он кончить и раскланяться, как из первых рядов вылез… господин… Прежде всего он обвинил г. Родичева в буржуазности настроений, потом заявил, что требует от кадетов честного ответа на вопрос: за монархию они или за республику? Наконец воскликнул: «Долой буржуазию! Да здравствует самодержавный русский народ!..»
Гром аплодисментов. Г. Милюков встревожился. Уже г. Родичев хотел встать, чтобы вновь начать говорить то же самое, что он уже говорил сотню раз и будет говорить еще столько же раз, но г. Родичев мог бы рассердиться и действительно договориться до республики. Г. Милюков усадил его и выступил с ответом лично…
И ответ, в конце концов, все-таки не был дан. Но это не мешало Милюкову тут же, как только заседание кончилось, доказывать тому же… оратору, что, в сущности, конечно, кадеты — республиканцы, но нельзя же все сразу… Дума овладеет положением, и тогда…
Следующей по значению «особой» кадетского центра является бесспорно Ив. И. Петрункевич, сам г. Петрункевич… происходящий по женской линии от гетмана Мазепы и по женской же линии владеющий огромным имением, великолепными конюшнями и располагающий возможностью пользоваться роскошным замком на южном берегу Крыма. Это — основной запасный магазин кадетской «практики жизни», олицетворение кадетской административно-полицейской находчивости и изворотливости, опытный проводник партии по узкой-узкой тропинке, отделяющей явно запрещенное от неявно дозволенного…
Г. Петрункевич говорит не очень красиво, но язвительно. Пишет он совсем нескладно, но не менее стараясь быть язвительным. Когда он говорит, он имеет вид человека, который вот-вот забудется и сам себя уязвит в самое сердце. Конечно, это не г. Винавер, который, когда говорит о правительстве, и шипит, и свистит, и брызжет слюной, и извивается, точно еще движение, и он бросится на дразнящего его мстительное воображение врага. Г. Петрункевич все-таки сдержаннее. Каждую стрелу он сначала оттачивает, потом медленно обмакивает в яд собственной желчи и затем уже пускает, стараясь попасть прямо в цель…
Старый матерый агитатор, он в настоящее время несколько смущен. Земство подвело, ушло из рук, а портфель все-таки еще когда-то будет! Тем более что он с грустью замечает, как день ото дня делается все более и более дерзкой молодежь и как много развелось и помимо него охотников за портфелями…
За г. Петрункевичем идет г. Муромцев. Великолепный г. Муромцев! Это тот самый, который много лет назад хорошо знал римское право, а теперь хорошо знает парламентские обычаи. Человек с видом большого барина, с душой холодной, с манерами строгими и выдержанными… Как оратор он никогда не отличался, но как изрекающий время от времени напыщенные афоризмы он всегда был знаменит, а теперь даже в Европе прославился.
Для большой деятельности он слишком ленив, для мелкой — слишком великолепен. Поэтому, действительно, как председатель Думы, он был вполне на месте. Дума наделала глупостей, но председатель… но председатель выше глупостей…
В третью очередь следовало бы поставить двух сразу: г. Набокова и г. Гессена. Оба представляют собою совершенно законченные типы того поразительного по яркости и определенности политического оппортунизма, которым… отличается партия народной свободы и ее центр — в особенности. Оба они неизменно ведут ту же линию политической авантюры, бросаясь на всякую наживку, которая хоть на минуту мелькнет перед ними.
Но, кроме этой общей черты, между ними во всем остальном резкое различие. Г. Набоков богат (по женской линии, конечно), и потому он больше озабочен славой. Г. Гессен, наоборот, должен читать лекции в десяти учебных заведениях и везде по разным, не имеющим между собой связи, специальностям. Ему, поэтому, пока не до славы. Г. Набоков уже многое может делать, г. Гессен еще многого не может. Потом все-таки г. Набоков сын министра и как-никак бывший камер-юнкер, что в кадетской среде, заметим в скобках, очень высоко ценится. А г. Гессен? Он, хоть и ближайший сподвижник г. Милюкова и «золотое перо» кадетских изданий, но все-таки никогда не был и не будет камер-юнкером. Оттого г. Набоков, например, полнеет и вообще раздается вширь куда смелее, чем г. Гессен.
Оба они считаются у кадетов «профессорами». Это значит, что ни один из них никогда не написал никакой ученой работы. Вот тоже черта, которая их объединяет…
Когда г. Набоков говорит, сейчас видно, что это говорит человек, который, в сущности, если очень рассердится, может и на кадетов махнуть рукой и просто уехать к себе домой, на юг Италии, на о. Капри или на о. Сан-Принсип.
А когда говорит Гессен, вы видите, что старается человек из-за своего положения, из-за всего своего будущего…
Маленькая подробность, которая отлично характеризует великого г. Набокова. Когда в день открытия Думы был Высочайший выход в Зимнем дворце, г. Набоков шел в процессии депутатов, заложив левую руку… не в карман даже… О, это сделал бы только г. Гессен! А сзади, под фалды фрака, так, что наполовину рука уходила в глубь панталон и этим придавала всей фигуре вид самой независимой из всех когда-либо бывших на свете парламентских фигур…
Маленькая подробность, определяющая г. Гессена. Он все прощает даже своим политическим врагам, если только знает, что они меньше его зарабатывают. Но он ненавидит даже друзей, если вдруг окажется, что какой-нибудь новый заработок получен кем-либо из них, а не им… Мы еще ни слова не сказали о том, что на всем Урале нет завода, где бы так притесняли рабочих, как на заводах г. Набокова, бывших Рукавишниковских… Мы также не говорим и о том, какими путями г. Гессен получал места в привилегированных учебных заведениях, т. е. в тех, самое существование которых противоречит основным воззрениям исповедуемых г. Гессеном политических учений.
Чтобы закончить с этой парой кадетов, остается сказать, что во всем кадетском центре нет никого, кто бы так откровенно, как эта пара, приветствовал революционный террор, как лучшее средство расчистки пути кадетам…
Обойдем молчанием такие слишком определившиеся и всем хорошо известные фигуры, как «масон» г. Кедрин… или как все эти «профессора» новой формации, как гг. Фридман, Идельсон, Ицеккранц, Майзельхес, известные лишь тем, что время от времени выскакивают в «Речи» или «Праве» с громовыми статьями против кабинета, написанными «настоящим одесским» языком. Все это мелочь, которая в общем составляет только серый фон кадетского центра. О звании «фютюр-министров» им еще рано мечтать. В кадетском плане это, вероятно, только директора департаментов или губернаторы русских центральных губерний…
Делаемся теперь необыкновенно почтительными, пишем стоя и на лице изображаем нечто раболепное. Дело в том, что речь пойдет о князьях Петре и Павле Долгоруковых…
Оба брата, по кадетскому списку, числятся в «единственных Рюриковичах». Это означает, что, во-первых, если бы они были Рюриковичами, то были бы лишь одними из многочисленных Рюриковичей, а во-вторых, что они вовсе и не Рюриковичи. Оба брата высоко ценятся в партии за свой княжеский титул и за уменье не сметь иметь своего собственного мнения. Но титул — прежде всего. Ни в одной среде не ценятся титулы в такой мере, как в демократической среде кадетов. «Настоящий князь». Это муссируется комитетом партии, который знает, что такое для основного состава партии… иметь своего настоящего русского князя. «Это не чего-нибудь!» — с гордостью говорят в Одессе и Шклове.
Оба брата участвовали в организации союза «Освобождение».[91] Оба теперь находятся под дворянским запретом, но это их не смущает, особенно если и князю Петру удастся так же выгодно ликвидировать свои дворянские имения, как удалось князю Павлу. По существу ни тот, ни другой серьезного влияния на дела партии не имеют. Да они и не стремятся иметь его. Зачем? Они и так во всех родственных гостиных уже известны как очень крупные и опасные общественные деятели, а в партийной среде за ними ухаживали и будут ухаживать из-за их связей и отношений. Иначе говоря: в гостиных они — интересные революционеры, а в революционной обстановке они — интересные завсегдатаи гостиных.
Их политический горизонт необыкновенно широк: в него все умещается, что хотите. И барская жизнь любителей и ценителей прелестей жизни, и удовольствие поиграть в революцию, и уменье устроить личные дела, и крайний демократизм, и преувеличенное мнение о роде, к которому принадлежат…
У кадетов есть еще один настоящий князь. Это бывший секретарь Думы, князь Д.И. Шаховской. Тип студента 70-х годов, одна из тех неуравновешенных натур, которой тесно и скучно без широкой агитации и тех особых волнений, которые дает только участие в заговоре. Вся его молодость прошла в этом. Настоящим образом, конечно, он мог развернуться только к открытию семидесяти семи свобод. Впрочем, именно тут, впервые увидев воочию, что такое то, к чему он так стремился, он весь сжался. Как известно, в Думе он только однажды попробовал что-то сказать, но был резко остановлен г. Муромцевым.
Типичный представитель кадетской тактики, как она понимается г. Милюковым, всегда быть правее преобладающего в партии настроения и, не замечая, вести партию все влево и влево, — такова формула этой тактики.
Есть еще князь Бебутов, но о нем кадеты вспоминают только тогда, когда заходит речь о необходимости увеличить расходы партии. Мог бы быть также и князь Урусов, но его вначале не сумели взять, а потом перехватила по дороге партия демократических реформ, этот забавный кадетский отросток, который только время от времени воспаляется и причиняет кадетам страдания, но сам по себе никому не нужен…
За десять лет, прошедших с момента цитируемой выше книжки («Правда о кадетах») до февральских событий, партия кадетов значительно усилила свои позиции. Но внутренняя ее разношерстность и разобщенность, ее спекулятивная сущность — загребать жар власти чужими руками — остались прежними. Даже лидеры не поменялись. Из воспоминаний князя В.А. Оболенского, тоже приобщенного к руководству этой авантюристической партии, то и дело можно «услышать» знакомые по брошюре Васильева-Гурлянда голоса: «ведущего тенора партии» Родичева, поющего чужие песни и вечно забывающего об этом; то по-барски вальяжного, то сверх меры «раздемократизированного», то чрезмерно государственно-значительного бывшего камер-юнкера Набокова, для которого неважно, где произносить свои напыщенные фразы и где решать «судьбу России» — на Васильевском острове или на острове Капри; ходячего фальшивого «родового герба» партии — князя Шаховского, вовлеченного (как и автор воспоминаний князь Оболенский) в сложную и далеко не честную политическую игру тройственного, по образному выражению Васильева-Гурлянда, союза — «воробья, проведенного на мякине», «волка в овечьей шкуре» и «гиены, питающейся трупами». Видим мы в «гостиной князя Оболенского» и одного из главных «двурушников» и лидеров партии — Милюкова. «Хорошо помню, — писал Оболенский о событиях в феврале 1917 года, — заседание Центрального комитета… на второй день революции. Обсуждался вопрос о том, следует ли стремиться к сохранению монархического образа правления. Милюков решительно высказался за монархию. Его поддержало несколько правых кадетов… Большинство склонялось к мнению, что монархия фактически уже не существует и что бороться за ее восстановление и нежелательно и бесцельно. Это, хотя и не проголосованное, мнение большинства ЦК не помешало Милюкову через три дня горячо убеждать Великого князя Михаила Александровича вступить на освобожденный его братом престол». Но и последние хлопоты не помешали тому же Милюкову войти в состав Временного правительства первого созыва, арестовавшего царя, царскую семью и, по сути дела, похоронившего монархию. Не унял он своей разрушительной активности и после того, как на смену дискредитировавшему себя Временному правительству пришла Советская власть. Получалось так, что Милюков и возглавляемая им партия кадетов были против любой государственности, проявляя вместе с тем завидное нахальство в борьбе за крохи привилегий от той или иной власти.
Показания бывшего министра иностранных дел Временного правительства Павла Николаевича Милюкова, которые он дал 23 октября 1920 года следователю Николаю Алексеевичу Соколову, свидетельствуют о том, как с первых дней Советской власти кадеты предпринимали всевозможные меры для организации нового заговора с помощью… немцев, т. е. той силы, за связь с которой, причем недоказанную, большевики теми же кадетами яростно и публично обвинялись. Звучным в этом клеветническом хоре был и голос Милюкова. Так, он категорически воспротивился возвращению русских эмигрантов в Россию после Февральской революции наиболее коротким и безопасным путем, каким являлся проезд через Германию. Причем речь шла не только о большевиках. На этот счет есть у Милюкова откровения с другим следователем — Павлом Александровичем Александровым, ведшим по поручению Временного правительства дело «об измене большевиков».
11 октября 1917 года бывший министр, но еще проживающий в Петрограде, рассказывал Александрову: «Вопрос о возвращении эмигрантов осложнялся только желанием некоторых из них вернуться в Россию кратчайшим и наиболее безопасным путем через Германию. В этом смысле ко мне, как к министру иностранных дел, поступил ряд ходатайств телеграфных от швейцарских эмигрантских организаций. Ходатайства о проезде через Германию мотивировались тем, что более далекий путь через Францию и Англию небезопасен и что союзные правительства ставят эмигрантам на этом пути препятствия, лишающие их возможности массового возвращения в Россию. Для облегчения возможности проезда через Германию мне рекомендовалось в этих телеграммах приравнять эмигрантов к военнопленным и поставить вопрос на точку зрения обмена политических эмигрантов на неприятельских военнопленных, пребывающих в России. При этом из донесений представителей информационного ведомства за границей я узнал, что через швейцарских социалистов Платтена и Гримма наши эмигранты уже вошли по этому поводу в сношение с германским правительством, обещая ему начать ходатайство об обмене при посредстве Платтена… В своих ответах обществам эмигрантов я категорически отказался приравнять их к военнопленным…»
Заявив на словах о законном праве эмигрантов возвратиться на родину, независимо от их политических взглядов, «демократ» Милюков (ратовавший за монархию и укреплявший республиканский строй) на деле лишал своих сограждан этого законного права. Нашлось у него и оправдание (на всевозможные уловки, отговорки, двусмысленные толкования он был мастер). Из него следовало, что Милюков направлял эмигрантов именно на более длительный и опасный путь, для отвода глаз ведя переговоры с союзниками «в пользу эмигрантов». Зная о двуличии Милюкова, эмигранты, по всей видимости, ему не доверяли (кто из них мог поручиться за истинную суть его переговоров?), продолжая, к неудовольствию Милюкова, предпринимать меры к осуществлению своего плана. «Несмотря на устранение всяческих препятствий к проезду эмигрантов через Францию и Англию, — возмущался впоследствии в беседе с Александровым Милюков, — я продолжал получать сведения, что группа швейцарских эмигрантов, вопреки протесту их товарищей, продолжает вести переговоры через швейцарских социалистов Платтена и Гримма о проезде через Германию…» При этом Милюков не уточнил, что «товарищи» из «группы швейцарских эмигрантов» — это люди, которые не только в кругу своих соотечественников, но и зарубежных публицистов, политических деятелей приобрели дурную славу склочников, интриганов, скандалистов. Объявившие себя в свое время непримиримыми врагами царизма, они быстро нашли общий язык с Временным правительством, в том числе и монаршествующим кадетом Милюковым. Речь в первую очередь идет об Алексинском и Бурцеве. Первый из них некоторое время примыкал к большевикам, затем сомкнулся с меньшевиками. Ради известности и легкого заработка при случае поругивал тех и других, пользуясь для этого непроверенными сведениями и откровенными сплетнями. Второй — использовал те же методы. Более того, под видом разоблачения провокатора он публично ославил свою партию эсеров. Для получения нужной информации он подставил под удар своего второго товарища по партии — Рутенберга, убившего по поручению тех же эсеров Гапона. В иных случаях в погоне за очередной сенсацией не брезговал не только связями с нечистоплотными лицами, но и дружбой с ними. К примеру, его часто видели в обществе агента царской охранки, а также, как многие утверждали, германской разведки — Манасевича-Мануйлова. Но об этом несколько позже, а сейчас завершу рассказ о кадетствующем монархисте или монархиствующем кадете Милюкове.
В своих показаниях Александрову в октябре 1917 года он так пытался облагородить свою миссию по отношению к эмигрантам: «Одно из препятствий к пропуску эмигрантов через союзные страны заключалось в нахождении имен некоторых из эмигрантов в так называемом международном контрольном списке… Я решил по отношению к лицам, числившимся в этой категории, рассматривать каждый случай отдельно и ходатайствовать перед союзным правительством о беспрепятственном пропуске тех из них, относительно которых мои сведения окажутся благоприятными. Этот прием я применил к случаю пропуска Зурабова. Далее, трудности для пропуска эмигрантов через Англию заключались, во-первых, в строгости общих правил, установленных для въезда и выезда в Великобританию, и, во-вторых, в крайней недостаточности тоннажа. Я настаивал перед великобританским правительством об устранении для политических эмигрантов как того, так и другого рода препятствий… В конце моего пребывания в министерстве мне удалось получить от великобританского правительства обещание еженедельно доставлять возможность нескольким сотням эмигрантов возвращаться в Россию. Это было, вероятно, во второй половине апреля…
Единственный случай, мне известный, в котором я мог бы предположить желание английского правительства считаться с политическими убеждениями эмигрантов, был случай с Троцким. Относительно этого лица мне были официально сообщены великобританским правительством данные, что при отъезде его из Америки для него были собраны между германоамериканцами 10 000 долларов на предмет низвержения Временного правительства. Из более поздних сообщений американских корреспондентов я узнал, что действительно Троцкому были устроены проводы германским союзом, описанные в нью-йоркских газетах, каких именно, я не знаю, но обещали мне их прислать. Об этих проводах сообщали мне, между прочим, сотрудники американских газет — Герман Берштейн, еще другой сотрудник и один русский, фамилии которых я не помню, но передавали мне об описанном факте как очевидцы. Тем не менее немедленно по получении сведений о препятствиях, чинимых Троцкому,[92] я обратился к великобританскому правительству с просьбою о его беспрепятственном пропуске в Россию, на что и получил немедленно согласие…» Но Милюков не только «добивался пропуска подозрительных лиц», но и запрещал их въезд в Россию. И об этом он «доверительно» сообщил Александрову, назвав для примера фамилию Гримма. «Роберт Гримм, — рассказывал он, — председатель Циммервальдской конференции и известный сторонник крайнего интернационалистского течения в социализме… Во всяком случае того, что мне было известно о Роберте Гримме, было достаточно для моего решения запретить въезд и этому лицу, как сносящемуся непосредственно с враждебным нам правительством. Мое решение, однако же, не удовлетворило Комиссию международных сношений при Совете рабочих и солдатских депутатов, и от имени этой Комиссии ко мне явился Скобелев[93] с настойчивым требованием пропустить Гримма…
Впоследствии я узнал, что мое отношение к пропуску Гримма явилось одним из мотивов для Совета рабочих и солдатских депутатов добиться моего удаления из состава правительства. Об этом, если не ошибаюсь, публично заявил Церетели в одном из публичных своих выступлений…».[94]
Итак, по словам Милюкова, он пострадал за истину, а главное — за «патриотическую принципиальность», которой, дескать, придерживалась и вся партия кадетов. Он не уважал людей, вступавших в связь с противником, ведших с германцами переговоры, возвратившихся в Россию через немецкую территорию. То, что это «благородное возмущение» — обычная милюковско-кадетская поза, можно убедиться, ознакомившись с протоколом допроса бывшего министра-временщика, записанного Соколовым. Чего только стоит милюковское совершенно противоположное осуждение спустя каких-нибудь полгода после беседы с Александровым и не кого-нибудь, а сопартийцев, часть из которых в начале 1918 года настаивала на союзе с Антантой в борьбе против большевиков. Ярый «противник германцев», Милюков стал придерживаться иной точки зрения, которую изложил Соколову (23 октября 1920 года; Париж): «Я лично не разделял тогда тех чаяний, которые существовали у большинства членов моей партии кадэ по этому вопросу. Я был убежден, что создание фронта в таких условиях, как это происходило, не приведет к хорошим результатам… Предполагая, что в реальных условиях того времени для нас, быть может, представляется возможным прийти к выгодному соглашению с Германией, я не скрывал тогда этих моих взглядов… в Киеве я имел по этим вопросам суждения с представителями немецкой власти. Таким лицом, которое вело со мной беседы со стороны немцев в Киеве, был Гассе, заведовавший у них разведывательной частью…»
Вот те раз! Большевиков за мнимую связь с немцами — на скамью подсудимых, а себя за фактические переговоры не просто с немецкой стороной, но и с немецкой разведкой — в герои. Но, то ли не сошлись в цене, то ли германская сторона посчитала кадетов вместе с их хитроумным лидером ненадежными партнерами, — торг не состоялся. А ведь на карту, по признанию того же Милюкова, ставилось не только будущее лично его и остальных кадетов. Речь шла о судьбе Украины, Прибалтики, всей России.
О закулисных переговорах кадетов с немцами в начале 1918 года подтвердил в своих показаниях Соколову бывший полковник Генерального штаба русской армии Б.В. Свистунов — адъютант штаба 56-й дивизии, затем помощник старшего адъютанта штаба Особой армии. Он тоже считал, что немцы достигали своей цели «уничтожения фронта и развала России, как боевой единицы… через большевиков, сознательно работавших в таком направлении». Поэтому, чтобы бороться с большевиками, Борис Владимирович Свистунов (Соколов допросил его 13 сентября 1920 года в Париже) в январе 1919 года оказался в… Берлине!
Это очень примечательный факт, и я хочу обратить на него особое внимание: те, кто яростно обвинял большевиков в «шпионстве» в пользу Германии, почему-то оказались после Октябрьской революции не в Лондоне, не в Париже, а в Берлине. Убийственная логика, компрометирующая кого хочешь, но только не большевиков. Ну как тут не вспомнить русскую пословицу — «на воре шапка горит». Вот и Свистунов оказался в такой же «воровской шапке». Причем, так же как и Милюков, не смущается изобличать самого себя: «Проживая в Берлине, я имел там общение с немецкой военной средой и общественными силами национальных немецких партий». Он же сообщил, что в начале весны 1918 года в Москве существовало антибольшевистское подполье в составе двух заговорщических групп — «Союза возрождения» и «Национального центра». И в ту и в другую в числе различных политических сил входили кадеты, но вторая группа имела германскую ориентацию. «Члены (Центра), — рассказывал Соколову Свистунов, — вели переговоры с немцами, интересы и власть которых представлялись в то время в Москве Мирбахом».
В своих показаниях следователю Александрову лидер кадетов Милюков облагораживал себя тем, что в силу своих возможностей, какими он располагал в бытность министром иностранных дел Временного правительства, препятствовал въезду в Россию лиц, скомпрометировавших себя «связями с противником». На самом деле он ставил препоны политическим противникам, поскольку и до приезда их для кадетов конкурентов хватало с избытком. Причем многие из них — не менее агрессивные и беспринципные, чем сами кадеты. В первую очередь это, пожалуй, относится к эсерам. О том, как постепенно росло их влияние во Временном правительстве, как они все настойчивее расталкивали конкурентов в «министерской очереди», может свидетельствовать партийный состав правительства, время от времени изменявшийся. Так, со 2 (15) марта по 6 (19) мая 1917 года в него входили: 1 октябрист; 8 кадетов, в том числе и председатель (Г.Е. Львов); 1 трудовик, с марта «перекрасившийся» в эсера. Это был 1-й состав. 2-й состав (май—июль): 1 октябрист, 8 кадетов, 3 эсера, 2 меньшевика. 3-й состав (июль—сентябрь): 7 кадетов, 5 эсеров и народных социалистов, 3 меньшевика. Этот состав наиболее показателен возросшей ролью эсеров не только по числу мест в правительстве, но и обладанием председательским креслом в лице А.Ф. Керенского. Был еще и 4-й состав. В нем количество министров-эсеров значительно поубавилось. Стало меньше в нем и кадетов, но зато эсеры сохранили за собой ведущий пост — председательствующий. Из этих цифр видно, что кадеты последовательно теряли свое влияние (ведь названные цифры включали в себя не только «чистых» кадетов, но и примыкавших к ним, то есть колеблющихся между различными группировками), в то время как их главные соперники — эсеры день ото дня набирали силу. Так что Милюков знал, что среди эмигрантов, стремившихся в Россию после Февральской революции, было немало эсеров, рвущихся к правительственному пирогу, к государственной казне. Об этом в определенной степени свидетельствует документ, подшитый в следственных материалах, собранных Александровым. Он представляет из себя, как значится в препроводительной справке к нему, «Список эмигрантов, прибывших в Россию в начале апреля сего года». Направил его «весьма спешно» судебному следователю по особо важным делам Александрову (по запросу следователя под № 659) начальник контрразведывательного отделения штаба Петроградского военного округа на театре военных действий. Датирован документ 4 октября 1917 года за № 11021. В препроводительной также указывалось, что «подробный список эмигрантов, прибывших в первой половине мая сего года, всего около 250 человек» направляется начальником контрразведывательного отделения «заведывающему центральным Бюро при Главном Управлении Генерального Штаба».[95]
В списке эмигрантов (прибывших в Россию в начале апреля 1917 года и официально зарегистрированных при переезде границы), предоставленном Александрову, значатся 72 фамилии. Среди известных меньшевиков (Г.В. Плеханов, Л.Г. Дейч) и большевиков (В.И. и Н.К. Ульяновы, М.Г. Цхакая, Г.Е. Зиновьев[96]) числились и не менее известные эсеры. Здесь, например, под номером 48 упоминался Борис Савинков. Конечно, не многие его знают как автора романа «То, чего не было» (написан в 1914 году), нескольких повестей, стихов, выступавшего под псевдонимом В.Ропшин. Но как об организаторе всевозможных заговоров и мятежей, о террористе — об этом, пожалуй, все наслышаны. Во Временном правительстве он занимал пост товарища военного министра. Ровно через десять номеров записан Илья Фундаменский. Впрочем, иногда его фамилия писалась Фондаминский, еще чаще — Фундоминский. Он имел также псевдоним — Бунаков. Считался одним из лидеров партии социалистов-революционеров (эсеров), был депутатом Учредительного собрания, входил в «Союз возрождения России». 60-м в список внесен Виктор Чернов. Конечно, Милюкову не было никакого резона пускать в Россию, а точнее, подпускать к власти, такого предприимчивого и опасного человека, прослывшего одним из основателей и теоретиков партии эсеров. Немудрено, что Чернов сумел пробиться в состав Временного правительства, где занял пост министра земледелия, а также стал председателем Учредительного собрания. Сразу же за ним в списке записан ошибочно Николай Авкшитев. Ошибочно, потому что правильная фамилия этого, тоже известного лидера эсеров, — Авксентьев. Спустя три месяца после приезда в Россию он вошел в состав Временного правительства в должности министра внутренних дел.
О яростном соперничестве кадетов с эсерами накануне и после Февральской революции любопытные сведения можно почерпнуть из довольно неожиданных источников, а точнее — услышать от людей, казалось бы, далеких и от той, и от другой партии. Вот, к примеру, атаман Анненков. Отъявленный монархист, он, мстя Советской власти за гибель старого мира, залил кровью все Семиречье (ныне юго-восточная часть Казахстана), не щадя ни виновных, ни безвинных, ни старого, ни малого. В 1927 году он по приговору суда был расстрелян. Мне довелось знакомиться с материалами предварительного следствия и судебного производства. Так вот, в показаниях Анненкова встречаются сообщения о том, как именно кадеты и эсеры, соперничая между собой за влияние на войска, разваливали фронт и расшатывали веру солдатской массы в царское правительство. «Представители различных партий, чаще социал-революционеры и кадеты, утверждали, — рассказывал бывший колчаковский генерал, — что император Николай II находится под большим влиянием жены и благодаря своему слабому характеру не способен управлять страной». Еще больше активности стали проявлять партнеры-противники после Февральской революции. Анненков честно признался, что для него, последовательного монархиста, в силу обстоятельств принявшего присягу на верность Временному правительству, не всегда была понятна истинная суть патриотических призывов «агитаторов Керенского». Он говорил следователю: «В целом довольно трудно было разобраться, какая из партий придерживается более правильной позиции. Я больше склонялся в сторону эсеровской, и у меня сложилось определенное убеждение в необходимости поддержки Временного правительства. Мне казалось, что Временное правительство создаст такую власть, которая нужна народу, а Учредительное собрание выберет нового царя, опирающегося на Думу и земства».
Соперничая, кадеты и эсеры нередко вступали и в сговор между собой, когда нужно было наброситься на кого-нибудь сообща. Они вошли в альянс при свержении царя, при формировании Временного правительства, чтобы не допустить в него большевиков, при неистовой травле последних после июльских событий 1917 года, в годы Гражданской войны и иностранной интервенции. Многие из них, временно отступив перед Советской властью, довольно изобретательно замаскировались и растворились в массе «советских граждан», а то и довольно успешно стали делать карьеру в советских учреждениях. Более того, многие стали называться коммунистами и так же неистово бороться с врагами Советской власти, как до этого боролись против нее. Особенно преуспели в этом эсеры. Одни из них «перекрашивались» ради того, чтоб выжить, другие в силу крайней невозможности для них жить без власти и привилегий. Но значительная часть просто-напросто маскировалась, при случае занимаясь вредительской работой, дискредитацией партии и новой власти, озлобляя людей своими противозаконными выходками и более серьезными акциями.
Нельзя исключать, что одно из громких (именно громких, объявленных в печати и распространяемых на всех углах и перекрестках) дел, сотворенных эсерами от имени Советской власти, — дело о царской семье. Засилье эсеров на Урале, как перекрашенных, так и явных, было в то время общеизвестным. И далеко не пассивным. Примечательная информация на эту тему содержится, к примеру, в материалах, собранных Соколовым, в частности, в показаниях Н.А. Соковича от 24 августа 1918 года. Особенное внимание, на мой взгляд, заслуживают следующие слова Соковича: «Я ни к какой партии не принадлежал и не принадлежу, но был записан, как сочувствующий, в партию социалистов-революционеров. Записался я в середине декабря 1917 года… В январе месяце 1918 года я, по предложению партии, пошел на съезд крестьянских депутатов с целью познакомиться с разницей программы правых и левых социалистов-революционеров… Большевики предложили этой фракции 4 места в комиссариатах, а именно земледелия, юстиции, транспорта и здравоохранения». Итак, в числе других постов в Уральском областном совете наркоматом юстиции ведали эсеры. Но известно, что «главный цареубийца» — Юровский являлся товарищем комиссара юстиции именно этого совета. Немаловажный факт! Значительное количество интересной информации на этот счет содержится в материалах по «Алапаевскому делу», хотя бы в показаниях Петра и Афанасия Старце-вых — тоже эсеров.
Но это, так сказать, «мелкая рыбешка». Они, как правило, чаще приносились в жертву в большой политической игре. Ну а игроки — более значительные имена. Читатели имеют возможность ознакомиться с антибольшевистской неистовостью одного из них — Владимира Львовича Бурцева. В материалах следствия зафиксированы два его показания Соколову (от 11 августа и 2 октября 1920 года), а также к ним приобщены номера газеты «Общее дело», которые представил следствию редактор этой газеты — все тот же Бурцев. Как в газетных публикациях, так и в показаниях он сосредоточился на «разоблачении двурушничества большевиков», добившихся власти «с помощью немцев». Но вот короткая справка о самом Бурцеве: восьмидесятые годы прошлого столетия (он родился в 1862 году) — близок к народовольцам; канун первой русской революции (1905–1907 годы) — сошелся с эсерами, а после ее поражения — поддерживает кадетов. Вот такие шарахания. Но они еще более парадоксальны в последующее время. Объявив себя на весь мир непримиримым врагом самодержавия, неистовым борцом за истину, справедливость и демократию, он тем не менее в 1917 году поддерживает рвущегося к диктаторству Корнилова, а после Октябрьской революции — белогвардейцев-монархистов. Вот такая «последовательность».
Больше всего Бурцев прославился в разоблачении «темных сил», а точнее, по его же словам, в ведении борьбы в революционной среде, к которой он себя причислял, «с теми ее элементами, которые являются в ней предателями в отношении самой идеи — борьбы за благо Родины».
Как он это делал? А вот как. Избрав для себя средством борьбы, по его же заверению, «публичное, открытое, печатное слово», он, видимо, решил, что факты, как и деньги, — не пахнут. Их можно добывать где и как угодно, более того, предавать огласке, не убедившись в их достоверности. Поэтому он связывался с целью добычи скандальной, а чаще лживой информации с теми, за контакты с которыми других предавал анафеме. В его показаниях Соколову от 11 августа 1920 года читаем о Ленине: «Прибыв в Россию в 1917 году с целым сонмом завербованных им агентов, в чем ему открыто помогли немцы, он повел энергичную борьбу на развал России в самом широком масштабе». А вот о себе спустя менее чем два месяца: «…я несколько раз был в Германии в последнее время, и мне удалось получить неопровержимые данные вот какого характера…» Характер, в общем-то, этих данных, как и их суть, оставались прежними — скандальными и клеветническими. Прежними остались и источники, которые чаще всего были известны лишь одному богу да Бурцеву, а потому их никто и никогда не смог бы проверить — «одно лицо сообщило» или «есть человек, который ведал». Но главное в том, что сам разоблачитель Ленина и большевиков «несколько раз побывал» в стране, фактически еще находящейся в состоянии войны с Россией, о чести и достоинстве которой так печется этот благородный правдолюб. Брестский договор аннулирован почти два года назад, до нового, Рапалльского, оставалось полтора года, Россия не успела отдышаться от дружеских объятий внешней интервенции и по-прежнему задыхалась от внутренней междоусобицы… Единственной силой, которая пыталась сплотить народ и воспрепятствовать развалу страны и дележу ее между своими и чужими благодетелями, — были большевики. Так не за это ли их так яростно преследовал и травил Бурцев?..
Вообше-то, при изучении его кипучей деятельности и «интимных откровений» следователям (как Соколову, так и Александрову)[97] может сложиться впечатление, что у Бурцева с годами вздорный характер и непомерные амбиции переросли в манию кого-нибудь да преследовать. Причем не ради, как он заверял всех, истины и «блага России», а для собственного престижа. Что ж, вполне знакомый образ иных современников, прошедших, видимо, заочную историческую школу у Бурцева. Вот как он сам говорил об этой «школе»: «При царском режиме я боролся с идеей самодержавия и личностью Императора Николая II. При большевиках я боролся прежде всего за целость самой Родины, считая систему их действий по осуществлению власти прежде всего предательством России». Временное правительство и Керенского он, между прочим, тоже изобличал как предателей России и слуг Германии, точно так же, как затем утверждал, «определенно заявляя», что «самый переворот 25 октября 1917 года, свергнувший власть Временного правительства и установивший власть советов, был совершен немцами через их агентов, на их деньги и по их указаниям».
Нужную информацию Бурцев получал иногда от загнанных в угол лиц, пользуясь их безысходностью или продажностью. В одной из книг читаем: «Загнанный в тупик руководством партии эсеров… Рутенберг живет в Европе буквально на птичьих правах: ни своего дома, ни средств к существованию… Рутенберга разыскал эсеровский деятель Бурцев, знаменитый главным образом тем, что он был инициатором разоблачения действовавшего в партии полицейского провокатора Азефа и первым опубликовал разоблачительный материал в издаваемом им журнале „Былое“. Ознакомившись с тогда еще не оконченной рукописью воспоминаний Рутенберга, Бурцев принял ее к печати. Так у Рутенберга появились деньги…».[98] У Рутенберга не совсем чистые деньги, а у Бурцева — такого же качества слава разоблачителя.
И все же, вопреки стремлениям Бурцева сделать для себя рекламу суперпатриота, его усилия, как и многих ему подобных «честных партийцев», с кем ему доводилось тесно сотрудничать, — эсеров, кадетов, монархистов, а то и просто агентов полицейской охранки и иностранных разведок, — эти усилия шли не столько на пользу, сколько во вред России.
«В 1917 году я встретился с ним однажды у Ивана Федоровича Манасевича-Мануйлова», — рассказывал Бурцев Соколову в Париже 11 августа 1920 года о знакомстве с банкиром Карлом Иосифовичем Ярошинским. Любопытная деталь. Ярошинский, якобы отправивший в Тобольск «ссыльному» Николаю 11 35 000 рублей, сообщает об этом Бурцеву, который общеизвестен не просто как антимонархист, но и откровенный недоброжелатель Николая II. Впрочем, Бурцев, всегда ко всем подозрительный, в беседе с Соколовым нелестно отозвался о Ярошинском. Тот, дескать, произвел на него «впечатление человека, мало уравновешенного, весьма сомнительного, с большим размахом». Но бог с ним, с Ярошинским. Нас в большей мере может интересовать другое лицо, действительно сомнительное, но не по воображению, а по делу, о котором дурная слава накопилась и в тайных архивах охранки и контрразведки, в редакционных портфелях, на газетных и журнальных полосах, в общественных пересудах. Речь идет о Манасевиче-Мануйлове. В короткой фразе, зафиксированной Соколовым и произнесенной Бурцевым, звучит если и не уважение, то доверие к «Ивану Федоровичу». И как же иначе, если они в течение долгих лет были связаны темными делишками.
Разрозненные сведения об этой странной и вместе с тем закономерной дружбе можно разыскать в различных публикациях. Но, думается, наиболее интересные сведения содержатся в довольно редкой книжонке.[99] Начинается она так:
«В одном из правительственных секретных архивов сохранилось объемное дело о коллежском асессоре Иване Федоровиче Мануйлове. На обложке дела надпись:
„Совершенно секретно. Выдаче в другие делопроизводства не подлежит“.
С 1895 по 1917 год заботливой рукой подшивались сюда всяческие документы и бумаги, касавшиеся коллежского асессора. В своей совокупности бумаги эти развертывают целое полотно жизни Ивана Федоровича: жизнь же его — подлинный роман приключений… Похождения его интересны по тем нитям и связям, которые тянутся от мелкого агента к самым громким деятелям… Надо добавить, что секретное дело, которым мы пользуемся, было секретным и для следственной и судебной властей, разбиравших дело Мануйлова в 1917 году».
Уместно уточнить, что «разбором дела Мануйлова» занимался все тот же следователь (в то время пока только по важнейшим делам) Павел Александрович Александров, азартно и суетливо собиравший затем всевозможные улики против Ленина и большевиков. Ну а доверили ему «лишь незначительную часть документов» потому, что «остальное представлялось слишком зазорным для оглашения хотя бы среди следователей и прокуроров». Секретным являлся, конечно же, не формулярный список, удостоверявший, что подследственный в 1910 году имел 40 лет, был лютеранского вероисповедания, окончил курс в реальном училище Гуревича и состоял на службе по «императорскому человеколюбивому обществу». Безусловно, нет. Скрывалось совершенно иное, начиная с бытовых мелочей и кончая крупными государственными аферами. Ну хотя бы такая келейная подробность: «Еврейского происхождения, сын купца, Мануйлов, еще учеником училища, обратил на себя внимание известных в Петербурге педерастов: директора департамента духовных дел А.Н. Мосолова и редактора газеты „Гражданин“ князя Мещерского, взявших под свое покровительство красивого, полного мальчика. Юношу Мануйлова осыпали деньгами, подарками, возили по шантанам и другим вертепам, и под влиянием покровителей у него развилась пагубная страсть к роскоши, швырянию деньгами, картам, кутежам и т. п. Приняв православие, он, при содействии князя Мещерского и Мосолова, поступает на государственную службу… Первое выступление юного Рокамболя произошло в 1894 году. На горизонте политического розыска блистал в то время звездой первой величины П.И. Рачковский, стоявший во главе заграничной агентуры русского правительства. С этим старым волком и задумал потягаться безвестный в мире агентуры юноша…».[100]
Не стану говорить об этой дуэли, поскольку в книжке изложено много всевозможных подробностей. Перейду к «дуэту» Мануйлов—Бурцев.
Сведения об их связи переполошили департамент полиции, где числился Мануйлов, в январе 1910 года. Тут только решили дать ход резолюции Столыпина, написанной им на одном из донесений об очередной афере ценного, но ненадежного агента 20 марта 1909 года: «Забыл передать вам сегодня прилагаемые документы, касающиеся Мануйлова. Пора сократить этого мерзавца». Ну а сообщение, переполнившее чашу терпения начальства Мануйлова, извещало о том, что «бывший агент Иван Федорович Мануйлов „запродал за 150 000 франков массу документов революционеру Бурцеву и получил в задаток 20 000 франков“. Заручившись обещанием „торговца государственными секретами“ выкрасть из архивов департамента новые ценные документы, Бурцев якобы выехал в Америку (не торговать ли полученными бумагами, сняв с них копии!) для сбора остальной суммы в соответствии с договором.
В материалах, собранных Соколовым по делу царской семьи, имеется протокол допроса (от 6 августа 1920 года) Веры Ивановны Барковой — дочери Манасевича-Мануйлова. Ее рассказ свелся в основном к аресту отца в августе 1916 года. Но такая угроза нависла над ним еще шесть лет назад. Все началось с обыска, который получил в обществе звучный резонанс. В книжке, о которой идет речь, приводится донесение агента Леонида Раковского о реакции на это происшествие:
„С.-Петербург, 21 января 1910 года.
Много толков в обществе вызвал обыск, произведенный в ночь на 17 января у бывшего чиновника особых поручений при департаменте полиции Ивана Федоровича Манасевича-Мануйлова. Носятся слухи, что обыск произведен в связи с взрывом на Астраханской улице. По другой версии, Мануйлов якобы являлся информатором В. Бурцева, и у него обнаружена переписка с последним“.
Но обыск у Мануйлова вызвал тревогу и за рубежом, в частности, встревожил французскую тайную полицию. Об этом „лично“ и „совершенно доверительно“ докладывал директору департамента российской полиции заведовавший заграничной агентурой А.А. Красильников:
„Имею честь доложить вашему превосходительству, что, по полученным совершенно конфиденциально сведениям, парижская Surete Generale крайне озабочена имеющимися у нее указаниями на сношения Мануйлова с Бурцевым. Получив известие об обыске, произведенном у Мануйлова, Surete Generale опасается, не продал ли он уже Бурцеву некоторые документы, относящиеся к русско-японской войне и сообщенные ему полицией французской… В течение двух лет в распоряжение Мануйлова представляли все, что он только желал: перехваченные телеграммы, письма, донесения французских чинов и т. п. Некоторые официальные бумаги были в подлинниках доверены Мануйлову, который так их никогда и не возвратил и, вообще, как выражаются в Surete Generale, „недостойным образом обманул оказанное ему французскими властями доверие“.
В министерстве внутренних дел очень боятся, не попали ли уже или не попадут в руки Бурцева некоторые из этих документов, предъявление которых в палате депутатов как несомненное доказательство содействия, оказанного русской полиции во время японской войны со стороны полиции французской, вызвало бы небывалый по сенсационности скандал…“
А вот что писал сам „пострадавший“, стараясь задобрить и снова „усыпить“ свой любимый департамент, в письме на имя генерала Курлова 24 декабря 1910 года:
„Ваше превосходительство, корреспондент „Русского слова“ (от 16 сего декабря) сообщает, что в непродолжительном времени предстоят разоблачения Бурцева по вопросам разведочной агентуры (наблюдения за посольствами и т. д.), по поводу коей Бурцев получил сведения от бывшего агента Леруа, находившегося на нашей службе. Ввиду того, что эти разоблачения могут вызвать значительные осложнения и газетную полемику против России, я позволяю себе доложить вашему превосходительству, что, если бы вашему превосходительству благоугодно было, я мог бы представить данные, которые могли бы до известной степени парализовать гнусную выходку Бурцева и подкупленных им агентов. Может быть, ваше превосходительство сочтет полезным приказать кому-либо из ваших подчиненных войти со мною по сему поводу в переговоры. Вашего превосходительства преданный слуга И. Мануйлов“.[101]
Книжка заканчивается тем, что, несмотря на „гнусную выходку Бурцева“, Манасевич стал снова искать финансовой помощи у последнего, а тот поспешил в Россию, чтобы поприветствовать „гласно“ Февральскую революцию, а тайно — собирать новый клеветнический материал на очередных „немецких шпионов“, на тех, с кем постоянно заигрывал, кого называл своими „собратьями-революционерами“ — кадетов и эсеров, вошедших в состав Временного правительства. В эпилоге книжки об этом говорится так:
„По иронии истории Манасевич, осужденный при царизме, был освобожден из тюрьмы февральской революционной волной 1917 года.
Как настоящий „революционер“, Манасевич нашел для себя в первый период революции достойное применение, став ревностным сотрудником перенесенного В.Л. Бурцевым в Россию „Общего дела“; но долго пожить на свободе ему не удалось, и, уже волей революции, он был арестован снова; хотя вскоре после Октябрьской революции ему опять удается временно освободиться…“.[102]
А вот еще один „суперагент“ — Бурштейн, которого допрашивал в качестве свидетеля Александров по делу измены большевиков. Беседа между ними состоялась в июле 1917 года. Но Александров к тому времени уже располагал исчерпывающими сведениями, что его собеседник — давний „друг“ департамента полиции, но услугами которого пользовались всегда с оглядкой. Настороженность вызывалась нечистоплотностью „добровольного агента“, продававшего своих и чужих, нечистого на руку. В декабре 1915 года он направил два письма на имя директора департамента полиции Белецкого. В первом изобличал в шпионаже в пользу Германии Парвуса (Гельфанда), а также связанных с ним „большевиков“ — Козловского и Фюрстенберга (Ганецкого). Во втором — говорилось вот о чем:
„В конце ноября 1913 года я имел честь лично передать Вашему Превосходительству записку о деятельности заправил пароходных обществ России, занимающихся перевозкой пассажиров в Америку, во главе которых состояли Мясоедов, Фрейберг, Фальк и К0, ныне казненные.
Кроме записки, переданной Вашему Превосходительству, я в продолжение 1914–1915 годов представил обширного материала документы в подлинниках и фотографиях и.д. генерала при Двинском военном округе на театре военных действий Михаилу Михайловичу Горленко и подполковнику Ивану Петровичу Васильеву…
Мои разоблачения Мясоедова и K° начались в 1911 году и продолжались до их казнений, что я сделал безвозмездно, не жалея ни труда, ни времени…“
Сделал Бурштейн и довольно неосмотрительное обращение к члену военно-морской комиссии Государственной Думы Д.Н. Чихачеву. Причем — за два месяца до письма Белецкому. Двурушничество Бурштейна было воспринято с большим неудовольствием не только его хозяевами, но и контрразведкой. Об этом в материалах, собранных Александровым, свидетельствует примечательный документ:
Начальнику секретно
Копия контрразведывательного отделения
Главн. упр. Генеральн. Штаба
8 октября 1915 г.
№ 147
Петроград
Докладываю Вашему Превосходительству, что автор письма на имя Члена Государственной Думы Чихачева — еврей Зельман Бурштейн является лицом, не заслуживающим никакого доверия.
Целым рядом расследований выяснено, что Бурштейн представляет собой тип темного дельца, не брезгующего никакими занятиями. Неоднократно подвергался взысканиям и ограничениям в административном порядке и в настоящее время не имеет права жительства во многих местах империи.
Едва ли не последнее обстоятельство и заставляет его искать реабилитации через посредство Члена Государственной Думы…
Подписал: подполковник кн<язь> Туркистанов…»
Вообще-то, трудно поверить в то, чтобы такой ушлый человек, как Зельман Бурштейн, не понимал, что не Дума лишила его «права жительства во многих местах империи» и не она восстановит его в этих правах. А только уж чье-то сильное и активное воздействие могло его заставить лишний раз «мелькнуть» в глазах общества и сыска. Ну а целью такого риска могла быть попытка налаживания контактов этой довлеющей над Бурштейном силы (не исключено, что бунда) с думской фракцией кадетов, меньшевиков и других антибольшевистских сил.
Думается, не случайно, что и Александрову был «рекомендован» именно такой свидетель. Не может не вызывать удивления то, что он воспользовался так доверительно показаниями столь сомнительной личности, но это иная сторона дела, о которой еще пойдет речь. Сейчас же передам суть их беседы.
«Я занимаюсь комиссионными делами, и в июне 1915 года я поехал за границу, — рассказывал Бурштейн, — в Англию, Голландию с целью найти лиц, которые согласились бы финансировать возникающее в России пароходное общество под названием „Помор“… Собственником устава этого общества состоял Павел Иванович Лыкошин (Шпалерная, 9), и встретилась необходимость в том, чтобы Лыкошин свиделся с финансистами в Бергене, однако ему не удалось туда поехать, и он вместо себя послал Абрама Максимовича Рабиновича, ныне проживающего в Копенгагене».
Дальше Бурштейн поведал о своей встрече в Бергене с Рабиновичем, передал рассказ последнего о знакомстве в дороге с соотечественником — социал-демократом, бывшим членом Государственной Думы, присяжным поверенным Мечиславом Юльевичем Козловским. Вскоре после этой встречи (Бурштейна с Рабиновичем) Козловский прислал письмо, а затем телеграмму с просьбой приехать в Копенгаген или Христианию (Кристиания; с 1914 года — Осло) для завершения деловых переговоров, начатых при дорожном знакомстве. Компаньоны выехали из Бергена в Копенгаген, где их ожидали Козловский и Фюрстенберг. «…Считаю долгом отметить, — показывал Бурштейн, — что у обоих вид был довольно сильно поношенный, и их вид не позволял мне даже предполагать об их близости к финансовым сферам…»
С вокзала все вместе они отправились в гостиницу, где снимал номер Козловский. От того узнали, что он является юрисконсультом у некоего крупного капиталиста Гельфанда. Позже Бурштейн узнал, что у того имеется и вторая фамилия — Парвус. Ему также стало известно от служанки Гельфанда Марии (ей в свою очередь рассказала подруга Эмма Ольм; вот такие «достоверные» сведения поставлялись охранному отделению, такие же использовал для гласного обвинения большевиков и Александров!), что Гельфанд имеет связь с Берлином. В это же время, по словам Бурштейна, в русских газетах, главным образом в «Речи», появились статьи, «разоблачавшие некоего Парвуса, проживающего в Копенгагене и занимающегося шпионажем, по газетным сведениям, он субсидируется Германией, состоя в непосредственном сношении с Германией, в интересах которой и работает в Германии». В Копенгагене Бурштейн также узнал, что двойная фамилия и у Фюрстенберга — Ганецкий, что он и Козловский тоже шпионы. Об этом он решил сообщить своему знакомому журналисту — Александру Кону. Но, опасаясь отправить письмо обычным порядком, попросил военного атташе при русской миссии в Копенгагене Потоцкого переправить свой «сверхсекретный донос». Потоцкий же поставил якобы условие, чтобы письмо было адресовано официальному лицу. Зная о близости Кона к директору департамента полиции Белецкому, Бурштейн написал на конверте фамилию последнего. Вот такое наивное сокрытие бывалым человеком своей роли агента.
После этого по поручению Лыкошина, который отказался иметь дело с Парвусом, Бурштейн через Голландию отправился в Америку проворачивать их коммерческие дела. В конце июля 1916 года возвратился в Европу, а месяц спустя в Копенгагене встретил Фюрстенберга. Тот сразу на него набросился с угрозами, предупредив, что ему известно о доносе Белецкому под видом частного письма. Бурштейн так описывал эту сцену Александрову: «Когда я встретился с Фюрстенбергом в Копенгагене в последний раз, и он стал мне говорить в угрожающем тоне и передал мне дословно содержание моего письма на имя Кона через Белецкого, то я, зная, что никто, кроме меня, содержания письма не знал, сказал Фюрстенбергу так: „До сего времени я был убежден в том, что вы немецкие шпионы, а, как теперь вижу, вы служите нашим и вашим“.[103]
Вообще-то, на первый взгляд произошел как будто рядовой случай: столкнулись два агента в стремлении подставить один другого под удар. И все же факт этот, если бы Александров дал ему ход, мог бы перекроить все следствие. Ну признай он, что Фюрстенберг „свой человек“, тогда, конечно же, отпадало бы обвинение против него как большевика — немецкого шпиона. Но ведь это изменяло весь ход следствия. Кстати, когда о причастности Фюрстенберга к агентурной деятельности Александров получил подтверждение, да еще от более ответственного лица, он не на шутку переполошился.
Приведу выдержку из протокола допроса „важного“ лица, зафиксированного следствием 23–24 сентября 1917 года:
„Я, нижеподписавшийся начальник контрразведывательной части штаба Верховного Главнокомандующего Генерального штаба полковник Николай Васильевич Терехов, православный, 38 лет… С 1909 года почти непрерывно до сего времени я нес службу по разведке и контрразведке. С 1909 года до начала войны — в должности помощника старшего адъютанта разведывательного отделения штаба Варшавского военного округа, затем с начала войны — на той должности в штабе 2-й армии, где с 1915 года, будучи старшим адъютантом, выполнял особо секретные поручения штаба Верховного Главнокомандующего по разведке и партизанской организации на многих фронтах нашего театра военных действий. Настоящую должность занимаю с июня месяца текущего года… Под именем и фамилией Якова Фюрстенберга мне известен еврей, бывший в самом начале войны в августе—сентябре 1914 года подагентом у моего агента-разведчика Иосифа Герца; он зарекомендовал себя мелким шантажистом, и, ввиду его ненадежности и за негодностью, он был уволен. Впоследствии, вместе с тем же Герцом и другими лицами, он был командирован по разведке одним из штабов за границу, в Копенгаген. В результате этой деятельности было назначено предварительное следствие по подозрению их в шпионстве. Дело о них находится в Военно-судной части штаба Западного фронта. Яков Фюрстенберг всегда имел репутацию темной личности. К сему присовокупляю, что командирование Фюрстенберга в Копенгаген относится к лету 1915 года, именно к началу июня. Фюрстенберг жил в Варшаве…“
Ставка Верховного Главнокомандующего, где нес свою контрразведывательную службу полковник Терехов, находилась в Могилеве. Именно там последний давал показания следователю по важнейшим делам Гродненского окружного суда Сцепуре, переславшему протокол допроса Александрову в Петроград. И что же делает, получив такие неожиданные сведения, Александров? Посылает в экстренном порядке запрос в штаб Западного фронта, где, по словам Терехова, в Военно-судной части находилось дело на Фюрстенберга, Герца и других лиц? Ничего подобного. Да, он принимает экстренные меры — шлет гонца в Могилев с депешей прокурору окружного суда. В ней требование к следователю немедленно провести повторный допрос Терехова и предъявить ему для опознания фотографию Фюрстенберга, которая прилагалась к депеше. Все это зафиксировано в документе, датированном 25 сентября 1917 года. Не исключено, что с нарочным было отправлено и предупреждение Терехову быть более осмотрительным при повторном допросе. 26 сентября тот, перепугавшись, что наговорил лишнего, неуверенно заявил следователю: „…как мне кажется, на означенной фотографии изображен не тот Яков Фюрстенберг, о котором я говорил в своих показаниях, данных 23–24 сентября…“ Именно вот это — „кажется“ изобличает подлог с повторным допросом. Опытному контрразведчику с таким наметанным глазом очень уж трудно было без должной уверенности удостоверить личность своего агента, которого не видел два года и портрет которого так четко описал на первом допросе. Кстати, сравнивая это подробное описание („худощавый, брюнет… лоб высокий, нос… типичный еврейский, усы черные, подстрижены по-английски, бороду брил, уши крупные, слегка оттопыренные, шея длинная, жилистая, с небольшим кадыком…“) с фотографией, сохранившейся в материалах дела, мне показалось почему-то обратное — это было одно и то же лицо. Хотя на этом не настаиваю. Разве что приведу, на мой взгляд, более веские доказательства александровского подлога. Конечно, бывают и исключения из правил и исключительные совпадения, но чтоб вот так уж… Получается, что в контрразведке имеется на учете два Якова, два Фюрстенберга, оба — сомнительные личности, оба посылаются с агентурными заданиями в один и тот же город и в одно и то же время. Но если бы были такие двойники, сомнительно, чтобы о них не знала контрразведка. Ну а если знала, то показания Терехова, совпадающие во многом со сведениями Бурштейна, заставляют более пристально присмотреться и прислушаться к той травле, которой подвергло большевиков Временное правительство при активной поддержке их политических противников. Они, эти „суперагенты“, тайные пружинки и винтики всевозможных партий, волнений, мятежей, революционных ситуаций, предпринимали скандальные международные сделки, денежную пенку оставляя себе, а скандальную — российскому правительству и противникам, распространяя через бурцевых и алексинских „разоблачительные“ сведения. Они приветствовали Февральскую революцию и арест царской семьи, подталкивая ее к гибели и радуясь удачной затее, чтобы через некоторое время поднять волну протеста против Временного правительства и в защиту „невинных жертв революции — Государя-Императора и Его Детей“. Они, если касалось гласности, лицемерно писали с заглавной буквы и произносили с почтением то, что в сущности осмеивали и продавали, что приговаривали к истреблению. Они оседали во всех комитетах, советах и штабах, где на время воцарялась власть и где появлялась возможность поживиться, что-то узнать, напакостить. Этих „суперагентов“, подобно жестоким и коварным привидениям, можно было встретить в окружении Керенского и Корнилова, Деникина, Колчака и Семенова. Они заправляли политической и пропагандистской работой у Махно и давали советы Троцкому и Котовскому. После „самоликвидации“ они, подобно эсерам, растворившись в большевистских организациях, как до этого разбавляли собой кадетов, меньшевиков, монархистов и прочих, наводнили партийные и советские учреждения. Они, по своей извечной традиции, расшатывали новые устои, готовили новые взрывы, проникнув с этой целью в особо важные органы управления, в правоохранительный и судебный аппарат, брали в свои руки руководство финансами, торговлей, прессой, пытались влиять на армию. Они снова готовились к бунту, пытливо изучая историю и свой прошлый опыт по уничтожению монархии.
История — ковер. Все в ней связано и переплетено. Стоит только потянуть за одну ниточку, как начнут распускаться один за одним в своем последовательном единстве все узоры. Лишь коснешься царской трагедии или кадетского триумфа, как встретишься не только с бунтарскими кознями винаверов, но и с еще более темными и воздействующими на события масонскими затеями кедриных. Вспомним строки из книги „Правда о кадетах“, где довольно осторожно, в кавычках, легким намеком изобличалась эта темная сила. „Обойдем молчанием такие слишком определившиеся и всем хорошо известные фигуры, как „масон“ г. Кедрин, — говорил о ней автор книги Васильев-Гурлянд, в других случаях уж очень многословный, остроумный, едкий, смелый до нахальства, — от которого все требуют каких-то отчетов по городским делам…“.[104]
Признаюсь, что и мне до последнего времени все эти противоречивые разговоры о „жидомасонах“ тоже представлялись главным образом в кавычках, больше надуманными, чем реальными, чаще там, у них, чем здесь, у нас. Но вот около двадцати лет назад, когда я корпел над следственно-судебными делами в Главной военной прокуратуре, мне на глаза попал один любопытный архив, в центре которого находились: Борис Викторович Астромов-Астрошов (он же Кириченко, он же Ватсон) — генеральный секретарь Российского автономного масонства и один из руководителей масонской организации „Великая ложа Астреи“; Вячеслав Викторович Белюстин — член Верховного капитула масонского ордена „Розенкрейцеров“ и гроссмейстер масонского ордена „Розенкрейцеров-махинеистов“. Первый был арестован в июле, а второй — в апреле 1940 года. Причем последний из них сообщил, что еще в предреволюционное время обучался в лицее и входил в существующий при царском дворе масонский орден „Орионийское посвящение“. В него входили наряду с придворной знатью и гвардейскими офицерами члены царской семьи. Ну а сам он являлся сыном сенатора. Серьезное приобщение к масонству у Белюстина началось с увлечения мистикой. Это произошло в 1916 году после знакомства с некоей Аделиной Альфредовной Шлейфер, которая и ввела его в „Русское мистическое общество“. Не прекратил он этого занятия после окончания лицея, работая дезинфектором железнодорожного узла, куда пристроил его дядя, видимо, спасая от фронта. В 1918 году, то ли убегая от Советской власти, то ли по болезни, то ли из-за привязанности к Шлейфер, которая уезжала из Петрограда на юг, Белюстин оказался в Крыму. Так он попал в апреле 1920 года в „белое деникинское правительство, сменившее врангелевское“. Служил переводчиком в министерстве финансов и торговли. У Деникина он познакомился „на почве мистики“ с английским офицером, носившим русскую фамилию, Брюхатовым. Тот был разведчиком и расширял свою агентуру за счет офицеров и сотрудников „белого правительства“, тоже потерявших чувство реальности и долга, как и Белюстин, в чрезмерных увлечениях мистикой. Вскоре Белюстин, по его словам, стал осведомителем Брюхатова, снабжая его различной информацией: о разговорах среди сотрудников министерства и знакомых офицеров, о положении белого правительства в Крыму, о настроениях местного населения, об отношении к большевикам окружения Белюстина. В том же 1920 году, когда Крым был освобожден Красной Армией, Белюстин подвергся аресту со стороны новой власти. Но пробыл под арестом десять дней. Продолжая заниматься оккультизмом, он вскоре сходится с видными деятелями русского масонства, членами верховного капитула ордена „Розенкрейцеров“, Шмаковым и Мусатовым, а также с руководителем масонской организации „Эмеш Редевиус“ — Тегером. Даже скудные сведения, имевшиеся в архивном деле Белюстина, позволяли сделать вывод, что общепринятые разговоры о „жидомасонах“ чаще всего наивны и надуманны. Скажем, В.А. Шмаков являлся сыном известного в свое время черносотенца, а сам, кроме увлечения масонством, возглавлял черносотенский студенческий союз. Немец Е.К. Тегер до 1922 года был подданным Германии, в 1937 году подвергся аресту и осуждению на пять лет за активную фашистскую пропаганду в нашей стране. Пусть и не все, что содержалось в материалах дела, соответствовало действительности, но все же — какое уж тут „жидомасонство“?
В 1924 году эмигрировал из СССР Мусатов, год спустя — Шмаков, и Белюстин, к тому времени вошедший в капитул (руководство) ордена „Розенкрейцеров“ и утвердившийся в нем, занял ведущее положение в ордене.
Об этой таинственной организации в доступной для широкого читателя справочной литературе можно прочитать, что „розенкрейцеры“ — члены тайных, преимущественно религиозно-мистических обществ, распространившихся в XVII–XVIII веках в Германии, Нидерландах и других странах, в том числе и в России. Бытует несколько версий об истории их названия. Так, по одной из них, в конце Средних веков проживал некий Христиан Розен-кранц, который и дал название основанной им организации. По другой — все дело в эмблеме, на которой изображены роза и крест. Белюстин, к примеру, придерживался второй версии. В 1926 году он создал и возглавил новый орден „Розенкрейцеров-махинеистов“. Спустя семь лет все его члены были арестованы. Из показаний некоторых обвиняемых можно почерпнуть определенные сведения о сущности этой организации. Одна из ее участниц, арестованная Беринг: „В мире существуют две враждебные, диаметрально противоположные силы: светлая и темная. Светлая — добро, темная — зло. В астральном плане светлая сила, к которой принадлежит орден „Розенкрейцеров“, ведет борьбу с темной силой, каковой в данное время является Советская власть“. Акулова — „духовная сестра“ Беринг: „Орден является сторонником монархии. Острие своей борьбы он направляет против Советской власти, против марксизма“. Второй арест Белюстина длился два месяца и несколько дней, третий — еще дольше. Приговором закрытого судебного заседания от 22 апреля 1941 года Белюстин был осужден к лишению свободы в исправительно-трудовом лагере сроком на десять лет.
К несколько меньшему сроку, к восьми годам, был осужден Астромов-Кириченко. Но в совокупности ему пришлось дольше отбывать наказание, чем Белюстину. Он до этого тоже дважды подвергался аресту, но отделывался не короткой отсидкой, а более строгим наказанием: первый раз тремя годами заключения в исправительно-трудовом лагере, второй — ссылкой в Сибирь на такой же срок. К моменту третьего ареста Астромову было 57 лет. Родился и воспитывался он в небогатой дворянской семье. Отец умер в 1925 году, а до этого лет пятнадцать являлся ревизором станционного счетоводства в городе Камышине. „Воспитание получил патриархальное, так что в начале был верующим христианином, — сообщал о себе Астромов в одной из своих автобиографий (в его личном архиве их оказалось несколько), написанной 3 февраля 1926 года. — Но когда в гимназии священник сообщил педагогическому совету, что один ученик признался ему на исповеди в краже книги из гимназ<ической> библиотеки и того исключили, я перестал быть верующим…“ Это очень существенное признание для понятия, хотя бы поверхностного, сути масонства. Ведь у многих сложилось представление, что это сугубо религиозное течение. В действительности же это далеко не так. Не признавая официальной церкви, масоны чтили бога как „великого архитектора вселенной“, вводили в свое учение и в ритуал элементы христианства, иудаизма и других религий. Ну а генеральный секретарь „Российского автономного масонства“ (РАМ), как видим, был даже атеистом. Подобные факты дают основание предполагать, что масонские организации являлись тайной политической силой, влиявшей не только на сознание людей, но и на общественную жизнь и ее переустройство. Астромов, правда, оспаривал такие выводы. На суде он утверждал, что русские масоны не ставили своей задачей завоевание политической власти в государстве. „С западным политиканствующим масонством, которое ставит на повестку дня завоевание политической власти в государстве, мы связаны не были“, — настаивал руководитель РАМа. Именно история этой загадочной фирмы, а точнее, ее рукописный вариант, написанный Астромовым, вынуждает засомневаться в правдивости его слов. В упомянутом документе отмечалось: „…я всегда интересовался метафизикой и мистикой. Будучи студентом Туринского университета (Италия), в 1909 году вступил в масонскую ложу „Конкордия“, принадлежавшую к Великому Востоку Италии. Моим руководителем был инженер Джамутини. Был посвящен в степень „ученика“ и „товарища-подмастерья“. Из итальянских масонов знал, кроме того, профессора университета Ахилла Лориа и директора того же университета командатора Джиованни Горрини. Они оба изучали русский язык, и на этой почве я с ними сначала познакомился. По приезде в 1909–1910 годах в Петербург и поступлении в Государственный банк помощником делопроизводителя III разряда в Судебный отдел, я с масонством потерял связи. Хотя в это время я много читал оккультной литературы. В это время в Петербурге было два издательства — „Новый человек“ и „Изида“, где выходило много магической и ок<культной> литературы. Так продолжалось до 1917 года, когда на ускоренных курсах быв<шего> пажеского корпуса я познакомился с его преподавателем магистром чистой математики Григорием Оттоновичем Мебосом (Г.О.М.) — автором единственной на русском языке Энциклопедии оккультизма и генеральным секретарем русского автономного ордена мартинистов (РОМ)… Во главе <ордена>, подчиненного д<окто>-ру Папюсу, то есть Парижу, стоял Казначеев (Москва). Я вступил в орден мартинистов. В 1920 году был исключен из ордена мартинистов; официально за „энволютивную жизнь“, а фактически — за проявление непослушания в отношении заместительницы Г.О.М., его тогдашней жены, Марии Альфредовны Эрлянгер-Нестеровой. Работая в это время в жел<езно>-дорожном отделе Госбанка, я познакомился с работавшим там же бывш<им> директором гостеатров В.А. Теляковским, который оказался членом „Великой ложи Астреи“. Он перед своей смертью посвятил меня в 18-ю степень. Выйдя из мартинизма, я часть мартинистов перетянул в масонство и образовал в Ленинграде[105] три масонские ложи, подчиненные „Великой ложе Астреи“, — „Кубического камня“, „Дельфины“ и „Пылающего льва“. Кроме того, предполагалась к открытию женская подчиненная ложа „Золотой колосс“… Но это так, из области предположения, так как женские ложи обычно комплектуются из жен и дочерей масонов, а таковых у нас оказалось мало. В Москве была основана под руководством бывш<его> мартиниста СВ. Полисадова — заместителя генерального секретаря РАМа по Москве ложа „Гармония“…“
Здесь, конечно, больше автобиографических подробностей, но в очерке по идеологии „Русского автономного масонства“, принадлежавшем перу того же Астромова, содержатся общие положения, программа и методы борьбы за достижение поставленных целей. Об одном из методов стоит сказать особо строками из очерка: „Буква Т, помещенная в пятиконечной звезде (пентаграмме), означает плодотворный труд, терпение, сопутствующее труду, а иногда и террор против врагов, когда приходится бороться за осуществление своих пяти заповедей“. Так что благости у масонов тоже не приходилось занимать, да и понятие орден присуще, как правило, воинствующим сообществам.
Сомнительна истинность и всех „пяти заповедей“ масонства для каждого из его членов, поскольку в разное время их исповедовали совершенно разные люди: Александр Радищев, Михаил Ломоносов, Павел Пестель, Петр I, — разве могли все они объединиться в единой борьбе за звание „гражданина мира“, за равенство в воспитании и образовании, за добровольный отказ от всяческих привилегий, за бесклассовое общество и братство всех народов, за уничтожение эксплуатации человека человеком? Фарисейства и лицемерия у масонов было, пожалуй, не меньше, чем у кадетов, бундовцев, эсеров. Привлекательные лозунги этой организации использовались различными политиками и политиканами для того же, что и другие обманные призывы, — борьбы за власть… с властью. Впрочем, масонство объединяло в себе различные политические группировки и течения, в том числе и вышеперечисленные.
Исследование очерка Астромова дает повод для размышлений отнюдь не в пользу масонства. Действительно, среди русских людей, входивших в эту организацию, было немало честных, энергичных, отчаянных до неистовства деятелей. Взять того же Михаилу Ломоносова, страстно жаждавшего образования для всех крестьянских детей и, кто знает, быть может, надеявшегося с помощью „братьев“-масонов, ратовавших на словах за уничтожение привилегий и сословий, добиться осуществления этой мечты. Заслуживает безусловного уважения Александр Радищев, сотворивший великий гражданский подвиг в соответствии с клятвой, которую давал духовному братству. Но вот Петр І. Насколько значительный, настолько и жестокий монарх. Правда, иногда мы совершаем великую ошибку, пытаясь оценивать поступки исторических лиц с позиций нынешнего дня, соизмерять их психологию, мораль, нравы со всеми современными обычаями и установками, накладывать наши условия и законы на обстоятельства и требования тех дней. То было другое время. Там была иная жизнь. И все же как-то уж очень затруднительно говорить о нравственности, а тем более высокой, относительно многих деяний Петра І, на словах исповедовавшего масонские заповеди. Если взять только одну заповедь — о привилегиях. Да, „Великий“ вел здесь борьбу, но не за их ликвидацию, а за утверждение, и в первую очередь — царских привилегий, и в первую очередь — на власть. В этой жестокой борьбе он не щадил ни чужих, ни своих. В этой борьбе он стал, по сути дела, сыноубийцей. Ему мы, так уж выходит, прощаем этот страшный грех — мучения, пытки и казнь сына, наследника Алексея Петровича, что не только прервало династическую романовскую линию, не только привело на трон далекую от государственных дел чужеземку, но и ввергло Россию в долгую, тяжелую правительственную смуту. В нем-то, Петре Великом, и других ему подобных „жрецах“ благородной бескорыстной альтруистки Астреи, богини справедливости и мудрости, в их нравственной непоследовательности (а может — безнравственной последовательности!) и заложена сермяжная ложь святой масонской ложи. Верхушке тайного ордена ничто не мешало совмещать призывы к равноправию с жестокими повадками крепостников-помещиков, заводовладельцев, банкиров и просто богатых бездельников, паразитирующих на чужой вере и на чужом труде.
„Масон — значит каменщик, — писал Астромов. — Хотя, чтобы отличить строителей готических храмов и замков (имевших право выходить за городскую стену и свободно переходить из города в город) от обыкновенных каменщиков и штукатуров, на всю жизнь привязанных к родному городу, правильно говорить не масон (каменщик), а франкмасон (свободный, вольный каменщик)“. По его словам, в качестве руководящих материалов для размышления и практической воспитательной работы масонам служили сочинения немецкого сапожника Якова Бёме из шестнадцатого века, а также французов Клода де Сен Мартена и Клода де Сен Симона из века восемнадцатого. Но простоватые вид и манеры „каменщика“-кузнеца и „сапожника“-корабелыцика Петра І не делали его справедливым и великодушным каждый раз, когда дело касалось „вотчинных“ проблем, когда кто-нибудь угрожал великодержавным интересам и монаршей собственности. В подобных случаях необузданный гнев в царской душе незамедлительно побеждал масонские разглагольствования о равенстве, братстве, праве всякого. Он не нашел в себе милосердия к собственному сыну. Но эту жертву, принесенную Петром Великим на алтарь богопомазанничества, ему если и не ставят в заслугу, то его и не винят за нее. По крайней мере стыдливо замалчивают этот царский грех. По крайней мере не проявляют того напористого усердия, с каким разоблачают большевиков в смерти наследника последнего русского царя — Алексея Николаевича. А ведь „большевистское зло“ менее всего причастно к этой смерти. Большевики не прилетели с другой планеты. Они лишь включились в вековую борьбу за власть на последнем этапе закономерной гибели монархии. Им не пришлось придумывать ни методов, ни средств этой борьбы. Кроме того, внимательный читатель, дотошно вникая в материалы, собранные в свое время разными следователями и включенные в настоящую книгу, сможет увидеть истинных виновников гибели монархии и кончины (или исчезновения) семьи Николая II. Он поймет, какие темные силы приговорили к политической и физической смерти „династию Романовых“ еще задолго до того, как свалили всю вину на большевиков. Тут и самоедствующее княжество, и злобствующие эсеры, и фарисействующие кадеты, и интригующие бундовцы, — все они нередко действовали под личиной революционеров и даже большевиков. Тут и самая таинственная темная сила — масонство, представлявшая собой не просто партию, а надпартию.
„Масонство Франции, Италии… политиканствующее; масс<онст>-во Германии, Англии, России — философско-умозрительное“, — рассуждал в своем дневнике „советский“ масон Астромов. Но в этом же его дневнике приводится довольно любопытный факт о том, как „философствующая и просвещенная монархиня“ Екатерина II, почуяв угрозу своему помазанничеству со стороны „умозрительных философов“, призвала к строгой ответственности гроссмейстера русских масонов графа Мусина-Пушкина-Брюса и потребовала от него взамен на царские милости списки всего тайного братства. Гроссмейстер оказался под стать своему чину хитроумным и, чтобы „спасти кадры“, перечислил не всех участников ордена. За полупредательство он был сослан в глухую деревню. Зато глава московских масонов Н.И. Новиков оказался в подвалах Шлиссельбургской крепости. „Ек<атерина> II, — читаем в дневнике Астромова, — …наведя в Москве „тишь да гладь“ с помощью московского генерал-губернатора Прозоровского, принялась за петербургских „вольтерьянцев“ (так она злобно-иронически называла масонов за их свободолюбие)… Работы в мастерских ложах прекратились, и члены их разбрелись по своим углам, каждый в отдельности, штудируя кто Якова Бёме, кто Мартинеса Депосквалиса, кто Клода Сен-Мартена“.
В русском масонстве наступило „великое молчание“, т. е. прекращение активной деятельности, соблюдение строжайшей конспирации. Нечто подобное произошло спустя 120 лет, когда русские масонские ложи были предупреждены о том, что полиция напала на их след. „Само по себе это было верно, так как приблизительно в это время русское правительство особенно сильно заинтересовалось русским масонством, причем активную роль в этих поисках масонов играл и сам Николай…“.[106] Эта цитата взята из редкой в наше время книги о масонах. Из нее же можно узнать, что информацию о „сверхтайной силе“ для государева уха и ока добыл, как предполагает автор статьи „Русские масоны в начале XX века“ Б.И. Николаевский, известный уже нам Манасевич-Мануйлов. Но я могу высказать и другую вероятность. Получая нужные сведения от своего платного информатора из числа масонов, как сказано в книге, Манасевич, передав по начальству и за приличный куш эти сведения, мог предупредить об опасности и опять же за деньги более высокопоставленное масонствующее лицо. Это уж и не такая большая надуманность. Более того, можно даже, конечно, тоже предположительно, вычислить и конкретное лицо, кому могло адресоваться предупреждение об опасности. В упоминаемой книге в разделе „Заметки для себя“ имеется такая запись: „Перед войной… ложа особая: Великий князь Александр Михайлович, Варвара Овчинникова, Беклемишев“.[107] Но ведь именно первый из них улаживал свои темные спекулятивные делишки через уже известного читателю Манасевича-Мануйлова. Что ж, и вправду наша история — многоузорчатый ковер, в котором одной бесконечной нитью связаны и события, и судьбы.
Видимо, Николаю II не стоило столь утруждать себя в поисках таинственных масонов, а попристальнее оглянуться вокруг себя, поинтересоваться, чем занимается его ближайшая родня. Ну, хотя бы обратить внимание на религиозно-мистический кружок своей супруги, который не только средние слои петербуржцев и москвичей, но и „приличное“ светское общество нарекли „немецким“. Еще более тесную связь с масонством мог иметь спиритический кружок великого князя Николая Николаевича и сестер-„черногорок“ Милицы и Анастасии Николаевных, тоже великих княжон. А ведь если вспомнить откровения Белюстина, то именно с увлечения мистикой он вовлекся в масонство. Он же и утверждал, что в 1916 году вступил в существовавший при царском дворе масонский орден „Орионийское посвящение“, в которое входили „члены царской семьи, придворная знать и гвардейское офицерство“.
Но имеются и откровения-мемуары князя Д.Бебутова, „денежного мешка“ кадетской партии. Вот как он вспоминал об участии в масонстве: „Осенью 1906 года я решил заняться специально организацией масонов в России. Я находил, что это единственная организация, которая, если сумеет твердо основаться, в состоянии будет достичь нужных результатов для России… Масоны были в России давно, но они всегда преследовались, так как правительство боялось упускать из своих рук власть. Александр Первый был сам масон и сам же в конце концов испугался их и предал их. Страх правительства настолько был велик, что при Николае Первом в присягу была введена фраза не принадлежать к масонам. Все декабристы были масоны. И если проследить историю масонов, то становится ясным, масоны представляют силу, с которой правительству приходится считаться“.[108] Здесь называются имена Керенского и известных кадетов — Кедрина и Пергамента. Упоминается князь Урусов, которого кадеты не успели перехватить, и он достался „забавному кадетскому отростку“ — партии демократических реформ. Выплыл здесь кадет-бундовец Маргулиес. Этот список, с которым не все исследователи масонства соглашаются, находит свое продолжение в статье Г. Аронсона „Масоны в русской политике“. В частности, в ней отмечается: „Вот несколько имен из списка масонской элиты, которые на первый взгляд кажутся совершенно не укладывающимися в одну организацию, на деле, однако, тесно связанных между собой на политическом поприще: князь Г.Е. Львов и А.Ф. Керенский, Н.В. Некрасов и Н.С. Чхеидзе, В.А. Маклаков и Е.Д. Кускова, великий князь Николай Михайлович и Н.Д. Соколов, А.И. Коновалов и А.Я. Браудо, М.И. Терещенко и С.Н. Прокопович. Что поражает в этом списке, это буквально людская смесь, в которой так неожиданно сочетаются социалисты разных мастей с миллионерами, представители радикальной и либеральной оппозиции с лицами, занимавшими видные посты на бюрократической лестнице…“.[109]
Что ж, „гремучая смесь лиц“ в масонстве действительно может удивлять. Но теперь нас не так уж должны удивлять при наличии такой вот „смеси“ легкость, с которой великий князь Николай Николаевич согласился убеждать своего племянника отказаться от престола, сговорчивость государева брата Михаила Александровича принять корону после утверждения его помазанничества Учредительным собранием, невероятная карьера безвестного адвоката эсера Керенского, непредсказуемое предательство монархических интересов отца зарубежного „наследника престола“ Кирилла Владимировича и много других „чудес“, подготовивших Февральскую революцию, а вслед за ней и трагедию Николая II.
В названной выше статье Аронсона сообщается, что в 1906–1911 годах в Москве существовала ложа „Астрея“, связанная с именем психиатра Н.Н. Баженова».[110] Но вот «советский» масон Астромов утверждал, что «Великая ложа Астрея» существовала и в 1914 году. Именно в это время он выполнял специальное задание по линии ложи, и его инструктировал от масонской верхушки другой известный ученый-психиатр, в то время директор Психоневрологического института, В.М. Бехтерев. Ему же по возвращении из «командировки» Астромов докладывал о ее результатах. Естественно, что масонские дела решались в строгой тайне, а поэтому Астромову пришлось в поездке выступать под личиной то ли официального представителя российского правительства, то ли нашей разведки. На заседании закрытого суда 22 апреля 1941 года он так рассказывал об этой тройственной по целям командировке, затянувшейся почти на два года: «В 1914 году по заданию министерства иностранных дел бывшей царской России я был в Сербии и Болгарии. Мне поручено было узнать настроение оппозиционных кругов об отношении к войне. Взгляды оппозиционных кругов об отношении к войне я сообщил в министерство».
По сути дела, деятельность масонов не прекращалась и в годы войны. Не утихала она ни после Февральской, ни после Октябрьской революций. Так, Астромов в 1923 году, узнав, что известный «мартинист» Полисадов порвал со своей организацией, выехал из Петрограда в Москву, чтобы перевербовать того в свою ложу «Астрея». Поездку он совместил с пробиванием в итальянском посольстве визы на выезд в Италию. Неизвестно, как завершились переговоры о визе, но Полисадова он уговорил. Кроме того, поручил ему организовать в Москве масонскую ложу. Полисадов это подтвердил: «После посвящения меня Астромовым в 18-ю степень масонства я приступил к организации нелегального филиала масонской ложи „Астрея“. Для этого я привлек двух мне знакомых — Крейзера Петра Михайловича и Кичима Георгия Николаевича, с которым я занимался по оккультизму еще до посвящения меня в масоны. Крейзер и Кичим мое предложение о вступлении в организуемую масонскую ложу под моим руководством приняли. Тогда же я посвятил Крейзера и Кичима в I, II и III степени масонства. Кроме того, ко мне в 1924 году явился с рекомендательным письмом от Астромова о принятии его в масонскую ложу кинорежиссер Васильев Сергей Дмитриевич. В 1925 году я вместе с Астромовым вовлек в ложу профессора Восточной академии Петрова Аркадия Николаевича. Из этих лиц и существовала моя подпольная московская масонская ложа — филиал ложи „Астрея“, которая просуществовала до 6 февраля 1926 года, до момента моего ареста как руководителя этой подпольной организации».
Полисадов также сообщил, что организованная им ложа именовалась «Гармония», которой он руководил под эгидой генерального секретаря «Великой ложи Астреи» и «Российского автономного масонства» Астромова. Ну а тот в свою очередь сделал некоторые уточнения и дополнения. По словам Астромова, из ленинградских лож, куда входили преимущественно лишь лица руководящего масонского состава, наиболее активной являлась ложа «Кубический камень». Он также назвал членов московских и ленинградских лож:
«Клименко Алексей Викторович, оставшийся в ордене мартинистов; Петров Михаил Михайлович, бывший мартинист; Козырев Петр Дмитриевич, бывший мартинист; Остен-Дризен Борис Павлович, мастер-масон; Козловский Алексей Николаевич, мастер-масон; Казанский Петр Сергеевич, мастер-масон; Боровиковский Александр Александрович, мастер-масон; Каневский Александр… мастер-масон; Севастьянов Михаил Мих(айлович), заместитель генерального секретаря РАМа по Ленинграду; Сверчков Константин Георгиевич, мастер-масон; Штакенберг Максим Карлович… мастер-масон, член коллегии защитников; забыл фамилию мартиниста-масона, из-за которого я „поссорился“ с М.А. Эрлянгер-Нестеровой; Кюн Рудольф Моисеевич, мастер-масон; Латынин Борис Николаевич, оставшийся в мартинизме, товарищ-подмастерье; Гредингер-Гвенадзе Василий Федорович, товарищ-подмастерье, масон; Хартон Джон, англичанин, ученик-масон, рекомендовавший мне из СОЧ[111] бывшего ГПУ в Ленинграде Райского; Краснобородов-Рудан, имени и отчества не помню, ученик-масон, привлеченный Кюном; типографский рабочий, ученик-масон, введенный Гредингером; Снопков Петр, художник, ученик-масон, исключенный из масонства за тайную связь с женой масона, своего руководителя Сверчкова…[112] Из них Клименко, Остен-Дризен, Полисадов, Вольский и Севастьянов имели 18-ю степень масонства. Забыл, также и Кюн Рудольф тоже был 18-й степени „рыцарь розенкрейцера“. Кроме того, я посвятил в масонство приезжавшего из Тбилиси в Ленинград моего брата Кириченко-Мартоса Льва Викторовича. Из них при представлении списка масонов в СОЧ бывшей ГПУ в Ленинграде (Райскому) я не упомянул исключенных мною из масонства: Петрова М.М. — инженера, Каневского А.М. — члена коллегии защитников, Боровиковского А.А. — художника-фотографа, с целью дать им возможность избежать репрессии со стороны карательных органов и оставить их в виде кадров, на случай, если взгляд Советской власти на русское автономное масонство изменится и нам будет дана возможность снова собираться и работать».
В этих показаниях дважды упоминается Рудольф Кюн. Как в свое время Астромова направили в Сербию и Болгарию для установления связей с местными масонами, так теперь уже он, глава автономного русского масонства, направил Кюна в США. Причем поставил перед ним конкретную задачу: организовать в Соединенных Штатах «филиал российского сообщества почитателей богини Астреи». В архиве Астромова сохранилась переписка между ними, которая в определенной степени характеризует и отдельных членов «Великой ложи Астреи», а также дает дополнительные сведения о возне, которая велась вокруг царской семьи спустя несколько лет после екатеринбургских событий. Приведу несколько писем.
«Дорогой Борис Викторович!
Только несколько строк пока. Прибыл благополучно, но дела пока неважны. Фурман живет в Гамбурге, и я просто послал ему письмо с просьбой рекомендовать письменно. У них своя банкирская контора, она уже не служит больше двух лет. Липский бегал по три раза в день, пока не получил карточек, а теперь его и не сыщешь. Большой очень барин, а между тем мог бы помочь — у него большие связи в театральном мире.[113] Так попасть очень трудно. Прямо руки опускаются, бегаешь, бегаешь, и все без пользы. Был еще в одном месте, оттуда послали в другое, потом в третье и т. д. В общем, выяснилось, что про нас ничего не известно и дипломы пока не признали.[114]
Сказали, что в прошлом году была конференция всемирная в Женеве, почему не было делегата от нас? Ничего не знают и знать (кажется) не хотят. Делаю все, что могу, но пока без результата. Человек, который мог бы помочь, секретарь старший, уехал в Европу, когда вернется, неизвестно. Наверно, поздно осенью.
Вообще, нужных людей невозможно найти — все на даче или еще где-нибудь. Липский тоже живет на курорте.
Я здесь уже три недели, и пока перспективы очень неважные… люди, которые могли бы сразу помочь, ничего не делают, ибо не признаны пока бумаги…»
«Бруклин, сентябрь 25 — <19>23 г.
Дорогой наставник!
…Главный секретарь сейчас в Европе и только вернется в октябре. А дело в том, что они не то, что не признают, а недоумевают почему нас не было в прошлом году на конвенте. Я все это объяснил, что вообще в первый раз слышал. Хорошо бы выслать мне кой-какие документы, чтобы доказать, что мы регулярные и вообще подробнее, — я не могу многого сказать.
Что касается продажи документов П.А.,[115] то эти господа, которые этим торгуют, не разговаривают без оригиналов и цены… Здесь недавно продали за большие деньги документы Е<Катерины> Великой.
Так что, если хотите, перешлите документы и укажите крайнюю цену…»
«Бруклин, окт. 26 — 1923 г.
Дорогой Борис Викторович!
Получил Вашу открытку от 23.IX и благодарю за добрые слова…
Продать редкости здесь можно, только имея на руках оригиналы.
Главный секретарь только прошлый день вернулся из турне по Европе, и я его сегодня видел. Буду участвовать в исторической конференции в понедельник, результаты тогда сообщу…
Было бы хорошо, если бы Вы мне выслали всю историю Вашей фирмы[116] с года основания и подробно описали работу, которую раньше делали, сколько отделений, служащих и пр., вообще вкратце всю статистику. Это было бы здесь весьма полезно, чтобы завязать сношения…
Пишите чаще и сообщите, можно ли развивать дело, если вложить капитал…»
«Бруклин, ноября 10 — 1923 г.
Дорогой Борис Викторович!
Посылаю Вам еще вырезки из газет, из коих ясно, какую роль играл здесь Липский — альфонс, выудил у жены за 1 год свыше 33 000, — а теперь, оказывается, что Вашингтон не признает его титула.[117] В общем, Вам вся его история будет явна из газет…
Затем здесь еще одно интересное дело: одна американская танцовщица Вера Олькот претендует, что она жена князя Алексея Константиновича Зарнекау — второго кузена бывшего царя (а я в первый раз слышу эту фамилию). Будто бы он женился на ней тайно, когда она была в Петрограде танцовщицей в Мариинском театре. Познакомилась с ним в Париже. Одновременно — с вел. князем Борисом. Года она не дает, это тоже дело в газетах. Она говорит, что А.К. Зарнекау — сын принца Константина Ольденбургского и внук принца Петра Фредериковича Ольденбургского, женатого на вел. княгине Екатерине — сестре Николая I. Мать же его — урожденная Агриппина Джапаридзе из княжеского дома на Кавказе.
А мое мнение, что она все врет, что-то я никогда не слышал про князей Зарнекау. И почему, раз он сын Ольденбургского, так его фамилия иначе?
Буду очень благодарен, если Вы тоже подробно узнаете и мне сообщите поскорее. Буду с нетерпением ждать от Вас известий, ибо это мне может здесь пригодиться…»
«Бруклин, янв. 7 — <19>24 г.
Дорогой Борис Викторович!
…Что касается Липского, то он, кажется, удрал в Германию с сестрой своей жены, но я не уверен. Если найду его, то, конечно, последую Вашему совету.
Большое спасибо за Веру Окольт… Оказывается, она действительно была его жена, князя А.К. Зарнекау. Хотя еще одна женщина претендует на честь быть его женой. Весь материал я собрал и при случае вышлю Вам для истории.[118]
По получении Вашего письма я тот час же обратился опять к секретарю. Он был очень любезен, но опять направил меня к главному историку. Я пошел к нему, он тоже был любезен и не так уж категорически отрицал все факты. Он как раз готовил доклад о Европе, куда он ездит каждый год и показал мне все материалы. По их сведениям выходит, что по закрытии дел, все бумаги и чарта[119] были вывезены в Финляндию председателем, но все потом куда-то пропало. Об этом есть памфлет на финском языке. Он говорит, что в моем дипломе[120] слишком много ерунды, которой теперь больше нет на свете. Все, что они хотят видеть, — это фотографию с учредительной чарты, на основании которой институт существовал. Когда они это получат, то снесутся с учреждением, выдавшим его, и если он не был аннулирован, то я буду утвержден. В противном случае мне придется начать все снова учить. Так что судите сами и поступайте наиболее разумно.
Дискредитировать я себя не мог, ибо говорю мало, а слушаю много и к тому же много читаю литературы по этому предмету на английском языке. Я им предложил проехать в этом году и заехать, ведь они все равно каждый год ездят по Европе, но они пока не решились. Может быть, потом, когда у меня будут фотографии, я смогу иначе говорить с ними…
Жду от Вас известий с нетерпением, а также фотографии документов и чарты…»
«Января 31 — 1924 г.
Дорогой Борис Викторович!
Прошлый день получил 4 диплома… Думаю, они принесут пользу нам всем. Вчера говорил опять с историком здешнего факультета. Он, шельма, очень образованный и недаром историк. Очень трудно его убедить. Все эти дипломы — все на то, хотя они еще будут рассматриваться в заседании консилиума. Он говорит: почему — 1) шотландский стиль; 2) египетский рисунок; 3) еврейские подписи… Должно быть не больше трех факультетов. И много, много еще ерунды, которой здесь больше нет давным-давно.
Он требует дату, кем, когда утверждена чарта. Эти сведения должны быть представлены, иначе не выйдет с моим признанием и Вашим также.
Они говорят: таких обманщиков много на свете, почитали немного и лезут в ученые…
Липский сбежал в Германию, как увидите из газетных статей. Он очень некрасиво поступил со всеми своими женами и теперь бросил ребенка. Думаю, ограбит и бросит теперешнюю. Вообще он создал себе здесь скверную репутацию, и газеты вели агитацию против таких иностранцев в передовицах и карикатурах…»
«Бруклин, марта 15 — 1925 г.
…Фотографии получил в хорошем виде, но никому не покажу, пока доктор не приедет. Буду весьма рад видеть его лично, и тогда, уверен, все пойдет на лад…
В общем, положение все такое же, разве что я недавно переменил службу и теперь заведую хорошим театром в Бруклине…»
Глава РАМа Астромов искал поддержки не только за рубежом, но и внутри страны, причем во влиятельных органах. Как его предшественники пытались иметь своих сторонников и агентов в департаменте полиции и в близком окружении царя, так и он стремился наладить контакты, с видными деятелями, проникнуть в органы НКВД. Более того, он сам являлся осведомителем НКВД и написал для этого органа вариант истории «Русского автономного масонства». В этой рукописи, датированной 13 октября 1939 года, есть такие строки: «Из наших современников масоны — Вал. Брюсов, Анат. Луначарский, Ник. Ал. Морозов-Шлиссельбургский…» Если известному поэту Валерию Яковлевичу Брюсову, умершему в 1924 году, это изобличение уже ничем не угрожало, то для его родного брата Александра Яковлевича, тоже известного, только в другой области — археологии, доктора исторических наук, могли быть неприятности. За шесть лет до астромовского признания не стало и бывшего наркома просвещения, председателя Ученого комитета при ЦИК СССР, одного из организаторов советской системы образования Анатолия Васильевича Луначарского. Но вот знаменитый Николай Александрович Морозов еще здравствовал и трудился. А знаменит он был своей революционной биографией, активным участием в таких народнических кружках, как «Чайковцы», «Земля и воля», «Народная воля», в покушениях на Александра II, более чем двадцатилетней отсидкой в одиночках Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей. Необычайно популярен был в ученых кругах и среди ценителей искусства своими открытиями в химии, физике, астрономии, математике, литературными сочинениями. После Октябрьской революции являлся почетным членом Академии наук СССР.
Называл Астромов среди членов масонских лож и им сочувствующих некоторых работников НКВД. Об этом шла речь, к примеру, на очной ставке между ним, Полисадовым и Белюстиным 9 января 1941 года. Последний, в частности, сообщил, что в 1925 году, когда он, Белюстин, являлся главою московского ордена розенкрейцеров, его посетил Астромов и предложил быть идейным помощником руководителя ложи «Астрея», т. е. Астромова, а также осуществлять идейное руководство ленинградской ложей «Гармония». Год спустя между Астромовым и Белюстиным, по словам последнего, был подписан конкордат (соглашение) «об объединении антисоветских сил — ордена розенкрейцеров и „Великой ложи Астреи“». Вместе с тем у Астромова зрела идея легализовать деятельность масонских лож, с которой он поделился с Полисадовым еще в 1924 году. Позже он составил специальный доклад о масонах для чекистских органов, в котором «тщательно завуалировал ритуальные анахронизмы». Но когда убедился, что эта затея неосуществима, решил объявить о закрытии лож подпольного масонства. Белюстин и Полисадов утверждали вопреки возражениям Астромова, что это был тактический маневр. Первый из троих, к примеру, вспомнил, что в конце 1925 года Астромов сообщил ему о письме в ЦК ВКП(б), написанном им, где речь шла о ложном роспуске масонских лож и лояльности масонства к Советской власти. Этого, по словам Белюстина, не было, так как «масонские ложи продолжали существовать, и антисоветская работа не прекращалась, наоборот, она усилилась». Это же подтвердил Полисадов. Он рассказал о собрании ложи «Астрея», проведенном в декабре 1925 года Астромовым в Ленинграде, на котором, в соответствии с заявлениями Полисадова, был составлен протокол о закрытии лож. Копию этого протокола Полисадов, который тоже являлся нештатным сотрудником чекистского органа Ленинградской области, представил по инстанции.
«Все это было проделано, — рассказывал Полисадов на очной ставке, — в целях показа органам ОГПУ, что мы якобы отошли от своей преступной деятельности. На самом же деле это был обман, так как Астромов к этому времени уже имел новый орден „Изотерика“. Туда и перешли основные кадры членов бывших масонских лож. Я сам перешел к этому времени в орден Белюстина, а мои ученики по ложе „Гармония“ продолжали поддерживать со мной связь, переведя ее на чисто житейскую основу. Встречи организовывались просто как „встречи хороших знакомых“». Изобличенный Полисадовым, Белюстиным, а также собственными записями, извлеченными из его дневника, Астромов вынужден был признать, что и после уведомления ЦК ВКП(б) и органов НКВД о роспуске масонских лож последние функционировали. «Проводили занятия с учениками, — уточнил он, — но практической работы не вели». Признал он за факт и то, что поучал Полисадова проникнуть в органы. Это признание прозвучало так: «Действительно, я с Полисадовым в свой приезд в Москву в 1924 году у него на квартире вел разговор о том, что, возможно, я или он будем вызваны в органы ОГПУ, где нам могут предложить… сотрудничество. Тогда от такого предложения отказываться ни в коем случае не следует, так как тогда мы легче сможем доказывать отсутствие у нас контрреволюционности». Белюстин в свою очередь подтвердил подобное поучение Астромова, переданное Полисадовым. «Полисадов сказал мне, — показывал Белюстин, — что считает целесообразным и полезным нахождение своих людей (т. е. вообще мистиков и масонов) среди… сотрудников… ОГПУ, дабы быть в курсе текущих мистических дел и отводить направление на сочленов подпольных мистических организаций удара путем сокрытия истинной деятельности таких лиц, т. е. деятельности, направленной против Советской власти. Такие же соображения высказывал мне и Астромов по этому вопросу в наше свидание с ним в Ленинграде в январе 1926 года».
Здесь уже упоминалось о дневнике Астромова. Хотя автор и отнесся «скептически» к своим записям шестнадцатилетний давности, охарактеризовав их как выдумки, все же выдержки из этого дневника, изъятого у Астромова при его аресте 10 июля 1940 года, представляют определенный интерес для понимания механизма управления мировыми процессами. Приведу некоторые из них.
«…Несколько раз получил от Джеллы в письме из Турина вырезки из газет — карикатуры на итальянское масонство. Некоторые были остроумны. Муссолини, став у власти, принялся уничтожать ложи… Даже архивы сжигал. Спасли их от окончательного разгрома американцы-туристы, пригрозившие через посла, что Америка не даст ему займа.
Узнав о преследовании масонов, я стал размышлять, не отразится ли это рикошетом как-нибудь и на нас. Обычно действия наших антиподов вызывали соответствующие мероприятия и у нас. (После убийства в Варшаве Войкова у нас появился „войковский набор“ поляков и т. д.) На всякий случай необходимо принять меры, и вот в 1925 году Вел… Астрея объявила gross Silanum, т. е. прекращение всех работ и закрытие лож РАМа.
До сих пор наши отношения с властью были довольно дружественные. Петрогубчека, призвав наших руководителей и побеседовав с ними, выяснила, что наша организация стояла и стоит в стороне от политики и занимается философскими вопросами человеческого самоусовершенствования и перевоспитания… Следователь… Владимиров еще до революции был знаком с деятельностью „Российского автоном. м-ва“. Поэтому, расспросив и заслушав доклад Владимирова, председатель Петрогубчека Комаров махнул добродушно рукой… Нам даже удалось достать за его подписью и подписью нач. СОЧ Озолина охранную грамоту на помещение нашей ложи Астреи и ложи Аполло… ордена мартинистов, освобождающую нас от очередных обысков. Копия охран, грамоты „Вел. ложи Астреи“ (на Михайловской пл.) хранилась у нашего председателя домкома Ларионова, где был дан тел<ефон> уполномоченного чека по борьбе с лев<ыми> партиями, к которому и надлежало обращаться.
Перестройка чека в ГПУ не вызвала оживления наших отношений — наоборот, они прекратились…
В таком неопределнном положении нас застал 1924/25 г. Весной 1925 года я получил из Москвы от штульбрудера (председательств. мастер) ложи „Гармония“ Абельсара письмо, где он пишет, что его вызвали в „высокий дом под часами“ на Лубянке и интересовались его деятельностью. Кроме того, ему сказали, когда я буду в Москве, они не прочь пригласить меня „на чашку чая“ и побеседовать. В этом я видел скрытое приглашение, а потому, собравши кое-какой фактический и идеологический материал, весной поехал в Москву.
Зная историю м-ва и помня, каким гонениям оно подвергалось при Екатерине II и Николае I, мы приняли некоторые меры предосторожности, чтобы на всякий случай сохранить кадры нетронутыми…
Приняли нас чл<ены> кол<легии> ГПУ Агранов и нач. СОЧ Генкин…
Свидание было довольно коротким. Они куда-то спешили. Взяли материалы, обещали посмотреть их и просили дней через 7—10 созвониться о следующем свидании. На 8-й день А<бельсар> созвонился, и нас просили прийти в конце присутствия на след. день. Собрание было в том же составе, если не считать секретаря нач. СОЧ Ашухина и глухонемого, который острыми глазами следил за движением наших губ…
— Почему бы вам официально не зарегистрироваться и не открыть ложи? — спросил, прощаясь, Генкин.
— Это значит превратиться в клуб, в политиканствующее французское и итальянское мас-во. Или чтобы сказали — это филиал ГПУ? К нам никто не пойдет, — ответил я.
…Мне предложили сделаться консультантом по мас-ву и оккультизму и связали известными обязательствами. Я согласился, т. к. сказал, не имею права не помочь своими знаниями там, где неправильное освещение и недостаток эрудиции могут принести большое зло.
Потом, встречаясь с Ашухиным, слышал от него:
— Какие у вас „философические“ головы! Я читаю посветит<ельскую> тетрадь, и череп раскалывается — не могу понять ваших темных символов. А интересно!
— Ишь, чего захотел! Сразу понять мастерскую степень!.. Ни одну науку нельзя изучать со средины. Надо сначала пройти степень ученика и подмастерья… Ведь есть неполноценные масоны, которые всю жизнь остаются в 3-й степени.
Уговорившись с Аб<ельсаром> о разных технических вопросах, я, после месячного пребывания в Москве, возвратился в Лен<инград>.
Утром… мне… был предъявлен ордер Лен. ГПУ на право моего ареста… Мне невольно вспомнилась эпиграмма Карла Радека на ОГПУ. Если читать… слева направо, получается: „О Г — осподи, П — омоги У — бежать“, а справа налево: „У — бежишь, П — оймают, Г — олову О — торвут“. Предсказание не оч. приятное. Лучше не бежать!.. Я успел даже вздремнуть на одном из диванов, когда явился Курс (уполномоченный, арестовавший меня) и с любезной улыбкой заявил, что Москва приказала освободить меня…
Я ног под собой не чувствовал, когда выбирался из ДПЗ…[121]
Дня через 2 позвонил по автомату в ГПУ и, назвав себя, спросил, когда и где я могу видеть нач. Лен. отдела… Проведя в свой кабинет и усадив в удобное мягкое кресло, хозяин сел против меня…
— …Я пришел к вам… с целью показать вам, что в нашей организации нет ничего контрреволюционного.
— Каким образом?..
— …Предлагаю вам отобрать наиболее проверенных интеллектуально подходящих лиц, и я их направлю в 2 ленинградские и 1 московскую ложи, где, хотя работы сейчас приостановлены, занятия с учениками ведутся. Никто, кроме меня, не будет знать, что они командированы вами.
— И они должны будут проходить все искусы! — с комическим ужасом воскликнул хозяин. — И испытания огнем, водой, землей и воздухом!
— Теперь это делается большей частью символически, — успокоил я. — Но, например, президент США Рузвельт, когда посвящался в Париже, должен был километров 10 проплыть по сточной канализации, пока его не встретили и не отмыли. Период ученичества бывает во всяком ремесле. Но сразу нельзя сделаться генералом….[122]
В такой мирной беседе мы провели больше часа. Вижу, мой собеседник утомлен… Поэтому я поспешил с ним проститься. На прощанье он просил меня через неск. дней зайти к его помощнику Райскому и предупредил, что там я должен искать Лихтермана…
Райский оказался полной противоположностью своему шефу. Насколько тот был спокоен, настолько этот был весь в движении. Сказывалась южная кровь. Он с интересом расспрашивал меня о масонской идеологии, об отношении мас-ва к семитам.
— Антисемитизм, — сказал я, — есть проверка данной организации на контрреволюционность. Как можно говорить об антисемитизме масонства, если членами его могут быть евреи.
И я ему назвал 2 из наших членов. Попутно он пожелал иметь списки наших членов. История повторяется. Екатерина II потребовала списки масонов от гроссмейстера графа Мусина-Пушкина-Брюс. Я, конечно, обещал. И подобно Мусину-Пушкину, чтобы сохранить кадры, в случае возможного преследования, я не всех членов перечислил… Благодаря Gross Silanum ложи были закрыты на неопределенное время, а вне их могли быть только свидания учителя-мастера с отдельными учениками. Ученики из ГПУ поступали туго — очевидно, трудно было подобрать подходящий элемент для философски-умозрительных занятий. За лето 1925 года у меня было 3 ученика оттуда да столько же я рекомендовал Абельсару.
„У вас всю политику направляет Коминтерн“, — упрекнул как-то нашего полпреда А.Б. Красина французский премьер-министр Аристид Бриан. „Нет, у нас есть ВКП(б), а вот у вас всякое решение, прежде чем быть принятым составом министров, обсуждается масонами“, — парировал Красин… Масонов потому назвал, что если бы масонский конвент в Лондоне в июне 1914 года не постановил сражаться с Германией, война не была бы объявлена (см. мемуары генерала Людендорфа)…»
Вот такая эта загадочная темная сила. Вот такая могучая надпартия. Перед ней отступает несговорчивый в других случаях итальянский фашистский диктатор. Она дает разрешение и представляет возможности на политическое или вооруженное вторжение в пределы какой-либо страны для «помощи, улучшения обстановки, исправления ошибок, наказания». Масоны решали, быть или не быть Первой мировой войне и в каких сочетаниях должны столкнуться между собой враждующие группировки. По их сценарию проходили Февральская революция и упразднение монархии в России.
Поначалу, как считают некоторые исследователи масонства, ядро этой темной силы вынашивало идею очередного дворцового переворота и заговора. Оставаясь в тени, они всюду провоцировали разговоры на эту тему. «Кто только тогда не говорил о дворцовом заговоре, о планах отстранения царя! — писал Аронсон. — Кулуары всяких съездов, не меньше чем кулуары Государственной Думы, были полны разнообразных слухов этого рода. Известно было о совещании великих князей (их собралось 16) с целью побудить Николая Второго решительно переменить политику, об интервенции великого князя Николая Михайловича в этом направлении. Мемуаристы рассказывают о миссии тифлисского городского головы Хатисова, беседовавшего с великим князем Николаем Николаевичем о необходимости низвержения царя. А Родзянко передает, что великая княгиня Мария Николаевна столь откровенно в беседе с ним высказалась по этому вопросу, что он просил считать этот разговор „несуществующим“… Как известно, с заговором, с планом дворцового переворота в разных его вариантах, опоздали…».[123]
Аронсон даже сообщает время устранения Николая II от престола. Это якобы должно было произойти в январе — феврале 1917 года после убийства Распутина. Он, ссылаясь на другого исследователя масонства, Мельгунова, называет и организаторов заговора — находившуюся «в прямой связи с масонским центром» тройку в составе Гучкова, Некрасова и Терещенко, причем два последних «были руководящими членами масонской организации». Но заговорщики не успели осуществить свой план, поскольку их упредила революция. Думается, это спорный вывод. Похоже, судя по последующим событиям, а также принимая во внимание, что именно эта тройка вошла в будущее Временное правительство, разговоры о заговоре, подогреваемые везде и повсюду, — это был отвлекающий маневр или, в крайнем случае, запасной вариант. Основная ставка делалась именно на революционную ситуацию, которую нельзя было предотвратить. Ее можно было или поддерживать и ускорять, воспользовавшись результатами всенародного взрыва, или быть сметенными этой неудержимой волной, что случилось с Николаем II и его семьей. Ведь существует множество сведений о «составах кабинета министров», которые формировались взамен царских задолго до февральских событий. К примеру, Е.Д. Кускова в своем письме рассказывает о том, что 6 апреля 1916 года в ее квартире в Москве было созвано совещание представителей разных партий, которое занималось составлением списка членов будущего правительства России. Милюков подобное обсуждение соотносит с еще более ранней датой. Он «в своих мемуарах приводит список членов будущего правительства, — отмечает Аронсон, — составленный на квартире П. Рябушинского еще 13 августа 1915 года».[124]
Не исключено, что именно эта надпартия, которая держала в страхе и повиновении меньшевиков, кадетов, эсеров, бундовцев, внедренных ею впоследствии в советские и большевистские партийные органы, расправилась с Николаем II (приговоренным ею еще раньше к смерти) и другими «Романовыми», чтобы повести массированный «всеевропейский ход» и возвратить, выражаясь словами англичанина Детердинга, Россию «к цивилизации, но с лучшим правительством, нежели царское», чтобы открыть наши границы для всех. Ну точь-в-точь лозунги перестроечного времени. Не зря творцов этих лозунгов, достойных продолжателей кадетобундомасонов, ныне в народе метко окрестили, переиначив слово «демократы», — «демокрадами» и «домокрадами». Они, как будто и впрямь следуя масонским заповедям, хотят лишить нас и истинной демократии, основанной на упрочении государственности, законности и порядка, и дома-отечества, и истории.
Трагедия последнего «помазанника божия» многому может научить, если изучать ее не предвзято, не для спекуляции и разжигания страстей, а для жизненного урока.
Часть вторая
ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ, ИЛИ ПРОЦЕСС О ЛЕНИНСКИХ МИЛЛИОНАХ
Не берусь утверждать, что английский нефтяной магнат Детердинг, готовивший в 1925 году новую интервенцию против Советской России по плану «лучшего друга большевиков» немецкого генерала Гофмана (он представлял германскую сторону при подписании в 1918 году Брест-Литовского мирного договора), являлся масоном. Но то, что он по-масонски мечтал «открыть для всех» русские границы, — вполне достоверно. Об этом, как уже сообщалось, Детердинг сам заявил через лондонскую «Морнинг пост» в январе 1926 года. Уж не имел ли он в виду ту обстановку, которая сложилась на наших границах в 1917 году. О ней бывший министр иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков, лидер кадетов, ловко уходивший от масонской темы, рассказал следователю Александрову в октябре того же года следующее: «В момент совершившегося переворота и вступления моего во власть финляндская граница, за полным расстройством ее охраны, была фактически открыта для бесконтрольного проезда, и меры министра иностранных дел, как члена кабинета, могли быть направлены не столько к задержанию отдельных подозрительных и опасных личностей, сколько к восстановлению охраны финляндской границы. Только с момента этого восстановления стало возможно действительно воспрепятствовать въезду в Россию нежелательных лиц».[125]
Кто-кто, а немцы подобную возможность для засылки своих агентов не упускали. Есть много свидетельств о действиях германской разведки в русском тылу, наводнившей своими людьми различные ведомства и учреждения, засылавшей агентов под самыми неожиданными личинами, но делавшей это осторожно, скрытно и профессионально. Так что если где и возникал большой шум, тем более поддерживаемый русской и германской стороной, как это было в «шпионском деле большевиков», то здесь имелся явный расчет, устраивавший обе стороны, здесь была провокация, разведывательными задачами и не пахнущая.
Для примера приведу один эпизод, связанный с разоблачением настоящего немецкого шпиона и мало известный широкому читателю. Он здесь уместен, поскольку тесно переплетается с трагедией царской семьи.[126]
Как правило, разведывательная деятельность усиливается в то время, когда та или иная страна, готовящаяся развязать войну, собирает нужную информацию о предстоящем противнике. Вот и австрийский и германский штабы в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, стремились к всестороннему и глубокому «узнаванию» России. Это не прошло не замеченным для русской контрразведки. Ей через своих людей удалось однажды изъять незаметно паспорт у вызвавшего подозрение австрийского гражданина Евгения Олесницкого. Когда навели справки, кто мог скрываться под этим подложным, как установили, документом, то сразу засомневались в полученной информации. По всему выходило, что это глава униатской церкви митрополит Андрей Шептицкий, имевший свою собственную резиденцию во львовском Святоюрском соборе. Но через некоторое время сомнение развеялось, как исчез и «святой шпион», проявивший завидную изобретательность и резвость. Выяснилось, что он не однажды появлялся в России с разведывательным заданием. Впервые это произошло более двадцати лет до его разоблачения. Тогда он, двадцатитрехлетний родовитый шляхтич, неотразимый в женском обществе улан, наследник графского титула и богатых поместий Роман Шептицкий блистал в петербургских аристократических салонах умом и манерами. Никто и не подозревал, что он, под давлением католической церкви и лично папы Льва XIII, вынужденно вступил в орден базилиан под именем Андрия (Андрея), а в Россию прибыл (пока еще под настоящим именем) с двойным заданием: сбора военной информации в интересах готовящейся к войне с Россией Австрии и прощупывания настроений украинских националистов. В 1900 году Шептицкий был объявлен главой униатской церкви.
В начале сентября 1914 года, когда русские войска очистили от немцев Галичину, Шептицкий был нашей контрразведкой арестован и вывезен из Львова в Россию. Пребывая под постоянным надзором в различных городах, он себя узником все же не чувствовал. Он проживал в шикарных номерах перворазрядных гостиниц и роскошных особняках, имел личного слугу, личного секретаря и личного духовника, на его содержание в год выделялось 4000 рублей, столько же, сколько и на православного епископа (солдат царской армии, которого Шептицкий призывал уничтожать везде и всюду, получал в год 18 рублей!). Более того, он имел возможность поддерживать не только постоянную связь со своей резидентурой во Львове, но и в Вильнюсе, Киеве, Петрограде. Помогали ему в этом давние крепкие связи в аристократических кругах. Он был близок с князьями Оболенскими. Княгиня Наталья Ушакова являлась его тайным агентом в униатских делах. У Шептицкого в российской столице был даже свой экзарх, управлявший делами униатской церкви на территории России, — Леонид Федоров, снабжавший митрополита информацией и военного характера. Так, в архиве Шептицкого сохранилось одно из агентурных сообщений последнего, в котором есть такие строки: «…дело строительства дредноутов и вообще усиление флота продвигается с черепашьей скоростью; в военном министерстве работа идет оживленнее: создаются новые корпуса, расширяется авиационное дело, но основательных реформ нет и там. В Генеральном штабе ведется борьба между старыми заплесневелыми тактиками и молодыми талантливыми офицерами, причем победа склоняется в сторону первых. Во главе военного министерства стоит абсолютный ноль — генерал Сухомлинов, во главе Академии Генерального штаба — полное ничтожество, способное только для гульбы и танцев, генерал Енгаличев. В интендантстве продолжается система воровства и взяточничества. В Министерстве иностранных дел, как говорится, и конь не валялся. Сам Маклаков[127] — ограниченный бюрократ и тупой черносотенец. В Министерстве финансов лучше: Коковцев[128] оставил после себя хорошее наследство, и денег на первый день хватит. Но бедолага не угодил черносотенцам и Гришке[129] — и его попросили в отставку…»
Находясь под арестом и зная, что Ватикан предпринимает усиленные попытки его освобождения, Шептицкий решил «умаслить» Николая II. Он направил русскому царю приветственное письмо, в котором выражал «радость» по поводу «победы русской армии и воссоединения Червонной Руси[130] с Россией», а также в связи с тем, что «трехмиллионное русское население Галичины радостно приветствует русских воинов как своих братьев». Николай II знал истинную цену этой «святой искренности», поскольку прошел всего месяц после того, как глава греко-католиков, прежде чем стать «русским узником», предал анафеме именно тех галичан, которые приветствовали русские войска, видя в них своих освободителей. Вот почему возмущенный таким лицемерием Николай Александрович, хотя и сам страдал подобным недостатком, украсил послание святого отца богопомазаннической убедительной резолюцией: «Аспид!»
И все же, думается, не устоял бы наместник бога на российском троне перед домогательствами наместника бога на папском престоле — освободил бы в конце концов митрополита Шептицкого. Но в очередной раз снова-здорово сработала русская контрразведка, сорвав тем самым переговоры Петрограда с Ватиканом. Ей удалось обнаружить в феврале 1915 года в одной из подвальных стен собора Святого Юра, львовской резиденции Шептицкого, секретный архив митрополита, который изобличал его как давнего и яростного врага России и православия, подтверждал многочисленные наезды в Петроград-Петербург со шпионскими заданиями. Здесь даже имелся разработанный им лично план оккупации Украины, ее прогерманского «государственного устройства», проект учреждения «самостоятельной», «наиболее отдаленной от русской православной» украинской церкви. Здесь было пророчество о том, что «московские святые будут вычеркнуты из календаря», и заветное личное пожелание видеть себя главой униатской послушной паствы от Карпат до Тихого океана.
После Февральской революции эсерствующий масон Керенский, которому, по всей видимости, было все равно, с кем связаться, лишь бы дать отпор своим злейшим врагам — большевикам, нашел в этом деле надежного союзника именно в Шептицком. С помощью Керенского и других министров Временного правительства, с которыми униатский митрополит имел множество бесед, он добился возвращения своего личного архива, а также права на широкую «просветительскую работу» на территории России в интересах греко-католической церкви, ну и, разумеется, германской разведки.
Николаю II же он попытался спустя многие годы отомстить довольно коварным способом, что нашло отражение в одной из редких книг, вышедшей на украинском языке.[131]
В 1930 году Шептицкому его персональная разведка докладывает, что в Варшаве скрывается «одна из дочерей Николая II, спасшаяся от расстрела в Екатеринбурге», — Татьяна. Еще через некоторое время через графиню Марию Собанскую и других своих осведомителей он не только узнает, что «великую княжну» опекает верхушка католической польской церкви и даже сам папский нунций в Польше Мармаджи, что содержится она как простая послушница в варшавском монастыре шариток, но и получает ее фотографию, по которой убеждается, что это — авантюристка.
И все же «царская дочь» ему была нужна, чтобы с ее помощью, быть может, добиться того, о чем мечтал столько лет: быть духовным наставником миллионов послушных душ от Карпат до Тихого океана, а заодно «насолить посмертно» несговорчивому царю, воспользовавшись его именем. Получения опекунства над «великой княжной» Шептицкий добивался в течение нескольких лет. Он соблазнял ее подарками, склоняя на свою сторону; сумев добиться встречи, улещивал рассказами о старой привязанности к безвинно убиенному последнему российскому монарху. От него ее упрятали по повелению кардинала Каковского в закрытый католический монастырь сакраменток. Но он ее и там разыскал, установил через доверенных лиц связь с Лжетатьяной. Только в 1939 году он добился своего — «великая княжна» оказалась в его львовской резиденции.
Но он и виду не подал, что не только подозревает, но и уверен в подлоге. Привечал, оказывал высокое гостеприимство, внимательно, сочувственно кивая головой и сострадая, выслушивал ее печальную историю. Даже не поправил в рассказе явную оговорку: «от расстрела спасли люди из тайной монархической организации „Общество спасения царя и отечества“… в начале апреля 1918 года». Митрополит наверняка знал, что царскую семью якобы расстреляли в ночь на 17 июля, о чем было много публикаций.
Разоблачение произошло спустя почти три года, когда во Львове хозяйничали немцы, находя духовную поддержку у Шептицкого. Тогда-то, в начале 1942 года, появившись там вторично и снова встретившись с митрополитом, «дочь» под настойчивыми расспросами «опекуна» рассказала уже правдивую историю. Никакая она и не Татьяна, и не Романова, а Наталья Меньшова-Радищева. Уговорил ее на лжекняжество ксендз Теофил Скальский, мотивировав тем, что «святая ложь» нужна для «борьбы с безбожной Россией». Эту идею горячо поддержал примас (первый по сану епископ) католической церкви кардинал Каковский. Он же тщательно проинструктировал «царскую дочь», предписав ей старательно изучать жизнь великой княжны Татьяны, придворный этикет и обычаи царской семьи. Под контролем кардинала Лжетатьяна писала дневник от имени Татьяны, а также «историю своего спасения» под диктовку того же наставника. Эту историю выучить и знать должны были не только «героиня», но ее мать и сестра, которые, выступая в роли приютившей высокородную сироту семьи, в нужный момент смогли бы подтвердить и личность, и рассказ «великой княжны». Кроме дневника, ей вменялось в обязанность писать воспоминания, для чего Каковский дал ей в помощь книгу «Последние дни Романовых», а нунций Мармаджи — мемуары фрейлины Вырубовой.
Кардинал Каковский принудил «Татьяну» поехать в Белград для проверки своих возможностей выдавать себя за царскую дочь. Ведь ей предстояло встретиться с югославским королем. Проверка не удалась. Лжетатьяна была изобличена, арестована и выслана в Австрию. Ее похождения даже стали достоянием прессы.
Начало войны оправившаяся от «второго заключения» самозванка встретила в Варшаве. Опекуншей у нее была графиня Собанская, но вскоре эту роль заняла немецкая разведка. Так «царская дочь» стала немецким агентом, получив вещевую кличку — «№ 3». Закончив разведшколу, она внедрилась в варшавское подполье, выдавая оккупантам его членов. По доносам Лжетатьяны было проведено множество арестов и казней, в частности гестапо разгромило монастырь капуцинов, где находилась подпольная типография и скрывались подпольщики.
Шептицкий одобрил новую роль «великой княжны» и благословил ее на дальнейшее служение «освободителю России» — Гитлеру и «защитнице свободы» — Германии. Именно в этом заключалась его «святая месть» последнему русскому «помазаннику божию» — ославить российский царский дом изменой пусть и с помощью подставного лица. Вместе с тем не ослабла мечта использовать Лжетатьяну в своих корыстных целях. Повысить марку своей избранницы Шептицкий решил с помощью находившейся в эмиграции княжеской элиты. Весной 1942 года он написал письмо князю Петру Волконскому, знавшему царскую семью, где описал «злоключения спасшейся царской дочери». Ответ Волконского не оправдал надежд митрополита. Князь настаивал на том, что всю царскую семью, в том числе и царских дочерей, «зверски уничтожили большевики», а Лжетатьяна — «то ли авантюристка, то ли жертва стаи авантюристов». Вполне возможно, что Волконский был действительно осведомлен об истинном лице агента № 3, поскольку дал понять Шептицкому, что «русская эмиграция знает в течение 15 лет» о незаконных притязаниях «самозванки». Но не исключено и иное: объявись в это время даже настоящие дочери Николая II (ведь муссировались слухи и о спасении Анастасии), их эмиграция могла бы не признать. Во-первых, это могло бы мешать сплоченности монархического движения, делавшего ставку на «мужскую династическую линию», а появление дочерей ослабляло бы эту ставку и все движение служило бы поводом «стае авантюристов», как выразился Волконский, для встречных действий, провокаций, шантажа. Во-вторых, и это главное, монархически настроенной эмиграции выгоднее было поддерживать уже громко озвученную версию о расстреле царской семьи «кровожадными большевиками», которых нужно извести всех под корень. Вот почему можно утверждать, что даже объявившаяся вдруг настоящая царская дочь не смогла бы поколебать их «веры» в эту «единственную для родины» версию. Вот почему они столь решительно отвергли Лжетатьяну, даже скорее всего без должной проверки законности ее притязаний.
Шептицкий был заражен антибольшевизмом в не меньшей степени, чем монархисты, кадеты, эсеры, фашисты, а также объединяющие все эти силы масоны — словом, все, вместе взятые. И все же интересы католической церкви, которые он давно подчинил личным интересам, на данном этапе в его сознании котировались выше. Большевики, по его мнению, получат свое, то есть вскорости будут разбиты Гитлером. Волей-неволей возникнет вопрос о новом монархе для России, пусть и германизированном. А у Шептицкого готовый «законный кандидат на престол». И кто его сберег для России? Греко-католическая церковь в лице ее главы. Раз так, то она имеет полное право стать взамен церкви православной повелительницей российских душ, а Шептицкий — пастырем «от Карпат до Тихого океана».
Имея заслуги не только перед австрийским и германским времен кайзера, но и гитлеровским генеральными штабами, Шептицкому удалось установить единоличную опеку над агентом № 3. Он внимательно знакомится с ее «воспоминаниями» и «дневником», решительно отвергнув их. На его взгляд, они не столько служат доказательством великокняжеского титула Лжетатьяны, сколько разоблачают ее самозванство. Он ставит задачу создавать новые мемуарные фальшивки, беря это творчество под свой контроль, тщательно редактируя каждую фразу. Чтобы с наибольшей достоверностью соблюсти «царский стиль и слог», самолично изучил соответствующую литературу русских монархистов, подчеркивая в них нужные места и обращая на наиболее ценные строки внимание своей подопечной. Подготовка «царской дочки» к царскому мышлению проходила в святой келье собора Святого Юра до февраля 1943 года. Когда же опытный глаз и ум митрополита-«шпиона» признали дневники и воспоминания «Татьяны» почти равноценными по достоверности первозданным, Шептицкий переселяет свою (теперь уже свою!) приемную дочь с «царской родословной» в женский монастырь сестер-василианок (село Подмихайловцы, Станиславская обл.) и постригает в послушницы этого монастыря под именем «сестры Таисии». Этим актом глава греко-католической церкви утверждает «святое» право не только Лжетатьяны на российский престол, но и всей униатской церкви, а значит, и его, митрополита Шептицкого, опекуна и приемного отца «царской дочери», на нее.
В феврале 1943 года Шептицкий пишет письмо папе Пию XII. Ни сан владыки, ни собственная святая должность не остановили его в провозглашении провокационной лжи: «Наисвятейший отче… Считаю своим долгом проинформировать Ваше наисвятейшество о следующем: вторая дочь императора Николая II Татьяна — католичка и послушница — живет в нашем монастыре василианок в Подмихайловцах…»
Мемуары — мемуарами, но нужны и документы, удостоверяющие царское происхождение. И в июне 1943 года с помощью настоятеля ковельского монастыря бельгийца Ван де Мале, пароха монастырской церкви Михаила Пилюха и игумена Василия Величковского Андрей Шептицкий вершит криминальный акт — изготовляет подложные «царские бомаги»: свидетельство о рождении «Татьяны» и выписку из метрического свидетельства.
В последнем из названных документов значилось:
Татиана Романов — дочь Николая Александровича Романова и Александры-Алисы Федоровны из рода Гессенского, родилась дня 29 месяца мая года 1897 в Петергофе (Россия).
Ковель, дня 8 июня 1943.
Михаил Пилюх.
Печать греко-католического парафиального правления.
Гр<еко>-кат<олический> парох в Ковеле».
Гитлеровское командование и абвер, где числилась агент № 3, всячески поддерживали старания митрополита Шептицкого. И в их интересах было иметь свое «карманное царское лицо», да еще не православного, а католического вероисповедания. Ведь во всех русских царях после Петра I текла немецкая кровь, так почему бы не продолжить эту традицию, заодно на веки вечные расправившись с советами и большевиками.
Получается интересная цепочка. Шептицкий всем своим святым нутром ненавидит Россию и большевиков, но находит поддержку у «русского патриота» эсеромасона Керенского, объявившего Шептицкого радетелем российской нации, а большевиков — ее злейшими врагами. Бундомасон Бурцев соглашается с Керенским в отношении большевиков, вместе с тем объявляет главу Временного правительства ставленником большевистской и немецкой силы, пользуясь для изобличения воспоминаниями немецкого генерала Людендорфа. Последний является приятелем другого генерала — Гофмана, которого Бурцев тоже зачисляет в лучшие друзья большевиков, но который (уже не надуманно, а в действительности) находится в тесных контактах с митрополитом Шептицким. Генерал Гобман, горячо поддерживаемый врагами большевизма — тем же Шептицким и английским нефтяным магнатом Детердингом, — разрабатывает план новой войны с Советской Россией, который возьмет на вооружение и доработает впоследствии Гитлер. И он, и генерал Гофман считали большевиков своими злейшими врагами, называли их главными виновниками происшедшей в 1918 году революции в Германии и поражения, которое она потерпела в Первой мировой войне. Их последовательным сторонником был Шептицкий, ненавидевший как Советскую Россию, так и Россию вообще.
27 июля 1944 года советские войска вошли во Львов. Для семидесятилетнего главы униатов и «воспитателя российской престолонаследницы Татьяны I» такой поворот событий оказался тяжелым ударом. В конце сентября того же года он тяжело заболел. Уже прощаясь со «святой, грешной» жизнью, он попросил своего коллегу — брата Климентия, единственного посвященного в «царскую тайну», продолжить его идею окатоличивания России с помощью подложной престолонаследницы. Ну а ее благословил на издание «воспоминаний» и «дневника», но не в Германии (на нее уже не было надежд), а в США. Митрополит Андрей хотел мстить царю Николаю и посмертно с помощью его «дочери», предавшей якобы и страну, и веру.
Шептицкий выбрал, надо сказать, надежное оружие. Уж что-что, а измена среди россиян считалась подлейшим делом во все времена. Именно это орудие избрал против большевиков и приятель Шептицкого Керенский, найдя для обвинения соответствующих помощников.
Он приобрел известность еще при царствовании Николая II. Ну а в короткий век Временного правительства стал настолько популярным, что его имя произносили как символ антибольшевизма. Еще бы — следователь по особо важным делам Петроградского окружного суда Павел Александрович Александров был одним из тех, кто показаниями «важных» свидетелей подтверждал прогерманскую деятельность большевиков.
Вел он порученное ему дело под грифом «секретно», а огласке предавал то, что еще не только не нашло подтверждения, но и не проверялось. Нужно было не столько «уличить» большевиков, сколько «обличить». Причем почтеннейшей публике сообщались такие факты, «добытые контрразведкой», которые, будь они действительно истиной, а не дезинформацией, охранялись бы не только грифом «секретно», но и неусыпными стражами. Но ничьи головы не летели. Ни тех, кто разглашал «военную тайну», ни тех, кто породил безосновательный шум, ни даже привлеченных за «шпионаж». Их всех в конце концов отпустили под денежный залог. Тогда кто же работал на Германию? Деникин, сообщивший правительству непроверенные данные? Керенский, разрешивший опубликовать их? Газетчики, поднявшие «шпионскую» истерию? А может, был прав Корнилов, связавший воедино большевиков с Временным правительством, о чем поведал следователю Соколову Бурцев?..
Сведения, которые в июле 1917 года были разглашены в печати, являлись явной фальшивкой, в чем Александров, как опытный следователь, смог убедиться без всякого труда. Об этом спустя годы он и заявил советскому следствию.
Какие же свидетели помогли Александрову и тем, кто стоял за его спиной, объявить большевиков, и в первую очередь Ленина, «германскими шпионами»? Один из них — «самый важный». Он служил «дойной коровой» и для предвзятого следствия, и для публичных обвинений масонствующих Бурцева и Алексинского, и для мемуаров русского генерала Деникина и немецкого — Людендорфа. На него делал ставку Керенский. К нему прибегал за «фактами» еще один правдолюб-патриот — Брусилов…
Кто же этот «сверхагент»? Впервые, пожалуй, о нем упоминается в документе, приобщенном к делу Александровым. Кстати, правдивость этого документа дала бы основание нынешним оуновцам (украинским националистам) не демонтировать памятники Ленину, а устанавливать новые. Ведь в нем, в этом документе, Ленин изображается как ярый сторонник «самостийной Украины», якобы везде и всюду по заданию немцев пропагандировавший эту идею. Вполне резонно уже потому считать упомянутый документ фальшивкой, что украинские националисты по-прежнему считают Ленина и большевиков врагом номер один.
Несколько строк из этого документа, раскрывающих и его главное содержание, и «самого важного» свидетеля:
«Начальник штаба Копия
Верховного Секретно
Главнокомандующего В собственные руки
16 мая 1917 года
№ 3719
А.Ф. Керенскому
Господину Военному и Морскому Министру
Милостивый государь, Александр Федорович 25 апреля с/г к нам из тыла на фронте VI армии был переброшен немцами прапорщик 16-го стрелкового полка Ермоленко, который на опросах в штабе VI армии и в вверенном мне штабе показал, что он с 1914 года находился в плену в Германии; там на его имя поступила, по ошибке, большая украинская литература и корреспонденция, адресованная не ему — Дмитрию Спиридоновичу Ермоленко, а — Степану Спиридоновичу Ермоленко, по-видимому, популярному украинскому деятелю, т. к. почта была из Львова, Вены и других мест.
Вероятно, на основании этой переписки немцы заключили, что в лице прапорщика Ермоленко они имеют крупного и влиятельного представителя целой политической партии, и решили воспользоваться им… с целью добиться: 1) смены Временного правительства и, в особенности, ухода министров Милюкова и Гучкова; 2) отделения от России Украины в виде самостоятельного государства; и 3) наискорейшего заключения мира России с Германией…
По указанию германских офицеров Генерального штаба, которые инструктировали прапорщика Ермоленко, он должен доносить и получать от командированного ими одновременно с ним в Россию украинца Скоропис-Иолтуховского, имеющего ту же задачу от немцев и получающего из Германии деньги через Стокгольм от некоего Свенсона, находящегося в германском посольстве.
По объяснению тех же германских офицеров, после Берлинского съезда социалистов, происходившего с участием Ленина и Скоропис-Иолтуховского, Ленин был ими командирован с теми же целями и задачами. Деньги Ленину привозят командируемые им в Стокгольм лица, через которых он держит с Берлином связь. Ленин и Скоропис-Иолтуховский должны быть по своей работе в контакте между собой, так же, как и прапорщик Ермоленко с Иолтуховским. В случае измены делу прапорщик Ермоленко приговорен к смерти…
Прилагаю при сем документы, полученные от прапорщика Ермоленко, который временно задержан в Могилеве.
Уважающий Вас
<подпись> А. Деникин».
Как «истинный русский патриот» и «честный гражданин», Антон Иванович Деникин не мог отослать начальству важную, но малоубедительную бумагу, не внеся в нее соответствующих коррективов. А ведь именно таким, не совсем серьезным, могло получиться донесение, если бы оно полностью составлялось на показаниях, данных 28 апреля 1917 года (по старому стилю, указанному в документах) прапорщиком Ермоленко сперва штабс-капитану Пичахчи, а затем в тот же день на дополнительные вопросы — начальнику разведывательного отделения штаба Верховного Главнокомандующего полковнику Терехову.
Даже человеку, далекому от разведывательной работы, пространные откровения Ермоленко, порой увлекательные, порой наивные и смешные, а еще чаще противоречивые, могли показаться надуманными. Да и сам бывший военнопленный с довольно-таки условным званием прапорщика обязан был вызвать у сведущих людей подозрение. В протоколе допроса, зафиксированного, как сказано в документе, «согласно личному приказанию старшего адъютанта разведывательного отделения» штаба 6-й армии, штабс-капитан Пичахчи отметил, что допрошенный им прапорщик Ермоленко к своим показаниям о пребывании в плену и вербовке его германской разведкой приложил также «подробное донесение» о том, как был взят в плен. Это «донесение» на 39 страницах, озаглавленное «Описание военных действий 7-й роты 16-го Сибирского стрелкового полка», было приобщено Александровым к делу. В нем значилось, что в ноябре 1914 года Ермоленко, по его же словам, «был в схватке оглушен ударом, должно быть приклада, по голове, обезоружен и обобран…» Но в удостоверении, подписанном младшим врачом 16-го Сибирского полка Раевским и тоже приобщенном к делу, как вещественное доказательство, записано: «…прапорщик Ермоленко в бою с германцами в деревне Каменка 7 ноября был контужен осколком снаряда в правый (неразборчиво, возможно — „бок“. — Авт.) и левую ногу…» Если учесть, что эта справка оформлена и подписана 20 ноября, т. е. когда Ермоленко уже две недели находился в плену, то непонятно, для кого она составляется и почему ее подписывает русский врач, бывший сослуживец Ермоленко. Зачем бы германское командование уполномочивало русского эскулапа явно извращать «диагноз» Ермоленко? Почему встречаются разночтения о месте сомнительных ранения или контузии? Штабс-капитан Пичахчи зафиксировал, что это произошло «в бою под Лодзью, в м<естечке> Ржгов», а во врачебной справке — в деревне Каменка. Еще больше дыму на свое «боевое прошлое» Ермоленко напустил на допросах, производимых уже Александровым, в частности 10 и 11 июля. Так, он сообщил, что на действительной военной службе никогда не состоял и во всех военных кампаниях (с китайцами, японцами, а потом и с немцами) побывал добровольно. Причем для участия в войне с Германией получил личное приглашение командира 16-го стрелкового полка. В этом случае фамилию командира он называет Рожанский, ну а в упоминавшемся «Описании военных действий 7-й роты…» — Демаскин.
Русскую контрразведку и опытного военачальника Деникина, конечно же, должен был насторожить и такой факт в показаниях Ермоленко. Сообщая о дислокации вражеских войск, готовящихся нанести удар по Киеву, он якобы «в Бяле на пересыльном пункте видел команды (численностью в 20–50 человек), следующих полков…» И вслед за этим идет перечисление номеров полков общей численностью около 90. Если и предположить, что Ермоленко обладал феноменальной памятью, то каким образом могло дислоцироваться столько частей в одном районе? И насколько необъяснимой свободой действий он мог располагать на немецкой передовой линии фронта, чтобы собрать подобные сведения. Ну а задания, которые он получил от «германского правительства» (выражение Ермоленко), — и вовсе анекдотичны. Большей частью они похожи на мюнхгаузеновские побасенки.
Несомненно, что первый вопрос напрашивался сам собой: почему немцы выбрали для такой важной роли именно Ермоленко и почему так доверились ему? В приводимом уже донесении Деникина Керенскому указывается, что немцы ошибочно посчитали его популярным украинским деятелем, приняв не за того Ермоленко. Если даже и допустить, что это было так, то «ошибка» обязательно раскрылась бы, когда дело дошло до конкретного задания и переправки «агента» через линию фронта. Ведь было известно, что германский штаб очень серьезно относился к вопросам организации разведывательной и контрразведывательной работы и таких вот «ошибок» не допускал. Кроме того, реальный, а не вымышленный и действительно известный украинский националист, которого Ермоленко связал с собой и Лениным «шпионством в пользу Германии», — Скоропис-Иолтуховский заявил, что украинский деятель по фамилии Ермоленко ему неизвестен. Тогда есть основания считать Ермоленко подставным лицом. Но только кто его «подставил»: германский или русский генеральные штабы?
В протоколе допроса, составленного штабс-капитаном Пичахчи, и в ответах Ермоленко на дополнительные вопросы полковника Терехова, т. е. в материалах, на основе которых Деникин готовил свое донесение, «второй Ермоленко» не упоминается. Причина же вербовки объясняется наивно просто. В декабре 1915 года старший в лагере военнопленных офицеров, где находился Ермоленко, генерал-майор Лагунов предложил прапорщику — мастеру на все руки «устроить театр или кинематограф». Ну а тот, «имея опыт в постройке театра и устройства сцен», поставил дело на широкую ногу.[132] Правда, немецкие власти, по его словам, сами построили театр и сцену. Ермоленко лишь осталось сколотить две труппы (малороссийскую и великорусскую), вести постоянные разговоры с немцами о делах театра, выписывать для репертуара пьесы, журналы, книги. Все это обратило на него внимание германской разведки. Вот какое заключение сделал сам Ермоленко: «…так как я пользовался некоторой популярностью в лагере среди наших офицеров, то, я думаю, мне поэтому и было предложено комендантским адъютантом лагеря Мюндена обер-лейтенантом Шонингеном[133] поехать в Россию в целях пропаганды идеи скорейшего заключения мира и отделения Украины от России».
Если бы его готовили как рядового пропагандиста-агента, то навряд ли вот такой способ вербовки мог вызвать сомнение. Но его сделали «третьим главным агентом» наравне с Лениным и Скоропис-Иолтуховским, рассказав подробно о работе, месте нахождения и связях этих «резидентов». Ермоленко, по его словам, провезли по многим пунктам пограничных участков, рассказывая о дислокации войск, об оперативных и тактических замыслах, о приграничных переправочных явках и их владельцах и многом другом. Он посетил Генеральный штаб, в том числе и «разведывательное отделение украинской секции», познакомившись с сотрудниками, организацией работы, а также узнав адрес и фамилию содержателя главной явки в Стокгольме — Свендсона.[134] Словом, такого агента должны были вербовать, по крайней мере по мнению Деникина (как можно полагать, изучая и сравнивая все эти материалы), более основательно и серьезно. Вот почему в донесении Деникина появляется версия о двойнике Ермоленко (вспомните подобную историю только по другому поводу с двойником Фюрстенберга!) — «популярном украинском деятеле». Ну а после того, как Ермоленко из-под опеки Деникина был передан в руки Александрова, возможно, после соответствующей инструкции, в его показаниях тоже появляется «воспоминание об однофамильце». И все же его рассказ об этом несуществующем лице совершенно отличается от сообщения Деникина Керенскому.
После того как вербовка Ермоленко в плену состоялась, события якобы происходили так:
«3 апреля 1917 года по новому стилю я вместе с названным Шенингом отправились — оба в статском платье — в Берлин, куда и прибыли в тот же день.
На следующий день Шенинг повел меня в Генеральный штаб, где мы явились к капитанам Генерального штаба Шидицкому и Людерсу и статскому Максу. Как выяснилось, Шидицкий и Макс стоят во главе организации шпионажа по части взрывов мостов, заводов, работающих на оборону, и поджогов, что же касается Людерса, то он ведал украинские вопросы… Все перечисленные лица были подчинены объединяющему их генералу Фридрихсу, который стоял во главе организации контршпионажа.
Со мною вступили в разговоры Шидицкий, Людерс и Макс и предложили мне каждый по своей, так сказать, специальности: Шидицкий предложил заняться из целей шпионажа взрывами в России мостов: Хабаровского и Харбинского, Людерс предложил мне ведение агитации за отделение Украины от России, и, наконец, Макс советовал заняться шпионажем по части сообщения сведений о войсках, передвижении их, кроме того, мне было дано поручение организовать восстание против правительства в южных городах России в определенном районе — Николаев, Херсон.
Кроме того, мне было предложено за особое условие вознафаждения организовать убийство английского посла Бьюкенена…»
Разговор о «вознаграждениях» — это, мягко говоря, одно из самых не только сомнительных мест в показаниях Ермоленко, но и бросающих тень на русских контрразведчиков и военачальников, имевших с ним дело.
Дав согласие каждому «вербовщику» на выполнение задания, Ермоленко подписал с каждым из них три договора: «Один касался Украины, второй — взрывов мостов и заводов и поджогов складов с припасами и, наконец, третий касался передвижения войск». Об организации восстания и убийстве английского посла договор почему-то не составлялся. Правда, договоры были составлены на немецком языке, которого, как и иного иностранного, Ермоленко не знал. Переводил ему их Шидицкий, после чего «сверхважный агент» эти договоры «подписал собственноручно». Одно из главных условий, которое в них оговаривалось, — о вознаграждении. На расходы немцы не скупились и обязались выплачивать суммы «в очень крупных размерах», и они могли быть «в некоторых случаях миллионными». Был бы результат. Ежемесячное жалованье Ермоленко назначалось в размере восьми тысяч рублей. Сверх того предусматривались премиальные до 30 процентов от нанесенного ущерба. Александрову он объяснил это образно: «…если при этом участии взорван завод или отделение его и этим причинен ущерб России в два миллиона, то я имею право на получение 600 000 рублей».
Подобное расточительство в отношении совершенно не проверенного работой агента не делало чести не только известным своей расчетливостью и практичностью немцам, но и кому-нибудь другому менее щепетильному в подобных делах. Кроме того, в русской контрразведке сложилось мнение, что немцы держат своих агентов «в черном теле». Вот что рассказал П.А. Александрову (протокол допроса от 22 августа 1917 года) М.А. Лебедев — судебный следователь 5-го участка Петрограда, а еще раньше (чуть больше месяца назад) старший помощник начальника контрразведывательного отделения штаба Петроградского военного округа. Давая показания о Суменсон, занимавшейся якобы спекуляцией получаемыми из Стокгольма вещами для финансирования шпионской деятельности большевиков, он сообщил: «Из практики контрразведывательного отделения я могу совершенно определенно сказать, что это обычный способ действий Германии в отношении своих агентов, которым она почему-либо не решается уплачивать за услуги наличными деньгами…»
Ермоленко получил не только сногсшибательные финансовые обещания, но и, вопреки установившейся практике, наличную сумму.
Здесь нужно обратиться за «объяснениями» к еще одному контрразведчику, уже упоминавшемуся здесь, полковнику Генерального штаба Н.В. Терехову. Это ему Ермоленко отвечал на дополнительные вопросы. 23 и 24 сентября 1917 года Терехова в свою очередь допрашивал (в Могилеве) судебный следователь по важнейшим делам Сцепура. В составленном последним протоколе значилось, что у Терехова вызвало сомнение… само появление Ермоленко в расположении русских войск, поскольку нельзя было уточнить, то ли он случайно наткнулся на наше сторожевое охранение, то ли сделал это специально. По утверждению Ермоленко, он к этому «стремился с целью раскрыть шпионскую организацию немцев у нас в России и предупредить грозящие нам бедствия…». В остальном же наша контрразведка якобы Ермоленко верила. Его рассказ показался ей ценным и убедительным.
Удивительно, что эта вера «одному из трех главных агентов Германии» у российского командования оказалась настолько сильной, что его не только не арестовали, не только не изолировали, но сразу же сделали главным свидетелем против двух других агентов — Ленина и Скоропис-Иолтуховского, которых, объявив через прессу шпионами, тоже не торопились задерживать. Более того, Ермоленко оставили «вольноопределяющимся» при Главном штабе. Правда, Терехов заверил, что за Ермоленко во время его «проживания… при штабе Верховного Главнокомандующего» установили тщательное наблюдение. Именно в этом — в тщательности наблюдения вызывают сомнение уже показания Терехова.
«Немцы дали Ермоленко на личные расходы и на дорогу 1500 рублей, которые были им почти израсходованы в первый же месяц жизни в Ставке, и он возбуждал ходатайство о скорейшей выдаче ему казенного содержания», — показывал Терехов. И тут же сразу появляются всевозможные вопросы: почему не были конфискованы или, в крайнем случае, временно изъяты деньги у задержанного немецкого агента; почему он «жил» при Ставке; почему он мог, находясь в таком вот состоянии, вести разгульную жизнь? Для примера сообщу, что привлеченный Александровым в качестве обвиняемого мичман Ильин (Раскольников) получал месячное содержание 272 рубля, о чем можно узнать из заявления последнего прокурору Петроградской судебной палаты от 22 июля 1917 года. Но что — полторы тысячи! Ермоленко прогулял, по его признанию и показаниям Терехова, более крупную сумму. И все тогда же, «проживая при Ставке». Еще более загадочная история появления у него новых денег. Оказывается, за ним было такое «тщательное наблюдение», что средь бела дня на улице неизвестное лицо вручает ему тайком не очередные полторы тысячи и даже не «ежемесячное восьмитысячное содержание», а… 50 000 рублей. И за что? А «за работу по данной немцами задаче». Но он ведь ничего не делает. Не взрывает мосты на Дальнем Востоке. Не разлагает войска в Херсоне. Не ведет агитацию за отсоединение Украины от России в Киеве. Не организовывает убийство английского посла в Петрограде. Более того, длительное время находится в Ставке, в штабе Верховного Главнокомандования русских войск, о чем, если бы он и впрямь был подослан немцами с серьезными целями, те бы узнали, якшается с контрразведчиками, ведет праздную жизнь. И немцы, выходит, узнали, где он находится, коль вручили деньги. Узнали бы при желании, и чем он здесь занимается. А раз так, то, по словам того же Ермоленко, он подлежал со стороны немецкой разведки суровому наказанию. Вместо же этого такой щедрый подарок — 50 000 рублей. О них он своим новым шефам сразу не докладывает, поскольку «растерялся» от такой неожиданной «зарплаты». По той же причине — по растерянности — не только не задержал германского курьера, но и не запомнил его лица. «Он откровенно сознался, — показывал Терехов следователю Сцепуре, — что получил 50 000 рублей, а налицо имеет 40 000 рублей с небольшим, так как остальные — 4000 рублей выслал домой жене, часть прожил, заготовив себе белье и одежду, и часть желал бы оставить для себя на жизнь — за неполучением казенного содержания…»
Ему оставили и эти деньги — огромную сумму, непонятно каким образом оказавшуюся у столь подозрительного лица. Вот что он сообщил Александрову при очередном допросе 17 июля 1917 года: «…врученные мне в Могилеве 50 000 рублей 17 мая 1917 года от германского правительства я представил при рапорте Верховному Главнокомандующему генералу Брусилову, указав ему на мое бедственное положение, моей семьи и той опасности, которая угрожает мне от раскрытия шпионской организацией, почему эти 50 000 рублей его распоряжением мне были выданы и переведены были на родину в Хабаровск».[135]
Слов нет, немцы не могли отнестись серьезно к такой личности, как Ермоленко, а тем более поручить ему столь важную миссию. Уверены они были, отправляя его в Россию (если отправляли), что и русская контрразведка (ведь друг друга хорошо знали!) воспримет его так же. Тогда зачем нужно было отправлять такого агента? Зачем нужно было нести столь серьезные расходы?.. Расходов денежных, судя по сложившейся практике обеспечения германских агентов, вовсе не было. Деньги Ермоленко мог приобрести каким-нибудь другим путем, вплоть до махинаторства или более нечестного метода. Несомненно, что русская контрразведка если и не поощряла подобных его занятий, то и не воспрепятствовала им. Вместе с тем использовала Ермоленко для опорочивания большевиков, в первую очередь Ленина. В этом была, несомненно, заинтересована и германская разведка, переправив с помощью Ермоленко в Россию соответствующую информацию. В том, что такой интерес существовал, нет никакой надуманности. Об этом, к примеру, свидетельствуют показания Свистунова и Гучкова, собранные и приобщенные к делу «Об убийстве царской семьи» Соколовым. Ведь социал-демократы Германии всецело поддерживали свое правительство в вопросах войны. Единственная сила, которая призывала к заключению мира, но не сепаратистского, а всеобщего, — была российская социал-демократия, причем не только одни большевики. И этот призыв находил самый широкий отклик у народных масс во всех воюющих странах, в том числе и в Германии. Приведу короткие выдержки из воспоминаний германского солдата той поры:
«В течение ряда лет социал-демократы агитировали в Германии за войну с Россией…
В 1916 году солдаты на фронте стали получать деморализующие их письма из дома, в которых говорилось о голоде, нужде и т. п.
…В армии стал раздаваться ропот, сначала тихий, потом все более и более громкий. Солдаты не стеснялись уже ругаться и проклинать вслух. В то время, как они страдали и гибли в окопах и их семьи умирали с голоду, кто-то жил себе в свое удовольствие…
С каким настроением должен был солдат идти в бой, когда его собственный народ не желал уже победы?
Зима 1917–1918 гг. принесла союзникам жестокие поражения. Надежды, которые возлагались на русский фронт, — рухнули… Но в тот момент, когда германские дивизии должны были повести последнее наступление, внутри страны разразилась всеобщая забастовка. Вражеская пропаганда сделала свое дело…».[136]
Дальше эти воспоминания преисполнены лютой ненависти к большевикам, которые примером своей революции подтолкнули Германию к поражению, а также почти полностью вымели из России «германский элемент», якобы занимавший главенствующую роль в организации Российского государства. Так что германские правящие круги с огромной радостью перебросили через границу свой «камень из-за пазухи» — Ермоленко, с надеждой, что его подберут на русской стороне те, кто тоже заинтересован в расправе над большевиками.
Допустить то, что русская контрразведка отнеслась серьезно к Ермоленко, тоже нельзя. Ведь последний раскрыл «главных агентов», адрес центра связи — Свенсон (Сведсон) в германском посольстве Стокгольма, способ связи с ним. «Согласно условию, — откровенничал Ермоленко, — я должен иметь белую розу в петлице на левой стороне платья, а в руках тонкий хлыст». А вот что он сообщил о бесценной резидентской роли Свенсона: «…так как действия и работа всех организаций сосредоточивались в руках Свенсона, то, естественно, он был осведомлен о всех лицах, подобных мне, которых немцы завербовали к себе на службу». Имея такие сведения, такие нити «шпионской организации», такую возможность проникнуть в нее с помощью добровольно сдавшегося и раскрывшегося «агента» (ведь даже во время «проживания» в Ставке немцы верят Ермоленко, вручая ему огромную сумму денег), русская контрразведка не предпринимает никаких мер, чтобы воспользоваться такой благоприятной обстановкой. Скорее наоборот, она делает все для того, чтобы «завалить блестящую операцию», заявляя на весь мир через печать об «угрозе», которая нависла над германской разведкой и «шпионской организацией большевиков» в России. Да и уже известные «шпионы» не только не привлекаются к ответственности, но и не задерживаются до тех пор, пока Временным правительством не спровоцировано «вооруженное выступление врагов России».
Ну как тут снова не вспомнить русскую поговорку о «воровской шапке», которая «горит на голове», и показания, данные Александрову проговорившимся Милюковым. Говоря об укреплении финляндской границы с его приходом на пост министра иностранных дел и возможности воспрепятствовать «въезду в Россию нежелательных лиц», он сказал, что к этой категории не относил политических эмигрантов. По его неискреннему признанию, те получили «полную амнистию» и имели «как моральное, так и формальное право вернуться на родину». И тут-то задымилась, заискрилась, запылала воровская шапка. Признавая за политическими эмигрантами право возврата из зарубежья, лидер кадетов открыл истинную подоплеку «признания формального права». Оказывается, политических эмигрантов, главным образом большевиков, просто-напросто заманивали в Россию, чтобы, спровоцировав какой-нибудь эксцесс, объявить их вне закона. На этот счет Милюков был, вряд ли желая того, предельно откровенен, заявив, что с возвратившимися политическими эмигрантами предполагалось уживаться «впредь до совершения ими каких-либо новых нарушений закона». Как говорится, и ежу ясно, а не только хитроумным эсеробундомасонам.
Следователю по особо важным делам Александрову лишь только тогда поручается «завести дело на большевиков», когда прошумели (больше на газетных полосах, чем в действительности) июльские события, спровоцированные, как об этом убедительно говорили многие свидетели, эсерами и другими «темными личностями». Это утверждали и главные участники событий, которых привлекли к ответственности за «организацию вооруженного выступления» и которые в своем большинстве после первых истеричных и ложных сообщений в печати явились к следователю добровольно для дачи показаний, для опровержения ложной информации. Александров, не выслушав их, даже не встретившись с лицами, обвиненными печатью в шпионаже, все же заводит дело, озаглавив… думаете — «о шпионской работе в пользу Германии» или еще как-нибудь в этом роде? Совсем нет. Все делается по керенско-милюковскому, а точнее эсеро-кадетскому рецепту. На папке вновь заведенного дела Александров аккуратно вывел: «Предварительное следствие о вооруженном выступлении 3–5 июля 1917 года в г. Петрограде против государственной власти».
Один из документов, подшитых в материалах дела, гласил:
«М<инистерство> Ю<стиции>
Г<осподину> Судебному Следователю по особо важным делам Александрову
Прокурор Петроградской Судебной палаты
10 июля 1917 г.
№ 5762 гор. Петроград
Предлагаю Вам приступить к производству следствия о восстании 3–5 июля сего года…»
Александров приступил к следствию в тот же день. И с кого он начал допросы, даже не ознакомившись с обстоятельствами дела? С участников «восстания»? Да нет же — с Ермоленко, никакого отношения, казалось бы, не имевшего к этому «восстанию». Но Александров увидел связь, вернее, знал о ней, поскольку «восстание было организовано германскими шпионами», на встречу с которыми шел «важный агент» Ермоленко. Причем допрашивает последнего, что не менее удивительно, чем другие детали этой провокации, не в качестве обвиняемого, а… свидетеля. Самого важного свидетеля. Хотя знает, что тот подставлен то ли германским Генеральным штабом, то ли своим, то ли обоими вместе. Это подтверждали не только противоречивые показания Ермоленко, порой совершенно абсурдные, но и многие иные материалы, которыми располагал Александров, а впоследствии другой следователь — Соколов и глашатай того и другого — Бурцев. Скажем, в ходе следствия Александрову под грифом «секретно» поступило донесение Центрального контрразведывательного отделения о том, что германская разведка или не могла дать Ермоленко для связи «работника германского посольства в Стокгольме Свенсона», если бы поручала ему разведовательное задание всеръез, или сделала это для его провала, снабдив ложной информацией. В донесении сообщалось, что «Свенсон примерно с конца 1914 года или начала 1915 года покинул службу в Скокгольмской немецкой миссии, уехал в одну из провинций Швеции, но куда именно, пока установить не удалось». Александров и сам, судя по протоколам допросов, убедился в провокационной сущности появления Ермоленко в поле зрения русской контрразведки. Так, Ермоленко утверждал, что, кроме Свенсона, он имел возможность установить связь через объявление в газете со Скоропис-Иолтуховским. Вместе с тем, по его-же словам, когда ему в Берлине хотели организовать встречу споследним, он отказался, так как «побоялся» (!) этой встречи. Тогда же ему работники Генерального штаба (немецкого) якобы сообщили, что в России активно работает их важный агент Ленин, разместивший свой резидентский центр в доме Кшесинской. Александрову нетрудно было убедиться и в этой лжи, поскольку надуманный разговор Ермоленко с представителями германского Генерального штаба происходил в то время, когда Ленина в России еще не было. «Изобличенный» Александровым, Ермоленко стал выкручиваться и отказываться от данных ранее показаний, настаивая на том, что его «не так поняли», что о доме Кшесинской он услышал значительно позже, уже перед самой переброской его через границу. В протоколах все это записано. Но огласке предавалось совершенно иное: Ермоленко доставил ценные сведения, помагающие разоблачать Ленина и остальных большевиков как германских агентов. Главенствующую роль в распространении этих «разоблачительных сведений» взял на себя Бурцев. Вот что он рассказал Соколову, продолжившему постановку антибольшевистского спектакля, начатого Александровым. В августе 1920 года, встретившись в Париже с Соколовым, Бурцев говорил, «изобличая» Ленина: «Прибыв в Россию в 1917 году с целым сонмом навербованных им агентов, в чем ему открыто помогали немцы, он повел энергичную борьбу на развал России в самом широком масштабе. Первая его попытка к организованному, открытому выступлению, как известно, имела место в июле 1917 года. Она окончилась неудачей. Благодаря этому правительственная власть получила возможность обследовать ее. Это было сделано путем назначения предварительного следствия, которое тогда производил судебный следователь по особо важным делам при Петроградском окружном суде Александров. Я тогда был в курсе этого дела. Меня допрашивал Александров как свидетеля по делу. Я был в курсе этого дела, благодаря моим отношением также и к министру юстиции Переверзеву. По этому делу я получил очень ценный материал…» Но в том-то и дело, что этому материалу — грош цена в базарный день, поскольку в основе его лежали показания Ермоленко.
Довольно основательно разоблачил эти показания «германский агент» Козловский, которого черносотенная газета «Живое слово» в публикации без подписи «Ленин, Ганецкий и K° — шпионы» от 5 июля 1917 года представила «главным получателем немецких денег из Берлина». Опытный юрист, он сразу раскусил противоправный метод ведения Александровым следствия, изобличая также попутно лжесвидетелей, на которых, помимо Ермоленко, делалась ставка. Процитирую соответствующий документ из материалов дела:
«Г-ну суд. следователю по особо важным делам Александрову.
Приведение в камеру суд. след. по особо важным делам Александрова для предъявления мне в порядке 476 ст. Уст. Уг. суд. следствия по делу 3–5 июля и знакомясь с таковым, я не мог не обратить внимания на нижеследующие, бросающиеся в глаза факты:
1. При допросе прапорщика Ермоленко последний показывает, что Ленин в Берлине останавливался у Иолтуховского, „в чем я и сам убедился“, — добавляет свидетель.
Допрашивающий его суд. след. Александров не находит нужным поставить вопрос о том, каким образом он сам в этом убедился…
5. Свидетель Ермоленко показывает, „что в Берлине 4 апреля нов. стиля ему говорили в германском штабе, что Ленин работает в дворце Кшесинской“, и судебный следователь Александров даже не спросил его о том, как это случилось, что герм, штаб говорил свидетелю о „работе Ленина во дворце Кшесинской“ в настоящем времени 4 апреля н. ст., тогда как несомненно известно суд. следователю Александрову, что Ленин на это время (22 марта рус. стиля) еще не приехал в Россию. И лишь по просьбе случайно прибывших в камеру суд. следователя Александрова обвиняемых Багатьева и Рахья во время нахождения в камере св. Ермоленко г. Александров предлагает свидетелю этот вопрос.
6. Когда тот же Ермоленко заключает целых три договора с немецким штабом о вознаграждении его за гигантскую работу… показывает Александрову, что „насколько он мог понять“ — „сношения по этой работе“ с штабом должны были облекаться в форму коммерческих выражений», г. Александров не предлагал ему вопроса, как же он, свидетель, не понял самого главного момента.
7. Когда этот же свидетель Ермоленко показывает: «Я сейчас не могу припомнить, называли ли мне банки или нет», на которые ему должны были выслать «чеки» из Стокгольма, г. Александров не находит нужным спросить его, а как же он, свидетель, получил бы эти деньги, не поинтересовался ли свидетель, подписывая 3 договора о вознаграждении, узнать у немцев, как же он будет получать эти деньги…
…Когда свидетель Кушнир,[137] лично наставлявшийся министром Циммерманом и фельдмаршалом Гинденбургом относительно шпионства, оказывается содержащимся в Киевской тюрьме по обвинению в мошенничестве, судебный следователь Александров не находит нужным проверить допросом этого же Кушнира, как это он был (по показанию его начальнику Киевской контрразведки) доставлен при возвращении в Россию до самой границы Швейцарии из Берлина и в то же время вернуться из Швеции в Россию: «первый раз, убегая от немецких предложений шпионства, второй в исполнение этих предложений…»[138]
Проводя следствие только на обличение большевиков, Александров и те, кто им руководил, не давали ходу материалам, разоблачавшим Ермоленко и русскую контрразведку в организации провокации против большевиков, а также тех, кого за волосы притягивали к большевикам. В материалах дела подшиты документы, подтверждающие этот вывод:
«И<сполняющий> Секретно д<олжность> Судебному следователю
Начальника Центрального по особо важным делам контрразведывательного Александрову отделения при Главном управлении Генерального штаба
4 октября 1917 г.
№ 26504
Петроград
По приказанию начальника Генерального штаба при сем, препровождая копию с письма Скоропис-Иолтуховского, адресованного в редакцию газеты „Новая жизнь“ и задержанного цензурой, прошу сообщить, подлежит ли передаче подлинное письмо в редакцию или же таковое подлежит препроводить Вам.
Приложение: копия письма…»
К донесению также прилагался «меморандум», подписанный военным цензором Анастасией Трейден. В нем есть следующие примечательные строки: «…ввиду того, что автор настоящей статьи Скоропис-Иолтуховский подлежал аресту как лицо, причастное к событиям 3–5 июля сего года, нынешняя же его статья, при появлении в газетах, содействовала бы возбуждению общественного мнения против Временного правительства, а в частности, против контрразведки, считаю необходимым представить заказное письмо за № 2339 на усмотрение контрольного бюро».
Письмо Скоропис-Иолтуховского, направленное из Стокгольма в Петроград в редакцию газеты «Новая жизнь»,[139] под бдительным контролем Александрова так и осело в его многотомном труде — «Деле о вооруженном восстании…». Приведу отдельные выдержки из него.
Признавая себя украинским националистическим деятелем, «членом президии» уже упоминавшегося «Союза освобождения Украины», Скоропис-Иолтуховский отрицает свою близость не только к большевикам, не только к социал-демократии вообще, но и к любой другой партии. Комментируя выдумку Ермоленко о том, что в Берлине якобы состоялось «два собрания социалистов», в которых принимали участие Ленин и Иолтуховский, причем Ленин останавливался на квартире последнего, автор «арестованного» цензурой и контрразведкой и «заключенного» в архивы Александровым письма в «Новую жизнь» уточнял:
«Я открыто заявлял и заявляю, что со времени моего вступления в „Союз осв<обождения> Украины“ веду беспартийную националистическую политику, и это подтвердят все украинские социалисты… Ленина я никогда и нигде не встречал. Ни к какой русской социал-демократической организации никогда не принадлежал. Даже когда я, как член „Украинской социал-демократической спилки“,[140] входил таким образом в состав Р.С.Д.Р.П., то и тогда никакого отношения к Ленину, как к представителю русского большевизма, не имел, так как теоретически стоял ближе к меньшевикам, а „Спилка“ и вообще никогда не была фракционной организацией.
Полагаю, что если бы Ленин во время войны действительно был в Берлине на какой-нибудь социалистической конференции, то я бы об этом мог скорее знать, чем Ермоленко. Думаю, что это такая же ложь, как и утверждение, будто Ленин останавливался у меня».
Скоропис-Иолтуховский заявлял, что о Ермоленко он никогда даже не слышал, что не мог ожидать его в Киеве, поскольку выехал из Берлина не в апреле, как утверждает Ермоленко якобы по информации германского Генерального штаба, а в конце июня. Причем «находился все время не в Киеве, а на островке Юме, напрасно ожидая от министерства иностранных дел разрешения на приезд на Украину».[141]
В приписке к своей статье Скоропис-Иолтуховский ссылался на № 182 газеты «Русское слово», которая сообщала о денежном переводе на 40 000 рублей, полученном в Хабаровске женой Ермоленко от мужа. В материалах дела, собранных Александровым, есть телеграммы, подтверждающие этот факт. Но следователь по особо важным делам такие нападки на «самого важного свидетеля» попросту игнорировал. «Не замечал» и более острую критику в отношении провокации, подготовленной весьма удивительным и подозрительным для военного времени альянсом противоборствующих разведок — германской и русской. К примеру, газета «Рабочий» (№ 8, 12 сентября по н. ст. 1917 года) поместила статью «О клеветниках».[142] Имелись и более ранние публикации. В одной из них, в частности, есть такие строки:
«Итак, германские офицеры, чтобы склонить Ермоленко к его бесчестному поступку, налгали ему бесстыдно про Ленина, который, как всем известно, как официально заявлено всей партией большевиков, сепаратный мир с Германией самым решительным и бесповоротным образом всегда и безусловно отвергал… политически грамотный человек тем более не усомнится в этом, что сопоставление Ленина с каким-то Иолтуховским (?) и „Союзом освобождения Украины“ есть нелепость…».[143] Эти выводы ценны тем, что они излагались по горячим следам провокации и не кем иным, как самим Лениным, которому ЦК партии запретил являться в следственные органы и в суд. А ведь Александров, который усиленно добивался этой явки, мог посчитать их за показания. Тем более что в различных публичных выступлениях той поры непричастность Ленина к порочащим его связям с немцами доказывали даже те авторитеты, на которые ссылались «изобличители». Александров и это не учитывал. Брал во внимание только то, что было выгодно официальной, распространяемой в прессе, точке зрения.
Осуждая эту непозволительную «методу», Козловский в уже упоминаемом здесь заявлении писал: «…при допросе свидетеля Алексинского, показывающего, что „потом выяснилось, что Ленин и Зиновьев освобождены по личному предписанию австрийского премьера министров Штюрка, как лица желающего поражения России“, — суд. следователь Александров не ставит ему вопрос: „из чего“, „как“ это выяснилось для г. Алексинского».
В материалах дела, собранных Александровым, подшит этот протокол допроса от 11 июля 1917 года. В нем значилось, что «Алексинский Григорий Алексеевич, бывший член второй Государственной Думы, 38 лет, православный…». Ну, а показал он следующее: «Ленина я знаю около 10 лет, был о нем очень хорошего мнения в течение только 2–3 лет, но по переезде моем за границу разочаровался в нем… Здесь же считаю необходимым привести позднейший факт, относящийся к октябрю 1914 года: Ленин и Зиновьев, проживавшие в Австрии близ Кракова, были арестованы австрийскими властями, как русские подданные, но вскоре освобождены с правом свободного выезда в Швейцарию… потом выяснилось, что Ленин и Зиновьев были освобождены из-под ареста по личному предписанию графа Штюрка — австрийского премьера, который освободил их, как лиц, желающих поражения России и деятельность коих полезна для центральных империй…».[144] Изобличая Ленина в связях с Парвусом (Гельфандом), тоже пребывающим в услужении у немцев, Алексинский вручил Александрову «вещественные доказательства» — рукопись на 27 страницах, представлявшую собой копию статей, напечатанных в изданиях «Россия и Свобода» и «Призыв», выходивших в Париже. Ни свидетеля, ни следователя при этом не смутило, что среди этих «вещдоков» имеется публикация, на которую часто ссылался Алексинский в своих статьях, но в которой вслед за резкой критикой Парвуса звучит «похвальное слово»… Ленину. Автор этой статьи, доктор Фридман, упрекает Парвуса примером Ленина. Имеется здесь и краткое объяснение, почему австрийские власти освободили Ленина из-под ареста, как «свободно» он уезжал… Еще больше удивительно то, что эта публикация — антивоенная, в духе Циммервальдской конференции[145] и многих ленинских выступлений, за которые на него так ополчились Бурцев, Алексинский, Керенский и др., за которые следователи Александров и Соколов выставляли его в следственных выводах изменником. Уж и впрямь у клеветы стыд слеп и нем, а она сама — стоглаза и стоязыка. Похоже, что Алексинский с Александровым подходили под этот образ. Иначе чем объяснить, что публикацию за подписью доктора Фридмана они зафиксировали как одно из первостепенных доказательств вины Ленина и большевиков. Но суди сам, уважаемый читатель, по выдержкам из этого «вещественного доказательства»:
Открытое письмо Парвусу д-ра Якова Фридмана, напечатанное в швейцарских газетах и перепечатанное в № 2 газеты „Россия и Свобода“ (26 сентября 1915 года):
„Ваше выступление в последнее время в качестве защитника дела двойственного союза против тройственного произвело в социалистическом мире большое впечатление. Очень редко случается, что с.д. Вашего положения, вместо того, чтобы бороться против войны и локализовать ее страшное действие, ездил из страны в страну и старался вовлечь в войну страны, остающиеся до сих пор нейтральными. Вы заявляете, что Вашей деятельностью Вы боретесь с царизмом. Эта цель сама по себе похвальна, надо только удивляться тем средствам, к которым Вы прибегаете, чтобы осуществить эту цель.
Вскоре после начала войны Вы издали воззвание под заглавием „Против царизма“ и подписались под ним. Содержание этого воззвания ни в коем случае не социалистическое. Вы в нем утверждаете, что вся вина падает на русское правительство… все среднеевропейские державы представлены настоящими сиротами, которые борются за всеобщую свободу против русского варварства… Это воззвание Вы поручили распространить несуществующим русским с.-д. организациям, — эти, наверно, отказались бы от чего-либо подобного, — а „Союзу борьбы за вызволение Украины“… Вот это именно обстоятельство и побудило меня обратиться к Вам с этим письмом… В Австрии всем известно, что этот „Союз вызволения Украины“, во главе которого стоят Басок, Скоропис и др., ни в коем случае не революционная организация. Он создан немецкими и австрийскими официальными и полуофициальными кругами и существует благодаря тем деньгам, которые в изобилии притекают через Вену и Берлин. Далее, этот „Союз“ открыто ставит своей целью основание украинской монархии с каким-нибудь принцем (вероятно, Гогенцоллерном) во главе… Несмотря на то что Вы русский с.-д. и, следовательно, также русский подданный, Вы, как таковой, разъезжаете открыто и свободно из Турции на Балканы и оттуда в Вену и Берлин и назад. Но Вы ведь не так наивны, чтобы думать, что Вам представляют эту привилегию только потому, что Вы русский революционер. Вы не можете этого думать уже потому, что Вам так же хорошо известно, как и мне, что очень известные русские руководители партии, как Ленин и депутат Государственной Думы Ягелло, после объявления войны были интернированы и что первый только благодаря вмешательству австрийских товарищей мог оставить Австрию. Заметьте хорошо — оставить, но не разъезжать. Не поразило ли Вас это обстоятельство? Или Вам неизвестно, что Ваша деятельность приятна властям центральных держав и их намерениям…“».[146]
Поразило ли Парвуса, устыженного напоминанием о честной и последовательной позиции Ленина, приведенное обстоятельство — неизвестно. Но в том, что Алексинский и Александров не были смущены этим, убедиться нетрудно. Читателя же должно удивить и насторожить, как и автора настоящих строк, несколько иное обстоятельство — схожесть содержания и стиля письма Фридмана и показаний Алексинского. Те же обвинения, те же упреки, тот же тон. Даже фраза о полезности критикуемых действий «для центральных держав» почти однозначна в обоих случаях. Разный только объект критики: у Фридмана — Парвус, у Алексинского — Ленин. А ведь у последнего тоже имелись публичные выступления с критикой и Парвуса, и украинских националистов в лице упоминаемого Фридманом Баска (он же — Меленевский, он же — Соколовский, он же — Гылька). Уж кому-кому, а вездесущему и всезнающему, подобно Бурцеву, Алекси некому должен был быть известен такой случай.[147] В начале 1915 года к Ленину (он тогда проживал в Берне) зашел известный кавказский меньшевик Триа, приехавший из Константинополя. Триа рассказал об участии Баска в «Союзе освобождения Украины» и про связь этого «Союза» с немецким правительством, а также передал, возможно, с провокационной целью, письмо от руководителя этой темной организации. В послании выражались «сочувствие» деятельности Ленина и большевиков, а также «надежда на сближение взглядов». Возмущенный Ленин в присутствии Триа тут же написал ответ следующего содержания:
«…Любезный гражданин!
Триа передал мне Ваше письмо от 28. XII. 1914.
Вы явно ошибаетесь… Мы работаем за сближение рабочих разных (и особенно воюющих) стран, а Вы, видимо, сближаетесь с буржуазией и правительством „своей“ нации. Нам не по дороге.
Н. Ленин[148]. Берн. 12.1.1915».[149]
На словах же заявил, что не может нравственно воспринимать Баска, поскольку тот вступил в сношения с одним из империалистических государств — Германией, а поэтому между ними не может быть ничего общего.
То, что Алексинский по отношению к Фридману поступил бесчестно, использовав его письмо с провокационной целью, отступив от его содержания, а также откровенно «сплагиатничал», — не должно особо удивлять. В журналистской среде знали его нечистоплотность. Но зачем было Александрову все это приобщать к делу — все публикации Алексинского, а тем более такую, казалось бы, бесполезную для установочной версии, более того, в определенной степени опровергающую ее статью Фридмана? Думается, она послужила своеобразным эталоном в фальсификации показаний многих свидетелей. Все, что говорилось Фридманом в адрес Парвуса, приобретало обвинение в устах тех или иных людей и в самых разных вариантах по отношению к Ленину и большевикам. Причем опускались (разумеется, для гласного освещения; в протоколы допросов все вносилось пунктуально) положительные моменты. К примеру, 10 сентября 1917 года П.А. Александров беседовал с шестидесятилетним Г.В. Плехановым, проживавшим в Царском Селе. Пожалуй, из всех допрошенных свидетелей он больше всех знал В.И. Ленина и имел право судить о нем. «Ленина я знаю давно, — говорил он, — познакомившись с ним в Женеве в 1895 году. До 1903 года мы жили вместе, как партийные работники, участвовали в издании „Искры“ и прочее. Тогда Ленин был с нами заодно. С 1903 года я разошелся с ним…» Судя по протоколу, он высказал немало такого, что могло восприниматься в двояком смысле. И все же, продолжая и здесь борьбу с политическим противником, Плеханов давал иногда однозначные и даже категоричные положительные оценки лидеру нелюбимых им большевиков: «При этом я исключаю всякую мысль о каких-либо корыстных пользованиях Ленина», «Я убежден, что даже самые предосудительные и преступные с точки зрения закона действия совершались им ради торжества его тактики», «Но повторяю, я говорю только в пределах психологической возможности и не знаю ни одного факта, который доказывал бы, что психологическая возможность перешла бы в преступное действие» и т. п. Последнее замечание касалось пересудов об использовании Лениным германских средств для «осуществления своей тактики». Плеханов не мог привести ни одного факта о получении Лениным денег от немецкой стороны, а тем более ее разведки. Александров же его предположения о «психологических возможностях» трансформировал для склочной прессы в лице Алексинского, Бурцева и других им подобных в безосновательные «конкретные примеры». Тем более что в показаниях Плеханова подобных рассуждений и догадок имелось с избытком. Именно они и выпячивались, именно они предавались огласке. О том, что «Ленин неразборчив в средствах», что «в один из моментов обострения борьбы между большевиками и меньшевиками последние обвиняли Ленина в похищении адресованных им писем», что «тактика ленинская была до последней степени выгодна Германии». Плеханов говорил, что «неразборчивость Ленина» позволяет ему «допускать, что он для интереса своей партии мог воспользоваться средствами заведомо для него идущими из Германии». В сведениях, интерпретированных Александровым и поступающих в различные редакции, уточнения «допускаю», «в интересах партии», «исключаю всякую мысль о какой-либо корысти», имевшие принципиальное значение не только для одного лица или отдельной партии, но для всего следствия, опускались, вымарывались, извращались. Оставалось только корыстолюбие, подавление всех и вся, измена ради положения и наживы.
Плеханов резко отзывался о Троцком (Бронштейне). «Я считал Троцкого, хотя и не лишенного известной талантливости, но крайне поверхностным и в сущности пустым человеком», — признался он Александрову. Это касалось более раннего периода их знакомства, состоявшегося в 1902 году. Со временем Плеханов узнал, что энергичный, напористый, амбициозный, но «лишенный всяких сколько-нибудь серьезных знаний» Лев Бронштейн склонен к угодливости, двурушничеству и другим неприятным делам. Но следствие и социал-шовинистская пресса, связавшие Троцкого и Ленина единым обвинением, переносили подобные оценки, данные первому из них, и на второго. Если Плеханов обвинял Троцкого в близких отношениях с Парвусом, для Александрова это было равносильно обвинению в адрес Ленина. И какое ему дело до того, что Плеханов по этому поводу говорил: «Какие отношения существовали у Парвуса с Лениным во время войны, я не знаю. До войны отношения их, насколько я могу судить, не были близкими». Какое ему дело до того, что, по словам Плеханова, и близость Троцкого с Парвусом относится к прошедшим годам, что о последних годах он говорил: «Имел ли Троцкий связи с Парвусом, я не знаю, но его органы тогда высказывались против Парвуса». Не «замечалась» и такая фраза Плеханова: «В Вене Троцкий издавал до войны „Правду“, не имевшую ничего общего с ленинской „Правдой“. Об участии Парвуса в этом издании мне ничего не известно. Думаю, что он не участвовал».[150]
Оставлял Александров без внимания и другие невыгодные ему оценки Ленина. К примеру, того же Троцкого: «…считаю совершенно невероятными какие бы то ни было преступления подобного рода со стороны Ленина…» Точно так, как делал это и принявший от него эстафету публичной казни большевиков Соколов. Первый предал огласке «факты», изобличившие большевиков и их лидера в «корыстолюбии и измене». Второй доказывал, пользуясь этими «фактами», что никто иной, кроме этих «беспринципных, меркантильных и кровожадных предателей», не смог бы поднять руку на государя-императора и его семью. А чтобы эта теорема превратилась в аксиому, тоже, подобно Александрову, замалчивал невыгодные факты и выпячивал улики. Скажем, в августе 1920 года Соколов допрашивал Керенского. Оговорка последнего, вернее, его признание, что Ленина нельзя считать немецким агентом «в вульгарном смысле», не нашла в печати тех дней отражения. Зато раздувались высказывания бывшего главы Временного правительства, повторявшего те же намеки Плеханова, Мартова, Алексинского о «несомненной связи Ленина с немцами», о «пользовании их средствами». И ведь все это представлялось именно в «вульгарном понимании», что оспаривал Керенский.
Последний в упомянутом разговоре с Соколовым, в частности, отмечал: «Как лицо, которому принадлежала в те дни власть в самом широком ее масштабе и применении, я скажу, что роль немцев не так была проста, как она казалась, может быть, даже судебному следователю Александрову, производившему предварительное следствие о событиях в июле месяце 1917 года». Как всегда, Керенский уж слишком, почти по-царски, «обозначает» свою роль, становится в позу. Не принадлежала ему власть в то время в «самом широком ее масштабе и применении». Он пользовался этой властью даже в меньшей степени, чем Николай II в предфевральские дни. Да и в отношении Александрова Керенский, по всей видимости, заблуждается. Роль немцев в проводимом им следствии против большевиков он уяснил довольно четко и связывал между собой эти две силы, «несшие опасность для России», по-ермоленски: незамысловато, «вульгарно» и нахраписто. Свидетельство тому — опять «воровская шапка». Сколько раз она подводила и Александрова, и его помощников-наушников, и контрразведку. К примеру, полковник Генерального штаба, начальник контрразведки при Верховном Главнокомандующем небезызвестный Терехов, можно сказать, «крестный отец самого важного свидетеля» Ермоленко, сознался следователю Сцепуре, что фамилии и личности Ленина, Троцкого, Луначарского, как Парвуса и Козловского, ему неизвестны. Зато Лебедев, являвшийся старшим помощником начальника контрразведывательного отделения штаба Петроградского военного округа, то есть занимавший менее значительную должность, чем Терехов, и, по всей видимости, располагавший меньшим объемом секретной информации, оказывается, все это знал. «Ни Ленин, ни Троцкий, — рассуждал он, — конечно, не могли не знать, по-моему мнению, о квазикоммерческой деятельности Фюрстенберга и о связи его с Парвусом. В этом меня убеждает и то обстоятельство, что, по сведениям контрразведки, проезд Ленина и его сотрудников через Германию в значительной мере был устроен именно Парвусом и Фюрстенбергом». Что это было именно не так, Александров имел обстоятельные показания бывшего министра иностранных дел Милюкова. Получалось, что то ли Лебедев, мягко говоря, самостоятельно извращал факты, то ли говорил то, что было выгодно Александрову, довольно четко понимавшему «роль немцев и большевиков», ну и, конечно, свою в этом деле. И в этом они оба себя изобличили такой вот, зафиксированной Александровым, лебедевской фразой: «В контрразведывательном отделении к моменту восстания я находился уже около года… причем принимал деятельное участие в первоначальной разработке сведений о Ленине и других лицах, участвовавших, по моему глубокому убеждению, в организации июльского восстания». Проговориться больше даже неконтрразведчику, кажется, нельзя. И очень мало сомнений в том, что Александров тоже, совместно с контрразведкой, занимался этой самой «первоначальной разработкой сведений о Ленине и других лицах».[151]
В различных публичных выступлениях того времени Ленин давал важные сведения о так называемом вооруженном восстании, что по логике должно было составлять основную тему дела, которое вел против большевиков Александров. Кстати, последний тщательно знакомился и с этими публикациями. Естественно, он не мог не отметить утверждения Ленина о том, что большевики были против выступления. Об этом они заявили на заседании ЦК партии 3 (16) июля. Такое же решение приняла и происходившая в это время Петроградская общегородская конференция большевиков. Делегаты конференции отправились на заводы и в районы, чтобы удержать массы от выступления.
Подобные сведения сообщили Александрову и непосредственные участники демонстрации, добровольно явившиеся к нему для дачи показаний, причем как большевики, так и небольшевики. Но следователь придавал огласке совершенно иную «информацию», полученную от посторонних лиц типа Ермоленко и положенную в основу «предварительных разработок о Ленине». Все это нашло отражение в составленном Александровым постановлении, опубликованном в печати. Показания же действительных очевидцев он или игнорировал, или длительное время не снимал. Убедительным доказательством тому может служить хотя бы такой документ:
«<Штамп>: Г. Министру Юстиции
Прокурор генерал-прокурору
Петроградского окружного
Суда
31 июля 1917 вход. № 1944.
9 июля я, узнав из газет о постановлении Временного правительства о моем аресте, явился в тюрьму и был подвергнут тюремному заключению. С той поры прошло более двух недель. За все это время я не видел ни одного представителя судебной власти, ни разу не был подвергнут допросу и мне не было предъявлено судебными властями никакого внимания…
26. VII. 1917 г.
Ю. Каменев
„Кресты“. Кам<ера> № 18 (Л.Б. Розенфельд)».[152]
Каменев был освобожден из-под стражи через несколько дней после подачи этого письма, как со временем и другие участники «вооруженного восстания и германские агенты». Так поступили даже с Козловским, которого «явно изобличили» в том, что он был «главный финансовый агент, снабжавший большевиков германскими деньгами». Освобождая этих «виновников», Александров добивался ареста и задержания Ленина. Временному правительству нужен был именно Ленин и только Ленин для расправы над ним, в чем, не исключено, была заинтересована и германская сторона, подсунувшая русской контрразведке провокационные сведения. Возможно, конечно, и другое.
Уже сообщалось, что Ермоленко в свое время привлекался к суду и, непонятно за какие услуги, был освобожден. Не исключено, что он являлся агентом департамента полиции, охранного отделения или же контрразведки. Имеется больше всего оснований считать, что именно русская контрразведка устроила его побег из плена, снабдила затем кое-какими сведениями из «предварительной разработки дела Ленина», а после того, как она же, контрразведка, спровоцировала «вооруженное выступление» в июле 1917 года, подставила следствию «самого главного свидетеля». Такой вывод подтверждает тот факт, что именно показания Ермоленко Александров включил первым пунктом в составленное им постановление от 21 июля 1917 года о завершении предварительного следствия. К нему еще вернусь, а сейчас завершу разговор о той самой «предварительной разработке дела Ленина», а также «вооруженного восстания», проводимой контрразведкой.
29 сентября 1917 года помощник начальника контрразведывательного отделения штаба Петрофадского военного округа B.C. Коропачинский допрашивал бывшего младшего фейерверкера[153]1-го артиллерийского дивизиона Якова Васильевича Степанова, возраст — 30 лет, «жительство: арестован». Да, Степанов содержался под стражей как «активный участник вооруженного восстания», а на самом доле — жертва провокации той же контрразведки. Из протокола допроса, зафиксированного Коропачинским, это довольно ясно просматривается.
Степанов объяснил, что на военной службе с 18 июля 1914 года. Последнее время (с 5 апреля 1917 года) служил в 1-м артиллерийском дивизионе в Луге. Тогда-то и обратил внимание на то, как поручик Павловский и подпоручик Разумовский «стремятся посеять раздоры и смуту между солдатами». Они вербовали людей, склоняя их на свою сторону «обещаниями и главным образом деньгами». Степанова тоже агитировали, а однажды (в июле), встретив на вокзале, предложили куда-то ехать с ними. Через три дня (в Церковном саду) Разумовский, Павловский и их общий знакомый Карпищук повторили свое предложение и «передали… без всякой причины 100 рублей». Павловский при этом упрекнул Разумовского, вручившего Степанову деньги: «Дай больше, чего жалеешь! Разве мало у нас денег?» Фейерверкер от офицеров деньги принял, хотя был в недоумении. Спустя неделю он их встретил там же. «В их обществе, — излагал он подробности контрразведчику, — как я узнал впоследствии, были Луначарский, генерал Бадаев и др<угие>. Последний, между прочим, просил меня купить ему папирос; я исполнил просьбу генерала, за что получил от него „на чай“ 500 рублей. Меня удивила столь щедрая награда за мелкую услугу, и я спросил Бадаева, за что он дает мне столько денег; Бадаев ответил, что „нам все равно некуда девать деньги“». Здесь же, по словам Степанова, находилось еще несколько человек, назвавших свои фамилии, но Степанов запомнил только Розенфельда, Луначарского и генерала Бадаева.
Во время этой встречи Разумовский снова сделал предложение о поездке, но Степанов сказал, что без разрешения командира дивизиона этого сделать не может. Через несколько часов Разумовский выхлопотал разрешение и соответствующее удостоверение. «Мы все, — показывал Степанов, — т. е. я, Разумовский, Павловский, Луначарский, Розенфельд и др. отправились в Петроград».
По дороге Разумовский предложил поехать в Швецию. От этого предложения Степанов «категорически» отказался. Его назойливый попутчик сообщил, что был в Швеции уже несколько раз и даже «отправил в Швецию 60 солдат».
27 или 28 июля (Степанов точно не помнил) они приехали в Петроград. На вокзале их ждал автомобиль. Разумовский, Карпищук и Степанов поехали на нем в «Северную гостиницу». Здесь для них уже был приготовлен номер — 3. Вечером заявилось несколько человек, среди которых находился и Ленин (Степанову на него указал Романовский). Присутствовал и Розенфельд. Все они объясняли Степанову «приемы, которые надо употреблять при выступлениях на митинге».
Затем переехали в гостиницу «Яхта», из нее — в «Базар». Луначарский и Розенфельд продолжали инструктировать и обучать Степанова «ораторству», а также «вели пропаганду среди рабочих Нарвского района».
Жили также на частных квартирах, причем Степанов «уклонялся от совместной работы с упомянутыми лицами». В конце концов его решили направить в Гельсингфорс, снабдив подложным удостоверением (об этом он узнал позже), выданным будто бы «Исполнительным комитетом рабочих и солдатских депутатов».
В Гельсингфорсе ему выдали адрес «Парковая ул., д. № 1», где он должен был встретиться «с каким-то Козловским», к которому у него было письмо. О задачах, поставленных ему, Степанов сообщил следующее:
«На меня была возложена обязанность, рекомендуясь представителем Петроградского Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, входить в сношения с командами больших кораблей, настраивая их против Временного правительства и министра Керенского, причем в подтверждение своих слов я должен был приводить некоторые факты, как то: будто Николай II отправлен Временным правительством вовсе не в Тобольск, а в Англию, что Керенский ведет с ним переписку и что даже перехвачены телеграммы и одно письмо, которое я будто бы могу доставить, что Керенский пытался бежать, но на Кавказе 11 августа был задержан и был принужден буржуазией и далее управлять страной».[154]
В Гельсингфорсе на вокзале Степанова «встретило лицо, называвшее себя в Петрограде и в Луге Луначарским». Возможно, уже тогда догадка о какой-то злой шутке над ним или провокации встревожила не в меру доверчивого и безответственного тридцатилетнего фейерверкера. Эта догадка проскользнула в реплике, прозвучавшей при допросе: «Был ли это действительно Луначарский или кто-либо другой, только именовавший себя Луначарским, я Вам сказать не могу, так как Луначарского… я лично никогда не видел. Также само я не могу утверждать, что человек, назвавшийся в Луге Розенфельдом, есть действительно Розенфельд-Каменев».
Выполняя порученное ему задание, Степанов побывал на броненосце «Петропавловск» и пытался высказать команде все, чему его учили. Когда же сошел на берег, то был арестован неким Быстровым, «состоявшим в распоряжении охраны Народной свободы Исполнительного комитета Совета депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгского порта, затем заключен под стражу в Нюландскую тюрьму».
Если Степанова спровоцировала контрразведка, по утверждению автора этих строк, то почему она его не освободила? Зачем устраивала ему допросы?.. Во-первых, он поддался на соблазн «крупными чаевыми», покинул часть, место ее дислокации, вел пропаганду против Временного правительства. Значит — преступник. Значит — должен был понести наказание. Ну разве так уж важно, что Розенфельд-Каменев, якобы «соблазнявший» и «инструктировавший» свою жертву, — подставное лицо и «свой человек»? Во-вторых, не могли же контрразведчики признаться фейерверкеру, что использовали его как подсадную утку, извиниться перед ним. Наоборот, им выгодно было держать в неведении и устрашении Степанова, свалив всю вину на большевиков, пусть даже и использовав чужие имена, заронив на них в душу солдата злость, обиду, а может, и ненависть. Кроме того, запуганный обвиняемый, а потом помилованный — это же верный безотказный осведомитель.
6 октября 1917 года[155] состоялся повторный допрос Степанова. Он повторил почти все то, о чем говорил раньше, кое-что добавив и уточнив. Так, в Гельсингфорсе после встречи на вокзале с Луначарским «отправился по указанному адресу к Козловскому, коего и застал дома». Сюда же заявился и Карпищук. Козловский жил один, поэтому гости остались у него ночевать. На следующий день они пошли на броненосец «Петропавловск». Степанов, когда собралась команда послушать его, стал держать речь, между тем как Карпищук сошел на берег. (Похоже, что Карпищук контролировал его, но, когда убедился, что все идет по плану, постарался побыстрее скрыться, а может, и сообщил куда следует.) Степанов показал:
«Когда после нескольких слов к команде я увидел, что рано или поздно я буду разоблачен и что выдержать свою роль и вводить в заблуждение других не смогу, то решил признаться, что ни Керенского, ни вообще членов правительства я не знаю и говорю неправду, и предложил команде поступить со мной, как они признают нужным. Я с несколькими матросами поехал на берег…»
Вскоре матросы вернулись на корабль, а Степанов направился на вокзал. Там его разыскал Карпищук. Он же купил билеты, и они сели в вагон, чтобы отправиться в Петроград. Но тут вошел «зловещий» Быстров, арестовавший Степанова. Карпищука никто не тронул…
А вот финал этой, не нуждающейся в особых комментариях, детективной истории. Впрочем, комментарии в словах самого пострадавшего:
«По рассмотрению предъявленных мне фотографических карточек,[156] объясняю, что лица, изображенные на этих карточках, мне неизвестны. Те лица, которые виделись со мной и называли себя Розенфельдом и Луначарским, каждый раз являлись ко мне в других костюмах и нагримированными, поэтому я точно не могу сказать, действительно ли их фамилии — Розенфельд и Луначарский или они ложно именовались этими фамилиями…».[157]
Подобными фактами, закрывая глаза на недалекость или бесчестность «свидетелей», на анекдотичность или нелепость того, о чем они рассказывали, Александров заполнял вслед за показаниями Ермоленко и Алексинского свое постановление, предназначенное для публичного изобличения большевиков и их лидера. Кроме такого свидетеля, как Степанов, находится еще один, «невольно принимавший участие в выступлении» — командир 3-й роты Кронштадтского флотского полуэкипажа Семенников. Несмотря на «невольное участие», ему достоверно было известно, что «указания идти в Таврический дворец с требованием о низвержении Временного правительства были даны Лениным». Ему вторил поручик 1-го пулеметного полка Зыткин, намекая на какую-то организацию, от которой «выжидали распоряжений и сообщений о выступлении других полков». Командир роты Стогов заверял, что «связь Ленина с вооруженным выступлением обращала на себя внимание». Ну а сестра милосердия Шеляховская могла бы посоперничать богатством воображения с самим Ермоленко, поскольку видела, «как к образовавшейся у дома Кшесинской разношерстной толпе из рабочих, женщин, мальчишек и просто хулиганов выходили из этого „штаба Ленина“ несколько человек статских, полуинтеллигентного вида в шляпах и раздавали десятирублевые бумажки по одной на человека… ленинцами была роздана значительная сумма денег, не одна тысяча рублей…». Но за деньги следовало кричать «по требованию большевиков» лозунги вроде «долой»…
Подобных примеров не счесть. И все они подавались в противоречии с показаниями действительных участников событий и документов. К примеру, было предано огласке, что «по приказу большевиков арестовывались министры Временного правительства». Действительно, предпринималась попытка арестовать Чернова. Но это половина истины, вторая же в том, что именно те, кого обвиняли в организации «арестов», все сделали для того, чтобы локализовать этот единственный случай, получивший столь грозное обобщение. Это нашло отражение в показаниях Троцкого, Ильина и самого потерпевшего — Чернова. Кстати, Ильин, тогда добровольно явившийся в следственные органы и долго игнорируемый Александровым, сделал другое обобщение, причем более убедительное и объективное, чем постановление Александрова.
«Господину прокурору Прокурор Петроградского
Петроградской судебной окружного суда
Палаты 27 июля 1917
<Штамп> входящий № 1912
Мичмана Ильина (Раскольникова)
Опубликованное 22 июля от Вашего имени официальное сообщение содержит целый ряд касающихся меня фактических неточностей и искажений:
1) Делегаты от первого пулеметного полка приехали 3 июля в Кронштадт совершенно независимо от меня. Когда я узнал, что их временно, дабы не волновать массы, задержали в помещении Кронштадтского Исполнительного комитета, то я эту меру одобрил. Вообще, мне даже не удалось перекинуться с ними ни одним словом. Впервые я их увидел на митинге, на Якорной площади, куда был делегирован Кронштадтским Исполнительным комитетом для противодействия их призывам к немедленному выступлению в Петрограде.
2) На этом митинге, состоявшемся вечером 3 июля, я не только не призывал к вооруженному выступлению в Петрограде для ниспровержения Временного правительства, а, напротив, всеми силами удерживал товарищей-кронштадтцев от немедленного выступления в Петрограде. В моей речи я сослался на недостоверность сведений о выступлении петроградских воинских частей и сообщил только что полученное по прямому проводу от товарища Каменева известие, что если даже первый полк выступит на улицу, то у Таврического дворца наши партийные товарищи предложат ему мирно и организованно вернуться в казармы. В заключение я подчеркнул, что во всяком случае речь может идти только о мирной демонстрации и ни о чем ином. Тут же на митинге мне стало ясно, что мы в силах лишь отложить выступление, но бессильны отменить его. Самое большее, что мы могли сделать, — это придать движению формы мирной, организованной демонстрации.
3) Я не являюсь и никогда не был председателем Исполнительного комитета, а состою товарищем председателя Кронштадтского совета рабочих и солдатских депутатов.
4) На вечернем и ночном заседаниях Кронштадтского Исполнительного комитета, когда был решен вопрос о выступлении, я также не председательствовал, но принимал в заседании самое активное участие, высказывался в пользу демонстрации.
5) Резолюция Кронштадтского Исполнительного комитета об участии в демонстрации была подписана мною, как товарищем председателя Совета и рассылалась по частям от имени Исполнительного комитета, но ни в коем случае не от имени начальника морских сил, который к этой операции совершенно непричастен.
6) Утром 4 июля части гарнизона, собравшиеся на Якорной площади, уже имели определенное намерение выступить, и мне, так же, как и товарищу Рошалю, не было надобности произносить речи с призывом к вооруженному выступлению. Моя задача сводилась лишь к тому, чтобы разъяснить многотысячным массам, собравшимся на площади, смысл и задачи нашего выступления. Я обстоятельно объяснил, что, согласно решению Кронштадтского Исполнительного комитета, мы выступаем исключительно с целью мирной демонстрации для выражения нашего общего политического пожелания о переходе власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. Оружие берется нами только для демонстрации нашей военной силы, для наглядного обнаружения того огромного числа штыков, которое стоит на точке зрения перехода власти в руки народа. Точно так же это оружие может пригодиться и как средство самозащиты на случай возможного нападения со стороны темных сил. Я тут же указал, какое видное влияние оказывает первый выстрел, всегда наводящий общую панику, и распорядился, чтобы товарищи не подавали ни одного выстрела, а во избежание несчастного случая всем товарищам винтовки иметь незаряженными.
7) Совершенно неверно, что „руководителями этого выступления были Раскольников и Рошаль“. Кронштадтский Исполнительный комитет, а вслед за ним митинг на Якорной площади ранним утром 4 июля избрали для общего руководства мирной демонстрацией особую организационную комиссию, состоявшую из 10 человек. Но подавляющее большинство членов этой комиссии в целях единовластия просило меня взять на себя главное руководство всей демонстрацией. Я согласился и таким образом, являясь единоличным руководителем, всю полноту и всю тяжесть ответственности за руководство вооруженным выступлением кронштадтцев должен нести только я один. Товарищ Рошаль в этой демонстрации играл не большую роль, чем всякий другой ее участник, и потому вся ответственность товарища Рошаля должна быть снята и целиком переложена на меня.
8) В официальном сообщении говорится о попытках кронштадтцев арестовать министров, но не упоминается о том, что в освобождении В.М. Чернова принимали участие товарищ Троцкий и я.
9) В заключительной части официального сообщения после перечня одиннадцати фамилий, в том числе и моей, говорится о нашем „предварительном между собой уговоре“. По этому поводу могу сказать только одно: тов. Ленин, Зиновьев и Коллонтай мне хорошо известны как честные и испытанные борцы за революционное рабочее дело, в абсолютной безупречности которых я ни на одну минуту не сомневаюсь. Партийные дела заставляли меня поддерживать с ними самые тесные и непосредственные сношения. Но Гельфанд-Парвус, Фюрстенберг-Ганецкий, Козловский и Суменсон мне совершенно неизвестны. Ни одного из них я даже ни разу не видел, ни с кем из них абсолютно никогда и равно никаких связей я не имел. Наше дело руководителей демонстрации, равно как и дело товарища Ленина, Зиновьева и Коллонтай, за волосы притянуты к делу Парвуса и его коммерческих компаньонов, на которых я вовсе не хочу набрасывать тень, но с которыми мою связь установить совершенно невозможно, так как этой связи никогда не было.
10) Ни с какими агентами „враждебных“ или „союзных“ государств я никогда ни в какие соглашения не вступал и впредь вступать не намерен.
11) Ни от каких иностранных государств, ни от каких частных лиц денег на пропаганду или на что-либо иное не получал. Единственным источником моего существования является мое мичманское жалованье: 272 рубля в месяц.
12) С призывом „к немедленному отказу от военных действий“ я никогда и ни к кому не обращался. Напротив, всегда и всюду подчеркивал, что эта грабительская империалистическая война может быть закончена лишь организованным порядком, а ни в коем случае не втыканием штыка в землю.
13) В вооруженном восстании 3–5 июля не участвовал хотя бы по той простой причине, что этого вооруженного восстания вовсе даже и не было.
14) Никакого отношения к „самовольному оставлению позиций“ на каком бы то ни было фронте никогда не имел и не имею. Вообще, все эти утверждения заключительной части сообщения совершенно голословны, не связаны с предстоящим текстом, касающимся меня, и напоминают скорее статью Алексинского, чем официальный документ. Естественно, к чему я причастен, — мое участие в подготовлении и руководстве мирной вооруженной демонстрацией, — я правдиво разъяснил в моих показаниях военно-морскому следователю подполковнику Соколову, но составитель формального сообщения, к сожалению, не потрудился ими воспользоваться.
Не откажите, Господин Прокурор, настоящее мое разъяснение довести до сведения печати.
Выборгская одиночная тюрьма. („Кресты“.)
22 июля 1917 г. Мичман Ильин (Раскольников)».[158]
Конечно же, господин прокурор отказал. Точно так же, как остались в протоколе, не преданные огласке, объяснения A.M. Коллонтай: «Я лично никогда к братанию на фронте не призывала, относясь к нему скептически, считая центром тяжести работы на пользу скорейшего заключения мира — работу в тылу, но возможно, что где-нибудь я и призывала к братанию, проводя всецело лозунг партии, отличая при этом, что инициатива братания исходит от французов и англичан, которые первыми бросили этот лозунг братания». Не услышали голоса за пределами тюремной камеры добровольца 1916 года, окончившего Павловское военное училище, прапорщика В.В. Сахарова: «Что касается агитации против наступления, то, как все интернационалисты, я считал наступление вредным для дела развития демократического движения в Европе, которое вернее всего может привести к миру, и именно к миру, нужному для демократии всех стран. Но когда наступление было решено, я высказывал тот взгляд, что ни один полк не имеет права отказываться идти в наступление, иначе он расстроит фронт. Я много раз вполне определенно подчеркивал это, указывая вместе с тем, что прорыв нашего фронта, наше поражение тяжко ляжет на страну, что оно отдаст нас всех во власть германской буржуазии, тогда как наша задача — борьба со всякой буржуазией, и в том числе и с германской… Мне, как члену партии и члену… большевистской фракции, известно, что 3 июля большевики, члены партии, а значит, и члены Военной организации, должны были согласно инструкции от партийных центров удерживать массы от выступлений и так на самом деле и действовали…» Не узнал обыватель, почему 4 июля «Правда» вышла с «белой плешью», по словам Луначарского, на первой полосе. Конечно, было ясно, что редакция вынужденно сняла запрещенный цензурой какой-то материал. Но что это был за материал и почему его сняли, для многих оставалось тайной. Александров же, допросивший 25 июля 1917 года Луначарского, об этом знал. Его постановление, преданное огласке, должно было получиться совершенно иным, учти следователь как уже упоминавшиеся «секретные» факты, так и объяснение Луначарского по поводу «белой плеши» в газете «Правда» на первой полосе: «Совместно с т.т. Троцким, Зиновьевым и Каменевым мы выработали короткое воззвание, воспрещающее именем Ц.К. всякое выступление на 4 июля, которое и было отправлено немедленно в типографию газеты „Правда“ для напечатания на первой же странице…» Попутно Луначарский заметил, что в официальном сообщении, кроме извращения основной сути событий, допущены даже мелкие, но существенные для участников ошибки, касающиеся их фамилий. К примеру, настоящая фамилия Зиновьева — Радомысльский, а «вовсе не Апфельбаум[159]».
Кстати, эта «мелкая, но существенная» ошибка повторилась спустя три года в материалах Соколова. В составленном им протоколе осмотра трех номеров газеты «Общее дело» речь идет о представленных следствию Бурцевым материалах. В № 62 этой газеты от 10 декабря 1919 года (протокол осмотра составлен И.А. Соколовым 11–12 августа 1920 года) под заголовком «Обвинение Ленина, Зиновьева и других в государственной измене» фарисейски, что свойственно стилю Бурцева, извещалось: «В настоящее время могут быть сообщены без нарушения тайны предварительного следствия лишь некоторые данные, установленные свидетелями и документами, послужившие основанием для привлечения Ульянова (Ленина), Апфельбаума (Зиновьева), Коллонтай, Гельфанда (Парвуса), Фюрстенберга (Ганецкого), Козловского, Суменсон, прапорщиков Семашко и Сахарова, мичмана Ильина (Раскольникова) и Рошаля в качестве обвиняемых по 51, 100 и 108 ст. ст. угол, улож. в измене и организации вооруженного восстания». Фарисейской называю эту публикацию потому, что бурцевская «сенсация» состоялась еще в июле 1917 года, а его нарочитые потуги оградить «предварительное следствие» (это два с половиной года спустя, после того как следователь Александров отпустил всех «обвиняемых» под денежный залог и, прекратив следствие, отправился, по его словам, на Кавказ[160]) от «нарушения тайны» были лишены всякой необходимости разглашением этой самой тайны в те же июльские дни. Да что там Бурцев и что там девятнадцатый год! Ведь и в наши дни почти буква в букву повторяется это самое «предварительное следствие», так до сих пор и не перешагнувшее через тенденциозность и циничные попытки оградить «предварительное следствие от нарушения тайны». К примеру, в журнале «Столица» (№ 1 и № 4 за 1991 год) вся эта покрытая плесенью и давным-давно разоблаченная (в том числе и зарубежными исследователями) фальшивая сенсация подается под тоже далекими от новизны заголовками «Был ли Ленин агентом германского штаба?» и «Родимое пятно большевизма». Да, все это рефрен знакомой песни, запетой в свое время эсерами и кадетами, меньшевиками и бундовцами, монархистами и масонами: большевики — враги русского народа и друзья Германии, они служили Вильгельму и убили Николая. Но подобными откровениями истину не откроешь. До тех пор, пока мы без эмоций и крайностей не сумеем ответить, хотя бы для самих себя, на многие вопросы. К примеру, на такие: почему дочь генерала Домонтовича и жена генерала Коллонтая пошла в революцию, объявив войну монархии и буржуазной республике, войну мировой войне, почему ее сын, юнкер инженерного училища, собрав все свои скудные сбережения, поспешил «выкупать» у следователя Александрова мать-революционерку?[161] Пока мы не ответим хотя бы на эти частные вопросы, нам трудно будет объяснить (в первую очередь самим себе) трагедию последнего русского царя, неудачу Керенского, позицию Ленина и большевиков… Хотя настало время осмотреться вокруг позорче, чтобы разобраться тоже в довольно-таки непростой проблеме — кто же они, эти самые большевики?
К материалам предварительного следствия «по делу об убийстве отрекшегося от престола Российского государства Государя Императора Николая Александровича…» судебный следователь по особо важным делам Н.А. Соколов приобщил и «светские мемуары» деревенской девушки и «городской женщины» Матрены Григорьевны — дочери небезызвестного Григория Ефимовича Распутина. В общем, ее судьба — это тоже трагедия, связанная тесно с царской, поскольку отец по царской воле от деревенского подворья ее оторвал, а к царскому двору так и не пристроил — не позволили. Но не об этом речь. А о том, как эта «барышня-крестьянка» тяжко переживала «страшную революцию», которую принесли «ужасные большевики». В дневнике Матрены они представляются чудовищами, кровожадными пришельцами, посланниками ада. Соколов просвещеннее Матрены Распутиной, а поэтому считает, что «большевики — люди, и, как все люди, они подвержены всем людским слабостям и ошибкам…». И все же, не разделяя точки зрения Матрены, что «большевики — дьяволы, звери», Соколов, в общем-то, рассуждает почти что по-матренински: все, кто не укладывается в его монархические рамки, — большевики и большевистские агенты. Та же Матрена наверняка сплюнула бы трижды через плечо и перекрестила бы в страхе и негодовании залгавшегося следователя, если бы услышала, а вернее, смогла бы прочитать в соколовской книге,[162] что ее «святой папенька», который так надежно обеспечивал ее сладкой (по сравнению с деревенской) жизнью и о котором она так убивается, — не кто иной, как агент большевиков, создавший под боком у царя пробольше-вистскую и прогерманскую шпионскую организацию. Но еще больше удивилась бы распутинская дочка тому, что и ее муженька — Бореньку, который как черт ладана боялся не только военной службы, но и всего, что было связано с большевистской смутой, откровенного монархиста, Соколов тоже причислил к их общим врагам. «В декабре месяце 1919 года в г. Владивостоке, — писал Соколов, — был арестован военной властью некто Борис Николаевич Соловьев. Он возбудил подозрение и близостью к социалистическим элементам, готовившим свержение власти адмирала Колчака. Соловьев подлежал суду как большевистский агент…»
А вот еще один большевистский агент, «разоблаченный» Соколовым, — Сергей Марков, бывший офицер Крымского полка, шефом которого была императрица, пасынок известного ялтинского градоначальника генерала Думбадзе. Его связь с Распутиным (по мнению Соколова — это убедительная улика в связи с большевиками!) началась с 1915 года. В распутинском кружке он был свой человек, вот почему Матрена в своем дневнике называет Маркова Сережей. Вторая «большевистская улика» заключалась в том, что Марков имел… псевдоним. В Тюмени он жил под фамилией своего «сопартийца» и друга — Соловьева (кстати, настоящий Соловьев тоже имел псевдоним — «Станислав Корженевский»). И третья, все та же, улика — мечта о выезде или выезд за границу. Любой то ли потенциальный, то ли действительный эмигрант — это большевик. Степень большевизации возрастала, если эмигрант находился в Германии: «В конце 1918 года Марков уехал в Берлин… Еще до отъезда Маркова из Сибири думал о „загранице“ и Соловьев…» Но ведь и сам Соколов в конце концов оказался за границей, бывал в Германии, а его книга издана в Берлине, правда, посмертно. Ну а что можно говорить о Бурцеве, исколесившем Германию в поисках своих скандальных и кляузных материалов? А бывшие министры Временного правительства Милюков и Гучков? Первый еще в 1918 году вел переговоры в Киеве с немецкими представителями о «помощи России» и в том же году выехал за границу. Второй — в течение долгих лет, начиная с первых послереволюционных, был связан с высшими военными кругами Германии… Да мало ли их, «большевиков по-соколовски»…
Любопытны подозрения Соколова в принадлежности к большевикам одного из «участников расстрела царской семьи» Медведева: «Большевик Медведев, состоявший в сысертской партии, плативший даже партийные взносы, отнюдь не считал себя большевиком. Он называл большевиками людей нерусских». Как видим, у Меведева подход к определению «партийности» в чем-то схож с Соколовским. Один считал большевиками нерусских, второй — уехавших из России. Только у Соколова, как человека воинственного и заинтересованного в антибольшевизме, а поэтому более беспринципного, чем его подследственный — Медведев, диапазон партийного определения был пошире. Он, если из этого можно было извлечь какую-то пользу для своей, а точнее, определенной Керенским и Колчаком антибольшевистской версии, зачислял в ненавистную ему организацию «членов сысертской партии» (!), а также тех, кто себя не считал большевиком, в данном случае — Павла Медведева, «вора, мошенника и цареубийцу».
Верная оценка подобного подхода, которым довольно широко пользовались руководители и агенты царской охранки, «прогрессивные» журналисты типа Бурцева, Алексинского, Заславского,[163] дотошные «правоведы» — Керенский и Александров, некоторые авторы современного журнала «Столица», поможет приблизиться к истине, снять в «деле царской семьи» (да и в нашей истории) несколько «окончательных точек», поставленных в этом деле, к примеру, Радзинским. Да и нельзя же вот так — скопом все грехи как самой царской семьи, так и тех, кто ее травил и подталкивал к роковой черте, свалить на одну партию, записав в ее ряды представителей других политических сил. Хватит того, что личину большевиков приняли многие извечные их враги для разложения большевизма тайно и дискредитации гласно.
В упоминавшемся журнале «Столица» опубликован извлеченный из «алексинско-бурцевских подвалов» поддельный документ:
«В Архиве Комис. Юстиции из дела об „измене“ тт. Ленина, Зиновьева, Козловского, Коллонтай и др. изъят приказ Германского Императорского Банка за № 7433 от 2 марта 1917 года об отпуске денег тт. Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Суменсон, Козловскому и друг, за пропаганду мира в России…».[164]
Чтобы понять, какой большевичкой была «товарищ Суменсон», обратимся к показаниям, которые она дала Александрову 25 июля 1917 года. О себе она рассказала следующее: «Суменсон Евгения Маврикиевна, мещанка г. Варшавы, 37 лет, лютеранка, вдова, детей не имею, недвижимости не имею, под судом не была, окончила курс варшавской женской гимназии, постоянно проживала в Варшаве, а за два приблизительно месяца до взятия Варшавы переехала в Петроград…» Потом сообщила подробности о своей жизни и «большевистской» деятельности.
Женскую гимназию Суменсон окончила в 1897 году. Затем занялась самообразованием и «педагогической» работой. Вышла замуж за коммерсанта, но не совсем удачно — муж «через три с половиной года умер». Евгения Маврикиевна год проболела, а затем «стала заниматься конторско-корреспондентскою» (видимо, секретарской) деятельностью. В 1917 году становится «корреспонденткой» в фирме «Фабиан Клингелянд». Одним из собственников фирмы являлся тот, кто дал ей наименование, а вторым — брат Якова Фюрстенберга (Ганецкого) — Генрих, он же зять Фабиана Клингелянда. Жалованье месячное ей положили сперва 120, позже — 150 рублей. Фирма считалась состоятельной и занималась перекупкой детской молочной муки и слабительного средства (скавулина). Имелся собственный счет, а также филиал в Петрограде. Его-то и возглавила Суменсон. Получилось так, что петроградский представитель фирмы не поладил с главным хозяином как раз в то время, когда Евгения Маврикиевна собралась навестить в Павловске (под Петроградом) брата — Альфреда Рундо. Клингелянд и предложил ей «в виде опыта» заменить строптивого петроградского представителя.
Затем началась ее одиссея, связанная с Фюрстенбергами. После занятия Варшавы немцами Генрих выехал в Стокгольм и по делам фирмы вызвал туда Суменсон. От него она узнала, что Яков Фюрстенберг, следуя семейной традиции, тоже решил заняться торговлей. Суменсон, по ее словам, была страшно поражена «перерождением социалиста в торговца». Затем состоялась поездка в Копенгаген, где произошла встреча с Яковом, которого Генрих назвал Кубой. Там же она услышала и про Парвуса-Гельфанда, которого братья величали доктором, а также познакомилась с Козловским. Все вместе нанесли визит Парвусу, имевшему «богатую виллу-особняк и автомобиль» и прослывшему, по мнению Фюрстенбергов, очень богатым человеком.[165] Суменсон точно не запомнила, братья называли Парвуса «крупным социалистом или социал-демократом».
В ноябре 1915 года компания разъехалась кто куда: Генрих Фюрстенберг отправился через Берлин в Варшаву, Суменсон, сопроводив Якова до Стокгольма, — дальше, в Петроград; Парвус и Козловский остались в Копенгагене. По пути Яков сообщил, что Козловский является его юрисконсультом, а ее попросил представлять в Петрограде интересы его и Якова торговой фирмы (он занялся операциями с медикаментами). Представляя две фирмы, ей довелось вести обширнейшую переписку, а также совершать частые банковские операции. Приходилось заниматься денежными расчетами, минуя банки, в чем повинен Яков Фюрстенберг. Об этом она рассказала так:
«Не помню точно, говорил ли мне лично Яков Фюрстенберг в бытность мою в Копенгагене или он написал мне, но было им сделано такое распоряжение о том, чтобы я выдавала деньги Козловскому, когда он обратится, не помню точно, наказал ли мне так Яков Фюрстенберг или это вытекало из отношений взаимных между Козловским и Фюрстенбергом, но деньги я разными суммами выдавала Козловскому без расписок. Выдачи производились с 1916 года, приблизительно с весны по март 1917 года, причем он за это время отсутствовал довольно долго за границею. Всего выдала от 15 000 до 20 000 р., при этом должна оговориться, я говорю о цифрах приблизительно, и возможны неточности.
Приблизительно весною 1916 года Яков Фюрстенберг прислал письмо мне, я не могу восстановить дословно содержание его, но по содержанию его я поняла его так, чтобы я выдавала денежные суммы лицам, которые будут ко мне обращаться за счет Якова Фюрстенберга».
К последнему указанию Суменсон, к тому времени, по всей видимости, сумевшей позаботиться и о своем личном бюджете, отнеслась крайне отрицательно. Она выразила это в письме, а в ответ получила разъяснения, что не все поняла: деньги можно выдавать только по «заметкам», т. е. запискам Фюрстенберга. Но этих «заметок», кроме Козловского, так никто и не приносил, поэтому денег посторонним лицам она не выдавала. В первых числах марта Козловский принес письмо от Фюрстенберга («из Стокгольма, без конверта»!) с просьбой «прислать как можно больше денег с американским вице-консулом Райлли». Суменсон засомневалась: русские деньги — и за границу. Козловский ее успокоил, мол, ничего особенного, не она же вывозит эти деньги, а американец. Хотела сначала послать 100 000, но передала только половину этой суммы. Деньги получила по чеку на Азовско-Донской банк, который, «не храня таких денег, выдал поручение получить эту сумму из Государственного банка». Об этом имеется любопытная запись в протоколе допроса Суменсон: «Эту сумму я совместно с Козловским отнесла к названному Райлли, в гостиницу „Регина“, где он проживал, и передала ему, сказав ему, что, если какие-либо неприятности будут, могу ли я всегда сказать, что деньги переданы мною ему, Райлли, на что он ответил утвердительно. Деньги я передала при Козловском без расписки, так как мне было неудобно спрашивать расписку, а Козловский был свидетелем вручения денег».
Многое сомнительно, как в последнем факте, так и в других откровениях «товарищ Суменсон». Неопытную «корреспондентку», которая, кроме переписывания деловых бумаг, не имела никакой коммерческой подготовки, назначают «самостоятельным агентом» сперва одной, а затем двух торговых фирм. Если «корреспондентский» ее заработок составлял 120–150 рублей в месяц, то впоследствии, по ее же словам, превышал 600 рублей и более. «Размеры месячного моего заработка точно определить не могу, но в последний год он превышал тысячу рублей в месяц». Не очень-то можно поверить в предоставленную ей возможность «начинающим торговцем Яковом Фюрстенбергом распоряжаться крупными суммами без расписок». Она же созналась Александрову, что счетоводство у нее «крайне запущено», она не обзавелась ни бухгалтерией, ни служащими. Вместе с тем ее показания, в той части, которые хранил под грифом «секретно» следователь по особо важным делам, опровергают не только измышления о ее принадлежности к большевистской, но и к какой-нибудь другой революционной партии. Впрочем, сама Суменсон решительно отвергла и другие предъявленные ей обвинения. Она также развеяла легенду о «миллионах Фюрстенберга». Она показала, что в середине мая 1917 года Яков Фюрстенберг приезжал в Петроград.[166] Пробыл он в городе недели две, остановившись у сестры (Франциска Ляндау; ее муж — директор химфабрики). Яков жаловался Суменсон, что имеет большие долги, а денег нет. Объяснялось это очень просто — отсутствием опыта в коммерции, а также ростовщичестве, которым, судя по всему, он пытался заниматься. Словом, денег не хватало для большого «гешефта», для того, чтобы поставить дело так, как это было с процветающей братовой фирмой. Фюрстенберг участвовал также в различных посреднических делах, в том числе и эмигрантских, помогал в издании и распространении различной (также и большевистской) литературы. По показаниям Суменсон, Яков внес на ее счет в Азовско-Донском банке 40 000 рублей, из которых себе взял 2000. Спросил у нее разрешения и другим лицам из его клиентуры вносить деньги на ее счет. Суменсон разрешила, но, дескать, заметила, не лучше ли ему открыть свой счет. Он сказал, что «это неудобно».[167]
Не исключено, что подобными комментариями Суменсон пыталась то ли прикрыть свой откровенный грабеж хозяев фирм, выразившийся кругленькой суммой на ее банковском счету, то ли в какой-то мере задобрить следователя, сообщая хоть в малой степени удобную для него «информацию». И все же даже для предвзятого лица в этих показаниях трудно уловить «передачу немецких денег большевикам», тем более если в этих махинациях замешан американский вице-консул. Впрочем, участие последнего снова невольно навевает мысль о масонах или иной какой-то провокационной силе, использовавшей таких вот «важных свидетелей» в антибольшевистской возне.
Вот, к примеру, как делали агентом большевиков и даже большевиком небезызвестного прапорщика Ермоленко. В упоминавшемся письме Деникина к Керенскому о задержании в расположении русских войск бежавшего из плена бывшего офицера есть такие строки, сообщавшие о немецком шпионском задании: «После долгих, упорных уговоров со стороны немцев и по совету своих товарищей — пленных офицеров прапорщик Ермоленко согласился на предложение…» Что же делает Алексинский с этой фразой, получив от контрразведчиков письмо Деникина? А вот что: он втискивает понравившуюся ему фразу в антибольшевистское прокрустово ложе, то есть убирает все «лишнее». Из-под его лживого, злого пера выползает строка: «…поручение это Ермоленко принял по настоянию товарищей…» Кому тогда не было известно, что большевики в обиходе называют друг друга — «товарищ». Вот и получалось, что находившиеся в плену у немцев большевики настояли на том, чтобы их «товарищ» Ермоленко согласился выполнить «шпионские» задания немцев. Мало того, что сам Ермоленко говорил неправду, а Деникин интерпретировал ее (в показаниях Ермоленко рассказывалось о том, что одни пленные офицеры советовали ему согласиться с предложением немцев, чтобы скорее попасть домой, вторые — для раскрытия «большевистской шпионской организации» в нашем тылу, третьи решительно отговаривали), Алексинский сумел исказить даже интерпретированную выдумку. Причем сделал он это анонимно, не подписавшись под статьей «Ленин, Ганецкий и K° — шпионы», опубликованной в газете «Живое слово» 5 июля 1917 года. (Сразу же после известных событий в Петрограде, на следующий день, 6 июля, это же отредактированное письмо Деникина с комментариями за подписью Заславского и под заголовком «Дело Ленина и других» опубликовала газета «День»; с этих публикаций и началась массированная атака на большевиков.)
В «Живом слове» была и такая «правдивая» информация: «…деньги на агитацию получаются через некоего Свендсона, служащего в Стокгольме при германском посольстве. Деньги и инструкции пересылаются через доверенных лиц. Согласно только что поступившим сведениям, такими доверенными лицами являются в Стокгольме: большевик Яков Фюрстенберг, известный более под фамилией „Ганецкий“ и Парвус (доктор Гельфанд). В Петрограде: большевик, присяжный поверенный М.Ю. Козловский, родственница Ганецкого Суменсон, занимающиеся совместно с Ганецким спекуляциями, и другие…».[168]
О том, где находился «некий Свенсон-Свендсон», а также в каких «родственных связях» состояла Суменсон с Фюрстенбергом, читатель уже знает. Ну а о партийной принадлежности Козловского и Фюрстенберга (Ганецкого) сразу же дал разъяснения Ленин. В статье «Где власть и где контрреволюция?», помещенной 6 (19) июля в газете «Листок „Правды“», он писал: «Добавим, что Ганецкий и Козловский оба не большевики, а члены польской с.-д. партии, что Ганецкий — член ее ЦК, известный нам с Лондонского съезда (1903), с которого польские делегаты ушли, и т. д. Никаких денег ни от Ганецкого, ни от Козловского большевики не получали. Все это — ложь самая сплошная, самая грубая».[169]
Скорее наоборот, большевикам приходилось оплачивать Козловскому услуги, которые он оказывал им по юридическим и посредническим вопросам. Об одном подобном деле можно узнать из протокола осмотра некоторых материалов предварительного следствия («измена большевиков») от 6 октября 1917 года. В нем отмечалось, что 5 мая 1917 года «в камере Мирового Судьи 58-го участка» слушалось гражданское дело по иску госпожи М.Ф. Кшесинской о выселении из ее дома-особняка ряда политических организаций и нескольких лиц, «самовольно занявших в дни революции этот дом и отказавшихся добровольно очистить его». Поскольку в числе ответчиков являлся «Центральный Комитет Петроградской Социал-Демократической Рабочей Партии», его интересы представляли помощник присяжного поверенного Сергей Яковлевич Богдатьев и присяжный поверенный Мечислав Юльевич Козловский. Приводилась и реплика последнего, вернее, ее изложение. Козловский якобы говорил скептически о требованиях истицы, о «незаконном суде, который действует именем незаконно существующего Временного правительства», утверждал, что Кшесинская — фаворитка бывшего царя, а поэтому и ее иск незаконный. Все это строптивому присяжному даром не прошло. После июльских событий, а также разоблачений «немецкого и большевистского агента» газетами «Живое слово» и «День» Совет присяжных поверенных вынес 21 июля 1917 года постановление об исключении М.Ю. Козловского, привлеченного к ответственности, из списка присяжных.[170] Но еще раньше, менее чем через месяц после рассмотрения иска Кшесинской, охранное отделение установило за Козловским слежку. Об этом свидетельствует «Дневник наружного наблюдения» за ним (Козловский получил кличку Дипломат), первые записи в котором появились 2 июня 1917 года. В одной из них, от 9 июня, в частности, отмечалось: «…пошел в д. № 2 — в Военно-топографическое отделение в 3 ч. 15 м. дня, вскоре вышел, пошел на Дворцовую площадь в Главное управление Генерального штаба в 3 ч. 20 м. дня, вскоре вышел, пошел в штаб Петроградского военного округа… пошел на Мойку в д. № 32 — в редакцию газеты „Правда“ в 3 ч. 50 м. дня…». Если посещение «Правды» вполне логично для «большевистского агента», то чем объяснить его свободное посещение Военно-топографического отделения, штаба военного округа, Главного управления Генерального штаба? Еще большее удивление вызывает то, что столь нашумевшие «выезды Козловского за границу» осуществлялись «с разрешения Главного управления Генерального штаба», как об этом сказано в одном из документов.[171] Это относилось к июлю 1915 и июню 1916 года. Чем же объяснить такое участие «особой высокой инстанции» в делах столь подозрительного лица, проявленное в военное время? Он тоже случайное подставное лицо контрразведки в «измене большевиков» или же «свой» человек?..
Немало сомнений и вопросов возникает после знакомства с протоколами допросов Козловского. Так, в одном из них от 16 сентября 1916 года он дополнительно показал:
«По поводу предъявленной мне телеграммы из Христиании от 24 марта на мое имя от Кубы, т. е. Фюрстенберга… поясняю, что в этой телеграмме фамилия „Лиалин“ несколько искажена и правильная фамилия — „Лялин“. Лялин — это социал-демократ, проживавший за границей, и в указанное время проживавший в России. Действительная его фамилия Пятаков, имени же и отчества его не помню. Где он ныне находится, мне неизвестно. Я лишь знаю, что по приезде в Петроград он здесь пробыл, вероятно, несколько дней, а затем уехал в Киев. В указанной телеграмме Фюрстенберг и просил передать этому Пятакову-Лялину 1000 рублей. По поводу этих денег я имел беседу, но не помню хорошо, с Лялиным ли или с Фюрстенбергом, и у меня составилось понятие, что Лялин имел свои деньги в Стокгольме, которые и передал Фюрстенбергу перед отъездом в Россию, а Фюрстенберг, в свою очередь, поручил мне выплатить Лялину тысячу рублей из денег, принадлежавших Фюрстенбергу же и находившихся в моем распоряжении. В действительности, я этих денег Лялину не платил, хотя помнится, что выдал ему 200 рублей.
Что касается предъявленного мне письма без подписи, начинающегося словами: „Дорогой товарищ, письмо № 1 (от 22–23) получено сегодня, 21/IV ст. ст. Деньги (2 тыс.) от Козловского получены“ и оканчивающегося словами: „Сейчас пришли сообщения о громадных демонстрациях, стрельбе и пр.“, то почерк, кем писано это письмо, мне неизвестно. Относительно же указываемых в письме 2 тысяч поясню, что деньги эти такого же характера, как и указанные выше 1000 рублей, предназначавшиеся к выдаче Ленину. В данном случае, помню, ко мне обратилась Елена Дмитриевна Стасова… с просьбой выдать Ленину 2000 руб. из суммы Фюрстенберга, что я и исполнил. В настоящее время я ясно не помню, было ли мной получено от Фюрстенберга поручение уплатить эту сумму Ленину или такое поручение было получено самой Стасовой или Лениным, но относиться с недоверием к словам Стасовой я не имел оснований и потому просьбу ее исполнил. Точно я не могу объяснить, почему именно Фюрстенберг должен был уплатить Ленину 2000 руб., и лишь полагаю, что платеж этот связан с денежными расчетами между Лениным и Фюрстенбергом, а именно Ленин, как эмигрант, получив деньги из эмиграционного бюро на проезд в Россию, оставил их в Стокгольме у Фюрстенберга, и мне Фюрстенберг поручил деньги эти возвратить Ленину…».[172]
Оставим пока не внушающие доверия тон и общее содержание протокола допроса, проанализируем только ситуацию, снимающую многие вопросы по снабжению Ганецким Ленина и большевиков «немецкими деньгами». А ситуация такая. Эмиграционное бюро, располагавшее средствами, поступавшими от издательской, лекторской и коммерческой деятельности, а также за счет всевозможных пожертвований (вспомним хотя бы показания Горького), снабжало эмигрантов, зачастую независимо от их партийной принадлежности, денежным пособием для обживания на первых порах на новом месте. Такую же сумму, надо полагать, получили Пятаков (Лялин) и Ленин (Ульянов). Поскольку перевозить деньги через границу то ли не разрешалось, то ли было неудобно, пользовались посредническими услугами коммерческой фирмы Фюрстенберга, а также его представителя в России — Козловского.
Можно было бы принять на веру такую версию, если бы в материалах дела не встретился другой документ:
7 июля 1917 года начальник контрразведывательного отделения штаба Петроградского военного округа на основании 23 ст. Пол<ожения> о местн<ом> объяв<лении> сост. на военном положении вследствие приказания Главнокомандующего войсками Петроградского военного округа прибыл в сопровождении старшего своего помощника и наряда солдат при офицере от Гв. Преображенского полка в дом № 18/9 по Широкой ул. на Петроградской стороне в квартиру № 24, занимаемую М.Т. Елизаровым. Дверь прибывшим открыла проживающая в этой квартире Надежда Константиновна Ульянова. По предъявлении г-же Ульяновой вышеупомянутого приказания Главнокомандующего ей был задан вопрос, находится ли в квартире муж ее Владимир Ильич Ленин (Ульянов). Г-жа Ульянова заявила, что муж ее уже не возвращается домой с 5 июля с.г., не явившись домой после заседания Центрального Исполнительного комитета рабочих и солдатских депутатов. После этого г-же Ульяновой было предложено предъявить все документы ее мужа. Г-жа Ульянова заявила, что в квартире Елизарова она с мужем занимает всего одну комнату, в которую она и проводила прибывших. После тщательного обыска из документов и переписки Ленина было отобрано следующее:
…6) Книжка Азовско-Донского Коммерческого Банка № 8467 на имя г-жи Ульяновой…
…Расчетная книжка Азовско-Донского Коммерческого Банка „Петроград, № 8467“… на 2-й странице имеется… запись:
1917 г. месяца апр. чис. 15 принято согласно 1 объявлению (две тысячи рублей)…».[173]
Сопоставив 6-й пункт этого протокола с показаниями Козловского, можно прийти к выводу, что наличие расчетной книжки и внесение Ульновыми денежного взноса — именно 2 тыс. рублей — вполне логичны. Получив от Козловского ту же сумму, которая была оставлена Фюрстенбергу, они положили ее на свой счет. Но зачем изымалась эта книжка контрразведкой? Почему в показаниях Козловского называлась точно такая же цифра, как и в расчетной книжке? Почему он не узнал почерка предъявленного ему письма, которое якобы принадлежало Ленину?[174] И наконец, почему в этом ответном письме, адресованном в Стокгольм, Ганецкому, сообщается о получении его послания раньше, чем оно писалось?.. Следует обратить внимание и на то, что это «ленинское письмо» попало Александрову из контрразведки. Этим же источником пользовался впоследствии и Бурцев, дававший соответствующие показания Соколову.
Судебный следователь 5-го участка г. Петрограда, а во время июльских событий служивший в контрразведке штаба Петроградского военного округа, М.Н. Лебедев сообщил П.А. Александрову, что генерал Половцев поручил ему перевезти в штаб округа из дома Кшесинской бумаги «участников восстания». Обращают на себя фразы-оговорки в показаниях Лебедева, который, по его словам, получил личное указание осмотреть документы, «могущие оказаться» в доме Кшесинской, а также доставить их, «могущих быть найденными» там. Невольно напрашивается мысль, что он отправился забрать и доставить то, о чем заведомо было известно…
Соколов в подобной ситуации наверняка воскликнул бы: одинаковый почерк! Именно такой была его реакция при сравнивании трех дел — екатеринбургского, алапаевского и пермского.
Ну а разве не угадывается одинаковость «почерка» при оценке «большевистских бумаг», доставленных контрразведкой Керенского Александрову и Колчака — ему, Соколову? Читатель при желании и определенных терпении и дотошности сможет увидеть всевозможные несовпадения в бумагах, «оставленных большевиками из-за трусости поспешно», и нелогичность этого Соколовского утверждения о поспешности, и сомнительную удачу расшифровки «секретных шифровок», и нарочитость их «оставления»… Точно так, как различит в материалах, собиравшихся по указанию Колчака, лжебольшевиков от настоящих. Возможно, он задастся вопросом: почему велись столь оголтелые нападки на большевиков, которые в июльские дни семнадцатого претендовали на власть, а тем более оспаривали право на нее в меньшей степени, чем какая-либо другая политическая партия, почему их выставляли изгоями?..
Да, большевики не прилетели из других миров. Вместе с тем те же кадеты, меньшевики или эсеры, даже порой на словах отрицая монархию, на деле делали все для того, чтобы сохранить старый строй, немного его подправив, а главное — максимально приблизив себя к непосредственному управлению, к исключительным привилегиям. Их вполне устраивал извечный принцип — «один с сошкой, а семеро с ложкой», но не примиряло то, что, кроме одного с сошкой, есть еще один — с короной, который возвышается и над тем, кто пашет, и над тем, кто хлебает, т. е. над ними. Хотя в душе, не в меньшей мере чем вся великокняжеская рать, они, а точнее, многие из них, не прочь были бы примерить этот вожделенный тяжелый венец «помазанника божия». В душе каждый человек, быть может, немножечко монархист. Как в китайской легенде о драконе. Обязательно раз в несколько десятилетий находился храбрец, который входил в пещеру дракона, чтобы сразиться с ним. Храбрецы погибали, а дракон, казалось, жил вечно, наводя на всех страх и повелевая всеми. Но так казалось тем, кто не смел заглянуть в драконовское пристанище. Кто же это делал, видел перед собой немощное существо на куче золота. Пришелец дракона убивал, а сам, не устояв перед возможностью повелевать и обладать несметными богатствами, сам превращался в дракона. Находился еще кто-то, наследовавший от него это кровавое жестокое право… Король умер — да здравствует король! Это, казалось, неизбывно. И даже человек без царя в голове в душе видел себя царем…
Но вот объявились большевики и во всеуслышание изрекли, что и тот, который с короной, и тот, который с сошкой, равны. Ну а те, что все время хлебали, тоже должны взяться за соху. Большевики не пришли из других миров, но провозгласили совершенно иное мировоззрение, чем то, по которому верхами вершилась история, строилась жизнь. И их за это возненавидели. И не только ложкодержатели, но даже и пахари. Каждый, кто извечно, по наследству должен был ворочать сохой, все же лелеял надежду «выбиться в люди», заиметь не просто ложку, а — большую ложку. Возможно, многих и устраивал провозглашенный большевиками принцип, по которому сосед не имел бы больше соседа, не притеснял бы его. Но не так-то просто было принять к уму и сердцу то, что ты тоже не имеешь морального права быть богаче соседа и когда-нибудь стать над ним, подчинить его себе.
Настало время, когда большевистские идеи забродили не только в головах революционеров, но и у тех, кто возомнил или объявил себя таковыми. Необходимость подобного перевоплощения объяснялась тем, что идеи о равенстве и братстве в первую очередь ударили по монархическим устоям, давным-давно расшатываемым князьями-самоедами, дворянами-завистниками, крестьянскими бунтарями и «воровскими царями», террористами. Настало время, когда царское правление стало в глазах общественности почти таким же одиозным, как и возможность прихода к власти большевиков. К февралю семнадцатого на языке многих, чего не скажешь о головах, было два почти что одинаковых зла — царизм и большевизм. Но если от первого отказывались с надеждой его сохранить, избавившись от нынешнего главного носителя помазаннической идеи, отказывались временно, исходя из ситуации, то со вторым злом надеялись покончить раз и навсегда. А поэтому большевики были «уличены» в самом страшном грехе на Руси — измене. А поэтому в их ряды зачисляли всех, чьим именем и чьими деяниями можно было большевистское зло опорочить, предать анафеме тех, кто вносил разлад в большевистские ряды, и без того далеко не совсем сплоченные и однородные.
Наверное, если спросить того или иного читателя (или нечитателя) о партийной принадлежности, скажем, Коллонтай или Луначарского, то, уверен, многие, не задумываясь, назовут их большевиками даже в описываемое в этой книге время, т. е. дооктябрьское. Но вот что сама о себе говорила та же A.M. Коллонтай: «Свою политическую физиономию я определяю, как интернационалистка-большевичка. До войны я была меньшевичкой, но затем под влиянием определенной позиции, занятой большевиками во взгляде на современную войну как на империалистическую, в полном соответствии со Штутгардтской и Базельской резолюциями, принятыми на международных конгрессах социалистов в 1907 и в 1912 годах, я определенно перешла в лагерь большевиков». Подтвердил, что Коллонтай стала большевичкой только в последние годы, и Луначарский. Объяснил, что Троцкого (Бронштейна), долго противостоявшего большевикам, он, Луначарский, в настоящее время поддерживает. «Тов. Бронштейна… знаю с 1903 года, — говорил он на следствии. — Долгое время был далек от него. Сблизился только во время войны, считая его одним из ближайших ко мне товарищей». Себя же характеризовал так: «Лично о себе скажу, что к большевикам я не принадлежу и отношусь к социал-демократической партии, принадлежа к так называемому междурайонному комитету социал-демократической партии. Партия эта, насчитывающая тысячи 3 членов, одно время вела переговоры с большевиками о слиянии, причем события 3–4 июля н.г. прервали эти переговоры…».[175]
События 3–4 июля, спровоцированные Временным правительством для развязывания открытого террора против большевиков, явились основным камнем, заложенным в фундамент антибольшевизма. Эти события дали возможность открыто и во весь голос заявить о большевистской измене, о большевистском шпионаже, о большевистском стремлении к власти с помощью немцев. «Прибыв в Россию в 1917 году с целым сонмом навербованных им агентов, в чем ему открыто помогали немцы, — продолжал „укреплять этот фундамент“ Бурцев, откровенничая перед Соколовым в 1920 году в Париже, — он повел энергичную борьбу на развал России в самом широком масштабе». Но «сонм» создавать помогали не немцы, а бурцевы. Вот, к примеру, каким документом снабдили Александрова работники контрразведки 24 апреля 1917 года, проявив при этом понятную уже читателю тенденциозность и «бдительность»:
«Список эмигрантов, переехавших границу в Торнео 2/15 апреля 1917 года:[176]
1. Миринегоф Мария русская еврейка, 31 г. Из Цюриха в Петроград.
2. Эйзенбуд Меер русский еврей, 28 л., инженер, из Цюриха в Петроград.
3. Радоминская Злота русская еврейка, 35 л., из Берна в Петроград.
4. Харитонов Моисей русский еврей, 30 л., инженер, из Цюриха в Петроград.
5. Ульянова Надежда русская 48 лет, преподавательница, из Цюриха в Петроград.
6. Гребельская Таня русская еврейка, 26 л., студентка, из Цюриха в Петроград.
7. Гобберман Михаил русский еврей, 25 л., студент, из Швейцарии в Петроград и Москву.
8. Константинович Анна русская еврейка, 50 л., студентка, из Швейцарии в Петроград и Москву.
9. Линде Иоганн русский, 29 л., из Цюриха в Петроград.
10. Шокойя Мише русский журналист, из Женевы в Петроград.
11. Розенблоом Давид русский еврей, 50 л., дантист, из Швейцарии в Петроград.
12. Сковно Абрам русский еврей, 28 л., электротехник, из Берна в Петроград.
13. Поговская Буня русская еврейка, 29 л., из Женевы в Петроград.
14. Арманд Инеса русская, 40 л., студентка, из Швейцарии в Петроград.
15. Гранасс Александр поляк, дантист, 33 л., из Копенгагена в Петроград.
16. Абрамович Шаи русский еврей, 29 л., студент, из Швейцарии в Петроград.
17. Сафаров Георгий русский, 25 л., доктор, из Берна в Петроград.
18. Мирингоф Илья русский, 39 л., из Цюриха в Петроград.
19. Шонесон Симон русский еврей, 30 л., из Цюриха в Петроград.
20. Усевич Григорий русский еврей, 26 л., из Цюриха в Петроград.
21. Радомильский Евсей русский еврей, 33 л., журналист, из Берна в Петроград.
22. Шлюссарева Надежда русская, 31 г., из Женевы в Петроград.
23. Кон Елена русская, 24 л., из Цюриха в Петроград.
24. Бриллиант Григорий русский еврей, журналист, из Женевы в Петроград.
25. Сковно Рахиль русская еврейка, 32 л., из Стокгольма в Петроград.
26. Косе Георгий словак австриец, 28 л., из Христиании в Царское Село.
27. Свиялович Давид русский еврей, 33 л., из Стокгольма в Петроград.
28. Равич Сара русская еврейка, 37 л., акушерка, из Стокгольма в Петроград.
29. Ульянов Владимир русский журналист, 41 г., из Стокгольма в Петроград.
30. Ревкин Золмах русский еврей, 34 л., из Стокгольма в Петроград.
31. Мирлохкинд Валентина русская 28 л., студентка, из Стокгольма в Петроград».[177]
Любой здравомыслящий человек, просмотрев список разношерстных пассажиров, пересекших границу с Финляндией по официальному разрешению, зарегистрированных властями и зафиксированных контрразведкой и охранным отделением, разве сделает по этому списку вывод о «сонме революционеров Ленина»? А Бурцев это сделал. По его утверждению, все эти случайные люди, большая половина из которых женщины, помогли Ленину выполнить агентурную задачу, поставленную немцами, — свергнуть Временное правительство и захватить власть. Причем, давая показания Соколову 11 августа 1920 года, Бурцев напускал на себя вид всезнающего «специалиста по Ленину и большевикам», излагая неточности, измышления, а то и откровенную клевету. «Я не знаю лично ни Сафарова, ни Войкова, — признался он. — Но знаю их по их положению. Оба — видные члены партии большевиков. Оба они прибыли как агенты Ленина, а следовательно, немцев, в 1917 году в запломбированных вагонах через Германию. Я имею список всех лиц, прибывших тогда с Лениным. В этих списках Войков значится под номером 11-м, а Сафаров — под номером 5-м. Эти списки я получил в свое время из официальных источников». В приведенном же мною списке под № II значится «Розенблоом Давид», а под № 5 — «Ульянова Надежда». Сафаров Георгий включен сюда 17-м, Войкова же совсем нет. Может, он, этот список, не «из официальных источников»? Нет, из них, он препровожден Александрову контрразведкой. Правда, были еще и другие списки. Один из них — пассажиров, «переехавших границу в Торнео 7/20 апреля 1917 года», с припиской: «Политические эмигранты. Приезд 12 первых эмигрантов был сообщен г-ном Дюма из Министерства иностранных дел».[178] В него внесено 18 фамилий. 5-м в нем записан Моисеенко Борис, а 11-й — Фундаменский Илья, известный эсер. Значатся также и другие эсеры, к примеру, Савинков Борис и Чернов Виктор, вошедшие впоследствии в состав Временного правительства (последний — в качестве министра). Но нет здесь ни Сафарова, ни Войкова, ни Ленина. Третий список из 72 человек Александров получил со следующей препроводительной:
«Начальник Ве<сьма> спешно контрразведывательного Судебному следователю по отделения особо важным делам
Штаба Петроградского Александрову военного округа на театре военных действий
„4“ октября 1917 г.
№ 11021
Петроград
Воскресенская наб.,
д. № 28, кв. 4.
Тел. № 139 — 25 на № 659
При сем препровождаю список эмигрантов, прибывших в Россию в начале апреля сего года.
Подробный список эмигрантов, прибывших в первой половине мая сего года, всего около 250 человек, препровожден мною заведываюшему Центральным Бюро при Главном Управлении Генерального Штаба.
Других списков во вверенном мне отделении не имеется.
Приложение: список.
За начальника отделения прапорщик <роспись>
За помощника начальника отделения
<роспись>[179]».
В этом списке Ленин (Ульянов) числится под 2-м номером, Надежда Константиновна Ульянова — под 3-м. Под 5-м, как и говорил Соколову Бурцев, — Сафаров. Но Войкова снова нет. Да и сам список тоже не может быть доказательством бурцевского утверждения о «сонме навербованных Лениным агентов, в чем ему откровенно помогали немцы», поскольку формировали эту партию эмигрантов официальные представители Временного правительства, включив в нее и эсеров, и меньшевиков, и большевиков, и далеких от политики людей — искателей приключений, предпринимателей, несчастных скитальцев. Другими списками, за исключением списка эмигрантов в количестве 250 человек, прибывших месяцем раньше, как указывалось в препроводительной записке, даже контрразведка не располагала. Думается, что не мог иметь их и Бурцев. Да Соколов и Александров с него этих списков и не спрашивали. Для них было достаточно того, что большевики объявлялись врагами народа, исчадиями ада и предавались Бурцевым, точно так же, как и Матреной Распутиной, анафеме.
Критика Бурцевым большевиков вообще-то довольно поучительна. Он их обвиняет в выступлениях против царизма, хотя сам считает себя врагом монархии. Они, оказывается, преступным образом поступили с Временным правительством, хотя Бурцев тоже выказывал этому правительству недоверие. По его мнению, большевики не имели права заниматься ни пропагандой, ни организационной работой, ни издательскими делами, ни финансовыми вопросами; оставлял он это право за собой, за всеми остальными, кроме большевиков, политическими партиями и течениями. Получалось, что и следователи разделяли эту точку зрения, ставя большевикам в вину то, что другим прощалось, что для других считалось (скажем, издательcкая или коммерческая деятельность с целью пополнения партийной кассы) вполне приемлемым и оправданным.
Вместе с тем та же издательская работа, позволявшая проводить в жизнь свои идеи и в значительной мере покрывать расходы на организаторскую и пропагандистскую работу, являлась для любой эмигрантской группировки общим и необходимым делом. Не считалось зазорным прибегать к помощи влиятельных лиц в качестве посредников и поручителей. Плеханов, давая показания Александрову 10 сентября 1917 года, к примеру, сообщал, что всегда недолюбливал Троцкого, что именно благодаря его, Плеханова, «оппозиции» по отношению к Троцкому последний не был введен в состав социал-демократических органов, издававшихся в эмиграции, «Зари» и «Искры». Это произошло в 1902 году. Несколько улучшились их отношения после образования «фракции большевиков и меньшевиков», когда Троцкий примкнул к последним. Однако и после этого Плеханов не совсем доверял Троцкому, который к тому же вскоре отошел и от меньшевиков, выступая «в качестве глашатая близкого всемирного социального взрыва». Поселившись в Австрии, Троцкий до Первой мировой войны издавал в Вене газету «Правда», по словам Плеханова, «не имевшую ничего общего с ленинской „Правдой“».[180] Возможно, именно это обстоятельство, т. е. ничего общего с ленинской позицией, и позволило Троцкому искать покровительства у Плеханова, а тому оказать это покровительство в журналистской деятельности «оппоненту Ленина». Вот как об этом говорил Александрову Плеханов:
«Известно мне было, что Троцкий писал в „Киевской мысли“, помещая там иногда очень недурные корреспонденции под псевдонимом Антида-Отто. Когда началась нынешняя война, Троцкий, не знаю как, очутился в Женеве, между тем как я был в Италии. Из Женевы он послал мне в Италию длинную телеграмму с просьбой рекомендовать его Гедду, бывшему тогда министром труда без портфеля, на предмет получателя в качестве корреспондента „Киевской мысли“ права разъезжать в непосредственной близости к фронту. Я не знал тогда, как относится Троцкий к вопросу о войне. Из наведенных мною справок выходило, что отношение его к ней какое-то неопределенное.
Не желая создавать ему препятствий в его профессиональной деятельности корреспондента, я дал просимую им рекомендацию.
Когда Троцкий получил желаемое, его отношение к войне стало совершенно определенным. Он стал резко нападать на Жюля Гедда и меня за наш оппортунизм, социал-патриотизм и т. д. Нападки Троцкого не смущали меня, но меня очень удивляло, что в „Киевской мысли“ он по вопросу о войне высказывался совсем иначе, нежели в своем ежедневном парижском органе „Голос“, который был запрещен французским правительством и издавался потом под названием „Наше слово“».[181]
Вообще о том, как Троцкий, желая того и не желая, порочил большевизм, стоит рассказать особо. Нет, не о всех его разногласиях с большевиками (это длинный разговор), а о том, что использовалось Временным правительством для обвинения большевиков в самом страшном грехе — измене.
Один из «серьезнейших моментов», порочащих, по мнению Александрова и многих его свидетелей, не столько Троцкого, сколько всех большевиков, — это связь первого с «пугалом обывателя» — Парвусом. Этот момент отражен и в показаниях Плеханова, который сообщил, что «Парвус-Гельфанд явился за границу очень молодым эмигрантом в середине восьмидесятых годов». Там он закончил курс Базельского университета, вступил в немецкую социал-демократическую партию и поселился в Германии. Следственные органы и печать Временного правительства Парвуса тоже выдавали за большевика. Но Плеханов определенно называет его «немецким социал-демократом», ну а где с иронией относит его к русской социал-демократии, то слово «русский» берет в кавычки. И это вполне понятно, поскольку немецкие социал-демократы с первых дней войны поддержали свое правительство, призывая народ к победе германского оружия, за что подверглись суровому осуждению со стороны Ленина и большевиков, точно так, как последние критиковали сторонников войны до победного конца из числа русских социал-демократов и шовинистов.
«В Германской партии он принадлежал к самому левому крылу, — говорил Плеханов о Парвусе. — Около 1900-х годов он пришел к тому убеждению, что скоро предстоит всемирный социалистический взрыв. Это убеждение он впоследствии сообщил подпавшему под его влияние Троцкому. С этим убеждением он в 1905 году приехал в Россию, где он, впрочем, большого успеха не имел. Здесь он, как известно, был арестован, сослан в Сибирь, откуда бежал и опять очутился в Германии. Здесь он, несмотря на крайний радикализм своего образа мыслей, большой популярностью не пользовался. Социал-демократы смотрели на него как на человека некорректного в частной жизни и не совсем надежного в денежных делах. Может быть, вследствие этой непопулярности он переехал в Константинополь, где, по слухам, сошелся с младотурками».
Когда началась война, Парвус, по словам Плеханова, вернулся в Германию. По пути он останавливался в Софии, где выступил на многолюдном митинге с утверждением, что «в интересах цивилизации и революции желательно, чтобы Германия победила Россию». Примечательно, что это утверждение, этот призыв почти слово в слово повторили те, кто, обвиняя в Первую мировую войну большевиков в «шпионских связях с немцами», во Вторую — всецело поддержали Гитлера в его «крестовом походе против большевистской России — врага европейской цивилизации».
«Русский» социал-демократ, показывал Плеханов, возвратился в Германию «не с пустыми руками», а обладателем «миллионного состояния». Объяснить, как это тому удалось, Плеханов не мог, но сообщил Александрову пересуды о том, что Парвус нажил капитал «хлебными спекуляциями во время войны». Политическое лицо тоже изменилось: теперь он примкнул не к левому, а к правому крылу германской социал-демократической партии. Это его «новое лицо» нашло отражение в издаваемой Парвусом в Мюнхене газете, прославлявшей подвиги германского генерал-фельдмаршала Гинденбурга, подавившего впоследствии Ноябрьскую революцию в Германии, явившегося одним из руководителей интервенции против Советской России, передавшего в 1933 году, будучи президентом, всю власть нацистам.
«Скромный» Плеханов не забыл отметить и свои «заслуги». Он говорил Александрову: «Не без гордости добавлю, что в Германии Парвус написал против меня брошюру, распространявшуюся германским правительством в лагерях военнопленных. В этой брошюре он обвинил меня в том, что я изменил революции и т. д.».
Вот, оказывается, какое это страшное зло было — Парвус, которому поклонялся Троцкий (неважно, что это было в давние молодые годы последнего) и который финансировал «шпионскую деятельность большевиков» из своего «нечистого состояния», пополняемого за счет немцев и доверчивых людей типа Горького.
Не менее, чем Парвус, приобрел скандальную известность (по отзывам того же Плеханова) и сам Троцкий. Газета «Голос», выходившая в 1914 году, «главным сотрудником и, вероятно, редактором» которой он являлся, распространялась среди эмигрантов, «у которых преобладало пораженческое направление». Французы, не привыкшие к языку русских пораженцев, «очень скоро пришли к заключению, что „Голос“ издавался на немецкие деньги», и его поэтому закрыли. «В конце концов французское правительство, которое было склонно видеть в Троцком немецкого агента, выслало его из Франции. Это было приблизительно в середине 1916 года. Из Франции Троцкий выехал в Америку», — так обвинил Плеханов Троцкого. Но затем, вроде спохватившись, поправился: «Какие основания были у французского правительства считать Троцкого немецким агентом, а „Голос“ издававшимся на немецкие деньги, я не знаю. Если бы у французского правительства были неоспоримые доказательства этого, то оно не ограничилось бы высылкою. Не думаю также, чтобы в приказе о высылке Троцкого содержалось что-либо о том, что его считают немецким агентом».
Не было серьезных оснований, надо полагать, и у английского правительства, подвергшего менее чем через год Троцкого аресту, поскольку спустя месяц он был освобожден. Любопытно, что ходатайствовало об освобождении Троцкого Временное правительство, видимо, надеясь, что с его приездом в Россию он окажется полезным в борьбе с большевиками и в их компрометации. Еще более примечательно то, что следствие, возглавляемое Александровым, даже не посчитало нужным привлечь Троцкого наряду с другими активными участниками «июльского вооруженного выступления» к ответственности, хотя он накануне этих событий проявлял завидную, впрочем, как всегда, активность. Об этом свидетельствует приобщенное Александровым к делу заявление Троцкого, зарегистрированное в Министерстве юстиции 17 июля 1917 года под № 4090 и переданное следователю прокурором Петроградской судебной палаты. Вот его текст:
«Временному правительству.
Мне сообщают, что декрет об аресте, в связи с событиями 3–4 июля, распространяется на тт. Ленина, Зиновьева, Каменева, но не затрагивает меня.
По этому поводу считаю необходимым довести до Вашего сведения ниже следующее.
1. Я разделяю принципиальную позицию Ленина, Зиновьева и Каменева и развивал ее в журнале „Вперед“ и во всех вообще своих публичных выступлениях.
2. Отношение мое к событиям 3–4 июля было однородным с отношением названных товарищей, а именно:
а) о предполагаемом выступлении пулеметного и других полков т.т. Зиновьев, Каменев и я впервые узнали в заседании соединенного Бюро 3 июля, причем мы немедленно предприняли необходимые шаги к тому, чтобы это выступление не состоялось; в этом смысле т.т. Зиновьев и Каменев снеслись с центрами большевистской партии, я — с товарищами по „междурайонной“ организации, к которой принадлежу;
б) когда демонстрация тем не менее состоялась, я, как и тт. большевики, многократно выступал перед Таврическим дворцом, выражал свою полную солидарность с основным лозунгом демонстрантов: „Вся власть Советам“, но в то же время настойчиво призывал демонстрантов немедленно же возвращаться, мирным и организованным путем, в свои войсковые части и в свои кварталы;
в) на совещании некоторого числа членов большевистской и „межрайонной“ организации, происходившем глубокой ночью (3/4 июля) в Таврическом дворце, я поддерживал предложение т. Каменева: принять все меры к тому, чтобы избежать 4 июля манифестаций; и только после того, как все агитаторы, прибывшие из районов, сообщили о том, что полки и заводы уже решили выступать и что до ликвидации правительственного кризиса нет никакой возможности удержать массы, все участники совещания присоединились к решению приложить все усилия к тому, чтобы ввести выступление в рамки мирной манифестации и настаивать на том, чтобы массы выходили без оружия;
г) в течение всего дня 4 июля, проведенного мною в Таврическом дворце, я, подобно присутствовавшим тт. большевикам, неоднократно выступал перед демонстрантами в том же самом смысле и духе, что и накануне.
3. Неучастие мое в „Правде“ и невхождение мое в большевистскую организацию объясняются не политическими разногласиями, а условиями нашего партийного прошлого, потерявшими ныне всякое значение.
4. Сообщение газет о том, будто я отрекся от своей причастности к большевикам, представляет такое же измышление, как и сообщение о том, будто я просил власти защитить меня от „самосуда толпы“, как и сотни других утверждений той же печати.
5. Из всего изложенного ясно, что у вас не может быть никаких логических оснований в пользу изъятия меня из-под действия декрета, силою которого подлежат аресту тт. Ленин, Зиновьев и Каменев. Что же касается политической стороны дела, то у вас не может быть оснований сомневаться в том, что я являюсь столь же непримиримым противником общей политики Временного правительства, как и названные товарищи. Изъятие в мою пользу только ярче подчеркивает таким образом контрреволюционный произвол в отношении Ленина, Зиновьева и Каменева.
Петроград. Лев Троцкий».[182]
Смелость и прямота Троцкого, с которыми он разделяет позицию большевиков по отношению к Временному правительству, не могут не вызывать уважения. И все же не так все просто в этом заявлении, написанном 10 июля 1917 года, как может показаться на первый взгляд.
То, что Временное правительство доживает если не последние дни, то последние месяцы, было ясно даже и менее искушенному, чем Троцкий, политику. Не сегодня-завтра, быть может, начнут делить портфели. Без участия большевиков этот дележ, как это могло быть еще в апреле, когда Ленин заявил меньшевикам и эсерам о согласии большевиков быть в оппозиции на мирных партийных началах, обойтись уже не мог. А его, Льва Троцкого, неизменно высказывавшего свою (пусть парадоксальную, но именно свою!) позицию, несмотря ни на какие опасности, рвущегося в лидерство и уже признанного многими лидером революционного движения, вдруг «изымают из борьбы». Как же он мог не опротестовать это «изъятие», да еще, возможно, надеясь предать свое заявление огласке? И чем он, собственно, рисковал? Очередным арестом? Но он их пережил много. Судом? Это еще более повысило бы его популярность. Смертной казнью по законам военного времени?.. Надо полагать, на такой крайний риск он не рассчитывал. Какие же основания можно высказать по поводу подобного предположения?
Официальное следствие не располагало против Троцкого теми обвинениями, которое выдвинуло против большевиков и других участников «вооруженного выступления» (а может, и не желало выдвигать их!), поскольку «изъяло его из-под действия декрета об аресте». Он признавался в том, что является «непримиримым противником общей политики Временного правительства». Но являться противником — это не значит выступать против, а именно последнее и отрицал Троцкий в своем заявлении, более того, он отговаривал других от подобных, враждебных правительству действий. Впрочем, только в этом пункте он, получалось по всему, и сходился с большевиками. Он даже упреждал их в провозглашении политического лозунга «Вся власть Советам». Большевики считали этот лозунг преждевременным. Троцкому же этот лозунг, несмотря на засилье в нем меньшевиков и эсеров, судя по всему, был выгоден. И не только потому, что он в любом деле торопился, суетился, боясь упустить момент, чтобы выдвинуться, быть если и не единоличным лидером, то в числе немногих — самых первых. Дело в том, что он тоже входил в состав Исполнительного комитета Петроградского совета. Причем вошел туда не столько на выборной основе, сколько по «персональному приглашению». Вот как он сам объяснял этот довольно любопытный случай, схожий с тем нашумевшим «освобождением из-под стражи английским правительством по просьбе Временного правительства».
В деле, которое вел Александров, подшит протокол допроса от 24 июля 1917 года, составленный «в Петроградской одиночной тюрьме (Крестах) судебным следователем 24-го уч. гор. Петрограда». Как видим, показания Троцкого, как и он сам, не очень-то интересовали Александрова, и он даже не посчитал нужным самолично допросить столь важного свидетеля. Впрочем, как отмечалось в протоколе, в соответствии с постановлением от 21 июля тот привлекался к допросу уже в качестве обвиняемого. О себе он сообщил следующее:
«Я, Лев Давидович Бронштейн, Троцкий… 37 лет, вероисповеднаго состояния, а отец мой был иудейского вероисповедания,[183] рожден в дер. Яновка, возле колонии Грамотлей,[184] Елизаветградского уезда, Херсонской губернии, к каковой колонии и прописан как колонист-земледелец, при старом режиме был лишен гражданских и воинских прав приговором Петроградской Судебной Палаты в 1907 году в качестве обвиняемого по ст. 100 угол, улож., рождения брачного, считаю себя русским гражданином, кончил реальное училище, женат, имею двух малолетних дочерей, по профессии писатель по общественным и социальным вопросам, средствами к жизни является литературный труд, особых примет не имею…»
Ну а о том, как оказался «приближенным» к руководству Советом, Троцкий показал:
«В состав Исполнительного Комитета Петроградского Совета Р.С.Д. я был приглашен (с совещательным голосом) самим Исполнительным Комитетом, как бывший председатель Петербургского Совета Раб. Депутатов 1905 года. В состав Всероссийского Исполнительного Комитета я вошел на всероссийском съезде Советов от фракции „объединенных социал-интернационалистов“».
И все же само по себе это показание, представляющее определенный интерес, мало чего стоит без уточнения того же Троцкого: «На вопрос о составе Исполнительного Комитета С.Р.С.Д. я могу лишь рекомендовать следственным властям обратиться за справками к председателю его, Н.Т. Чхеидзе,[185] или товарищам председателя — Керенскому, Скобелеву и др.». Не исключено, что опытный подпольщик Троцкий, не желая давать лично информацию о составе Исполнительного Комитета, назвал фамилии только своих «персональных поручителей», тех, кто «персонально» пригласил его в состав Комитета, кто рекомендовал его кандидатуру всероссийскому съезду Советов. Ссылка на то, что он был приглашен как бывший председатель Петербургского совета, — не совсем серьезна. Председателем он был еще в 1905 году, т. е. 12 лет назад, и за это время успел довольно шумно скомпрометировать себя и связью с Парвусом, и выступлениями против войны, и готовностью к сближению с большевиками. Нет, не в этом причина его приглашения. Тем более если учесть, что возможные «поручители» — люди разных политических течений и умозрений: Чхеидзе — меньшевик, Керенский — эсер, Скобелев — меньшевик и «молокан» (по его же словам). Правда, последний в беседе с Александровым сообщил, что с Троцким семь лет назад был близок и вел совместно с ним борьбу против большевиков и Ленина. Позже разошлись по вопросам отношения к войне. Ну а потом (это уже не из показаний Скобелева Александрову, а из исторических источников) снова сошлись на почве «служения большевизму» — в 1922 году Скобелев вступил в РКП(б). Но Чхеидзе, а тем более Керенский, — что их могло заставить так отнестись к Троцкому, в крайнем случае, если не рекомендовать его в состав Комитета, то и не возражать против его введения в этот орган? Оказывается, была мощная тайная надпартийная сила, о которой уже шла речь, объединившая и Чхеидзе, и Керенского, и Скобелева. О ней, т. е. о масонстве, Чхеидзе, являвшийся членом Верховного Совета российских масонских лож, в августе 1925 года, будучи в эмиграции, в Марселе, вспоминал так:
«Верховный Совет состоял, помнится, из 12–14 человек: состав его за мое время (1912–1916 годы) несколько изменялся; я помню следующих: Керенский… Скобелев…».[186]
Да, но при чем здесь Троцкий?.. Предположение, конечно, сомнительное о принадлежности Троцкого к масонам, но не такое уж и надуманное.
3 апреля 1960 года составитель часто здесь цитируемой книги о масонах Б.И. Николаевский писал Н.В. Вольскому (Валентинову): «О русском масонстве у меня имеются интереснейшие материалы — показания Гальперна, Чхеидзе, Гегечкори (члены Верховного Совета русских лож), воспоминания кн. Бебутова (основатель) и ряда других… Есть материалы о переговорах, которые Бебутов в 1909 году вел с Плехановым, эсерами и т. д.».[187] Если снова вспомнить о неприязни и недоверии, которые Плеханов питал к Троцкому, и все же по какой-то особой причине стал его поручителем перед французским правительством в журналистских и издательских делах Троцкого, и об этих переговорах масонов с Плехановым, то не так уж трудно предположить, что Троцкий, испытывая временные затруднения, именно через масонов мог заручиться поддержкой такой влиятельной фигуры, тоже вступавшей в контакты с этой тайной и полумифической организацией.
Немало оснований для подобных размышлений имеется в воспоминаниях видного масона А.Я. Гальперна. По его словам, в последние перед Февральской революцией месяцы «организационно братство… достигло своего расцвета». Масонские ложи существовали в крупных городах России повсеместно, в Петрограде же их насчитывалось несколько, куда входило 95 человек. После опубликования состава Временного правительства на квартире Керенского состоялось якобы первое послереволюционное собрание Верховного Совета. Разговор на нем шел… о воздействии на левых. Именно этот вопрос больше всего занимал масонов, стремившихся «воздействовать на левые партии в целях удержания их в русле коалиционной политики». Гальперн считал, что в этот период «значительная доля работы» легла на него. Ему довелось вести «все основные переговоры с Советом рабочих депутатов, т. е. с Чхеидзе». Часто он получал поручения непосредственно от Керенского, недовольного тем или иным решением Совета (депутатского, немасонского). Гальперн ехал в Таврический дворец, где, встретившись с Чхеидзе, быстро утрясал противоречия. Дело облегчало то, что Чхеидзе «был братом», с ним посланец Керенского мог говорить совсем просто: «Чего кочевряжитесь, ведь все же наши это считают правильным, надо исправить и сделать по-нашему». По его же сведениям, «большую роль играли братские связи в деле назначения администрации 1917 года на местах», поскольку если речь заходила о какой-нибудь видной вакантной должности, то «прежде всего мысль устремлялась на членов местных лож». Ну а облечь хорошую мысль в реальное назначение своего человека для масонов тоже не составляло, видимо, большого труда. Ведь начиная Временным правительством и Исполнительным Комитетом депутатского Совета и кончая уездной властью в лице полномочных представителей Временного правительства и местными Советами, все было охвачено их влиянием. Скажем, те же Керенский и Скобелев — министры Временного правительства и члены Исполнительного Комитета, председателем которого являлся тоже свой человек — Чхеидзе.
Любопытное совпадение у масонов и Троцкого по отношению к войне. Кстати, социал-демократическая фракция «объединенных социал-интернационалистов», которую последний представлял в Комитете, уже своим туманным названием созвучна с идеями масонства. Тот же Гальперн вспоминал:
«Несколько раз Верховный Совет обсуждал вопрос о войне, и большинство склонялось к мысли о необходимости форсировать заключение мира. Я был решительным сторонником активных шагов в этом направлении и помню, что в период споров о стокгольмской конференции я читал на эту тему доклад в редакции „Дней“; по моим же настояниям и в кадетских кругах ставился этот вопрос. Я считал тогда, что воевать мы не можем — об этом говорили все доклады с фронтов;[188] а потому необходимо убедить союзников,[189] если они не согласятся на общие переговоры».[190]
Следует назвать еще одного масона — Луначарского, который, по его словам, настолько сблизился с Троцким в годы войны, что считал того «ближайшим товарищем». Он не только входил во фракцию, где членствовал Троцкий, но так же, как и последний, имел возможность присутствовать на заседаниях Исполнительного Комитета. Правда, Луначарский именовал политическую организацию, к которой принадлежал, «междурайонным комитетом социал-демократической партии», но с той же настойчивостью, что и Троцкий, отмежевывал ее от большевиков. О близости Троцкого и Луначарского в то время говорят и некоторые выдержки из показаний последнего в июле 1917 года[191] в отношении Парвуса: «Гельфанда встречал в Петрограде в 1906 году, в короткий промежуток, когда он был председателем Совета Депутатов. Троцкий, бывший близким товарищем Гельфанда, после его обращения в германофильство не только порвал с ним личные отношения, но и настаивал на прекращении с ним всякой связи, на бойкоте его. В этом я деятельно поддерживал его».[192] Сам же Троцкий показывал следующее: «О моем отношении к Парвусу, с которым я в 1904–1909 годах был связан единством революционной позиции и работы, могу сообщить нижеследующее. Как только телеграф принес в Париж весть в начале войны о германофильских выступлениях Парвуса на Балканском полуострове, я выступил в „Нашем слове“ со статьей, в которой заклеймил лакейскую роль Парвуса по отношению к германскому империализму и объявил Парвуса мертвецом для дела социализма. Вместе с тем я дважды призывал в печати всех товарищей отказаться от поддержки каких бы то ни было общественных мероприятий Парвуса».[193]
Подозревать Троцкого если не в принадлежности к масонству, то в определенных, подобно Плеханову, контактах с его деятелями можно и потому, что Временное правительство, насквозь проникнутое масонским влиянием, не дало повеления (или разрешения) на привлечение его к ответственности до упомянутого заявления Троцкого. А ведь за ним числилось «грехов», в том числе и в связи с июльскими событиями, а также со «шпионажем в пользу Германии», не меньше, чем у Ленина или какого-нибудь другого большевика. Нельзя также отрицать возможности и того, что его заявление было написано тоже по подсказке (или просьбе, учитывая амбицию «социал-интернационалиста»), скажем, Скобелева или другого масонствующе-го лица, чтобы упредить принудительный вызов на следствие и суд, как это получилось с Лениным, Зиновьевым, Семашко.
В воспоминаниях Гальперна имеется известие о реакции масонов на преследование большевиков со стороны Временного правительства. По этому поводу даже состоялось специальное собрание масонского Верховного Совета в июле 1917 года. Критике подвергся тогдашний министр юстиции Переверзев, по требованию которого прокурор Петроградской судебной палаты Карчевский подготовил для печати «следственный материал об измене большевиков» (факт подготовки такого материала подтвердил в беседе с Соколовым и Керенский). Но Верховный Совет все же одобрил «с оговорками» действия Переверзева. Ну и как бы он мог не одобрить, если Переверзев действовал по указанию Керенского, ну а собрание проходило при участии председателя Исполнительного Комитета другого совета, депутатского, — Чхеидзе. Так что все участники «июльского вооруженного выступления» и все «немецкие шпионы» с одобрения Временного правительства, масонского Верховного Совета и Совета рабочих и солдатских депутатов привлекались к судебной ответственности. Все — за исключением Троцкого! К чему бы это исключение?..
Ну а о чем говорил Троцкий на допросе? Его показания довольно интересны даже уже тем, что они — редкий исторический документ. Кроме того, в них довольно явственно проявляется известная двойственная натура Троцкого. В заявлении и даже на допросе, когда речь шла об околообвинительных деталях, Троцкий тверд, непреклонен, убедителен. Но лишь только речь зашла о «вещественных доказательствах», найденных якобы контрразведкой в доме Кшесинской и изобличающих большевиков, тон Троцкого тут же меняется. Он делает заявление об отношении «его партии» к этому дому, а значит, и к большевикам, которое почти что напрочь отметает все предыдущие рассуждения о разделении позиций последних. Когда же ему удается (предположительно, конечно) убедить следователя, тон его снова становится воинствующим и уверенным. Впрочем, предоставляю читателю, который, возможно, и не согласится с моими подозрениями, самому в том убедиться. Привожу показания Троцкого от 24 июля 1917 года, исключив те места, на которые уже ссылался:
«1. Моя позиция за границей во время войны. Война застала меня с семьей в качестве эмигранта, в Вене, откуда я вынужден был выехать в течение 3 часов 3 августа (н. ст.) 1914 года, бросив на произвол судьбы свою квартиру, мебель, библиотеку и пр.
В Цюрихе, куда я переехал с семьей, я издал немецкую брошюру „Der Krieg und die Internationale“, направленную против империализма правящих классов Германии и политики немец[194] соцдемократии, руководимой Шейдеманом и др. Эта брошюра, вышедшая в свет в ноябре 1914 года, была революционерами швейцарскими и германскими социалистами („либкнехтианцами“) нелегально провезена в Германию, где распространение ее вызвало ряд арестов и в результате их судебный процесс, закончившийся заочным осуждением меня к восьмимесячному тюремному заключению.
По телеграфному предложению редакции „Киевск. мысли“ я в ноябре 1914 года переехал во Францию в качестве корреспондента названной газеты. Одновременно с этой работой я участвовал в редакции ежедневной с.-д. газеты „Наше слово“ (на русском языке), а также во французском интернациональном движении (циммервальдистов, как оно стало позже называться). Вместе с двумя французскими делегатами я отправился в авг. 1915 года из Парижа в Швейцарию, где принимал активное участие в Циммервальдской конференции.
Хотя „Наше слово“ было подцензурной газетой, но оно дважды (при мне) закрывалось французскими властями — по настоянию русского посольства, как нам передавали парламентарии и сами цензора. Газета „Наше слово“ была органом не большевиков, а „нефракционного интернационализма“; стояло это издание под знаменем Циммервальда — министр внутр. дел Франции г. Мальви выслал меня в конце сент. 1916 года из Франции без объяснения причин, но явно за пропаганду в духе идей Циммервальда. Так как я отказался добровольно покинуть пределы Франции, требуя предъявления мне определенных объяснений, то два помощника инспектора вывели меня на фаницу Испании. После нескольких дней пребывания в Мадриде я был, на основании агентурных сведений из Парижа, арестован, освобожден через три дня после интерполяции в парламент, причем мне предложили было выехать в Америку. В середине января (н. ст.) 1917 года я высадился с семьей в Нью-Йорке. В течение двух с половиной месяцев вел там пропаганду идей Циммервальда на рус. и немецком языках (среди организации в Америке немецких рабочих, из которых большинство стоит на точке зрения Либкнехта). После того как разразилась русская революция, я на первом отходящем пароходе отправился с семьей в Европу через Скандинавию (в конце марта н. ст.). В Галифаксе (Канада) английские военно-полицейские власти задержали меня и еще пять пассажиров, русских эмигрантов, на основании „черных списков“, составлявшихся охранно-дипломатиче-скими агентами. После месячного заключения в Канаде я был освобожден по требованию Временного правительства и прибыл в Петроград, через Христианию, Стокгольм — в первых числах мая по ст. стилю.
2. Моя политическая работа в России.
В Петрограде я сразу примкнул к организации объединенных социалистов-интернационалистов („междурайонный комитет“). Отношения этой организации, имевшей совершенно самостоятельный характер, к партии с.д. большевиков были вполне дружественны. Я считал, что принципиальные разногласия, отделявшие нас раньше от большевиков, изжиты, и потому настаивал на необходимости скорейшего объединения. Это объединение, однако, еще не совершилось до настоящего дня.
Политическая линия нашего поведения была, однако, в общем и целом та же, что и у большевиков. Я лично выступал в своих статьях в журнале „Вперед“ и в своих речах за переход власти в руки Совета Раб., Солд. и Крестьянск. депутатов. Само собою разумеется, что такой переход не мог осуществиться помимо Совета. Стало быть, главная политическая задача состояла в том, чтобы завоевать большинство рабочих, солдат и крестьян на сторону указанного лозунга, но по самому существу дела не могло быть и речи о том, чтобы путем вооруженного восстания меньшинства навязать большинству власть. В этом духе я десятки раз говорил на собраниях. Во всех тех случаях, что мне приходилось слышать ответственных большевиков, они высказывались в том же смысле.
Относительно войны я считал и считаю, что никакие наступления с той или другой стороны не способны создать выхода из тупика, в который попали все воюющие народы. Только революционное движение народных масс во всех странах, и прежде всего в Германии, против войны способно приблизить час мира и обеспечить за этим миром демократический характер. Я доказывал, что только народное, подлинно демократическое Правительство Советов способно будет показать немецким рабочим, что в случае их революции Россия не только не поспешит разгромить Германию, а наоборот, протянет немецкому народу, опрокинувшему свое правительство, руку мира.
Грубой клеветой является утверждение, будто я призывал кого-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь покидать фронт, отказываться от выполнения боевых приказов или от посылки маршевых рот. 2 июля я по этим вопросам делал доклад на совещании делегатов от 57 отдельных частей фронтов. В № 111 „Известий“ напечатан краткий отчет об этом совещании за подписью д-ра Постьева (Известия СР. и С.Д., № 111, стр. 4). Вот что там говорится:
„Выслушав на своем совещании речи идейного и одного из лучших борцов за свободу большевика (! — Авт.) тов. Троцкого, делегаты пришли к убеждению, что идейные люди клеймят дезертиров их именами и ничего общего не имеют с теми людьми, которые отказываются идти на фронт“.
Я доказывал, что только создание „советского“ правительства и его революционность внутри международной политики (немедленное упразднение помещичьего землевладения, конфискация военной сверхприбыли, государственный контроль над производством, ультимативное требование от союзников отказа от аннексий) способны спаять русскую армию единством целей и настроения и сделать ее способной не только к оборонительным, но и к наступательным действиям. Для того чтобы такая политика стала возможной, доказывал я, наше течение должно стать господствующим в Советах. Пока же мы в меньшинстве, мы вынуждены подчиниться политике, опирающейся на большинство, стало быть, и политике наступления, ведя в то же время агитацию в пользу наших идей (вот как хитро! тут скорее поддержка Временного правительства, чем выступление против него. — Авт.).
3. Так называемое „вооруженное восстание“ 3–4 июля.
Подводить события 3–4 июля под понятие вооруженного восстания, значит, противоречить очевидности. Вооруженное восстание предполагает организованное выступление с целью осуществления с помощью оружия определенных политических задач. Поскольку же лозунг выступления был: „Вся власть — Советам“ (а Советы в то время находились в услужении Временного правительства. — Авт.), не могло быть и речи о том, чтобы насильственно навязывать им эту власть. К этому бессмысленному методу действий не призывала ни одна политическая организация. Не призывал и я. О самом выступлении пулеметного полка и его обращении к другим войсковым частям и заводам я услышал впервые в здании Таврического дворца, 3 июля, во время соединенного заседания Исп. Комитетов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. Это известие, переданное по телефону, поразило меня, а также т-щей Зиновьева и Каменева не менее, чем представителей всех других партий. Т-щи Зиновьев и Каменев тут же доложили, что их Центральный Комитет немедленно предпринял все меры к тому, чтобы удержать массы от выступления, тем более от вооруженного. Все пославшиеся партийными центрами агитаторы выступали, по общим отзывам, в этом именно смысле. Тем не менее выступление, как известно, произошло.
Утверждение, будто я лично призывал накануне, т. е. 2 июля, на митинге пулеметного полка к отказу от наступления и к вооруженному выступлению против власти, является совершенно ложным. 2 июля в Народном Доме происходил открытый и платный „концерт-митинг“, куда явилось много случайной, обывательской публики. На таком митинге я очевидно не мог призывать к вооруженному выступлению, если бы даже считал нужным такой призыв. В Народный Дом я отправился непосредственного с того самого совещания фронтовых делегатов, о котором говорил выше. Я не только предупредил совещание, что еду на митинг, организованный пулеметным полком, но с митинга снова вернулся на совещание. В своей речи в Народном Доме я изложил свой ответ на вопросы о пополнениях, дезертирстве и пр., данный мною фронтовым делегатам. Уже эти обстоятельства, которые очень легко могут быть проверены, исключают всякую возможность того, чтобы я на митинге в Народном Доме призывал к восстанию и к отказу посылки маршевых рот. Роль моя сводилась к пропаганде развернутых выше воззрений на власть и войну. Никаких криков „Смерть Керенскому“ не было.
Вечером третьего июля я неоднократно выступал перед зданием Таврического дворца, где стояли вооруженные массы солдат и рабочих. Схема моих речей была такова: „Вы требуете перехода всей власти к Совету. Это правильное требование. Сегодня рабочая секция совета впервые высказалась за этот лозунг. Стало быть, у нас нет никакого основания отказываться. Жизнь работает за нас. Если вы явились сюда с оружием, то не затем, разумеется, чтобы производить над кем-либо насилие, а для того, очевидно, чтоб оградить себя от возможных насилий. Я призываю вас немедленно возвращаться в ваши войсковые части, спокойно и мирно, чтобы завтра классовые враги не могли обвинять вас в насилиях“. Многие офицеры, сопровождавшие свои части, просили меня и перед их солдатами произнести ту же речь, дабы облегчить им возможность мирно увести солдат в казармы.
В Таврическом дворце я оставался безвыходно с 12 ч. дня 3 июля до раннего утра 4 июля. В дворце Кшесинской я не был ни в эту ночь, ни вообще в течение первых дней июля и потому ни в каких совещаниях там участвовать не мог. Вообще же в доме Кшесинской был всего два раза: первый раз — 10 или 11 июня; второй раз, в двадцатых числах июля, меня ввели во дворец Кшесинской, сперва во двор, а затем в одну из комнат, несколько слушателей моего доклада в цирке Модерн, чтобы дать мне возможность передохнуть и переждать, пока разойдется толпа, провожавшая меня после доклада и мешавшая мне ехать домой.
К помещавшейся во дворце Кшесинской военной организации я никакого отношения не имел, в состав не входил, ни на одном из ее собраний не участвовал, и состав ее мне неизвестен. О политике большевиков я судил по „Правде“, заявлениям Ц.К. и считал, что и военная организация действует в том же духе. В „Правде“ я не сотрудничал, так как наши организации еще не объединились. В конце июня или начале июля я поместил в „Правде“ небольшую заметку за своей подписью, призывал к объединению обеих организаций.
Попытка арестовать В.М. Чернова была произведена десятком субъектов, полууголовного-полупровокаторского типа, перед Тав<рическим> дворцом, 4 июля. Эта попытка была сделана за спиною массы. Я сперва решил было выехать из толпы вместе с Черновым и теми, кто хотел его арестовать, на автомобиле, чтобы избежать конфликтов и паники в толпе. Но подбежавший ко мне мичман Ильин-Раскольников, крайне взволнованный, воскликнул: „Это невозможно, это позор. Если вы выедете с Черновым, то завтра скажут, будто кронштадтцы хотели его арестовать. Нужно Чернова освободить немедленно!“ Как только горнист призвал толпу к тишине и дал мне возможность произнести краткую речь, заканчивавшуюся вопросом: „Кто тут за насилие, пусть поднимет руку?“ — Чернов сейчас же получил возможность беспрепятственно вернуться во Дворец…
В дополнение к сказанному выше об организации взаимоотношений между „объединенными с.д.“ и большевиками я, на соответствующий вопрос г. следователя, могу присовокупить, что наша организация помещалась не во дворце Кшесинской, а на Садовой, № 50 („Общество спасения на водах“) (символическое название! — Авт.), и имела свой самостоятельный орган „Вперед“…[195] Что касается т. Каменева (Льва Борисовича Розенфельда), то я соприкасался с ним ближе, чем с другими, как с мужем моей сестры. И как с лицом, которое правильнее других большевиков посещало заседания Исполнительного Комитета. Обвинение Каменева в призыве к вооруженному восстанию в корне противоречит всему его поведению в критические дни 2–5 июля, как и всей вообще его позиции.
С Ганецким (Фюрстенберг) я встретился несколько раз в разные периоды своей заграничной жизни на съездах или совещаниях. Никаких отношений с ним, ни личных, ни политических, у меня никогда не было. В переписке с ним никогда не состоял. Об его торговых операциях и связях с Парвусом узнал впервые из разоблачений печати, а насколько достоверны эти разоблачения, не знаю.
О г-же Суменсон никогда не слыхал до того, как ее имя было впервые названо в русской печати. Решительно никаких — ни прямых, ни косвенных, ни политических, ни деловых, ни личных связей за все время войны не имел ни с Суменсон, ни с Ганецким, ни с Парвусом, ни с Козловским. Этого последнего я несколько раз видел на заседаниях Петрогр. Исп. Ком. При мне г. Козловский никогда не выступал. Об его прошлом я не имею никаких сведений.
Обвинения меня в сношениях с германским правительством или с агентами, в получении от них денег и в деятельности за счет Германии и ее интересов считаю чудовищным, противоречащим всему моему прошлому и всей моей позиции. Равным образом я считаю совершенно невероятным какие бы то ни было преступления подобного рода со стороны Ленина, Зиновьева, Каменева, Коллонтай, которых знаю как старых испытанных и бескорыстных революционеров, не способных торговать совестью из корыстных побуждений, а тем более совершать преступления в интересах немецкого деспотизма. Выражая свое несокрушимое убеждение в том, что дальнейший ход следствия разрушит безысходно конструкцию обвинения, считаю необходимым указать в то же время на то, что сообщение прокурорской властью печати непроверенных и по существу совершенно противоречащих действительности сообщений никаким образом не может вытекать из потребностей объективного расследования, а является откровенным орудием политической борьбы. Все протесты против неявки Ленина и Зиновьева теряют свою силу перед лицом той травли, какая ведется против этих лиц со ссылками на прокурорскую власть.
Из всего изложенного выше вытекает, что по существу предъявленных мне обвинений я виновным себя не признаю.
Лев Бронштейн — Троцкий. Суд. следов. <Лев Сергиевский — роспись>».[196]
Кого только не «записывали» в большевики те, кто видел в них главную мобилизующую силу грядущей всенародной революции, кто, черня большевизм, пытался затормозить или повернуть вспять пугающую неизбежность. Большевиками объявлялись люди, причем вопреки их желанию и политическим воззрениям, чаще всего имеющие дурную или не совсем чистую репутацию. Начиная с того же Льва Троцкого, причисленного к большевикам известной газетой «Известия», и кончая «внешним» разводящим при содержащейся под арестом царской семье Павлом Медведевым, понятия не имевшим о большевиках, но награжденным этой «позорной кличкой» следователем Николаем Соколовым. Но были и такие, кто, называя во всеуслышание себя большевиками и даже занимая руководящую роль в партии, верой и правдой (если так можно говорить об этих лицах, обесчещивавших и эти понятия, и любое дело, к которому прикасались) служивших тому строю, против которого направлялся большевизм. Причем они занимались не только разложением партии изнутри (подобно «княжеской рати» и кадетствующей буржуазии в монархизме) и разъеданием ее извне, но и давали повод для очернения истинных честных борцов за справедливые вековые идеи. Примером могут служить темные делишки «большевика» Малиновского и использование его имени в провокационных акциях.
О том, как это происходило, красноречиво поведал следствию, возглавляемому Александровым, подполковник Медведев, «исправлявший» должность начальника центрального контрразведывательного отдела при Главном управлении Генерального штаба и «проживавший» в военной гостинице (Астория). В протоколе его допроса от 25 августа 1917 года, составленного следователем 20-го участка Петрограда, имеются сведения не только о Малиновском, но и о других большевиках и небольшевиках. Здесь можно почерпнуть любопытные действительные факты и явную дезинформацию, предназначавшуюся контрразведкой и охранным отделением для падких на сенсацию и охочих до травли большевиков по любому поводу газетчиков типа Бурцева или Заславского. В истории же с Малиновским, агентом охранного отделения и провокатором в большевистской партии, Временное правительство и его пособники нашли возможность очернить большевиков и в первую очередь Ленина с использованием… порядочности, доверчивости к товарищам, неумения таить зло и обиду того же Ленина.
Медведев сообщил вот такие разоблачительные данные о подозреваемых в шпионаже в пользу Германии лицах, полученные, по его словам, из достоверных источников, указать кои… по долгу службы не мог:
«1. Парвус, он же Александр Хельфанд,[197] русский еврей, проживает в Копенгагене. Систематически осведомляет Германию о русских делах, имея обширные связи с русскими соц. — дем., в партии которых одно время работал, но принужден был перенести свою деятельность в Германию после недоразумения с фондами партии. Здесь работал в соц. — дем. прессе. Во время турецко-итальянской войны жил в Константинополе и писал для турецких, австрийских и германских газет, занимаясь в то же время спекуляциями. До войны Парвус вместе с Троцким издавал в Вене газету „Правда“, направленную против России. Деньги на газету шли от австрийского правительства. Парвус субсидировал немецкими деньгами газеты „Наше слово“ и „Голос“, издававшиеся в Париже упомянутым Троцким. За это последний был удален из Франции. Парвус пытался подкупить кавказских соц. — демократов, проживающих в Константинополе и Женеве, и склонить их на организацию восстания на Кавказе. Кавказские эмигранты отвергли это предложение, после чего кто-то предал часть их турецким властям. На немецкие деньги Парвус совместно с Меленевским и Скоропись[198] -Иолтуховским организовали работу „Союза вызволения Украины“ в Германии. Работа „Союза“ на немецкие деньги документально установлена. С началом войны Парвус перенес свою деятельность в Копенгаген, где, не прекращая своей спекулятивной деятельности по заказам для турецкой армии, учредил „Общество для изучения социальных последствий войны“. В создании этого общества Парвусу помогали член 3-й Государ. Думы Зурабов и Перазич, сюда же Парвусом был выписан из Австрии в 1915 году Ганецкий-Фюрстенберг, который открыл на немецкие деньги экспортно-импортную торговлю, снабжавшую Германию продовольственными продуктами, а Россию германскими товарами. Зурабов и Перазич прибыли в Копенгаген через Германию, причем Парвус через цюрихского профессора Грейлиха выхлопотал им паспорта из Берлина. Им обоим вопреки строжайшим на этот счет правилам было разрешено на неделю остановиться в Берлине. Упомянутый Грейлих известен своей попыткой подкупить итальянских социалистов немецкими деньгами, дабы удержать их от выступления против Германии. Тот же Парвус излагает в Мюнхене социалистический журнал „Iloke“ („Колокол“), в котором сотрудничали Ленин и Зиновьев. На страницах этого журнала немецкий соц. — дем. Грюнвальд восхваляет личность Гинденбурга как гениальное воплощение души немецких соц. — демократов. Получает ли Парвус определенное жалованье от германского правительства, не установлено (подчеркнуто мною. — Авт.), но он пользуется исключительными льготами, по торговле запрещенными к вывозу товарами. Он состоит представителем германского угольного синдиката, снабжающего всю Данию углем. Парвус имеет огромные средства, между прочим, виллу-дворец около Копенгагена, где проживает сам и устроил санаторию для немецких детей, страдающих от недоедания в Германии. Парвус один из важнейших агентов германского правительства по организации пропаганды анархического, национального и крайнего направления в России. Через него, главным образом, германское правительство снабжает деньгами все органы крайних направлений, могущих в том или ином виде вредить военной мощи России.
2. Ганецкий-Фюрстенберг Яков. По заграничным агентурным сведениям отделения, не подлежащим оглашению, Яков Фюрстенберг зарегистрирован 14/27 февраля как шпион, работающий в пользу немцев и находящийся в полном и близком контакте с немецкими агентами и шпионскими организациями в Стокгольме. В конце февраля ст. стиля сведения эти были подтверждены шведскою тайною полицией, которой он был известен также как немецкий агент-шпион. Одновременно с этою деятельностью Я.Фюрстенберг, проживая еще в Копенгагене, вел контрабандную торговлю немецкими товарами и занимался темными коммерческими делами, что и было зарегистрировано датскими властями, и он был привлечен к судебной ответственности. Выехав из Дании, Я.Фюрстенберг перенес свою работу в Стокгольм, проживая здесь то в пансионе „Eala Karlson, Birgerjuranls gut, 8“, то в окрестности Стокгольма в местечке Спльчиобаден. Дальнейшей агентурной разработкой установлено, что Я.Фюрстенберг 1) уроженец Царства Польского, еврей по происхождению, в начале войны выехал в Швецию, делая отсюда наезды в Германию на непродолжительное время, 2) партийный и литературный его псевдоним Ганецкий, 3) под этою фамилиею Я.Фюрстенберг-Ганецкий, находясь в Дании, состоял в тесной дружбе с известным Парвусом-Хельфантом, 4) Я.Фюрстенберг-Ганецкий приезжал в Россию для участия в партийном суде над Малиновским и пробыл в Петрограде с 3 по 9 июня под кличкою „Куба“. Для приезда в Россию он получил курьерский паспорт на имя Фюрстенберга, выданный Российским Генеральным консулом в Швеции (видать, „сумел подкупить“ и это лицо немецкими деньгами! — Авт.) 9 мая с.г. за № 210. Цензурным наблюдением установлена связь Я.Фюрстенберга, кличка „Куба“, с г. Суменсон, Воровским, Орловским-Скоммерландом, Козловским, Генрихом-Леопольдом Ровенблатом, Виткиным, Брауном, Шифтыпом, Парвусом и его агентом Склярз-Пунделом. Денежные дела с последним он вел при посредстве „Ревизионс Банка“ в Стокгольме и Сибирского в Петрограде.
3. Козловский, бывший член Исполнит, ком. Совета Раб. и Солдат. Деп., находился в самых дружеских отношениях с Лениным, Зиновьевым, Троцким и Коллонтай. Козловский получал большие деньги от Суменсон, которая передавала ему таковые по первому же его требованию, получая их в свою очередь от Ганецкого-Фюрстенберга. Козловский неоднократно ездил в Стокгольм и Копенгаген для свидания с Парвусом и Ганецким. Козловский предполагал открыть в России социалистическую газету крайнего направления, для чего предлагал одному лицу несколько сот тысяч руб. Козловский будто бы за время войны ездил в Германию.
4. Суменсон, доверенное лицо Ганецкого. Имеет на текущем счету в разных банках 700 000 руб., из коих ей принадлежит будто бы лишь 100 000 руб. Остальные деньги являются собственностью Ганецкого. Из этих денег, как уже сказано, Суменсон должна была удовлетворять все требования Козловского, что ею и исполнялось, причем она без расписок выдавала Козловскому и лицам, являвшимся от его имени, разные суммы.
5. Ленин-Ульянов Владимир. 12 апреля около 40 русских эмигрантов, включая его самого, выехали из Швейцарии в Россию через Германию. Из Шафгаузена их провожал граф Таттенбах, нач. отдела русских революционеров. Кроме того, Ленина и других сопровождал швейцарский социалист Платтен. Ленин лично должен был гарантировать, что ехавшие с ним спутники являются сторонниками немедленного мира, иначе им не выдали бы паспортов.
Эти лица вербовались шпионами Радеком и Бродским для деятельности в пользу Германии. По прибытии в Россию Ленин становится во главе лиц, ведущих пораженческую агитацию, щедро раздавая деньги, черпаемые им из германских источников, в частности, получая таковые от Ганецкого-Фюрстенберга. Последнее обстоятельство установлено документально путем задержания письма Ленина на имя Ганецкого о высылке денег и дальнейших указаний.[199] В Петрограде Ленин основывает газету „Правда“, покрывая расход из тех же источников.[200] Ленин вместе с Зиновьевым и Ганецким участвовали в суде над провокатором Малиновским и оправдали последнего.[201] Ленин принимал непосредственное участие в организации вооруженного восстания в Петрограде, что устанавливается рядом документов, найденных при обыске во дворце Кшесинской. В июле 1914 года Ленин и Зиновьев были арестованы австрийскими властями близ Кракова, но вследствие вмешательства Ганецкого были освобождены, причем освобождение их было мотивировано тем, что своей разлагающей деятельностью Ленин и Зиновьев способствуют победе центральных держав. Живя во время войны в Швейцарии, Ленин получил из Лейпцига типографский шрифт для печатания своих пораженческих произведений. После событий 3–5 июля Ленин и Зиновьев бежали из России через Швецию и Германию, откуда, по сведениям, выехали обратно через Германию в Россию.[202]
6. Зиновьев — близкий друг Ленина. Вместе с ним принимал участие в работе мюнхенской газеты „Колокол“, о чем было уже упомянуто. Зиновьев участвовал вместе с Лениным в оправдании провокатора Малиновского и был ближайшим сотрудником Ленина по проведению пораженческих идей.
7. Троцкий, работал вместе с Парвусом до войны в Вене в газете „Правда“. Во время войны Троцкий издавал в Париже газеты „Наше слово“ и „Голос“. Эти газеты издавались на австрийские и германские деньги, передаваемые Парвусом Троцкому. Одновременно с сим Троцкий сотрудничал в России в газете „Красная мысль“ под псевдонимом „Антилот“,[203] причем писал статьи патриотического направления. В Париже о гибели „Лузитании“ он написал ярко германофильскую заметку. Троцкий прекрасно осведомлен о провокаторской деятельности Парвуса. Главным сотрудником Троцкого был Юлий Мартов.[204] К газете был причастен румынский революционер Раковский, австрийский агент, болгарин по происхождению. Часть денег передавалась Троцкому и Раковскому.
8. Коллонтай, по приглашению американских немцев во время войны ездила в Америку, где вела пропаганду против соц. — дем. меньшевиков всех стран. После революции Коллонтай ездила в Финляндию для пропаганды отделения ее от России.[205] Единомышленница Ленина.
9. Луначарский, проживая в Женеве, был дружен с Гальбо, редактором пацифистской газеты „Дедан“, получившей начало в доме германца Ишебера и издаваемой на немецкие деньги. Друг Горького…».[206]
В материалах следствия оседали, как их ни «пытался скрыть» ас контрразведки Медведев, и «источники» подобных агентурных сведений. Так, в протоколе осмотра одного из них от 5 сентября 1917 года описана выдержка из дневника подпоручика лейб-гвардейского Петроградского полка Тимрота, помогавшего, по всей видимости, союзникам побеждать немцев во Франции. Правда, о боевой деятельности бдительного подпоручика трудно судить, поскольку выписку из своего дневника он делал по поручению русской контрразведки в парижском отеле «Сен-Жам» (на русском языке) о своих кутежах… в Стокгольме. «Собственноручная выписка» Тимрота заканчивалась препроводительной записью: «Настоящую выписку представляю на зависящее распоряжение. Причем добавляю, что подпор. Тимрот, представляя право использовать содержание, как то будет нужно, просил не оглашать ни названия полка, ни его фамилии. Подлинность события подпоручик Тимрот обязуется, в случае нужды, подтвердить под присягой. Полковник Колонтаев (подпись). Военному агенту во Франции полковнику г. Игнатьеву. 5/18 июля 1917. Париж». Трудно судить, то ли Тимрот дал эти сведения взамен на обещание не подвергать его наказанию за то, что в военное время оказался не только вне расположения полка, но в совершенно другом городе, да еще в другой стране, причем там, где «свили свое шпионское гнездо немцы и русские большевики», то ли по какой другой причине. События же он описывал так. 4 июня 1917 года он вместе с компанией «ужинал» на террасе стокгольмского «Гранд-отеля». Наудачу, рядом с их столиком расположился «вдвоем с кем-то пресловутый фон Луциус, германский посол в Стокгольме», причем, еще на большую удачу, изрядно выпивший. Впрочем, «его собеседник не менее». В разговоре, отвечая на вопрос или замечание собутыльника, фон Луциус сказал «буквально следующее». Дальше приводилась фраза на немецком языке и комментарий, что, дескать, произносилась она скороговоркой (пьяным-то изрядно человеком!), но смысл ее для подпоручика (видимо, трезвого как стеклышко!) был «яснее и проще стакана воды». И вот это «буквально следующее», произнесенное «скороговоркой» пьяным языком, позволило прозорливому Тимроту заключить, что «и стало для меня все ясно». Настолько ясно, что об этом даже догадался собеседник фон Луциуса, который дернул посла за рукав, указывая глазами на соседний «трезвый» столик. Немцы ушли, а Тимрот поторопился занести в дневник (тоже неизвестно, то ли там, на террасе «Гранд-отеля», то ли уже в номере) «смысл пьяной скороговорки», пометив запись: «Стокгольм, 4 июня н. ст. 1917…» Но скорее всего, что это произошло уже в Париже. Это подсказывает протокол осмотра «документа», составленный судебным следователем 24-го участка Петрограда Л.Г. Сергиевским. «Подлинная выписка» из дневника подпоручика Тимрота, по утверждению следователя, представляет из себя «небольшого размера лист почтовой белой бумаги с печатным бланком на французском языке парижского отеля „Сен-Жам“ с указанием его местонахождения и номеров телефона». Рассказ о своих похождениях Тимрот передал полковнику Колонтаеву, тот русскому военному агенту во Франции полковнику Игнатьеву, ну а тот — «на усмотрение представителя Временного правительства». В Петрограде немецкую фразу, скопированную «буквально» русским лейб-гвардейцем с уст германского посла в Стокгольме, перевели «через посредство приглашенной переводчицы Зинаиды Борисовны Араповой-Сидоровой, проживающей по Кирочной ул. в доме № 436, кв. 28».[207] Текст же этой фразы, так осенивший, а может, и протрезвивший Тимрота, на русском языке звучал так: «Не может быть никакой речи, Ленин нам очень дорого обходится. Он сберегает нашу кровь, которая во много раз дороже, чем золото».[208]
Источником для русской контрразведки в сборе «компромата» на Ленина и большевиков могли быть и сообщения «королей сенсации» вроде Алексинского, Бурцева, Заславского. Так, последний в уже упоминавшейся газете «День» (за 6 и 10 июня 1917 года) показывает свою «осведомленность» в делах Ганецкого и Малиновского, что даже трудно сказать, кто кого осведомлял: подполковник контрразведки Медведев журналиста, или наоборот. Ну а Александров искусно использовал и тех и других, стремясь подкрепить свои выводы фактами, пусть и сомнительного свойства. В его постановлении от 21 июля 1917 года можно прочитать:
«Указания Ермоленко на непосредственное общение Ульянова-Ленина с германским правительством и деятельность его как германского агента нашли свое подтверждение в нижеследующих добытых следствием данных. Прибывшие в качестве инвалидов из германского плена раненые офицеры Шишкин и др. удостоверили, между прочим, что в начале 1917 года в Германии дошло до крайнего предела напряжение и ей был необходим самый быстрый мир, что Ленин, проживая в немецкой Швейцарии, состоял в общении с неким Парвусом (он же Гельфанд), имевшим определенную репутацию немецкого агента, что Ленин, проезжая через Германию, пользовался комфортом и при проезде имел остановку, выходил из вагона,[209] посещал лагери, в которых находились пленные украинцы, вел пропаганду об отделении Украины от России. С проездом Ленина через Германию произошло резкое изменение в настроении немцев. В связи с проездом его немцы, не стесняясь, говорили открыто: „Ленин — это посол Вильгельма, подождите и увидите, что сделают наши деньги“.[210]
Только что вернувшийся из плена один из инвалидов ст. унт. оф. Зиненко, проживавший 33 месяца в плену в Германии, показывает со слов других военнопленных, что Ленин, проезжая во время войны через Германию, объезжал лагери, в которых находились пленные украинцы, и вел среди них пропаганду отделения Украины от России.
По мнению свидетеля, Ленин „приехал в Петроград, войдя в соглашение с Германией с целью способствовать успешному ведению войны ее с Россией и путем смуты на почве большевизма, а в действительности на денежной почве, благоприятствовать Германии во враждебных действиях с Россией“…
Приводились в постановлении и показания находившегося в „технической командировке за границей“ инженера Главного управления шоссейных дорог Константиновского. Он проживал в Стокгольме, и, по его мнению, этот город наводнен шпиками и агитаторами, засылаемыми в Россию „для пропаганды сепаратного мира“. Константиновского якобы тоже вербовали, предлагая „средства и машины для открытия газеты вне Петрограда“ с целью пропагандировать против Англии и Франции. Обещали неограниченный кредит и ежемесячный оклад 10 000 рублей. Он отказался. Но другие соблазнились большими деньгами. Их обслуживал по германским ордерам „Ния банк“. Показания Константиновского Александров завершил своим заключением: „По сведениям, полученным свидетелем от самих служащих банков, Ленин заходил в банк, производил какие-то денежные операции“. В это время в Петроград переводились крупные суммы на подозрительные имена, и, по словам свидетеля, частями переведено 800 000 р. и 250 000 рублей». Как это удалось установить скромному инженеру в городе, «кишащем германскими и большевистскими агентами», проверялись ли его показания, — Александрова это нисколько не интересует. Главное, по его расчету, обозначить вескую улику и сделать соответствующий вывод.
Еще больше досталось Ленину от Александрова за связь с такой подозрительной личностью, как Малиновский, при царе служившим департаменту полиции, а затем — немцам. Вот как об этом записано в постановлении:
«При обследовании личности Ульянова-Ленина, как из показаний свидетелей, так и имеющихся в делах департамента полиции документальных данных, добыты нижеследующие сведения.
Ленин-Ульянов был близко знаком и поддерживал связи с бывшим членом Государственной Думы Малиновским, состоявшим, в качестве секретного сотрудника, на службе в Московском охранном отделении.
В делах департамента полиции обнаружена тетрадь агентурных записей со слов сотрудника Малиновского, сделанных рукою вице-директора этого департамента Виссарионова, а одна запись рукою Белецкого. На 1-й странице от 14 ноября 1912 года между прочим значится: „Ленин дал фракции следующие директивы: провести Лобову секретарем фракции… на Рождестве съехаться в Кракове, и, как видно из дела, эти директивы Ленина были произведены секретным сотрудником Малиновским совместно с департаментом полиции, причем Ленин чаще всех остальных депутатов посещал его в Кракове.
Будучи членом Государственной Думы, Малиновский произносил речи, заранее приготовленные Лениным и Зиновьевым и представляемые Малиновским на просмотр в департамент полиции.
Когда в мае 1914 года провокаторская деятельность Малиновского была разоблачена и он, получив из департамента полиции следуемое ему годовое жалованье в размере 6000 р…немедленно выехал за границу и, по приезде в Австрию, явился к Ленину, то последний, несмотря на появившиеся в печати разоблачения о провокации Малиновского, сразу же в „Правде“ объявил Малиновского честным и чистым человеком“».[211]
Тогда же была создана комиссия, состоявшая из Ленина, Зиновьева и Ганецкого (Фюрстенберга),[212] оправдавшая Малиновского за недостаточностью будто бы улик по обвинению в провокаторстве, при этом, по показанию свидетеля Трояновского, комиссией был допущен целый ряд неправильностей, сделавших комиссию совершенно неавторитетной.
Про дальнейшую судьбу Малиновского достоверно лишь известно, что он оказался в одном из лагерей военнопленных в Германии, но как он туда попал — неизвестно. Имеются, однако, сведения, что Малиновский, находясь в немецком лагере Альтен-Грабов и ведя среди русских военнопленных нижних чинов пропаганду, «состоит в отличных отношениях с германскими властями лагеря, пользуется их полным покровительством и действует по их наущению…».[213]
А все потому, что бы там ни объяснял Алексинский, которого за кляузный характер не пустили в Исполнительный Комитет Совета меньшевики и эсеры, что симпатизировать Ленину стало опасно. И он стал публично чернить и бывшую свою «симпатию», и всех большевиков. Ну а эсерствующий Бурцев? Лишь только прошли слухи о провокаторстве сопартийца Азефа, он сразу же постарался откреститься от связи с подозрительной личностью и публично разоблачить его по совершенно непроверенным данным. Причем так рьяно это делал, что и он сам, и другие стали незаслуженно приписывать Бурцеву роль главного разоблачителя, в то время как это сделал самолично бывший директор Департамента полиции Лопухин, сосланный за это по приговору суда в Сибирь. Видный масон Аронсон считал, что такое разоблачение могло произойти «только по масонской линии». При этом он ссылался на книжку, вышедшую в Париже в 1937 г. Впрочем, ради справедливости, отмечал, что в числе очерков, проливавших свет на дело Азефа, была также и правдивая публикация Бурцева (Николаевский Б. И. Указ. соч. С. 152, 153). Что ж, возможно, совесть заела и этого «правдолюбца».
Но разве нельзя предположить, что «слуга царю, отец солдатам» Малиновский продолжал свою провокаторскую роль теперь уже под эгидой контрразведки и охранного отделения Временного правительства? Разве именно через него, давнего друга-врага Ленина, не могла поступать из лагерей военнопленных в Германии «информация» о ленинской «агентурной работе»?
Внедрять в ряды большевиков провокаторов, объявлять революционером-ленинцем любого, кто мог бы бросить тень и на революционную борьбу и большевистское движение, — это было излюбленным приемом сыскных и контрразведывательных органов при царе, при Временном правительстве, при коротком владычестве в Сибири Верховного правителя — Колчака.
Взять того же Юровского, объявленного «главным большевистским палачом» над царской семьей. Я бы обратил внимание читателей на показания Соковича, подшитые в «архиве Соколова», от 24 августа 1918 года. Он являлся наркомом здравоохранения в советском правительстве Урала, был эсером. Так вот, Сокович сообщил, что, кроме него, наркомовские посты, по согласованию с большевиками, занимали еще трое его сопартийцев: в комиссариатах земледелия, юстиции и транспорта. Юровский же, как известно, являлся товарищем наркома юстиции, затем и наркомом. Этот факт позволяет уточнить партийность Юровского. Это по событиям в Екатеринбурге, пожалуй, основной факт, поскольку «большевиков» типа Медведева Соколов мог наплодить по числу жителей. К примеру, Кухтенков (иногда в материалах встречается и Кухтенко) допрашивался в качестве свидетеля и дал изобличительные показания на многих своих земляков. По его словам, он «в партию большевиков формально… вступил в январе 1918 года, но членский взнос уплатил всего лишь за один месяц». Но по следственным протоколам он проходил как «видный большевик», хотя колчаковская контрразведка жестоко расправлялась не только с теми, кто числился хотя бы даже формально в партии большевиков, но и с сочувствующими или даже заподозренными в сочувствии.[214] Ну разве что прощения заслуживал тот, кто становился своим человеком, т. е. продавал, подобно Кухтенкову-Кухтенко, других.
А вот по Перми… Беру книгу Соколова «Убийство царской семьи» и на странице 331 читаю: «Большевичка Вера Карнаухова…» Но 2 июля 1919 года Соколов самолично допрашивал в качестве свидетельницы эту «большевичку», которая о своем «товарище» отзывалась так: «После этого, я не помню числа и месяца, пришел как-то в Комитет входивший в состав чрезвычайной следственной комиссии большевиков Мясников, человек кровожадный, озлобленный, вряд ли нормальный» (вот они какие, эти самые большевики, по представлению самой «большевички»!). Мясников, по словам Карнауховой, с кем-то разговаривал, и она сумела уловить всего одну фразу (но какую — равноценную фразе-добыче подпоручика Тимрота; одинаковый уж и впрямь следовательский почерк у Соколова с Александровым): «Дали бы мне Николая, я бы с ним расправился, как и с Михаилом». После этого мещанку Веру Карнаухову осенило (точь-в-точь как лейб-гвардейца Тимрота от откровений германского посла), и она пришла к выводу, что «Михаила Александровича они тоже убили». При этом она сделала уточнение, что в то время «еще ничего не было известно про убийство Государя». Ну а мне необходимо сделать уточнение о партийности Карнауховой: ее Соколов зачислил в большевички лишь потому, что «ее родной брат Лукоянов — большевик», ну а сестра «за несколько, кажется, дней до взятия Екатеринбурга или, может быть, несколько более, в июне, кажется, месяце… пришла в комитет партии большевиков», где застала «председателя комитета партии Ляка», который и рассказал ей об исчезновении великого князя Михаила Александровича.
А вот какие большевики были в Алапаевске… Братья Абрамовы. Старший — Иван, младший — Григорий. Первый — председатель фабрично-заводского комитета, второй — председатель Алапаевского совета. По свидетельству старшего брата, он никогда большевиком не был, а вот младший — был большевиком, поэтому между ними не было не только дружбы, но и приятельских отношений. Иван на допросе показал, что он по убеждениям — «толстовец», хотя в Совет прошел от партии большевиков, «членские взносы в которую вносил с февраля месяца 1917 года». Правда, большевистским требованиям, которые считал вредными, не всегда подчинялся. Так было, к примеру, дня за четыре до занятия Алапаевска войсками Временного Сибирского правительства. Военный штаб советских частей призвал местный Совет во главе с Григорием Абрамовым оказать содействие в вопросах снабжения и обеспечения средствами передвижения. Кроме того, потребовали сдать общественные деньги, чтобы они не достались противнику. Абрамов и его сообщники, представлявшие в основном партию эсеров, кассу не сдали, а также, по словам Абрамова, «не подчинились требованию военного штаба относительно реквизиций и прочего насилия». А проще — сбежали, прихватив с собой изрядную сумму денег, ранее оприходованную в Алапаевском совете, в размере 1 357 000 рублей, за что были заочно приговорены властью, которую доныне представляли, а затем продавали, к расстрелу. Абрамов надеялся, сдавая «народные деньги» (по его же определению) колчаковцам, что общественная касса послужит выкупом за жизнь, а также залогом добрых отношений с новыми властями. Но не помогли ни деньги, ни выдача партийных явок, ни угодническое признание, что «Советы сидели и имели власть исключительно благодаря штыкам». Хотя в справке о судьбе алапаевских деятелей против его фамилии стоит пометка — «умер», думается, что это такая же ложь, как и утверждение Соколова, что Медведев «скончался от сыпного типа». Подобная участь постигла и другого «большевистского комиссара» — Соловьева. Если снова ориентироваться на показания Соковича, что юстиция являлась сферой деятельности эсеров, а Соловьев являлся «наркомом Алапаевской районной юстиции», то его признание в том, что он «официально записался в эту партию (с.-д. большевиков) во время выборов в Учредительное собрание» приобретает довольно определенный смысл.
Учредительное собрание — это «любимое дитя» эсеров и меньшевиков, и их патологическая озлобленность против большевизма укрепилась именно после исчезновения этого «неразумного дитяти». Хотя ничто не помешало тем же эсерам прислуживать Колчаку, который самой большой и единственной заслугой большевиков считал именно упразднение ими Учредительного собрания. Даже раздел эсеров на правых и левых (действовавших в контакте с большевиками) — скорее всего хитрый тактический маневр с целью иметь своих людей и там и там, а в нужный момент объединиться для решительного удара в борьбе за власть. И что б ни говорили, никто, кроме большевиков, не стремился ко всевозможным компромиссам, не шел на самые различные уступки ради мирного развития революции и послеоктябрьского жизнеустройства. Более того, беда большевиков в том, что они зачастую излишне доверяли согласительным договорам, например, с эсерами, подменяя компромиссы — откровенным слиянием. Вот и получилось, что энергичная, нахрапистая, практичная или даже меркантильная, жестокая эсеровская публика, заручившись большевистскими мандатами, а позже и членскими билетами, заполонила советские органы, хозяйственные учреждения, партийный аппарат, не столько растворившись среди большевиков, сколько растворив их в себе; придавая им эсеровскую окраску, силу и идейность, делала свое разрушительное и провокационное дело.
Такие, как Соловьев, видели в партийной принадлежности возможность показать себя и взять как можно больше себе. Партийность для них — бумажка, печать на которой может тискаться теми, кто обладает властью. И если вам тычут в глаза примерами со ссылкой на конкретных людей большевистской жестокости, жадности, непоследовательности — не верьте. Вам говорят о перерожденцах, которые ни в душе, ни в жизни никогда большевиками не были и ничего общего с большевизмом не имеют. Для них важно звучно шлепнуть партийным билетом о трибуну да так, чтобы эхо пошло по городам и весям, чтобы все знали, что обладатель этого билета сегодня с пеной у рта защищает авторитетную партию, которая гарант его собственного авторитета и благополучия, а завтра — бесчестит ее, поскольку сама партия нуждается в защите и гарантом уже служить не может.
Тот же Соловьев. При царе он занимался сельским хозяйством, имея 56 десятин пахотных и сенокосных угодий. Но у соседа, возможно, было еще больше, или тот чем-то не угодил Ефиму Соловьеву. Как бы там ни было, но у соседа случился поджог, в котором заподозрили Соловьева. Дело дошло до суда, который оправдал подозреваемого. При Временном правительстве он, видимо, решил, что выгоднее и безопаснее привлекать к ответственности других, и сумел занять должность начальника милиции Верхотурского уезда «с пребыванием в г. Алапаевске». Пришла Советская власть — он становится народным комиссаром юстиции г. Алапаевска. Колчаковская контрразведка задержала его на станции Бийск Алтайской железной дороги с паспортом на имя Михаила Пономарева. При обыске у него обнаружили еще один паспортный бланк, деньги в сумме 7992 рубля с копейками, «документ» на сумму 1 065 466 рублей 09 копеек. Свою настоящую личность на допросе он отрицать не стал, а о своей наркомовской деятельности сообщил, что она «заключалась в розыске преступного элемента по уголовным делам» и в уничтожении «самогонки и конокрадства», но в большей степени в том, чтобы «обуздывать страсти рабочих местного района, не давая творить все, что угодно». Соловьев также рассказал о том, как после бегства в леса от Советской власти спрятал вместе с Григорием Абрамовым «народные деньги» (сумму назвал несколько иную, чем Абрамов). Попутно привел примеры жестокости Советской власти, выдал тайник с оружием.
Но заигрывание с новой властью и его не спасло, о чем постарался небезызвестный полковник Смолин.
Колчаковская контрразведка расправилась с Абрамовым, Соловьевым и другими алапаевскими деятелями по единственной причине — они наотрез отказывались сознаваться в причастности к убийству князей, а поэтому являлись невольными опасными свидетелями провокации в отношении «кровожадных большевиков». Исчезновение же этих свидетелей позволяло объявить их большевиками и исполнителями злой воли Советской власти в расправе над «алапаевскими узниками».
Чтобы опозорить большевизм, кого только, повторюсь, не объявляли большевиками. И что только большевикам не приписывали. Вот Бурцев настойчиво создавал списки «сонма ленинско-немецких агентов», отличившихся затем в «уничтожении царской семьи», — Сафарова и Войкова. Последнего в настоящих списках не оказалось. Ну а Сафаров, по словам Бурцева, — «видный член партии большевиков», настолько «последовательно проводил в жизнь большевистскую линию», что неоднократно исключался из партии, каждый раз восстанавливаясь в ней. Видимо, для него это было равносильно смене партийных псевдонимов, которых он имел около десяти.
Бурцев в беседе с Соколовым нарисовал «типичный отвратительный образ большевика» Голощекина, которого «кровь не остановит», который по натуре — «палач жестокий с некоторыми чертами дегенерации».
Не знаю, как по отношению к другим, но к себе самому Голощекин относился действительно жестоко и безжалостно. Правда, к этому его вынуждали в бериевских застенках. Берия, в юности прислуживавший азербайджанским мусаватистам и грузинским меньшевикам, вылавливавший по их заданиям большевистских подпольщиков, а потом, как и подобает любому перерожденцу, расправлявшийся, заручившись большевистским, чекистским, позже — и наркомовским мандатом, со своими бывшими хозяевами, был очень заинтересован в даче показаний Голощекиным. Разумеется, тех, которые были выгодны Берии. Через Голощекина имелся выход на Ежова, которого Берия сместил с поста наркома внутренних дел, а теперь должен был доказать это смещение вескими уликами. Голощекин с Ежовым были знакомы по Алма-Ате. Берия же, кроме вредительской и шпионской работы, решил «закрепить» это их знакомство и унизительной связью — педерастией. Ну точь-в-точь как департамент полиции его величества императора Николая II держал на всякий случай эту улику против князя Мещерского и его «воспитанника» Манасевича-Мануйлова. Ежов оказался слабым человеком и во всем «сознался». Голощекин все обвинения против него, в том числе и арестованного Сафарова, отвергал. Даже те, в которых действительно был виноват, — в нарушении партийной дисциплины, в двурушничестве при решении важных вопросов (о Брестском мире, об использовании военных специалистов и др.), в приписывании партийного стажа, в амбициозности. Но эти «грехи» легко доказывались документами. Да и разве можно было за них наказывать судебным преследованием, а тем более смертью?.. Человек мог колебаться, ошибаться и даже… не подчиняться тем или иным партийным требованиям. Тут слово было не за судом, не за приговором одного мстительного самодура, а за партийным разбирательством и решением.
Меня удивило, что в надзорном производстве по делу Голощекина не нашлось упоминания о его «великой заслуге» перед Советской властью, как теперь представляют иные публицисты, обвиняющие большевиков, трагедию царской семьи. А ведь и Бурцев, и Соколов, а теперь, повторяя их, и Радзинский сделали этого человека — Голощекина — наравне с Юровским царским палачом. Но если бы все так гордились участием в расстреле екатеринбургских узников, то сделал бы это и Голощекин — личность довольно-таки амбициозная. Тем более что ему приходилось защищаться на допросах, отстаивать не только право на оправдание, но и на жизнь. Он, несомненно, напомнил бы об этой «услуге» Советской власти. А если не напомнил, то понимал, что гордиться здесь особенно нечем, или же подобной заслуги на его счету не было.
Бурцев связал Голощекина со Свердловым, а значит, сделал намек на связь Екатеринбурга с Москвой, заметив, что «между собой они в близких отношениях и на „ты“». Соколов более конкретизировал этот намек. Ну а Радзинский, продублировав доказательства последнего, развил эту версию с помощью новых домыслов.
В своей огоньковской публикации Радзинский приводит текст телеграммы, якобы отправленной из Екатеринбурга в Москву через Петроград (!) за подписью Голощекина и Сафарова. В ней говорится, что «условленного с Филипповым суда, не терпящего отлагательства из-за военной обстановки», авторы депеши ждать не могут. Радзинского, подобно подпоручику Тимроту и мещанке Карнауховой, эти строки настолько осеняют, что ему становится тоже сразу все ясно — речь идет о расстреле царской семьи. Филиппова он сразу же соединяет с Голощекиным, поскольку тот носит имя Филипп, а значит, это его «партийная кличка».[215] Радзинского даже не смущает то обстоятельство, что, подписав телеграмму своей настоящей фамилией, Голощекин навряд ли стал бы говорить о себе в третьем лице, поскольку таким образом он договаривался о суде с самим собой. Кроме того — Филиппов — это ведь не одно и то же, что Филипп. Если «кличка» Филипп, то зачем писать ее Филиппов. Да и главное в том, что по партийной литературе Голощекин проходит только с единственным псевдонимом — Фрам.
Кстати, в уже упоминавшихся здесь протоколах допроса Колчака почему-то тема царской семьи тоже не поднималась. Не прозвучала она ни в вопросах к бывшему вдохновителю расследования, ни в его ответах, что, было не выгодно ни одной, ни другой стороне поднимать эту тему? Или, может, они считали ее не такой важной, какой она представляется сейчас? Или им было ясно, кто какую роль занимал в этом темном деле?.. В любом случае правая сторона должна была, по логике, заговорить о нем. Этого не произошло, думаю, по довольно простой, хотя, конечно же, как и все в моих рассуждениях, спорной причине. Обе стороны в этом вопросе чувствовали неуверенность: Колчаку было неудобно за грубо сфабрикованную провокацию, в ходе которой он менял, словно адмиральские перчатки, следователей; следствию, представлявшему Советскую власть, — за неумелое опровержение этой провокации, которая, благодаря чрезмерному доверию эсерам, получила поспешную и фальсифицированную огласку от имени той же Советской власти.
В материалах, собранных Соколовым, много такого, что может заинтересовать, взволновать, возмутить. Будь то достоверный факт или же откровенная нелепица. Как бы там ни оценивать все это, равнодушным оно оставить никого не может. Тут наша история, тут наша жизнь. Тут наши беды и наши надежды. Тут непреодолимые пропасти и наведенные мосты. Тут — уроки…
Меня, к примеру, больше всего поразила вот такая запись, сделанная в июне—июле 1920 года Н.А. Соколовым после просмотра им тетради Б.Н. Соловьева: «На одном из предпоследних листов тетради имеются два обозначения, сделанные химическим карандашом. Одно из них изображает крест, а другое символический знак, тот же самый, какой был сделан Государыней Императрицей на косяке одного из окон в комнате дома Ипатьева. Эти обозначения изображены следующим образом…» Дальше представлялись рисунки двух символов. На одном — крест. На втором — словно кто-то в злобе или бешенстве изогнул, надломил стойку и поперечину креста. Это была свастика — проклятый всем честным народом знак жестокости и человеконенавистничества. Это было напоминание о фашизме…
Не желал бы оскорблять чувства истинных монархистов (верить во что-то, поклоняться кому-то, не навязывая своих идолов и идей другим, — право и дело совести каждого), но, если вспомнить, что при дворе с легкой (а может, тяжелой!) руки Григория Распутина царицу звали «мамой», то получается, что последняя российская императрица являлась «мамой отечественного фашизма». Ведь она хранила и другие атрибуты, взятые на вооружение впоследствии «семиреченским» фашистом-атаманом и ярым монархистом Анненковым. В одной из описей принадлежавших ей вещей значится, к примеру, брелок, изображавший «череп с крестообразно сложенными костями белого металла». Все эти документы относятся к 1918 году, к тому времени, когда воинство Анненкова щеголяло такими же отличительными знаками — череп с костями, упредив намного гитлеровских вояк. Они же, анненковцы, тоже дав пример немецким фашистам, имели на поясных пряжках циничную надпись — «С нами бог».
Кружок императрицы Александры Федоровны тоже носил религиозно-мистический характер. Иногда его называли «немецким». Ну а символом этого кружка, членом которого являлся автор упомянутой тетради — Борис Соловьев, зять Григория Распутина, государыня избрала вот такой печально известный знак.
Вот что об этом писал Соколов в своей книге «Убийство царской семьи» (с. 133): «В дневнике Соловьева я нашел тот самый знак, которым пользовалась Императрица. Соловьев ответил мне, что это — индийский знак, означающий вечность. Он уклонился от дальнейших объяснений. Марков был более откровенен и показал: „Условный знак нашей организации был (изображена свастика. — Авт.). Императрица его знала“.
Процитирую выдержку еще из одной книги:
„Наша буржуазия, представлявшая собой остатки старой империи, присвоила себе и старый императорский бело-красно-черный флаг.
Мы, националисты, поставившие себе задачей возрождение нашей родины революционным путем, не могли взять этого флага, так как он ассоциировал бы нас с бездейственными, пассивными элементами страны…
Для нового флага мы избрали красный революционный цвет, с белым диском посредине, в центре которого был помещен черный знак Свастики. Таким образом, были скомбинированы три цвета старой Германии.
Такие же самые значки были изготовлены для ношения на рукаве.
Новый флаг был выкинут летом 1920 года“.[216]
Откровения эти принадлежат Гитлеру, который тоже считал себя революционером. Хотя, еще будучи ефрейтором, возмущался разлагательской работой революционеров на фронте и в тылу, возмущался революцией в России, низведшей руками большевиков германский элемент, якобы тянувший Россию к цивилизации и управлявший этой дикой страной, до рядового уровня, еще больше обозлился на германскую революцию и возрадовался, когда она была задавлена. Так вот, немецкими нацистами был избран для их партии такой же знак, какой был в чести у последней романовской императрицы.
Так что же заставило бывшую гессенскую принцессу обратиться к столь таинственной атрибутике: индийский знак, череп с костями?.. Может, и впрямь это своеобразная месть православию, исковеркавшая крест, месть женщины, вынужденной искать брачной утехи и удовлетворения королевского тщеславия не только в чужой стране, но и в чужой вере. Правда, Алиса-Александра отличалась завидной набожностью и послушанием русской церкви. Хотя кто знает, какому богу в душе молилась она. Искривленный или надломанный крест, обезображенный знаком свастики, — может быть, это выражение мистичности кружка Александры Федоровны? Но не исключено, что это действительно первые проявления фашистского духа, фашистской воли, фашистского утверждения. Если так, то следует еще раз уточнить, что происходило это за несколько лет (учитывая время создания кружка, а не фиксации этого знака Соколовым и его предшественниками) до того, как Гитлер, по его словам, „выкинул“, т. е. поднял, нацистский флаг со свастикой. Российская царица, по всей видимости, не могла наблюдать этого торжества. Лицезреть зарождение фашизма в Германии мог Соколов, наезжая туда за изобличительными материалами против большевиков. Под грохот сапог гитлеровских штурмовиков печаталась в Берлине и книга Соколова. Ее антибольшевистские строки уж очень были созвучны с призывами рвущегося к власти Гитлера. Да и германская военная верхушка жаждала похода против большевиков. Так что книга Соколова и для них являлась мобилизующей силой. Нет сомнения, что именно с этой целью она издавалась и именно в Берлине.
Кстати, в книге, на первый взгляд вроде бы антигерманской, немало подобострастных кивков в эту, германскую, сторону. Тут и благодарность немецкому единомышленнику-антиленинцу: „Ныне измена Ленина открыто признана таким авторитетом, как немецкий генерал Людендорф“. Тут, как ни парадоксально, признательность германской силе, которая могла стать гарантией и не для кого-нибудь, а для монархистов в спасении Николая II из большевистской западни. Соколов уверен, что увоз царя из Тобольска, если это было „попыткой спасти его, вырвав его из рук большевиков, то такое намерение могло родиться только в русских монархических группах“. Подозреваю, что сомнение, заложенное Соколовым в этом „если“, — не оговорка опытного следователя, а проговорка. Да, он, возможно, проговорился, не желая того. Знакомый почерк во всех трех случаях (екатеринбургский, пермский и алапаевский), особенно „кастовое захоронение“ в алапаевской шахте, не мог не навести Соколова на мысль о монархистах. Он, несомненно, узнал их „почерк“. Да это и нетрудно было даже для менее опытного следственного работника. Материала для таких выводов накопилось в уголовном деле, в чем сможет убедиться терпеливый и вдумчивый читатель, немало. Взять хотя бы дневниковые записи Матрены и Бориса Соловьевых. То там, то здесь в них, пусть и бегло, пусть намеком, но попадаются следы розыска царской семьи, нескрытый восторг (особенно у Матрены), если призадуматься над событиями, которые имели место. К каким выводам вы пришли?
— Общий вывод был такой, что власть, существовавшая до революции, не годится.
— Это ваш личный вывод?
— Мой личный… Фронт на себе испытал всю разруху. Кроме того, было известно, что масса измен идет через верха, через существующее правительство. Было известно, что при правительстве находится масса продажных министров. Все, что было известно на фронте, существующее правительство оказалось совершенно негодным и должно было быть переменено. Ну а какая должна быть перемена, над этим я не мог задумываться. Я не предрешал этого вопроса. Я думал, что Учредительное собрание выберет власть, которая нужна, но я полагал, что будет выбран новый царь.
— Все-таки вы считали, что опять-таки будет монархический строй?
— Да, но будет опираться на поддержку Думы и Земства.
— Вас, как офицера старой армии, информировали, что происходит, какие политические расслоения созданы в стране, что имело место в момент революции 1917 года? Какова была политическая установка всего офицерства?
— Офицерство совершенно не информировалось, а узнавало обо всем уже из газет и от приезжавших из тыла, бывших в отпуску. Но офицерство не разбиралось, что из себя представляет та или другая партия. Об этом совершенно не было разговоров в офицерской среде. Думаю, не ошибусь, если скажу, что не только офицерство рядовое, но и высшее этими вопросами не интересовалось и над ними не задумывалось.
— Вы должны были примириться с тем, что царя нет. Какое отношение вы имели к политическим партиям?
— До этого времени мы были уже несколько знакомы с политическими партиями. Мы принимали некоторое участие в политической жизни страны, так как ходили на митинги, к нам приезжали агитаторы различных партий, главным образом социал-революционных и кадетских, которые агитировали до первого большевистского выступления. После большевистского выступления уже стали приезжать агитаторы Керенского и большевистские, большевики говорили, что преследует компартия, а агитаторы Керенского говорили, что Временное правительство является лишь временным и изберет ту власть, которая будет нужна народу, через своих избранников, через Учредительное собрание… И пока это собрание не будет установлено, будем продолжать вести оборонительную войну с германцами, ввиду того, что, если мы заключим сепаратный мир с Германией, тогда союзники от нас отвернутся, и Россия, все равно приведенная к полной разрухе, без помощи союзников останется в том же положении, в каком она находится сейчас. А большевики хотят захватить власть постоянную, но выборную, хотят заключить мир с Германией. Таким образом каждый солдат, каждый казак должны поддержать Временное правительство.
— Значит, вы думали, что большевики хотят идти рука об руку с немцами?
— Нет. Только заключить сепаратный мир.
— Поэтому вы считали необходимым защищать Временное правительство. Это было вполне определенное убеждение?
— Определенное убеждение.
— Следовательно, вы познакомились с направлениями мыслей каждой из политических партий?
— Главным образом эсеровской и кадетской.
— Какую же нашли наиболее приемлемой?
— Трудно было разобраться. Каждый хвалил свою. Трудно было разобраться, какая партия подходит именно к казакам, а не вообще.
— Ваше мнение склонялось в сторону эсеровской или кадетской?
— Больше в сторону эсеровской.
— С фронта вы прибыли по приказу?
— По приказу.
— Чьему приказу?
— Приказ из Первого армейского совета. В этот Совет входили депутаты от партизанских отрядов.
— О чем гласил приказ?
— Приказ гласил о том, что ввиду прекращения боевых действий на фронте все конные части ввиду отсутствия продовольствия и трудности доставления его благодаря разрухе транспорта должны быть отправлены в тыл. Кавалерийские части регулярной армии должны быть демобилизованы. Казачьи части должны уйти в свои войска и демобилизовываться там.
— С оружием?
— С оружием.
— Чем объясняется, что вас по пути задерживали?
— Это задерживали местные железнодорожные комитеты и только в двух пунктах.
— В каких именно?
— В Орше и Пензе, где поднимался вопрос относительно оружия. В городе Самаре вопрос относительно оружия не поднимался. Поднимался вопрос относительно оказания моральной поддержки в качестве демонстрантов. В Орше были задержаны все части Сибирского казачьего войска и Оренбургского войска.
— Каким образом казачьи полки, которые следовали впереди вас, и те, которые следовали вслед за вами, разоружались, а вы приехали с оружием?
— Нет, сибирские казачьи, кроме первого и второго полков, которые находились в кавказских войсках, были пропущены даже с артиллерией. Полки 4, 5, 7, 8, 9-й и гвардейский полк Сибирского дивизиона, артиллерийских восемь орудий и радиотелеграфная станция, — все пришли в полном боевом снаряжении, а кавказские бригады пришли без оружия и не в город Омск, а в Петропавловск…
— В Омске вы встретили разные правительства (рабочих, крестьянских и казачьих депутатов) и Войсковое правительство?
— Совета рабочих и крестьянских депутатов, казачьих депутатов не было.
— Здесь какую ориентацию вы выбрали? Что Войсковое правительство считало нужным для формирования власти?
— Войсковое правительство было выбрано после свержения Романовых Войсковым кругом…
— Войсковое правительство в своих стремлениях разнилось со стремлениями Совета в вопросе создания власти, аппарата власти?
— Если бы это было в другом городе, а не в казачьем, это было бы двоевластие. Здесь же функции были строго разграничены. Войсковое правительство ведало лишь казачьей территорией и казаками в станицах, а Советы ведали всеми остальными и городом.
— Относительно конечных целей того и другого. Надо полагать была какая-нибудь единственная форма правления.
— К этому как раз и стремилось Войсковое правительство с тем, чтобы выбрать третье — Войсковой круг и определить, какое должно быть отношение Войскового правительства к Совету.
— Если Войсковое правительство существовало рядом с Совдепом, то, следовательно, они не враждовали между собой?
— Нет, не враждовали.
— Они единой точки зрения не имели по вопросу создания постоянной власти?
— Я не могу сказать. Я не знаю.
— Не можете сказать? Следовательно, Войсковое правительство, если я правильно понимаю, стремилось к тому, чтобы руководящая линия находилась в их руках, в руках казачьих?
— В казачьих.
— Вы сами какого мнения придерживались в тот момент?
— Я примкнул к своему правительству, Войсковому.
— Следовательно, стали в некоторую оппозицию к Совету?
— В то время не было оппозиции.
— Вы считали опять-таки, что Войсковое правительство доведет до Учредительного собрания?
— Войсковое правительство не могло довести до Учредительного собрания. Оно решало административные вопросы.
— Какие, например?
— Например, относительного того, какая власть должна быть в станицах. В то время в станицах были комитеты.
— Какие комитеты?
— Станичные комитеты.
— Круг их обязанностей?
— Ведать делами станиц… Когда произошли трения между Совдепом и казаками, то комитеты не признавали Войсковое правительство. Если бы был выбран новый Круг, то комитеты, может быть, были бы переизбраны в казачьи советы.
— Таким образом, чего же добивались правительства в общевойсковом масштабе?
— Казаки не были монархистами. Они всегда шли за Керенского, все время.
— И вы считали это мнение единственно приемлемым?
— Да, я считал приемлемым.
— Чем объясняется то, что, когда вас хотели произвести в генерал-майоры, вы отказались?
— В городе Семипалатинске 26 ноября в день Георгиевского праздника (а это военный праздник) я был вызван по прямому проводу генералом Иванов-Риновым, который сообщил, что Колчак требует послужной список мой для производства меня в генерал-майоры. Я отвечал, что лучше останусь в чине полковника, чем буду колчаковским генералом. Крылатая же фраза о том, что я хотел быть произведенным только царем — неверна, потому что я в полковники был произведен не Николаем II, а Казачьим кругом за боевые действия на Уральском фронте. Затем я был произведен в чин Войскового старшины при Керенском. При царе же я был в чине есаула, и такого ответа, какой мне приписывают, — я не мог дать ни в каком случае.
— Вы дали такой ответ: что в чин генерал-майора вы можете быть произведены только царем.
— Как же я в два чина был произведен не царем?
— Это ничего не значит. Вы хотели в третий раз быть произведены царем.
— Я был произведен в 1919 году в генерал-майоры.
— Это уже потом.
— Я отказался от производства вот почему. Когда адмирал Колчак был поставлен во главе Временного сибирского правительства, то те офицеры, которые помогали Колчаку, были все произведены в генерал-майоры, независимо от того, был ли кто поручиком, капитаном или кто другой. Так были произведены Глебов и другие за личную услугу Колчаку.
— Вы этого не одобряли.
— Нет, не одобрял. Когда я прибыл в Семипалатинск, то все командиры корпусов, дивизий и полков, когда правителем стал Колчак, послали ему ряд правительственных телеграмм, в которых клялись, что будут защищать его до конца. Таких начальников, которые не послали приветствий и уверений, было трое: я, Семенов и Дутов.
— Все вы казачьи офицеры?
— Да, казачьи офицеры.
— А почему?
— Все командиры частей, когда стоявший во главе правительства Гришин-Алмазов был арестован, то не только никто его не поддержал, а, наоборот, те, кто клялся в верности, — его арестовали. Такая же история и с Болдыревым.
— Вы лично были знакомы с Гришиным-Алмазовым?
— Нет, но он обращался к моей помощи. Он вызвал меня по прямому проводу и говорил, что хотят свергнуть Временное правительство. Он говорил: „Торопитесь пройти со своими эшелонами в Омск для поддержки“.
— Когда это было? В каком месяце?
— В конце августа 1917 года.
— Где вы находились?
— Между Челябинском и Омском. Возможно, что я ошибаюсь только в дате.
— Шли с Верхне-Уральского фронта?
— Да.
— Какое к этому моменту у вас созрело определенное мнение относительно того, какая должна быть форма власти в России?
— По-моему, власть должна быть избрана Учредительным собранием.
— Таким образом установили, что Войсковое правительство опиралось на казаков.
— Да, исключительно…»
Для пытливого ума в этой выдержке-диалоге содержится очень много ценной информации. Во-первых, этот протокол допроса полностью еще нигде не публиковался. Во-вторых, он несет в себе дополнительную информацию в отношении того, кто предавал царя, кто расшатывал и оголял фронт, как ожесточенно велась борьба за власть в ущерб стране и народу, и многого другого. В-третьих, Анненкову, который делал последнюю попытку спасти свою жизнь, можно верить, поскольку он старался быть предельно искренним, конечно же, в общих вопросах, так как детали довольно убедительно изобличали суть его фашист-ствующей политики.
Из показаний Анненкова видно, что фронт расшатывали не столько большевики, как о том было заявлено Временным правительством, сколько те силы, которые в него вошли после низложения царя. И это в ответ на мольбы и требования, порой ультимативные, союзников наступать, укреплять, держаться, подсобить и т. п. Впрочем, подобные окрики последних, завуалированные дипломатической изворотливостью, раздавались и в адрес Николая II в его царственную бытность. Так, 25 апреля 1916 года президент Франции Раймонд Пуанкаре писал русскому царю: «…Франция полна решимости бороться до конца… все эти великие жертвы, не ослабляющие, однако, ее мужества, заставляют ее желать, чтобы ее союзники сделали все, что они могут, для ускорения победы». Президент просил так-же «благосклонно» отнестись к миссии его посланцев в Россию — «министра юстиции и вице-председателя Совета министров Вивиани, а также помощника государственного секретаря и министра военных снабжений Альберта Тома. Цель миссии — 1) выяснить военные ресурсы России и постараться дать им больше развития; 2) настаивать на посылке 400 000 человек во Францию, партиями по 40 000 человек…».[217] Множество подобных фактов содержится в переписке Николая II. Из доклада царю генерал-адъютанта Алексеева (13 мая 1916 года) видно, какую настойчивость проявляли итальянцы в лице полковников Ромеи и Энгеля. Алексеев даже вынужден пожаловаться Николаю II, что их просьбы о «немедленном наступлении нашей армии» по своему тону больше напоминают требования. Не унимались и англичане, что видно из записки члена Кабинета министров и военного совета Англии виконта Мильнера Николаю II (17 февраля 1917 года). Он откровенно говорил о большом значении, которое имеет для союзников наступление русских войск, которые должны дать все, что «в состоянии дать человеческие силы». Мильнер назидательно перечислял, что обязана и может дать для войны с Германией Россия, которая «обладает таким же, может быть, даже большим, количеством человеческого материала, каким располагают все остальные союзники, взятые вместе», подчеркивал, что русские солдаты сражаются с «поразительной храбростью и выносливостью», что эта храбрость и союзническая верность вызывают «огромные жертвы людьми», но все же… «Россия способна еще использовать свои собственные ресурсы». Более конкретно о многочисленных жертвах докладывали царю спустя год после начала войны члены военно-морской комиссии Государственной Думы. По их сведениям, к августу 1915 года потери русской армии составляли свыше 4 000 000 убитыми, ранеными и пленными, последних же насчитывалось 1 200 000. Неся эти потери, армия испытывала хронический недостаток в боеприпасах и оружии. Доходило до того, что безоружный солдат, брошенный на передовые позиции, должен был ждать, когда его сосед будет ранен и убит, чтобы взять из его рук винтовку. При Временном правительстве это положение еще больше усугубилось.
В показаниях Анненкова тоже говорится о нехватке оружия, боеприпасов, продовольствия. Но не это главное, что заставляло Временное правительство снимать с линии фронта войсковые части и соединения, ослабляя тем самым, несмотря на протесты и ультиматумы союзников, наступательные силы и наступательный дух. Временное правительство почувствовало угрозу своим позициям в тылу и направляло именно туда войска.
Довольно непривычно звучит из уст монархиста Анненкова признание в том, что казаки никогда не были монархистами, а всегда являлись сторонниками Временного правительства. Здесь проявляется также и двурушническая роль самого Анненкова, дававшего клятву на верность царю и остававшегося в душе монархистом, но перешедшего на службу к тому же Временному правительству, а затем заигрывавшего с казаками, их же предавая.
Вот и еще одна выдержка из его показаний (диалог с членом суда Мизичевым):
«— Когда вы закончили кадетский корпус?
— В 1906 году.
— Когда умер ваш отец?
— В 1904 году.
— Следовательно, какого возраста вы были тогда?
— 14 лет.
— Ваш отец был в чине полковника или генерал-майора?
— Полковник.
— Его имущественное положение?
— Отец имел 60–70 десятин земли и хутор в Волынской губернии.
— Или одним словом — имение.
— Да.
— Теперь такой вопрос. Скажите нам следующее: кто был ваш дедушка?
— По линии отца или матери?
— По линии отца.
— По линии отца моя родословная идет от декабриста Анненкова.
— Теперь вот скажите. Вы кончили курс в кадетском корпусе в 1906 году. Ваш отец происходит от декабриста Анненкова. Казалось бы, вы должны держаться известной политической ориентации, и на вас должна сказаться домашняя обстановка.
— Я дома почти не был. Восьми лет поступил в кадетский корпус и с восьмилетнего возраста всю жизнь провел в военной обстановке, без влияния домашней обстановки.
— Теперь такой вопрос. Вы нам здесь говорили, что когда вы служили, кажется, в запасном полку, в котором было восстание…
— Нет, в запасном полку не служил.
— Ну, я не знаю где, одним словом там, где было восстание.
— В Кокчетаве.
— Скажите, на какой почве возникло это движение?
— Казаки не были довольны, что их призывают по мобилизации.
— Следовательно, они были против войны?
— Нет. Было просто недовольство. Они не хотели отрываться от своих станиц и полей, а когда они были собраны в лагерь, то у них были назначены офицеры из других совершенно частей, офицеры, не знающие казаков и которых не знали казаки. Кроме того, там было много казаков, провожавших, а также и членов семейств казаков. Отношение офицеров было очень строгое. Они не учитывали того обстоятельства, что казаки пришли из своих станиц недисциплинированными, а офицеры применяли по отношению к казакам строгие наказания. Дело доходило до рукоприкладства. Так, например, один офицер начальник лагеря Бородихин был очень нервный и на почве незначительного какого-нибудь случая избивал казаков. Он избил казака Данилова. Стоящая неподалеку группа казаков сказала: „Бить нельзя, нет такого права“. Он повернулся к ним и сказал: „Кто это сказал?“ Казаки не ответили. Он тогда их выругал: „Трусы вы. Только можете сказать из-за спины“. И повернулся уходить. Группа казаков вслед ему пустила несколько ругательств. Он тогда выхватил револьвер и сказал: „Буду стрелять, если не прекратите ругань“. Когда он вытащил револьвер, то казаки, и запасные и вольные, сказали: „Много у германцев пуль для того, чтобы наши офицеры стреляли по казакам. Их будет достаточно“. Начальник лагеря пришел в офицерское общежитие и приказал находившимся там офицерам собрать свои части и развести по баракам, по казармам. Я командовал третьей сотней из лобановских казаков, которыми я командовал в мирное время. Я знал своих казаков, и все казаки знали меня. По моему приказанию эта сотня собралась, и все ушли в барак № 3. Остальные офицеры этого сделать не могли. Когда они начали успокаивать казаков и притом не так, как нужно было бы, казаки некоторых офицеров избили и предложили уехать из лагеря, иначе будет поступлено так же, как с Бородихиным, который был уже убит.
— Он был убит?
— Да. Группа казаков окружила общежитие офицеров. Бородихин начал стрелять, сначала в воздух, а потом по казакам. Последний патрон он пустил в себя, но только легко ранил, его добили уже казаки.
— Ну и за что же вас судили?
— После того когда пришел с экспедицией пехотный полк, приехал генерал Усачев и спрашивает у меня: „Вы все время были в лагере?“ — „Да, был в лагере“, — отвечаю. „Почему они вас не прогнали?“ — „Потому, — я только мог ответить, — что я к ним лучше относился“. — „Очевидно, вы в курсе всех событий и поэтому укажите всех виноватых. Кто виноват — выдайте немедленно“. Я ответил: „Во-первых, не знаю…“ И действительно, я не знал, потому что в количестве 5–6 тысяч человек, кто убил, трудно было разобраться и указать виновника. „А, во-вторых, я, как офицер русской армии, не должен выдавать казаков“.[218] Казаки сами должны выдать себя. И вот за это укрывательство и за то, что я, имея собственную сотню казаков, не мог привести в порядок остальных, как бы за бездействие власти был приговорен к году и четырем месяцам крепости.
— Чьей властью вы не отбывали наказание? Вы ходатайствовали перед кем-либо?
— Властью войскового атамана. Мне было предложено выехать на фронт, а отбывать наказание я был должен после войны, и это наказание числилось за мной в течение всего фронта.
— На фронте вы были начальником партизанского отряда?
— Через полтора года был начальником партизанского отряда.
— Вы сказали, что начальник партизанского отряда выбирался из наиболее преданных офицеров.
— Из наиболее отличившихся.
— Следовательно, и преданных.
— Там много было условий.
— Еще какие условия были?
— Во-первых, офицер должен быть не старше 25 лет, холост и наиболее отличившийся во время германской войны из всего войска.
— Скажите, непосредственное сношение вы имели с вашим атаманом?
— Два раза в месяц партизанский отряд должен был посылать сводку о боевых операциях партизанского отряда.
— А вы лично сношения имели?
— Нет, не имел, во время пребывания на фронте отряд подчинялся старшему начальнику, на фронте которого он работал. Это было непосредственное подчинение.
— Вы здесь на вопрос председательствующего сказали, что вы на фронте не занимались политикой. Но все-таки вы близко стояли к известным кругам, слухи носились, что развивается недовольство против царского правительства… До вас эти слухи доходили?
— Да.
— Как вы относились к этому?
— Офицерство говорило, что при существовавшем порядке невозможно будет драться дальше, скоро кончится война полным разгромом, а что было в тылу, не было известно, — главным образом все мотивировалось войной.
— Из чего вы исходили, что будет разгром?
— Сибирские казачьи войска были два раза избиты благодаря измене в тылу. Один раз это было… с корпусом Самсонова… Тут штаб корпуса просил о поддержке Гродненский гарнизон, где сосредоточены были 21-й и 23-й корпуса. Когда по радио просили поддержки, то немцы нам отвечали, что напрасно беспокоитесь, вы проданы давным-давно: каждый солдат по 8 рублей, офицер — по 14 рублей. Этому, конечно, не верили. Но то, что не была оказана поддержка, что гродненские части не пришли, было ясно видно, что кто-то работает в пользу немцев. Кроме того, были случаи, когда посылались в боевую линию части, имеющие по 15–20 патронов. Затем были случаи, когда батареи, стоящие сзади, в день выпускали 5–6 снарядов. Были случаи, когда посылались, вместо трехдюймовых снарядов, двенадцатидюймовые. Все это давало повод думать, что кто-то усиленно работает против нашей армии. Ясно, что если так будет продолжаться, то армия кончит свое существование…»
В показаниях Анненкова нашлось место упрека и в адрес Александры Федоровны. По этому поводу он говорил:
«На фронте особенно вдаваться в политику не приходилось и не было возможности знать, что делается в тылу. Тем не менее мы знали, что в тылу царит разруха, благодаря измене, благодаря тому мы не могли победить германцев, и что, в конце концов, эти неудачи и измены объясняются тем, что бывший император Николай II находился под влиянием своей жены и благодаря своему слабому характеру не был способным управлять страной. Поэтому для всех нас, как для солдат, так и офицеров, казалось, что свержение Николая II принесет только пользу благодаря тому, что вместо Николая II будет избран Учредительным собранием другой царь, который сумеет привести в порядок страну и закончить войну как следует. 3 марта все части, в том числе и партизанский отряд, были приведены к присяге Временному правительству…»
О подозрениях по отношению к «государыне-императрице» как одной из «темных сил», а также возможных «агентов Германии», о недовольстве ее царствованием, высказываемом открыто в самых различных кругах общества, можно найти множество фактов в различной исторической литературе. Отыскиваются следы и всевозможных сговоров и заговоров. Так, их «открывает» с помощью мемуаров видных масонов Г.Аронсон в своей статье «Масоны в русской политике», опубликованной в газете «Новое русское слово» (8—10 октября 1959 года). По его словам, со ссылкой на упоминаемые воспоминания, вопрос об отстранении царя и царицы от власти возникал не однажды в ходе войны. К примеру, князь Львов на совещании земских и городских деятелей якобы неоднократно, «исходя из чисто патриотических побуждений», восклицал: «С таким царем победить немцев нельзя!» Вокруг него же собирались единомышленники, которые пришли к выводу о необходимости отстранить нерусскую императрицу, ставшую «особенно опасной под влиянием Распутина». Подливала масла в огонь ходившая почему-то по рукам переписка между другим думским фракционером — Гучковым и генералом Алексеевым на эту же тему. Шли пересуды о совещании 16 великих князей решительно переменить политику, проводимую Николаем 11, посредством давления на него. Среди планов заговора того времени, считает Аронсон, «существовал так называемый морской план, о котором сообщил впоследствии Шульгин: предполагалось пригласить царицу на броненосец и увезти ее в Англию…».[219]
Кто же мог предлагаться на заветную и опасную «должность» — «божьего помазанника»? Кандидатов имелось несколько, а бога в лице православной русской церкви не спрашивали, так как она, по мнению упоминавшегося здесь митрополита-шпиона Шептицкого, давным-давно себя и скомпрометировала и изжила. С этим доводом согласился… Керенский, приложив немало усилий к тому, чтобы глава униатской церкви не только оживил и расширил свою российскую резидентуру, но и выдал ему (изобличавшие и его, и униатскую церковь, и германский штаб) документы, добытые в свое время нашей контрразведкой. Если учесть, что Шептицкий был тесно связан с высшим немецким руководством, то сам собой напрашивается вывод о возможной тайной связи Керенского с немцами, в чем он безуспешно пытался обвинять Ленина и большевиков и в чем его обвинял генерал Корнилов. И не об этой ли связи говорит загадочная, а точнее, туманная фраза Керенского в его эмиграционной беседе с Соколовым о неизвестной многим огромной роли немцев в русских делах? А не по наущению ли последних царская семья была отправлена вместо вожделенного юга или не менее желанной Англии… в Сибирь? Зачем? Предположений и на этот счет может быть несколько. Сибирь — это не Англия и даже не юг, где были сильны антинемецкие настроения. Русский царь у англичан или русских патриотов, подкрепленных военной мощью, — это продолжение войны против Германии. Сибирь же на то время казалась далекой, спокойной, и царскую семью можно было «законсервировать» до лучших времен, чтобы потом при удобном случае выгодно использовать эту пока еще дорогую «разменную монету». Нельзя забывать, что Сибирь была наводнена немецкими военнопленными, в том числе и «чехословацким корпусом», которого еще в такой вот интерпретации не существовало и в помине, как и предположения, что бывшие вояки австро-венгерского императора смогут противостоять «общегерманскому делу». Расчет мог строиться и на сильной позиции прогерманской партии, которая существовала в высших слоях общества и довольно явственно проявилась после революции. «Если до войны многие из нас, являясь ее противниками, — признавался Соколов в своей книге, имея в виду эти настроения, — не видели врага в Германии, то после революции… такой взгляд стал находить еще больше сторонников. Самый переворот 25 октября ст. ст. многим казался кратковременным, непрочным и усиливал надежды на помощь Германии».
Со стороны Керенского могли быть иные соображения. Не таким уж абсурдным может показаться предположение о мечтаниях «Александра IV» занять со временем царский трон. Его амбиция и великодержавное поведение во многих случаях подталкивают к этому мнению, а примеры из российской истории, когда на троне оказывались и более случайные и менее способные лица, чем он, еще более усиливают такую возможность. Не отрицают подобного варианта и все поступки Керенского в отношении царской семьи. Когда была возможность отослать царя и его семью за границу, Керенский, правда, не располагая на то время должной властью, но влиянием немалым, палец о палец не ударил для осуществления этого плана. Более того, он взял под различными оговорками царскую семью под арест, день ото дня ужесточая режим ее содержания, и в конце концов отправил в Тобольскую губернию. Что это было за место? С точки зрения немцев, может быть, оно и считалось тихим и безопасным. Но только не мог надеяться на безмятежное пребывание там сам Николай II. Во-первых, это извечное место ссылки политических заключенных, как правило, антимонархистов. Царь этим актом публично унижался, а наследники ссыльнопоселенцев получали реальный объект для мести. Во-вторых, Сибирь — вольница, скрывавшая извечно беглецов от крепостнических и самодержавных порядков, и навряд ли она и с этой стороны могла оказаться приветливой к тому, кто столько лет стоял у власти, кто олицетворял собой ту силу, от которой так далеко уходил вольнолюбивый люд. В-третьих, Сибирь, в частности Урал, где затерялся последний след царя и его семьи, считалась сосредоточием каторжного труда, и рабочие демидовских, злоказовских, набоковских и других заводов хранили недобрую память о своих притеснителях. Ну а если вспомнить жертвы ленских событий вкупе с Ходынкой и «кровавым воскресеньем», то уральский и сибирский пролетариат имел немало поводов таить обиду и зло конкретно на нового «ссыльнопоселенца». В-четвертых, и это, пожалуй, могло играть в планах Керенского наиболее существенную роль, — Тобольская губерния являлась родиной ненавистного почти повсеместно Григория Распутина. Не думал ли хитроумный Керенский, что с Николаем II, которого, в угоду многим, а тем более себе (если бы Керенский прочил себя в новые «помазанники божьи»), следовало не только изолировать в надежном месте, но и убрать, расправятся стихийные силы именно там, в Тобольске? Конечно же, за связь с Распутиным, что, между прочим, произошло впоследствии с еще одним «другом» распутинским — епископом Гермогеном. Не произошло ли подобное (в отношении Гермогена — это тоже версия) и с Романовым?..
Добиться через главенство во Временном правительстве, затем через диктаторство царского престола Керенский мог надеяться и с помощью союзников в войне, а еще больше — через «тайное братство». Об этих надеждах явных сведений встретить не довелось, но основания для подобного предположения имеются. В статье Аронсона о масонах можно прочитать: «Стоило бы остановиться еще на одном моменте, поговорить о нитях, связывающих в этот период русских масонов с французскими. Ведь Франция, можно сказать, — это прародина русского политического масонства. К сожалению, по литературе трудно проследить эту сторону вопроса. Однако самый факт взаимовлияния довольно бесспорно вытекает из ссылок того же Милюкова на соглашения Керенского с Альбертом Тома, эмиссаром Франции, которые имели значение и в вопросе коалиционного правительства, и в направлении внешней политики».[220]
В своих показаниях Соколову Керенский довольно напористо обвиняет в связях с немцами и шпионаже в их пользу большевиков. Делает прозрачные намеки он по этому поводу и в адрес царицы. Особенно примечательны его воспоминания о том, как он сам допрашивал Александру Федоровну о ее «немецком» кружке и как та, хитро уйдя от разговора, закатила истерику, как он изобличил царицу и ее фрейлину Вырубову в сожжении каких-то ценных бумаг. Что ж, возможно, он многого и не сказал, кроме этих намеков, имея то ли личные интересы в подобном замалчивании, то ли германское или масонское табу на царские связи. Так что сведения об этих возможных связях остались под семью печатями, как и секрет царской свастики. «Войдя в дом Ипатьева, Государыня сделала отметку на косяке окна своей комнаты. Она нарисовала свой индийский знак и рядом указала дату „13/30 Апр. 1918 года“»,[221] — писал впоследствии Соколов… Что выражала этим государыня? Обозначала свое пребывание, тоже считая его временным, для тех, кто ее разыскивал? Или делала мистическую метку-символ, наподобие той, которую оставили на Ивановском (Михайловском) кладбище Екатеринбурга неизвестные лица. Об этом сообщил инспектору уголовного розыске Талашманову 30 октября 1918 года житель города Антонов. По его словам, в июле этого же года он увидел на кладбище, куда пришел почтить память умершего сына, несколько свежих могил. Какие-то неизвестные женщины объяснили ему, что тут похоронены красноармейцы. Но особенно заинтересовало Антонова одно свежее захоронение в углу кладбища метрах в двадцати от забора. Оно имело необыкновенный вид: «…была сильно большая куча земли с большими комьями, на могиле креста не было, а был воткнут в средину кучи, забит кол, который я с трудом вытащил и спрятал тут же, невдалеке в траве». Так рассказывал Антонов, уточнив, что кол имел длину более метра (1,5 аршина) и толщину около 9 сантиметров (2 вершка). То, что это могло быть символическим захоронением, в некоторой степени подтвердили результаты его вскрытия, проведенные в ноябре 1918 года комиссией во главе с Сергеевым. В могиле оказалось два трупа: юноши свыше шестнадцати лет и мужчины, личности которых не установлены. На том и другом — странная одежда: защитного цвета рубахи и белье в полоску; ни брюк, ни обуви не было. Кто не знает народного символа против нечистой силы — кол в могилу? И кого могли пригвоздить этим символом в то время? И кто мог насыпать эту скорую грубую могилу, обозначив ее вот такой неуважительной и издевательской отметиной среди крестов, установленных на остальных могилах?..
Как бы мне хотелось задать эти вопросы Соколову! Что бы он ответил на них? Какие бы дал объяснения по многим другим заковыристым моментам его антибольшевистского дела?
Вместо заключения
Несостоявшаяся беседа с Соколовым
Вообще-то это даже не беседа. И не потому, что она — «несостоявшаяся». Просто попытаюсь прокомментировать некоторые положения книги Соколова «Убийство царской семьи»…
Снова навлекаю на себя гнев и едкий сарказм будущего оппонента. Вижу его ироническую улыбку, слышу колючее замечание: «Все хитришь, ортодоксальный автор!.. Во вступлении выдумал за меня удобные для себя вопросы. Теперь вот подобным методом пожелал с Соколовым расправиться. Что ж, так легче о себе заявить. Но легкость и поиск истины — несовместимы…»
Могу, конечно, возразить на этот возможный упрек. Но я ведь действительно все эти диалоги придумал. Признать, что все именно так и не иначе, — тоже несправедливо. Остановлюсь на компромиссном варианте: если и хитрил, то только в выборе формы подачи, чтобы порой однообразный и, может быть, несколько утомительный для восприятия материал оживить. Ну а чтобы отвести обвинение в поиске легкого пути к истине, сразу же сам себе от имени Соколова задам не очень простой вопрос:
— Вот вы здесь, гражданин хороший, уважаемый и неуважаемый автор-исследователь, очень много наговорили всякой всячины. Ну а почему обойден стороной вопрос о том, что о расстреле царя, а затем и семьи известили сами же большевики? Я ведь привел по этому факту довольно убедительные документы, телеграммы, газетные публикации. Ведь это соль всего дела — саморазоблачение.
— Сказать, что совсем обошел стороной, не точно. А сказал скороговоркой — это было. Что ж, остановлюсь на этом подробнее. Вполне согласен, что «саморазоблачения большевиков» для следователя Соколова — это соль, самый главный аргумент, поскольку других изобличительных фактов, по сути дела, и нет. Одни домыслы, одни намеки. Не говоря уже об откровенных сплетнях. Но личное признание — это уже серьезно. Правда, они тоже разные бывают. Скажем, Павел Медведев, который был разводящим караула сразу в доме Ипатьева, а затем — обслуживавший только внешние посты, тоже во многом «признался». Беру в кавычки, потому что его показания больше похожи на самооговор, чем на признания. В доме Ипатьева в ночь предполагаемого расстрела Медведев по своему служебному положению быть не мог. Сбор револьверов для внутреннего конвоя, предупреждение караула в доме Попова, «чтобы не боялись», т. е. разглашение сведений о секретной акции, — в это трудно поверить. Еще более бессмысленно «признание» Медведева в отсылке его Юровским в самый ответственный момент на улицу «проверить, не слышна ли стрельба из дома». Зачем бы он тогда приглашался в дом, если бы не участвовал в расстреле? Лишним свидетелем? Или нужным для колчаковскои контрразведки и следствия «очевидцем»?.. Это настолько было слабым местом в показаниях Медведева, что следователи решили подправить их с помощью медведевской жены. Она «точь-в-точь» передала «услышанное от мужа», обычно сдержанного и о служебных делах не говорившего, вдруг вылившееся из него откровение, причем такое, которое так нужно было следствию. Сам Медведев-«очевидец» оказался из-за своей несговорчивости ненужным, поэтому его в срочном порядке… скосил «сыпной тиф», да так поспешно, что господин Соколов даже «не успел» побеседовать с этим главным и единственным на то время «очевидцем». Зато жена Медведева — жена «злостного большевика», цареубийцы, у которой нашли царские вещи (уже за это одно ее бы расстреляли!), не исключено, что и подброшенные, — была выпущена на свободу. Да старики-сибиряки, чудом спасшиеся в свое время из той же колчаковской контрразведки, и старики-эмигранты, кто в этой контрразведке, тоже в свое время, заправлял, услышав о подобном, каждый по-своему ухмыльнутся. Жена Павла Медведева сообщила следствию, что муж ее участвовал в расстреле, поведала всевозможные подробности «трагедии в доме Ипатьева», несчастную женщину можно понять: ценой оговора мужа, которому уже ничто не могло помочь, она спасала не столько себя, сколько троих детей, остававшихся в случае ее смерти сиротами. Надо полагать, что и ее оставляли в живых до поры до времени как единственную пока «свидетельницу очевидца», надеясь заполучить более важных свидетелей и не надеясь на такой короткий век Колчака в роли Верховного правителя. Правда, у меня нет оснований считать, что все, кто вел следствие, в том числе и Соколов, не верили со всей искренностью в то, что именно большевики расстреляли или уничтожили иным способом царскую семью. Более того, в материалах, собранных Соколовым, встречаются показания, когда простые люди, тоже верившие в это, резко обрывали собеседников, когда те утверждали, что царя и его близких нет в живых. Резюме было коротким: смерти царю хотели только большевики, и тот, кто распространяет слухи о его смерти, — сам большевик. С другой стороны, — имеются и такие показания, — представители Советской власти после изгнания колчаковцев и их союзников пресекали разговоры о том, что царь жив. Вот такие парадоксы этого дела.
— Спасибо и на этом. Но в чем же обвинения в отношении следствия?
— Не обвинение, а уточнение. Верить искренне — это не значит поступать точно так же на деле. Искренность же в следствии что-то не очень просматривается.
— Пусть так. Но как же быть с саморазоблачением большевиков?
— Они тоже и неискренни, и тем более неубедительны. В материалах дела почему-то остались незамеченными признания эсера Соковича, наркома областного здравоохранения, о его нелюбви к большевикам вместе с категорическим отрицанием акта расстрела царской семьи. Заслуживает внимания и показание свидетеля Самойлова, который слышал подобное утверждение от красноармейца Варакушева. Не хотелось бы приводить подробную грубую фразу, записанную в протоколе допроса Самойлова, но она очень важна как факт и по сравнению с теми уликами, которые подробнейшим образом сообщает в материалах следствия и своей книге Соколов в отношении Юровского, довольно приемлема. По словам Самойлова, когда он в разговоре с Варакушевым сослался на объявление в газете о расстреле царя, красноармеец заметил: «…сука Голощекин распространяет эти слухи, но в действительности бывший государь жив…» О том, что Голощекин активно распространял сообщение о расстреле царя не только в печати, но и устно (собрание, митинг), тоже имеются показания свидетелей. Зачем он это делал?..
— Действительно, любопытно услышать.
— Конечно, интереснее было бы узнать на этот счет соображения самого Соколова. Но он только зафиксировал подобное как неоспоримый факт и главную улику против большевиков. Более того — против Москвы, которая якобы знала о готовящейся расправе и не просто одобрила ее, но и дала соответствующие указания.
— А разве это требует особого доказательства? Разве тут не ясно, что тот же Голощекин без Москвы не посмел бы решиться на такое?
— Ну тогда чем объяснить иной факт, противоречащий вашему заявлению? Вы его, господин Соколов, самолично зафиксировали в июле 1920 года в Париже, беседуя с князем Львовым. Уж его-то вы не станете подозревать в симпатиях к большевикам? Так вот он следователю Соколову показал: «Когда большевики арестовали меня и указанных мною лиц и доставили в Екатеринбург, мы решили требовать, чтобы нас отправили в Москву, рассчитывая, что так мы скорее добьемся свободы. При первом же допросе меня комиссией я и заявил об этом. Я прекрасно помню ответ мне Голощекина: „У нас своя республика. Мы Москве не подчиняемся“».
— Ну это Голощекин напускал на себя важность. Боялся он Москвы, да еще как. Тем более там дружок его находился, которому он в рот смотрел, — Янкель Мовшев Свердлов. Бурцев мне говорил, что они между собой старые приятели и давно на «ты».
— Были давно на «ты», и — боялся. Не вяжется.
— Ну если не боялся, так слушался. Какая разница. Бурцева на этом деле не проведешь.
— Тогда почему Голощекин и другие уральцы не оказали содействия Яковлеву? Коли не из-за боязни, то хотя бы из послушания?
— А при чем здесь Яковлев? Это совершенно иная история.
— Почему же?.. Вот выдержка из книги Соколова: «Свидетеля Кобылинского я допрашивал лично в течение нескольких дней. Он вдумчиво и объективно давал свое пространное показание». Ну а показал, в числе других сообщений, что он, Кобылинский, лично «наблюдая Яковлева», пришел к выводу, что «этот посланец центра, ведя борьбу с местными большевистскими элементами, исполняет директивы центра. Расчет времени, приведенный Яковлевым, убедил его, что он везет Государя в центр: в Москву». Итак, миссия Яковлева ясна — он представлял центр и сопровождал царя. Местные власти, хотя бы в лице того же амбициозного Голощекина, считавшие, что у них «своя республика», чинили посланцу Москвы всяческие препятствия. Где же здесь боязнь Москвы, где послушание?
— Да, но мое отношение к показаниям Кобылинского приведено не полностью. Я их и оспаривал.
— Я процитирую и это место. Со слов Кобылинского, зафиксированных Соколовым, Николай II так прокомментировал миссию Яковлева: «Ну, это они хотят, чтобы я подписался под Брестским договором. Но я лучше дам отсечь себе руку, чем сделаю это». Но ведь это не столько мнение Кобылинского, сколько бывшего царя. И поэтому непонятен комментарий следователя, который приписывает эту фразу свидетелю. Получается, что или Кобылинский придумал ее (тогда как понимать оценку его показаний, если и пространных, то вдумчивых и объективных?), или сам Соколов что-то путает, недоговаривает. Об этой сакраментальной фразе, приписываемой Кобылинскому, Соколов отзывается даже с иронией, говоря, что «его слова о Брестском договоре не соответствовали мысли Государя. Сопоставляя показание Кобылинского со всеми данными следствия по этому вопросу, я не сомневаюсь, что мысль Царя была гораздо шире…». По мне, так больше иронии вызывает вот такой комментарий. Ведь непонятно, говорил все же царь, бывший, именно так или нет? Или говорил, но мыслил шире, чем это мог понять Кобылинский? Тогда откуда следователю известно, как мыслил царь — уже или шире?..
— Цитата снова прерывается. Не очень честный прием. Понимаю, что автору исследования не очень хочется слышать горькую правду о любимых им большевиках. А писал я в книге следующее: «Дело было, конечно, не в Брестском договоре, который стал уже фактом. Наблюдая из своего заключения ход событий в России и считая главарей большевизма платными агентами немцев, Царь думал, что немцы, желая создать нужный им самим порядок в России, чтобы, пользуясь ее ресурсами, продолжать борьбу с союзниками, хотят через него дать возможность его сыну воспринять власть и путем измены перед союзниками заключить с ними соглашение. Такова была его мысль, полнее выраженная государыней».
— Что ж, подобная версия тоже имеет право на жизнь. Если немцы не желали иметь «разменную царскую монету» в руках союзников, то зачем оспаривать их желание приобрести эту «монету» себе? Тем более что немцы — все-таки родня. Хотя у царской семьи были родственные связи и с англичанами, и с датчанами. И все же умозаключение Соколова имеет существенную слабину. Во-первых, та же самоуверенность следователя, что он умеет читать царские мысли и думы на расстоянии. Чьи-то невысказанные думы — это вымысел. Слова же, пусть и неправдивые, но они сказаны. Этого Соколов не опровергает. Значит, приведенная Кобылинским царская фраза о Брестском мире — это факт. И именно ее следует оценивать. Во-вторых, тяжело больной сын с непредсказуемым по времени исходом (уж немцы-то знали, что у бывшей принцессы Гессенской родня по мужской линии вымирала именно из-за этой наследственной болезни!) не мог являться для германской, как и для любой другой стороны, «козырной картой». Их мог интересовать скорее всего сам Николай — пятидесятилетний, здоровый, полный сил и амбиций, пусть и лишенный трона, но под давлением, а значит, незаконно, подлинный русский монарх. В-третьих, не очень-то убедительна ссылка в качестве подтверждения «мыслей и дум царя» на «авторитет царицы».
— Это почему же? Она имела сильное влияние на мужа.
— Через Распутина? Заботясь о здоровье сына?
— Нет, я так не утверждал. Более того, я отрицаю этот вымысел. Это пересуды наших врагов. Лжеанархисты распутинского толка пытаются утверждать, что Распутин «благотворно» влиял на здоровье Наследника. Неправда. Его болезнь никогда не проходила, не прошла, и он умер, будучи болен.
— Что вы сказали? Наследник умер, не расстрелян? Или это оговорка?
— Да, оговорка. А с вашей стороны — придирка.
— Подобная оговорка в устах опытного следователя весьма и весьма сомнительна. Ладно, допустим, придирка, но разве можно считать придиркой еще одну «следовательскую оговорку» в отношении мнения Николая II о большевиках как о «немецких шпионах»? Таких высказываний, кроме «царских мыслей», из уст бывшего царя не приводится. Скорее в материалах дела имеются факты, что повода гневаться на большевиков у Николая II было, пожалуй, меньше, чем на «команду Керенского». Он имел и слуг, и особняк, и стол. Даже «богохульники-большевики» разрешили службу церковную вести в доме Ипатьева. Бывший царь даже красноармейцев стал называть на их лад — «товарищами». Ну а в книге Соколова приводятся показания Жильяра, который, вспоминая переезд из Тобольска в сопровождении Яковлева, говорил, что «государь с Яковлевым вели беседы на политические темы, спорили между собой и государь не бранил большевиков». Вот видите — не бранил.
— Показания Жильяра, царского слуги, еще ничего не значат. Другой царский слуга, Чемодуров, так говорил, что за царем в Тобольск приезжал сам Троцкий. Что ж, и этому верить?
— Верить этому, конечно, нельзя, поскольку сам факт опровергает этот вымысел — приезжал Яковлев. Правда, Соколов, опровергая вместе с надуманными фактами очевидные, зачастую там, где ему выгодно в соответствии с его версией, и сплетни за истину принимает. Так, он упорно не хочет согласиться, что миссия Яковлева носила двойной характер. Даже — тройной.
— То есть?
— Указание из центра предписывало Яковлеву оказать содействие местным властям в перевозке царя в более безопасное и надежное место. Это официальная, по крайней мере заявленная в печати, версия. «Известия» в свое время сообщали, что на комиссара Яковлева «было возложено выполнение распоряжения Сов<ета> Нар<одных> Ком<иссаров] о переезде быв<шего> царя из Тобольска в Екатеринбург». Эта версия вызывает большое сомнение. Навряд ли было необходимым отправлять человека из Москвы, чтобы решить чисто «уральско-сибирскую» задачу. Даже при всем недоверии к местным властям, «перенаселенным» эсерами. Яковлев мог выполнять иную, более важную задачу… Соколов «знает», «уверен» в том, о чем думал царь. И эту свою «прозорливость» он обнаруживает, похоже, только затем, чтобы «замазать» нелепую надежду «помазанника божия» на возвращение ему царских привилегий. «Я знаю, — писал Соколов, — что подобное толкование уже встретило однажды в печати попытку высмеять мысль Царя: подписать Брестский договор. Писали, что над этим рассмеется любой красноармеец». И действительно, подобное заявление столь важного государственного мужа могло вызвать если не улыбку, то сожаление. Ведь в этих словах, выразивших сокровенную надежду на возврат старого, заключался и весь парадокс положения «сибирского новопоселенца». Его по-детски искренняя и наивная фраза — это не царская глупость, а царская трагедия. Опороченный и преданный своими близкими и далекими подданными, присягавшими ему на верность, он, именно в то время, когда, быть может, утвердился в своем высоком «божественном» предназначении, о чем убеждает его многочисленная переписка, вдруг лишается и этого утверждения, и всего, что с ним связано. Последние дни перед вынужденным отречением, оставшиеся в воспоминаниях очевидцев тех событий, если и во многом противоречивы, то все же красноречиво повествуют о больших душевных переживаниях и метаниях царя перед принятием рокового решения… Но вот, в место его униженной ссылки, в место забвения, прибывает посланец от Москвы… Николай II встречает его чуть ли не в штыки, но, побеседовав наедине, вдруг меняет свое отношение.
Впрочем, «комиссар», как оказывается, старый знакомец, более того — царский должник. Должник жизнью, а не чем-нибудь другим. Но мог ли Яковлев доверить высокородному подопечному свою вторую миссию — полуофициальную, известную для Москвы и скрытую от Екатеринбурга? Возможно, беря в учет столь значительный долг — обязанность жизнью (когда-то Николай II заменил флотскому офицеру Яковлеву смертную казнь каторгой), и мог сообщить, что ему поручено доставить бывшего царя в Москву. Зачем? И это мог сообщить. Да и царь, бывший, должен был сам догадаться: не для наград и не для очередного коронования. Кстати, Советская власть уже заявила, что Николай Романов предстанет перед открытым судом народа. Скорее всего, что такой информацией бывший эсер, вступивший в большевистскую партию с нечистыми помыслами, Яковлев (Мячин) поделился с высокопоставленным «узником». Потому-то, не исключено, Николай II с присущей его характеру «византийской хитростью» и произнес на первый взгляд нелепую фразу.
Не берусь читать его мысли и вникать в монаршие думы, а лишь выскажу предположение, что по поводу Брестского мира он, разогревая в себе столь внезапно вспыхнувшую надежду и скрывая от посторонних истинный смысл (третий) яковлевской миссии, тоже иронизировал. Навряд ли «клюнула» на Брестский мир и Александра Федоровна, столь решительно забыв и о тяжелом положении наследника, который чувствовал себя гораздо хуже, нежели это было перед отъездом из Царского Села, и о дочерях, и пожитках, и о преданных слугах, стала готовиться к поездке в числе ограниченного круга сопровождавших царя лиц. А ведь могла и не ехать. Уж ее-то не принуждал «комиссар». Но, тоже с «византийской хитростью» (одна монаршая школа!) заявив, что и на этот раз ее несмышленого муженька смогут обмануть, как и при поспешном отречении от престола, и заставить что-то не то подписать, присоединилась к отъезжавшим… Речь могла идти об отъезде под «иностранное крыло» в сопровождении Яковлева, но теперь уже не только в обман «суверенного Екатеринбурга», не очень-то уважавшего приказы из Москвы, но и последней. Не исключено, что, как бы там ни доказывал Бурцев невозможность николаевской симпатии к немцам вопреки антипатии самого Бурцева к Николаю II, «крылышко» именно было германским. Эту возможность не отрицает Соколов, более того, считает ее единственной, если речь шла именно о спасении царской семьи с помощью русских монархистов. Повод для германской версии дает и сообщение некоторых деталей о Яковлеве, который якобы после помилования его Николаем Александровичем в бытность последнего на монаршем престоле, поскитавшись по Америке, жил в Швейцарии и Германии. Оттуда, из Германии, он возвратился в Россию только после Февральской революции… Нельзя отвергать, что во время своего пребывания в Екатеринбурге, когда увоз царя не состоялся из-за запрета местной власти и мер, предпринятых ею, Яковлев мог встретиться и согласовать осуществление своего неосуществленного плана в будущем с Юровским.
— Абсурд! Полнейший абсурд!
— Ничуть не больший, как рассуждения о том же Юровском следователя Соколова.
— Это какие же такие рассуждения?
— А хотя бы вот такие: «15 июля Юровский нам приказал принести на следующий день полсотни яиц и четверть молока и яйца велел упаковать в корзину…» Дальше Соколов вопрошает: «Для кого Юровский приготовлял 15 июля эти яйца, прося упаковать их в корзину?» Конкретного ответа он не дает, как не уточняет: были те яйца вареными или сырыми, рассчитывались на десяток человек или одного его, Юровского. Получалось по всему, что последний страдал невероятным обжорством, поскольку речь дальше идет о том, как он в одиночку уничтожал содержимое корзины. «Вблизи открытой шахты, — пишет Соколов в книге, — где уничтожались трупы, есть маленькая лесная полянка. Только на ней имеется единственный сосновый пень, весьма удобный для сидения…»
— Да. Отсюда очень удобно было наблюдать, что делалось у шахты. 24 мая 1919 года вблизи этого пня под прошлогодними листьями и опавшей травой я нашел яичную скорлупу. Годом раньше, 15 июля ранним утром, Юровский собирался на рудник и заботился о своем питании.
— Это же надо обладать таким воображением и таким нелогичным мышлением. За год, который прошел после этих событий, кто только не мог сидеть на этом самом пне и уничтожать яйца. Правда, кто-нибудь иной, «по всей видимости», не мог, поскольку Соколов «занес» в Книгу Гиннесса очевидно одного Юровского — пожирателя яиц. Ну а если более серьезно, то нужно было установить хотя бы такую мелочь: покупал ли кто еще, кроме Юровского, в этот день яйца (не обязательно в таком количестве) и не выезжал ли (надо бы в течение года) еще кто-то в указанное место, не трапезничал ли подобной снедью на этом самом пне…
— Но у меня еще есть улики, доказывающие, что здесь был именно Юровский. Я отыскал листки из фельдшерского справочника, который употреблялся, извините, не по назначению…
— После такого обжорства, тоже извините, немудрено. Только здесь бы потребовалось использовать весь справочник, а не отдельный листик. Кстати, как вы могли его отыскать год спустя? Вы же пешком прошли тайгу, знаете, что она из себя представляет. А тут — целый год. Дожди, снег. Что-то растет. Зверье рыщет… И что же, на этих уликах сохранились какие-то пометки Юровского?
— Да. Следы от, извините, переваренной и вышедшей пищи.
— И все? А что-нибудь существенное? Фамилия, инициалы, адрес?..
— А зачем это все? Юровский когда-то был фельдшером, а точнее, врачом-самоучкой. Настоящему профессионалу носить с собой справочник ни к чему, а самоучке — необходимо. Это мог носить при себе только Юровский. Носил, носил, ну а когда приспичило — вырвал страничку. Тут все ясно. Тут никаких сомнений.
— Разрешите не согласиться. Юровский являлся не самоучкой. Он окончил фельдшерские курсы. И это было давно. В материалах следствия нет сведений, что он занимался в последние годы врачебной практикой, зато имеются сведения о его занятиях фотоделом и ремонтом часов. Комиссарская работа тоже не позволяла ему увлечься врачевательством, в том числе и тайным. Но даже если и допустить, что Юровский иногда «позволял» себе подобное, то он, не расставаясь, по утверждению Соколова, со столь ценным пособием, разве позволил бы себе трепать дорогую книжицу, без которой — как без рук? Да еще использовать вот так, тем более летом, в лесу, где подручного материала для подобной цели сколько угодно… Нет, неубедительно все это. По крайней мере в подобных доказательствах не больше смысла, чем в предположении о предварительном сговоре Яковлева и Юровского. Конечно, при условии, что последний разделял позицию эсеров. Двум эсерам договориться не так уж было трудно. Кроме того, многие свидетели утверждали, что как Яковлев, так и Юровский относились к Николаю II с подчеркнутым почтением. В ночь похищения Юровский мог находиться на своей квартире, а не в доме Ипатьева. На внешних постах не стоило особого труда расставить в указанное время надежных людей… Внутренний караул, застигнутый врасплох, сопротивлялся, если и упорно, то недолго. Возможно, что двое из них, наиболее стойких или же известных кому-то из нападавших, были спешно вывезены на кладбище для символического суда «над антихристами» с колом посредине грубой могилы. Остальные убитые могли оставаться и в доме Ипатьева, пока не были обнаружены после похищения царской семьи и похоронены тайно уже своими.
— Абсурд! Трижды абсурд!.. Ведь есть же улики… Челюсть… Отрубленный палец…
— Да, они есть. Но их можно считать уликами как против одной, так и другой сторон. Они могли использоваться для отвода глаз, для увода следствия от истинной версии. Разве подобные улики добыть в то время было так уж тяжело? Трупов хватало. Вот, скажем, в протоколе вскрытия захоронения с «нечистой силой», пригвожденной к небытию колом, у трупа юноши отсутствовали верхние зубы. Имелись ли у него на руках все пальцы, которые, по-видимому, тоже были «тонкими», как пишет о «своей улике» Соколов, из протокола неизвестно. Да и палец из шахты почти что невозможно было сравнивать с каким-нибудь другим. Жильяр об этом заявил довольно однозначно: «…по поводу предъявленного мне отрубленного пальца я затрудняюсь высказаться даже предположительно, так как в настоящем виде палец утратил какие-либо особенности…» Соколов ссылается на «врачебную экспертизу», которая якобы исследовала и челюсть, и палец. Но настоящей экспертизы, увы, не проводилось. Все свелось к взятию показаний свидетелей, внешнему осмотру «улик» и такому же поверхностному поспешному заключению.
— Но Голощекин… Ведь так и не дан ответ, почему он признал за большевиками расстрел царской семьи?
— Он так не заявлял. Он признавался в расстреле одного царя. О такой же участи и семьи различные толки и сообщения появились позже. Уверен — без эсеров здесь не обошлось. А Голощекин что — позер, демагог. И наказания из Москвы за самоуправство он все-таки опасался. Ведь именно екатеринбуржцы, по его наущению, помешали Яковлеву увезти царскую семью. Выходит, взяли на себя единоличную ответственность за ее сохранение. И тут вдруг — она исчезает. Признаться в этом, значит, дать монархистам надежду, ну а Москве — подозрение в причастности к «похищению». Правда, у екатеринбуржцев позже появилось веское оправдание в отношении столкновений с Яковлевым, после того как последний, прихватив некоторые ценные документы, перебежал к врагу. Соколов по этому поводу в своей книге пишет так: «Яковлев был у большевиков их политическим комиссаром на Уфимском фронте. Осенью-зимой 1918 года он обратился к чешскому генералу Шениху и просил принять его в ряды белых войск. Он указывал, что это он именно увозил Государя из Тобольска». Именно поэтому, как с важным свидетелем, знавшим суть дела, белочехи «с ним поступили неразумно», как пишет Соколов, уточняя затем, что Яковлева расстреляли. Соколов «очень торопился» побеседовать с этим важным свидетелем, но не успел. У него выработалось завидное постоянство в подобных случаях «торопиться и не успевать», зато появилась возможность проявить свои экстрасенсорные способности проникновения в «думы и мысли» несуществующих свидетелей…
Но предательство эсера Яковлева обнаружилось значительно позже. Голощекину и К0 осталось взять на себя из двух зол меньшее, как, возможно, им показалось. Они объявили о расстреле царя и спасении семьи. Позже эсеры и монархисты усугубили и дополнили эту версию, которая обрастает фактическими деталями и нелепыми сведениями, как снежный ком, до сих пор.
— Где же царь? Где его семья?
— Не знаю. Может, затерялся их след в тайном схроне до ожидания лучших времен. Может, тогда же их лишили жизни потенциальные соперники на будущий престол (разве такой уж редкий случай в царской династической истории?), хотя не исключено, что имела место и трагедия в доме Ипатьева, но, по всей видимости, не так, как об этом Соколов по секрету рассказал всему свету.
А разве не заслуживает внимания высказанная версия Льва Толстого в отношении несостоявшейся смерти одной из некогда царствующих особ? В гроб положили труп двойника царя, а сам царь, мучаясь причастностью к смерти близких и далеких подданных, ушел в скитания, замаливать грехи. Как знать, возможно, и брел по дорогам Гражданской войны еще один великий грешник, решивший избавить Россию от собственной головной боли, взявший некогда на себя тяжелую и незаконную ношу «помазанника божия», а теперь пытающийся избавиться от нее, точнее, от вины перед людьми за то, что пытался решать все и за бога и за народ. Как знать, не закончил ли свой тяжкий и трагический путь очистительным хождением в народ бывший государь-император Николай II?
Не знаю я всего этого. В одном лишь уверен: трагедия Николая II — это трагедия и всех нас, втянутых с детских пеленок в борьбу за власть. Одни втянулись в эту борьбу ради того, чтобы управлять и повелевать. Другие — чтобы исполнять и подчиняться. Первые для себя. Вторые для других. Но все в этой тяжбе и междоусобице изначально и вечно несчастны. Уверен также в том, что когда жажда власти, как самое страшное зло, погибнет — на земле, в том числе и на Руси, настанут мир и спокойствие.