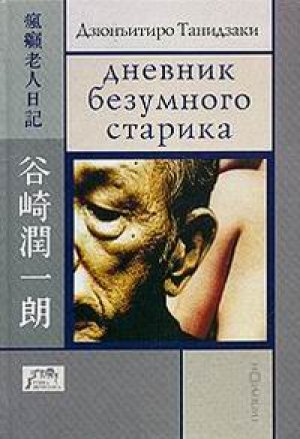
Глава первая
16 июня.
…Вечером ходил в Первый театр на Синдзюку[1]. Давали «По ту сторону любви и ненависти», «Историю Хикоити» и «Сукэроку, или Хризантему весёлых кварталов». Я хотел посмотреть только «Сукэроку». От Канъя в главной роли я ничего не ждал, но Агэмаки играл Тоссё, и я подумал, что он, наверное, в этой роли будет красив, — так что я пошёл из-за Агэмаки, а не Сукэроку. Поехали в театр вместе с женой и Сацуко. Дзёкити прибыл прямо из фирмы. Содержание «Сукэроку» знали только я и жена, Сацуко не знала. Возможно, жена видела в главной роли Дандзюро Девятого[5], но она в этом не уверена, зато утверждает, что раза два или три видела Удзаэмон Четырнадцатого. Я один видел в этой роли Дандзюро Девятого. Это было приблизительно в 30 году эпохи Мэйдзи (1897 г.), мне было тогда лет тринадцать-четырнадцать. После этого он Сукэроку не играл и в 36 году (1903 г.) умер. Агэмаки тогда играл Утаэмон Пятый, в то время его ещё звали Фукусукэ, а Икю — Сикан, его отец. Мы в то время жили на Хондзё Варигэсуй, и я до сих пор помню, как на Рёкоку Хиронокодзи в лавке — как она называлась? знаменитая книжная лавка, — были выставлены три гравюры: Сукэроку, Икю и Агэмаки.
Когда я видел Удзаэмон Четырнадцатого в роли Сукэроку, Икю, по-моему, играл Итикава Тюся Седьмой, а Агэмаки всё тот же Фукусукэ, но тогда он уже принял имя Утаэмон. Это был холодный зимний день, и у Удзаэмон была температура около 40, но он, дрожа, как осиновый лист, прятался в бочку с водой. Кампэра Момбэй играл Накамура Дангоро, которого пригласили из театра Миято в Асакуса, — я до сих пор помню удивительное впечатление от его исполнения. Я люблю «Сукэроку», и когда я узнал, что будет идти эта пьеса, мне захотелось её посмотреть, несмотря на Канъя в главной роли, не говоря о возможности увидеть моего любимца Тоссё.
Канъя играет Сугэроку впервые, в восхищение он меня не привёл. Сейчас не только он, но и другие исполнители этой роли надевают чулки, которые время от времени морщат, а это убивает всё впечатление. Я бы предпочёл, чтобы играли босиком и гримировали ноги белилами.
Тоссё в роли Агэмаки был выше всех похвал. Только ради этого стоило идти в театр. Не сравниваю с Утаэмон в тот период, когда его звали Фукусукэ, но в нынешние времена мне такой красивой Агэмаки видеть не приходилось. У меня нет наклонности к pederasty[6], однако с некоторых пор меня стали эротически привлекать молодые девушки в спектаклях Кабуки. Исполнители без грима не производят на меня никакого впечатления, мне они нравятся только на сцене, в женских нарядах. Если вспомнить, то, может быть, я не могу безапелляционно утверждать, что не испытывал наклонности к педерастии. Один раз в молодости у меня было необычайное приключение. Тогда в Новом театре играл удивительно красивый молодой актёр на женские роли по имени Вакаяма Тидори. Он состоял в труппе Ямадзаки Тёносукэ и выступал в театре Масаго на Накадзу, а состарившись, перешёл в театр Миято и играл вместе с Араси Ёсисабуро Четвёртым, внешне похожим на Кикугоро Шестого[7]. Я сказал «состарившись», но тогда ему было около тридцати, и он всё ещё был очень красив. В костюме он производил впечатление женщины тридцати-сорока лет, никак нельзя было подумать, что это мужчина. Когда он в театре Масаго играл молодую героиню в пьесе Одзаки Коё «Кимоно на вате в летнюю пору», я был ею — или им? — совершенно очарован. Если бы это было возможно, я хотел бы пригласить его как-нибудь вечером, попросить одеться в женское платье, в котором он появлялся на сцене, и разделить с ним ложе. В шутку я высказывал это желание, и в каком-то доме свиданий хозяйка сказала мне: «Если хотите, я всё устрою». Моё намерение неожиданно осуществилось, мы благополучно разделили ложе, но опыт совершенно не отличался от свидания с обычной гейшей. Короче, он до самого конца не дал почувствовать, что он мужчина, он полностью перевоплотился в женщину. Он лежал в нижнем кимоно из шёлка юдзэн на постели в полутёмной комнате, положив голову, с которой так и не снял парика, на валик в форме лодочки, и благодаря его необыкновенной актёрской технике, всё прошло поистине удивительно. Необходимо предупредить, что он не был так называемый hermaphrodite[8], по сложению это был совершенно нормальный мужчина, но благодаря его искусству я об этом забыл. Не имея от природы склонности, я, удовлетворив один-единственный раз любопытство, никогда больше с гомосексуалистами не связывался. Отчего же теперь, когда мне стукнуло семьдесят семь лет, когда моя сила давно иссякла, я стал чувствителен к очарованию не красавцев в мужских костюмах, а именно красивых подростков, наряженных в женское платье? Или воскресла память о Вакаяма Тидори моих молодых лет? Но, может быть, дело совсем в другом, скорее это имеет какое-то отношение к сексуальности старых импотентов, потому что, несмотря на их бессилие, своеобразная половая активность у них сохраняется…
Рука устала, на этом прерываю.
17 июня.
Продолжаю вчерашнее. Сезон дождей уже наступил, и вчера лило, но вечером было очень жарко. В театре кондиционированный воздух, а мне охлаждение противопоказано. Из-за этого у меня ещё более разыгралась невралгия левой руки, и потеря чувствительности кожи стала очень мучительной. Обычно рука болит от запястья до кончиков пальцев, а сейчас — от запястья до локтя и временами до плеча.
— Я говорила тебе, чтобы ты поостерёгся, — ворчала жена. — Так себя чувствуя, нечего ходить по театрам. Да и спектакль был так себе.
— Ну, нет. При одном только взгляде на такую Агэмаки я забываю о боли.
От её укоров я ещё больше заупрямился.
При всём том рука мёрзла всё нестерпимее. Я был в летней шёлковой верхней накидке, тонком шерстяном кимоно и шифоновой нижней рубашке; на левую руку натянул перчатку из тёмно-серой шерсти и держал в ней платиновую карманную грелку, завёрнутую в носовой платок.
— Но Тоссё действительно очень красив, — сказала Сацуко. — Папа совершенно прав.
— Да ты-то что… — начал Дзёкити, но тут же исправился: — Разве вы в этом понимаете?[9]
— Я не понимаю, хорошо или плохо он играл, но его лицо и фигура приводят меня в восхищение. Папа, а разве завтра днём мы не пойдём в театр? Он будет играть Кохару в «Кавасё» и должен быть очень хорош. Если идти, то только завтра. Потом будет слишком жарко.
Откровенно говоря, боль в руке была столь мучительна, что я подумывал, не остаться ли дома, но жена так действовала мне на нервы своими упрёками, что я решил ей назло, пересиливая боль, отправиться завтра в театр ещё раз. Сацуко удивительно быстро схватывает мои настроения. Жена не благоволит Сацуко именно оттого, что та на её слова не обращает никакого внимания и всегда поддерживает меня. Возможно, ей самой нравится Тоссё, а может быть, её больше привлекает Данко в роли Дзихэй…
Дневное представление «Кавасё» начиналось в два часа, кончалось в двадцать минут четвёртого. Солнце палило, было ещё жарче, чем вчера. Духоту в машине можно представить, а кондиционеры в театре включат на ещё более сильную мощность, И я начал беспокоиться, что будет с рукой. Шофёр сказал:
— Вчера вечером никаких препятствий не было, но сегодня обязательно мы где-нибудь застрянем из-за демонстрации, которая пойдёт от американского посольства и парламента к Намбэйдай[11]. Поэтому лучше выехать пораньше.
Мы были вынуждены отправиться в час. Сегодня мы были втроём, Дзёкити с нами не пошёл.
К счастью, доехали без происшествий.
Когда вошли в театр, «Акутаро» в исполнении Дансиро Третьего ещё не окончился. Мы не стали этого смотреть и пошли в буфет. Все взяли что-то пить, и я заказал было себе мороженого, но жена меня остановила. В «Кавасё» Кохару играл Тоссё, Дзихэй — Данко, Магоэмон — Энносукэ, жену О-Сё — Содзюро, Тахэй — Данносукэ. Я вспомнил, как давным-давно в Новом театре видел эту пьесу в исполнении Гандзиро Первого. Тогда Магоэмон был Дансиро Второй, отец нынешнего Энносукэ, а Кохару — Байко Шестой. Надо признать, что Данко в роли Дзихэй показал максимум своих возможностей, но очень уж он старался, поэтому был слишком напряжён и суховат. Впрочем, это закономерно: в таком молодом возрасте играть такую большую роль. При его стараниях можно надеяться, что со временем он достигнет совершенства. Я думаю, что ему бы больше удались большие роли в пьесах из жизни Эдо, а не Осака[13]. Тоссё и сегодня был красив, но, на мой взгляд, в Агэмаки он был лучше. Потом в программе был «Гондза и Сукэдзю», но мы этого смотреть не стали и ушли.
— Коли мы в этих краях, может быть, заглянем в Исэтан[15]? — предложил я, предполагая, что жена будет против. И точно, она возразила:
— Тебе мало кондиционированного воздуха? Жарко, поедем лучше домой.
Я, указывая на наконечник моей трости из «змеиного дерева»[16], сказал:
— Видишь, совсем стёрся. Почему-то наконечники быстро выходят из строя, за два-три года обязательно изнашиваются. Может быть, там что-нибудь найдём.
В действительности у меня была другая мысль, но я её не высказал.
— Номура-сан, как там с демонстрацией? Мы сможем возвратиться домой?
— Думаю, что сможем.
Как объяснил шофёр, на сегодня была назначена демонстрация Национальной ассоциации студентов против правительства. В два часа они должны собраться в парке Хибия и направиться к парламенту и Главному полицейскому управлению; нам нужно постараться их объехать.
Мужской отдел на третьем этаже, но, к сожалению, ни одна трость мне не понравилась. По пути мы заглянули в женский отдел на втором этаже. Была распродажа по случаю праздника Бон[17], и была толпа. Там была выставка Summer Italian fashion[18], и продавалось множество образцов знаменитых итальянских модельеров. Сацуко то и дело восклицала: «Какая прелесть!» и уйти никак не могла. Я купил ей шёлковый шарф от Кардена. Три тысячи иен.
— Мне очень нравится, но так дорого, что я и заикнуться не смею, — щебетала Сацуко перед сумочкой из бежевой замши, кажется, австрийской, с застёжкой из искусственного сапфира. Двадцать с чем-то тысяч иен.
— Об этом уже проси Дзёкити.
— Бесполезно, он так скуп.
Жена моя за это время не произнесла ни слова.
— Уже пять часов. Не поехать ли нам на Гиндза? Поужинаем там и поедем домой, — обратился я к ней.
— Куда именно?
— Поедем в «Хамасаку». Мне давно хочется поесть морских угрей.
Я попросил Сацуко позвонить в ресторан «Хамасаку» и заказать три или четыре места у стойки на шесть часов. Я велел позвонить Дзёкити и сказать, что, если он может, пусть придёт туда. Номура сказал:
— Демонстрация будет продолжаться до глубокой ночи, они должны идти от Касумигасэки, часов в десять прийти на Гиндза и после этого разойтись. Если мы сейчас поедем на Гиндза, возвращаться оттуда будем около восьми. Сейчас нам лучше сделать небольшой крюк, поехать через Итигая Мицукэ, Кудан, Яэсу, тогда мы с демонстрацией не столкнёмся.
18 июня.
Продолжаю вчерашнее. Как и рассчитывали, в «Хамасаку» прибыли в шесть часов. Дзёкити уже был там. Расселись в таком порядке: жена, я, Сацуко, Дзёкити. Он с Сацуко заказали пиво, а мы с женой — зелёный чай. На закуску мы с женой взяли «водопад» из соевого творога[19], Дзёкити — соевые бобы, а Сацуко — бурые водоросли. Кроме соевого творога мне захотелось китового мяса с приправой из соевых бобов. Для жены и Дзёкити заказали сасими[20] из окуня, а мне и Сацуко из угрей со сливовым соусом. Потом взяли жареную рыбу: угрей мне, а остальным — форель; грибной суп и жареные баклажаны с приправой из бобов.
— Чего бы ещё поесть? — сказал я.
— Ты не шутишь? Разве этого недостаточно?
— Не то чтобы недостаточно, но когда прихожу сюда, с удовольствием ем кансайские блюда[21].
— Есть окунь ямадай с солью, — посоветовал Дзёкити.
— Папа, не хотите ли этого? — сказала Сацуко.
Её тарелка с угрём была почти совсем нетронутой, она съела только один или два маленьких кусочка, а остальное хотела передать мне, Я на это и рассчитывал, когда предлагал пойти в ресторан.
— Как же быть? Я уже кончил свою порцию, и блюдце с соусом унесли.
— Возьмите моё, — и Сацуко вместе с угрём подвинула мне своё блюдце со сливовым соусом. — Или, может быть, попросить другое?
— Не стоит, и так сойдёт.
Сацуко съела только два кусочка рыбы, но соус был неопрятно размазан по всему блюдечку, как будто она с жадностью глотала свою рыбу. Очень неженственная манера есть. «Может быть, она это сделала нарочно?» — подумал я.
— Я оставила тебе внутренности форели, — сказала жена. Её конёк — аккуратно вытаскивать кости из жареной форели. Голову, кости и хвост она отодвигает в сторону, мякость съедает маленькими кусочками, и тарелка у неё остаётся чистой, как будто её вылизала кошка. Внутренности она всегда оставляет мне.
— И у меня остались, пожалуйста, возьмите, — сказала Сацуко. — Только я не могу есть рыбу так аккуратно, как мама.
Действительно, внутренности и кости рыбы, которые она отделила, были разбросаны на тарелке и выглядели ещё более неопрятно, чем соус. Я решил, что и это она делает нарочно.
За ужином Дзёкити сказал, что он через два-три дня должен поехать в командировку в Саппоро, предполагает, что пробудет там с неделю, и предложил Сацуко поехать вместе с ним. Она, подумав, ответила, что вообще-то хотела бы поехать на Хоккайдо летом, но на этот раз не получится, потому что Харухиса-сан пригласил её двадцатого числа на матч бокса, и она дала слово. Дзёкити сказал только: «Вот как?» и уговаривать её не стал. В половине восьмого поехали домой.
Утром восемнадцатого числа Кэйсукэ ушёл в школу, Дзёкити — на службу. После этого я вышел погулять по саду и отдохнуть в беседке. До беседки всего тридцать с лишним метров, но с каждым днём ноги всё больше и больше отказываются ходить, и сегодня мне было труднее дойти до неё, чем вчера. Безусловно, влияет и то, что во время летних дождей очень большая влажность, но в прошлом году в этот период так плохо не было. Я не чувствую в ногах боль и охлаждение, как в руке, но они очень тяжелеют и заплетаются. По временам тяжесть сосредоточивается в коленях, а иногда в подъёме ноги и подошве. Врачи говорят разное, одни, что это последствия перенесённого несколько лет назад в лёгкой форме инсульта, что в мозгу произошли кое-какие изменения, и это влияет на ноги; другие, что рентгеновский снимок показывает деформацию шейных и поясничных позвонков, и чтобы вытянуть их, необходимо лежать на наклонной кровати, голову зафиксировать, а поясницу уложить в гипсовый корсет. Я совершенно не могу вытерпеть ничего подобного, поэтому превозмогаю боль. Каждый день нужно хоть немного ходить, несмотря на трудности, в противном случае грозит полная потеря способности передвигать ногами. По временам меня так шатает, что я боюсь упасть, поэтому я хожу с моей палкой из бамбука, но обычно меня кто-то ведёт, Сацуко или сиделка. Сегодня утром это была Сацуко.
— Сацуко, это тебе…
Когда мы сели в беседке, я вытащил из рукава кимоно сложенную пачку денег и положил ей в руку.
— Что это?
— Здесь двадцать пять тысяч, купи сумку, которую мы видели вчера.
— Большое спасибо.
Она быстро спрятала деньги за пазуху.
— Но когда будешь носить её, как бы жена не догадалась, что это я дал тебе денег…
— Но мама тогда и не видела этой сумки, она прошла вперёд.
Я решил, что так оно и было.
19 июня.
Хотя сегодня воскресенье, Дзёкити днём улетел из аэропорта Ханэда. Сацуко сразу же после его ухода села в хильман и уехала. Когда Сацуко за рулём, домашние боятся садиться с ней в машину, и хильман постепенно перешёл в полное её владение. Провожать мужа она не поехала, а направилась в «Скала» смотреть «Под раскалённым солнцем» с Аленом Делоном[22]. Вероятно, опять с Харухиса. Кэйсукэ скучал, оставшись один дома. Он ждал, что сегодня Кугако привезёт из Цудзидо[23] детей.
Во втором часу пришёл доктор Сугита. Его вызвала по телефону сиделка Сасаки, обеспокоенная моими сильными болями. Он сказал, что, по заключению профессора Кадзиура из больницы Токийского университета, поражённый очаг в мозгу полностью рассосался, поэтому боль, которую я чувствую сейчас, с перенесённым инсультом не связана, она или ревматического или нервного характера. До этого господин Сугита советовал обратиться к ортопеду, и я сделал рентген в больнице Тораномон. В области шейных позвонков затемнение, и меня напугали, сказав, что, так как рука очень сильно болит, это может быть рак, — поэтому мне сделали снимок в боковой проекции. К счастью, рака не оказалось, но шестой и седьмой позвонки деформированы, и в поясничных позвонках нашли изменения, но не такие сильные, как в шейных, — отсюда и боль и онемение в руке. Для этого надо сделать совершенно гладкую доску, установить под ней ролик, наклонить её приблизительно на тридцать градусов и лежать на ней утром и вечером по пятнадцать минут. При этом голову надо подвесить на фиксированную повязку, Schlinge[24] Глиссона (она должна быть специально сделана на фабрике медицинского оборудования по мерке с моей головы), и под тяжестью тела позвоночник растягивается; увеличивая постепенно длительность и число сеансов, можно добиться хороших результатов за два-три месяца. Я сказал, что в такую жару у меня нет никакого желания этим заниматься, но господин Сугата ответил: «Другого средства нет. Попытайтесь всё-таки». Не знаю ещё, попробовать или нет, но решил заказать столяру доску и ролик и вызвать специалистов с фабрики медицинского оборудования, чтобы они измерили голову и сделали перевязь.
Приблизительно в два часа приехала Кугако с двумя детьми, потому что старший сын пошёл играть в бейсбол или ещё куда-то. Акико и Нацудзи сразу же убежали к Кэйсукэ, и втроём они решили пойти в зоологический сад. Кугако, как обычно, со мной только поздоровалась и потом оживлённо заговорила о чём-то в гостиной с моей женой.
Сегодня больше ничего не произошло, что бы стоило записать, поэтому напишу о том, что у меня на сердце.
Может быть, это происходит в старости с каждым, но последнее время не проходит ни одного дня, чтобы я не думал о собственной смерти. Впрочем, такие мысли посещают меня не только в последнее время. Это началось гораздо раньше, лет с двадцати, но теперь я думаю о смерти очень часто. Два или три раза в день мне приходит на ум: «А не умру ли я сегодня?», но никакого страха у меня нет. В молодости я думал об этом с ужасом, а теперь такие мысли меня до некоторой степени даже радуют. Я начинаю во всех подробностях представлять, как я умру и что произойдёт после моей смерти. Я не хочу, чтобы меня хоронили из зала для траурных церемоний Аояма, пусть поставят гроб в этом доме, в комнате в десять дзё, которая выходит в сад, — так будет удобнее пришедшим, чтобы возжечь курительную свечку: они пройдут от главных ворот через средние ворота по камням в саду. Звучание сё и хитирики[25] мне не нравится, и я хотел бы, чтобы Томояма Сэйкин[26] или кто-то другой исполнил «Заходящую луну». Мне кажется, я слышу, как Сэйкин поёт:
Я буду мёртв, но мне кажется, что я это услышу. Услышу, как будет плакать жена. Громко будут плакать и Ицуко, и Кугако, с которыми у меня нет ничего общего, которые всю жизнь со мной только ругались. Сацуко, наверное, останется спокойна. Или, вопреки моим ожиданиям, заплачет? Или начнёт притворяться? Интересно, какое у меня будет лицо после смерти? Мне бы хотелось, чтобы оно было толстым, как сейчас, даже немного отталкивающим…
— Папа…
Когда я писал последнюю строчку, ко мне неожиданно вошли жена и Кугако.
— Кугако хочет тебя о чём-то попросить…
Просьба её состояла в следующем. Её старший сын, Цутому, несмотря на то, что ещё слишком молод и учится на втором курсе университета, завёл любовницу и просит разрешения жениться. Родители согласны, но беспокоятся, как молодые будут жить в отдельной квартире, и хотят, чтобы они жили вместе с ними до тех пор, пока Цутому окончит университет и начнёт работать. Однако дом в Цудзито слишком мал, и сейчас Кугако с мужем и тремя детьми очень тесно, а тут ещё приедет невестка и рано или поздно родится ребёнок. Поэтому они решили переехать в современный дом, немного попросторнее. В том же Цудзито, в 500–600 метрах от них продаётся исключительно подходящий дом, и они его купили бы, но им не хватает двух-трёх миллионов. Около одного миллиона они как-нибудь наскребут, но остальное пока найти не могут. Конечно, они не рассчитывают, что я дам им всю сумму, и решили занять деньги в банке, но не мог ли бы я им помочь хотя бы двадцатью тысячами для выплаты процентов? В течение будущего года они бы мне вернули.
— Разве у вас нет акций? Почему бы их не продать?
— Тогда мы останемся без копейки.
— К ним лучше не прикасаться, — пришла на подмогу жена.
— Ведь никто не знает, что случится в будущем. Мы хотим оставить их на чёрный день.
— Но твой муж всего лишь на четвёртом десятке. Чего вам бояться?
— Со дня своего замужества Кугако никогда к тебе с подобной просьбой не обращалась. Сегодня в первый раз. Неужели ты не можешь помочь им?
— Сейчас ты говоришь двадцать тысяч, а что, если через три месяца вы не сможете выплатить проценты?
— Да ведь это когда ещё будет!
— На такой неопределённый срок я денег дать не могу.
— На Хокода-сан можно положиться. Он просит сейчас, потому что, если они будут мешкать, дом продадут.
— А ты сама не могла бы дать им эти деньги? — обратился я к жене.
— Как только ты решился сказать такое! Для Сацуко ты хильман купил!
Как только она это произнесла, я твёрдо решил денег не давать, и у меня как груз с плеч свалился.
— Ладно, я подумаю.
— Но вы дадите ответ сегодня?
— В последнее время очень много приходится тратить…
Обе, ворча, вышли из комнаты.
Влетели, как угорелые, помешали, все мои мысли перебили. Продолжу немного то, о чём писал.
Приблизительно до пятидесяти лет я очень боялся смерти, а сейчас нет. Наверное, я устал жить и готов умереть в любую минуту. Когда несколько дней назад мне в больнице Тораномон сделали рентгеновский снимок шейных позвонков и предположили у меня рак, жена и сиделка, которые были со мной, изменились в лице, а мне было совершенно безразлично. Я даже вздохнул с каким-то облегчением: длинная-длинная жизнь наконец-то кончится. Я никак не цепляюсь за жизнь, но пока я живу, меня неизбежно тянет к прекрасному полу. Думаю, это будет продолжаться до самой смерти. Сил у меня не осталось, не то что у Кухара Фураносукэ[28], у которого в девяносто лет родился ребёнок, и я могу чувствовать эротические наслаждения путём различных искажённых, опосредствованных способов. В настоящее время я живу только для двух удовольствий: такого рода чувственности и чревоугодия. О моём душевном настрое смутно догадывается Сацуко, единственная из живущих в доме, и никто больше. Сацуко прибегает к различным уловкам, чтобы увидеть мою реакцию.
Я и сам прекрасно понимаю, что я отвратительный, сморщенный старик. Сняв перед сном искусственные зубы, я вижу в зеркале ужасное лицо. Ни в верхней, ни в нижней челюсти ни одного зуба, дёсен тоже нет. Когда рот закрыт, верхняя и нижняя губа провалены внутрь, а свисающий нос достаёт до самого подбородка. Точно ли это моё лицо? Этот безобразный образ не только не похож на человека, но даже на обезьяну. Я не питаю дурацких надежд, что с таким лицом могу нравиться женщинам. Но пусть все думают: он и сам признаёт, что он старик, у которого ничего не осталось, — и ни о чём не тревожатся. А я, не имея реальных сил что-либо сделать, могу спокойно приближаться к красавице и, вместо того чтобы совершать что-то самому, получаю удовольствие от того, что толкаю её в объятия красивого мужчины, вызывая всякие неурядицы в семье…
20 июня.
…Кажется, что Дзёкити уже не любит Сацуко так, как раньше, и после рождения Кэйсукэ постепенно охладел к ней. Так или иначе, он часто уезжает в командировки, а в Токио всё время на каких-то банкетах и домой является поздно. Возможно, он завёл кого-то на стороне, но утверждать этого я не могу. Кажется, его гораздо больше интересует работа, чем женщины. У них был период безумно страстной любви, но боюсь, что он быстро пресыщается, — это качество он наследовал от меня.
Я всегда проповедую принцип невмешательства и насчёт его женитьбы не высказывался, а жена была против. Сацуко говорила, что танцевала в труппе театра Нитигэки, но там она проработала всего полгода, а потом, вероятно, танцевала где-нибудь в Асакуса или в каком-нибудь ночном клубе.
Как-то раз я спросил Сацуко:
— А ты на пальчиках можешь танцевать?
— На пуантах я не танцую, — ответила она. — Я хотела стать балериной и года два занималась у балетного станка. Немного постоять на пуантах я умела, а сейчас не могу.
— Ты с таким трудом училась… Отчего же бросила?
— Ноги становятся уродливыми.
— Поэтому и бросила?
— Я не хотела, чтобы у меня были такие ноги.
— Какие?
— Ужасные. Пальцы все в мозолях, распухшие, а ногти совсем сходят.
— Но сейчас у тебя ноги красивые.
— Раньше у меня действительно были очень красивые ноги, а потом из-за стояния на пуантах появились мозоли и ноги стали отвратительны. Когда я бросила станок, я изо всех сил старалась возвратить их прежний вид. Чем только я их не тёрла! И пемзой, и пилочкой, но они так и не стали, какими были раньше.
— А ну, покажи-ка мне.
Нежданно-негаданно я получил возможность трогать её ноги. Лёжа на диване, сняв нейлоновые носочки, она положила их мне на колени, и я ощупывал каждый пальчик.
— Вся кожа гладкая, никаких мозолей я не ощущаю.
— Нажми посильнее. Попробуй вот здесь.
— Где? Здесь?
— Чувствуешь? Нет, ещё не совсем прошло. Если хочешь стать балериной, то надо забыть о красоте ног.
— Неужели у Лепешинской[29] тоже такие ноги?
— Конечно. А сколько раз, когда я училась, у меня туфли внутри были все в крови! А разве только ноги? Вот здесь, на икрах, всё мясо сходит, появляются узлы, как у чернорабочего. Грудь высыхает, плечи твердеют, как у мужчин. Эстрадные танцовщицы тоже до некоторой степени изменяются, но я, к счастью, такой не стала.
Дзёкити она околдовала своей фигурой. В школе она училась кое-как, но голова у неё неплохая. Не желая производить невыгодного впечатления, она после замужества начала заниматься языками и теперь что-то лепечет и по-французски и по-английски. Она водит машину, обожает бокс, а с другой стороны — и это, казалось бы, вовсе не по ней — любит составлять букеты. Из Киото два раза в неделю приезжает зять Иссотэй[30], привозит редкие цветы и даёт в Токио уроки составления букетов. Сацуко обучилась у него стилю «кофу». Сегодня она поставила у меня в комнате букет: в широкой фарфоровой вазе зеленовато-голубого цвета мискант китайский, заурурус, астильба, — и повесила свиток с каллиграфией Нагао Удзан[31]:
26 июня.
Вчера вечером объелся холодным соевым творогом, ночью заболел живот, и несколько раз меня прослабило. Принял три таблетки энтеро-виоформа, но понос не прекращается. Сегодня весь день то вставал, то снова ложился.
29 июня.
Сегодня днём предложил Сацуко поехать на машине в парк Мэйдзи. Я хотел, улучив удобный момент, улизнуть незаметно, но за нами увязалась сиделка:
— Я поеду с вами.
Весь интерес пропал. Не прошло и часу, как мы возвратились.
2 июля.
Уже несколько дней у меня высокое давление. Сегодня утром 180 на 110. Пульс — 100 ударов в минуту. По совету сиделки принял две таблетки серпасила и три адалина. Рука ужасно мёрзнет и болит. Редко бывает, чтобы я из-за боли не мог спать, но вчера я всю ночь не смыкал глаз. В конце концов разбудил Сасаки, и она сделала мне укол ноблона. Подействовать-то он подействовал, но после него неприятные ощущения.
— Принесли доску и фиксирующую повязку, не попробуете ли?
Мне совершенно не хотелось, но в моём положении решил попробовать.
3 июля.
…Попробовал сунуть голову в повязку. Она сделана из гипса, охватывает голову от шеи до челюсти. Никакой боли я не ощущаю, но голову совершенно не повернуть, ни направо, ни налево, не опустить вниз, и должен смотреть только прямо перед собой.
— Совершенно адская пытка.
Сегодня воскресенье, и вся семья: Дзёкити, Кэйсукэ, жена и Сацуко — собралась вокруг меня.
— Бедный папа!
— Сколько минут нужно так лежать?
— Сколько дней это будет продолжаться?
— Не лучше ли прекратить? В твои годы это так мучительно.
Они все собрались вокруг меня и галдели. Лиц их я не видел, так как не мог повернуть головы.
Я решил растягивать шейные позвонки, лёжа на доске, а от этой петли Глиссона отказаться. Сначала надо лежать каждое утро по пятнадцать минут. Вместо петли взяли мягкое полотенце, это не так стеснительно, но голову поворачивать по-прежнему невозможно. Я лежал, уставясь в потолок.
— Ну всё, пятнадцать минут прошло, — сказала сиделка, поглядев на часы.
— Первый сеанс окончен! — закричал Кэйсукэ, устремляясь в коридор.
10 июля.
Уже неделя, как я начал лежать на вытяжке. За это время с пятнадцати минут я дошёл до двадцати, наклон доски ещё более увеличили, и мне приходится совершено задирать подбородок. Но никакого улучшения нет, рука болит, как и раньше. Сиделка говорит, что лечение даст результат только после двух-трёх месяцев. На такой срок терпения у меня не хватит. По вечерам я время от времени со всеми советуюсь. Сацуко говорит:
— Такое лечение не для пожилых людей. А в жару тем более было бы лучше от него отказаться и найти что-то другое. Одна иностранка посоветовала долосин, лекарство от невралгии, которое продаётся в Американской аптеке. Полного излечения оно не даёт, но если дня четыре принимать по три-четыре таблетки, оно обязательно снимет боль. Она сказала, что результат гарантирован, и я купила таблетки. Попробуйте.
Жена предложила:
— Может быть, иглоукалывание поможет? Не обратиться ли к господину Судзуки, который живёт в Дэнъэн тёфу?
Она долго говорила с ним по телефону. Господин Судзуки сказал:
— Сейчас я очень занят и предпочёл бы, чтобы ваш муж приезжал ко мне. Если же я буду ездить к нему, то не более трёх раз в неделю, но, не осмотрев сам больного, я ничего определённого сказать не могу. Судя по вашим словам, думаю, что весь курс займёт два-три месяца.
Он уже два раза помог мне: несколько лет тому назад, когда у меня была аритмия и ничто помочь не могло, и когда у меня были сильные головокружения. Поэтому я попросил его и на этот раз, чтобы со следующей недели он приезжал ко мне.
От природы я здоровый человек. С детства до шестидесяти трёх-четырёх лет я ничем серьёзно не болел и только один раз пролежал неделю в больнице, когда у меня было воспаление заднего прохода и мне делали операцию. В шестьдесят три-четыре года меня предупредили, что кровяное давление у меня повышено, а где-то между шестьюдесятью шестью-семью годами произошло небольшое кровоизлияние в мозг, и я почти месяц пролежал в постели. Но физической боли я никогда не испытывал. Впервые я её почувствовал после того, как мы торжественно отпраздновали моё семидесятисемилетие. Сначала заболела левая рука от кисти до локтя, потом до плеча, потом нога от ступни до колена. Ноги стали болеть обе, и с каждым днём мне всё труднее передвигаться. Некоторые, вероятно, спросят: «Какая радость от такой жизни?» Временами я и сам так думаю. Но к счастью (если можно назвать это счастьем), я не теряю аппетита, у меня хороший сон, стул каждый день. Мне нельзя ни пить алкоголя, ни есть острого и солёного, но аппетит у меня лучше, чем у многих. Мне можно и бифштексы, и угрей, но в меру. Ем я с удовольствием. Сплю же я очень много — каждый день часов девять или десять, если считать и дневной сон. Стул два раза в день. Соответственно мочусь много, ночью поднимаюсь раза два или три, но ещё не бывало, чтобы, помочившись, я не заснул бы снова. Да и встав, чтобы идти в туалет, я полностью не просыпаюсь, а потом сразу же крепко засыпаю. Боль в руке тоже редко меня пробуждает, я обычно отмечаю в полусне, что болит, и опять засыпаю. Если же болит очень сильно, мне делают укол ноблона, и я вновь погружаюсь в сон. Во всём этом у меня нет никаких нарушений, поэтому я и дожил до сего дня. В противном случае я бы, наверное, уже давно умер. Кое-кто скажет: «Вы говорите, что рука болит и ходить не можете, но при этом вы наслаждаетесь жизнью. Значит, неправда, что у вас болит рука». Но я не лгу. Рука болит то очень сильно, то не очень, боль не всё время одинакова, а временами и совсем проходит. По-видимому, это зависит от погоды и от влажности.
Но вот что странно: даже когда я ощущаю боль, я чувствую половое влечение. Можно сказать, что при боли оно возрастает, или, ещё точнее, что меня особенно привлекают и очаровывают женщины, которые причиняют мне боль. Если угодно, это своеобразная склонность к мазохизму. В молодости я её не ощущал, но в старости она постепенно развилась. Возьмём двух женщин, в равной степени красивых и в равной степени отвечающих моему вкусу. Первая добра, откровенна, предупредительна, вторая зла, лжива и лицемерна. Какая из них привлечёт меня больше? Сейчас я без колебаний скажу, что вторая. Но ни в коем случае она не должна уступать первой в красоте. У меня собственные критерии красоты, и лицо и фигура должны отвечать им. Я ненавижу слишком длинные носы с горбинкой. И самое главное — ножки должны быть беленькими и изящными. Если в красоте обе женщины не уступают друг другу, я предпочту женщину злую. Больше всего мне нравится, когда в лице женщины сквозит какая-то жестокость. Когда я смотрю на такое лицо, мне кажется, что у женщины и характер соответствующий, и я погружаюсь в грёзы. Таким представлялось мне лицо актёра Кабуки Савамура Гэнносукэ. Подобное лицо и у французской актрисы Симоны Синьоре в роли учительницы в «Дьявольских душах» и у современной звезды Хоноока Ёко[33]. Может быть, эти женщины в действительности очень добры, но если они злы, каким бы счастьем было для меня жить с ними, а если это невозможно, хотя бы жить возле них и встречаться с ними!..
12 июля.
…Но если женщина коварна, нельзя, чтобы это качество проявлялось открыто. Чем она коварнее, тем она должна быть умнее, — это необходимое условие. В коварстве тоже есть пределы — клептоманка или убийца меня не привлечёт, но утверждать этого нельзя. Даже если бы я знал, что женщина по ночам обкрадывает своих посетителей, я, может быть, наоборот был бы этим привлечён и, не в силах противиться искушению, вступил бы с ней в связь, готовый к тому, что буду ограблен. В университете на одном курсе со мной учился некий правовед по имени Ямада Уруу, потом он служил в Осака в муниципалитете и давно уже умер. Его отец был то ли адвокатом, то ли поверенным, и в начале эпохи Мэйдзи он защищал Такахаси О-Дэн[34]. Он часто рассказывал о ней своему сыну Уруу. «Не знаю, можно ли было назвать её очаровательной или кокетливой, но в своей жизни я не видел более привлекательной женщины. Именно таких называют обольстительницами. Я бы согласился быть убитым такой женщиной», — говаривал отец Уруу, изливая перед сыном свои чувства. Я намного пережил их всех, в моей жизни ничего особенного меня уже не ждёт, и если бы сейчас появилась женщина, подобная О-Дэн, я счёл бы за счастье быть убитым ею. Лучше быть зверски убитым одним махом, чем влачить существование между жизнью и смертью, постоянно ощущая нестерпимую боль в руках и ногах.
Не потому ли я люблю Сацуко, что вижу в ней до некоторой степени призрак таких женщин? Она немного злобна, немного цинична и немного лгунья. Со свекровью и золовками она не ладит, детей не любит. В первое время после замужества эти качества не были особенно заметны, но в последние три-четыре года стали просто бросаться в глаза. До некоторой степени это я провоцирую и направляю её. От рождения её характер не был так плох. Может быть, и сейчас в глубине души она добра, но с какого-то момента она стала притворяться злой и щеголять этим. Наверное, она поняла, что мне это по душе. Почему-то я люблю её больше, чем своих родных дочерей, и не хочу, чтобы она поддерживала с ними хорошие отношения. И чем хуже она относится к ним, тем больше она меня околдовывает. Такой психологический казус у меня обозначился недавно и развивается всё больше и больше. Человек терпит боль, он лишён нормальных половых наслаждений, — не извращает ли это его характер?
Недавно в доме возникла ссора. Хотя Кэйсукэ уже семь лет, и он пошёл в школу, второго ребёнка у них нет. У жены на этот счёт сомнения, не предпринимает ли Сацуко чего-нибудь, чтобы не беременеть. В душе я и сам так думаю, но перед женой утверждаю, что это невозможно. Жена, не вытерпев, несколько раз обращалась с вопросом к Дзёкити, но он отшучивается, ничего, мол, подобного, и разговора не продолжает.
— Я уверена, что это так.
— Ха-ха-ха, тогда спроси об этом сама у Сацуко.
— Что ты смеёшься, дело серьёзное. Ты слишком снисходителен с Сацуко, так нельзя, она тебя ни в грош не ставит.
В конце концов Дзёкити позвал Сацуко, и она вступила в объяснения со свекровью. Время от времени до меня доносился пронзительный голос Сацуко. Они ссорились около часа, после чего жена пришла звать меня:
— Пожалуйста, подойди к нам на минутку.
Но я никуда не пошёл, и поэтому подробностей не знаю, но когда я спросил, что между ними было, оказалось, что, выслушав кучу колкостей, Сацуко сама перешла в наступление.
— Я не люблю детей до такой степени. Когда на нас сыплется смертоносный пепел, к чему много рожать? — говорила она. Жена так легко не сдавалась.
— Разве вы за его спиной не называете просто Дзёкити, не добавляя «сан»? Он сам только в нашем присутствии обращается к вам на «вы», а перед другими говорит просто «ты» — разве не так? И вы, наверное, к мужу так же обращаетесь.
Разговор неожиданно перешёл на совершенно другие предметы, и конца ему не было. И жена, и Сацуко вошли в раж, и Дзёкити не мог справиться с ними.
— Если вы нас не любите, разрешите нам жить отдельно. Дзёкити, что ты думаешь?
Тут жена сказать ничего не могла. И она, и Сацуко прекрасно знают, что я этого никогда не разрешу.
— А кто будет заботиться о папе? Вы или госпожа Сасаки?
Увидев, что жена струсила, Сацуко вовсе разошлась. На этом всё кончилось. Я с сожалением подумал, что было бы забавно присутствовать при их перепалке.
Жена вошла сегодня ко мне со словами:
— Вот и сезон дождей кончается.
Под впечатлением недавней ссоры она была подавлена больше обычного.
— В этом году дождей было не так уж много…
— Сегодня ночью базар цветов[35]. Поэтому я вспомнила — что ты решил со своей могилой?
— С этим можно не спешить. Как я уже говорил, я не хочу, чтобы меня хоронили в Токио. Я — уроженец Эдо[36], но нынешнего Токио не люблю. Зачем устраивать здесь могилу? Ведь неизвестно, когда, куда и при каких обстоятельствах её придётся переносить. Кладбище в Тама ничего общего с городом не имеет[37]. Я не хочу лежать там.
— Я знаю, но если ты хочешь быть похороненным в Киото, это надо решить до праздника Даймондзи[38].
— Ещё целый месяц. Пошлём туда Дзёкити.
— А не лучше было бы тебе самому посмотреть?
— В такую жару и в этом состоянии я никуда двинуться не могу. Отложим до праздника Хиган[39].
Несколько лет назад мы с женой приняли в секте Нитирэн буддийские посмертные имена. Но я не люблю Нитирэн и подумываю, не перейти ли в Дзёдо или Тэндай[40]. Я не люблю Нитирэн прежде всего потому, что там надо молиться перед статуей основателя, напоминающей грязную куклу в ватной шапке. Я бы хотел, чтобы меня похоронили в Киото, в храме Хонэнъин или Синнёдо.
— Вот и я! — вошла в этот момент Сацуко.
Было около пяти часов. Она совершенно не ожидала встретить здесь свекровь и отвесила ей преувеличенно вежливый поклон. Жена тут же испарилась.
— Тебя с утра не было. Куда ты ходила?
— Ходила по лавкам кое-что купить, пообедала с Харухиса-сан в гриль-баре гостиницы, потом пошла на примерку в «Иностранную моду». Потом опять встретилась с Харухиса-сан, и мы пошли в «Югакудза» смотреть «Чёрного Орфея»[41].
— У тебя правая рука загорела.
— Я вчера ездила на машине в Дзуси[42].
— Опять вместе с Харухиса?
— Да. Но от Харухиса-сан толку мало, я сама вела машину и туда и обратно.
Рука загорела только в одном месте, и это бросается в глаза рядом с белой кожей.
— Руль находится справа, а я целый день ездила.
— У тебя кровь приливает к лицу. Похоже, ты чем-то взволнована.
— Разве? Нет, я совсем не взволнована. Но Бренно Мелло мне очень понравился.
— Кто это?
— Исполнитель главной роли в «Чёрном Орфее». Фильм сделан по греческому мифу об Орфее, но действие происходит в Рио-де-Жанейро, во время карнавала. На главную роль приглашён чёрный. Все остальные тоже чёрные.
— И это так хорошо?
— Брено Мелло — непрофессионал, он бывший футболист. В фильме он играет водителя трамвая. Разъезжая по городу, он подмигивает всем девушкам. Потрясающе!
— Вряд ли бы мне понравился такой фильм.
— Посмотрите ради меня.
— А ты возьмёшь меня с собой ещё раз?
— А вы пойдёте со мной?
— Пойду.
— Я сколько угодно могу смотреть этот фильм. Потому что как только я увидела лицо Мелло, я вспомнила Лео Эспиноза[43], за которого я когда-то болела.
— Ещё одно странное имя.
— Эспиноза выступал в чемпионате мира в наилегчайшем весе. Это филиппинский боксёр. Тоже чёрный, хоть и не такой красивый, как Брено Мелло, но в чём-то они похожи друг на друга. Брено Мело особенно похож на него, когда подмигивает. Эспиноза и сейчас выступает, но он уже не так хорош, как раньше. А когда-то он был действительно замечателен. Я это и вспомнила.
— Я видел матч бокса всего один раз.
В это время вошли жена и сиделка и сказали, что пора лежать на доске. Сацуко назло им заговорила с наигранным воодушевлением.
— Эспиноза — чёрный, родился на острове Себу. Его конёк — прямой удар левой. Он выбрасывает левую руку прямо перед собой и, нанеся удар, тут же её убирает. Раз-раз — и мгновенно убирает руку. Раз-раз — необыкновенно красиво! Когда он нападает, чуть-чуть присвистывает. Когда атакует партнёр, боксёры обычно поворачиваются то направо, то налево, а Эпиноза рывком отскакивает назад. Такое ощущение, что тело у него резиновое.
— Ха-ха… Потому тебе и нравится Харухиса, что у него очень тёмная кожа.
— У Харухиса-сан грудь очень волосатая, а у чёрных волос на груди мало. Когда они потеют, кожа кажется гладкой, и всё тело блестит, — это очаровательно. Мы обязательно как-нибудь пойдём с вами на бокс.
— Среди боксёров так мало красивых мужчин.
— У многих из них разбиты носы.
— Что лучше — бокс или кеч?
— Кеч рассчитан на эффект, кровь льётся ручьями, но настоящего удовольствия он не доставляет.
— А разве в боксе не льётся кровь?
— Иногда случается. Время от времени они разбивают в кровь рот или ломают на куски назубник, но это не является целью, как в кече, поэтому случается не так уж часто. Главным образом это бывает при heading[44], то есть когда бьют головой по лицу противника, а ещё когда разбивают веки.
— Неужели госпожа ходит смотреть на всё это? — поджала губы Сасаки.
Жена моя уже давно стояла совершенно ошеломлённая. Казалось, она вот-вот бросится наутёк.
— Да и не я одна, многие женщины ходят на бокс.
— Я бы обязательно упала в обморок.
— Вид крови до некоторой степени возбуждает, это очень приятно.
Где-то в середине этого разговора я почувствовал, что левая рука начала сильно болеть, и в то же время я ощущал необыкновенное наслаждение. Я смотрел на злобное лицо Сацуко, боль всё увеличивалась, и с нею наслаждение…
Глава вторая
17 июля.
Вчера, как только погасли последние огни праздника Бон, Сацуко ночным скорым поездом уехала в Киото на праздник Гион[45], Харухиса тоже уехал туда вчера: он должен снимать праздник, как это ни утомительно в такую жару. Группа работников телевидения остановится в отеле «Киото», а Сацуко в Нандзэн-дзи[46]. Она сказала, что вернётся в среду, двадцатого. Поскольку она с Ицуко не очень ладит, она будет у неё только ночевать…
— Когда мы поедем в Каруидзава?[47] — спросила меня жена. — Когда туда приедут дети, будет очень шумно, поэтому не лучше ли нам отправиться туда пораньше? Двадцатого начнётся самая жара.
— Не знаю, как быть на этот раз. Если мы будем там так долго, как в прошлом году, мы умрём со скуки. Я обещал Сацуко пойти с ней двадцать пятого в Коракутэн на матч на звание чемпиона Японии в легчайшем весе.
— В твоём-то возрасте! Смотри, как бы там тебя не затолкали!
23 июля.
…Я веду этот дневник только потому, что это доставляет мне удовольствие. Я никому его не показываю. Зрение у меня стало совсем плохое, читать я уже не могу и, не имея другого способа убивать время, пишу в дневник. Чтобы легко было читать, я вывожу кистью большие иероглифы. Мне бы не хотелось, чтобы в мой дневник кто-либо заглядывал, и я прячу его в портативный сейф; их уже заполнено у меня пять. Лучше было бы сжигать тетради, но ничего страшного, если они останутся после моей смерти. Когда я перечитываю старые записи, я изумляюсь, насколько я всё забываю. То, что произошло год назад, кажется мне новым, и я читаю об этом с большим интересом.
Летом прошлого года, во время нашего пребывания в Каруидзава, в доме переделывали спальню, ванную и уборную. Хоть память у меня стала никудышная, это я помню прекрасно. Но, заглянув в свой дневник за прошлый год, я заметил, что писал об этом недостаточно подробно, и сейчас мне кажется необходимым описать всё более детально. До прошлого лета мы с женой спали в комнате японского стиля, а в прошлом году там настелили дощатый пол и поставили две кровати. Одна из них для меня, другая для сиделки Сасаки. Жена иногда и раньше спала одна в гостиной, а после нововведений спит там постоянно. Я ложусь рано и рано встаю, а жена просыпается поздно и вечером любит засиживаться. Мне нравится европейская уборная, а она чувствует себя удобно только в японской. Но надо, кроме того, думать о враче и сиделке. Поэтому уборную, которой мы пользовались с женой, справа от спальни, лично для меня переделали в европейскую, установили стульчак и из спальни сделали в неё вход, так что теперь, чтобы пойти туда, не надо выходить в коридор. Слева от спальни — ванная. Её тоже переделали, всё покрыли кафелем, даже вокруг ванны, и установили душ. Это предпринято исключительно по просьбе Сацуко. Туда тоже сделан вход прямо из спальни, но в случае необходимости ванную можно запереть изнутри. Добавлю, что направо от уборной мой кабинет (между ним и спальней сделан проход), а далее — комната сиделки. Она спит в моей комнате на кровати только ночью, а день обычно проводит в своей комнате. Моя жена днём и ночью остаётся в гостиной (чтобы попасть туда, надо отсюда свернуть по коридору), целыми днями смотрит телевизор или слушает радио и, если у неё нет дел, редко оттуда выходит. На втором этаже — комната Дзёкити с женой, комната Кэйсукэ и гостиная. Там же комната для гостей, где стоит кровать, на тот случай, если кто-нибудь останется у них ночевать. Комната Дзёкити и Сацуко, по-видимому, довольно роскошно обставлена, но так как верхняя часть лестницы на второй этаж винтовая, я с моими больными ногами очень редко туда поднимаюсь. По поводу переделки ванны были небольшие разногласия. Моя жена стояла за деревянную ванну, говоря, что, если её выложить кафелем, вода будет быстро остывать, а зимой будет ледяная, но по наущению Сацуко (чего я жене не сказал) я остановился на кафеле. Однако меня постигла неудача (или в конечном счёте я добился успеха?): когда положили кафель, оказалось, что мокрый он становится очень гладким и скользким, что для стариков опасно. Жена моя однажды упала, поскользнувшись на полу. А когда я, вытянув ноги в ванне, вдруг захотел встать и схватился руками за её края, руки скользили, и подняться я не мог. Из-за недействующей левой руки затруднение только усугублялось. На пол положили деревянный настил, но с самой ванной ничего не сделаешь.
Вот что произошло вчера вечером. У сиделки Сасаки есть ребёнок, один-два раза в месяц она ездит его проведать к родственникам, к которым она его поместила, и остаётся там ночевать. Она уезжает вечером и возвращается на следующее утро. В отсутствие Сасаки рядом со мной на её кровати спит жена. Я привык ложиться спать в десять часов, сразу после ванны. Однако после своего падения жена не может помочь мне принять ванну, так что это делает или Сацуко или прислуга; но никто из них не справляется с делом так ловко, как Сасаки. Сацуко всё прекрасно приготовит, но потом только наблюдает издали и особенно не помогает. Максимум, на что она способна, — губкой кое-как потереть спину. Когда я встаю из ванны, она вытрет мне спину полотенцем, припудрит детской присыпкой и высушит с помощью вентилятора, но ни в коем случае не поворачивает меня к себе лицом. Я не понимаю: это — чувство приличия или отвращения? Потом, накинув на меня купальный халат, она ведёт меня в спальню и выходит в коридор. Она только что не говорит: «Дальше — обязанности мамы, это уже не моё дело». Я же в глубине души не перестаю мечтать, что как-нибудь она меня будет укладывать в постель, но, может быть, потому, что жена всегда ждёт, когда я выйду из ванны, Сацуко со мной намеренно холодна. Мою жену совсем не прельщает возможность спать на чужой кровати. Она меняет всё постельное бельё и ложится с явным неудовольствием. Жена с возрастом часто мочится, но говорит, что в европейской уборной ей неудобно, поэтому в течение ночи два или три раза тащится в японскую, а потом хнычет, что из-за этого всю ночь не может толком заснуть. Я всё время тайно надеюсь, что скоро во время отсутствия Сасаки за мной будет ухаживать Сацуко.
Сегодня неожиданно всё так и произошло. В шесть часов вечера Сасаки сказала:
— Я прошу на эту ночь отпустить меня, — и отправилась к своему ребёнку.
После ужина моя жена неожиданно почувствовала недомогание и прилегла в гостиной. Таким образом вышло, что вести меня в ванную и укладывать спать должна была Сацуко. Когда мы пошли в ванную, на ней была трикотажная рубашка с рисунком голубой Эйфелевой башни и короткие штаны до колен, как у тореадора. Выглядела она великолепно, один её вид поднимал настроение. Мне показалось, что в тот вечер она более заботливо помогала мне мыться. Время от времени она прикасалась к моей шее, к плечам и рукам. Приведя меня в спальню, она сказала:
— Подожди меня немножко, я сразу же вернусь. Я тоже хочу принять душ, — и возвратилась в ванную.
Она оставила меня одного в спальне почти на полчаса. Я никак не мог успокоиться и сидел на кровати. Наконец она показалась в дверях в розовом крепдешиновом халате и китайских атласных туфельках без задника, вышитых пионами.
— Заждался?
В этот момент дверь в коридор открылась и служанка О-Сидзу внесла плетёный складной стул.
— Ты ещё не спишь?
— Сейчас лягу. Для чего ты велела принести этот стул?
Когда рядом с нами нет жены, я обращаюсь к Сацуко то на «ты», то на «вы», но в большинстве случаев я сознательно говорю ей «ты». Когда мы с ней с глазу на глаз, я, естественно, не церемонюсь. И Сацуко наедине со мной очень фамильярна в речи, потому что она знает, что мне это нравится.
— Ты рано засыпаешь, а я пока спать не хочу. Посижу и что-нибудь почитаю.
Она разложила складной стул, легла на него и раскрыла принесённую книгу, кажется, учебник французского языка. На лампу она накинула полотно, чтобы свет меня не беспокоил. Она тоже не любит спать на кровати Сасаки и решила провести ночь на раскладном стуле.
Так как она легла, я тоже лёг. В комнате работает кондиционер, но очень слабо, чтобы не разболелась рука. Последние дни стоит страшная жара, влажность очень высокая, поэтому врач и сиделка посоветовали включать кондиционер, чтобы уменьшить влажность. Притворяясь, что я заснул, я смотрел на заострённые кончики туфелек Сацуко, которые виднелись из-под халата. Такие изящно сужающиеся ножки — для японки большая редкость.
— Ещё не спишь? Не слышно твоего храпа. Как только ты засыпаешь, сразу же начинаешь храпеть. Так сказала госпожа Сасаки.
— Не знаю почему, никак не могу уснуть.
— Не потому ли, что я рядом?
Я ничего не ответил, и она засмеялась.
— Тебе вредно так нервничать. Я не должна тебя волновать. Не хочешь ли выпить адалин?
Впервые Сацуко со мной так кокетничала. Её слова привели меня в возбуждение.
— Вряд ли это необходимо.
— Но я хочу, чтобы ты выпил.
Она пошла за лекарством, а я раздумывал, как бы заставить её доставить мне ещё одно удовольствие.
— Выпей. Надо две таблетки.
В левой руке она держала маленькую чашку, а правой бросила в неё из коробочки две таблетки. Потом принесла из ванной стакан воды.
— Откройте рот. Я дам тебе выпить, — ладно?
— Я не хочу пить из чашки. Лучше из твоей руки.
— Ладно. Я только вымою руки.
Она опять ушла в ванную.
— Вода прольётся. Не лучше ли дать мне изо рта?
— Нет-нет. Ишь, как разошёлся!
Она быстро сунула мне в рот таблетки и дала запить. Я хотел только сделать вид, что лекарство подействовало, но нечаянно уснул по-настоящему.
24 июля.
Ночью часа в два и часа в четыре ходил в уборную. Сацуко спала на плетёном стуле. Французская книжка валялась на полу, свет потушен. Приняв адалин, я отчётливо не помню, что два раза вставал в уборную. Утром, как всегда, пробудился в шесть часов.
— Уже проснулся?
Сацуко любит по утрам поспать, и я думал, что в это время она ещё не открыла глаз. Но как только я пошевелился, она приподнялась со своего стула.
— А ты что, уже не спишь?
— Да я всю ночь не могла уснуть.
Когда я поднял шторы на окнах, она сразу же убежала в ванную, — по-видимому, чтобы я не видел её заспанного лица…
…Вернувшись приблизительно часа в два из кабинета в спальню, я часок поспал. Я ещё лежал в постели с открытыми глазами, как неожиданно дверь в ванную приоткрылась, и Сацуко сунула в неё голову. Кроме головы, ничего не было видно. На ней была виниловая шапочка, и всё лицо было мокрое. Слышалось, как льётся вода.
— Извини, что убежала утром. Принимаю душ и думаю: «А ведь папа должен отдыхать». Вот и решила заглянуть.
— Сегодня воскресенье. Разве Дзёкити нет дома?
На мой вопрос она не ответила, а заговорила совсем о другом.
— Когда я принимаю душ, я никогда не закрываю эту дверь. Её всегда можно открыть.
Для чего она специально предупреждает? Имеет ли в виду, что я сам принимаю ванну в десятом часу вечера? Или что она мне доверяет? Или хочет сказать: «Если хотите на меня посмотреть, пожалуйста, входите»? Или: «Чего церемониться с такой старой развалиной»?
— Дзёкити сегодня дома. Вечером в саду будет жарить мясо.
— Кто-нибудь должен прийти?
— Харухиса-сан и Амари-сан. Возможно, приедет кто-нибудь из Цудзито.
Кугако после того разговора долго не появится, — наверное, придут только дети.
25 июля.
Вчера вечером я сделал большую глупость. Приблизительно в половине седьмого в саду начали жарить мясо. Царило большое оживление, и мне невольно захотелось присоединиться к молодёжи. Моя жена всячески старалась меня остановить.
— Если в это время ты будешь сидеть на траве, ты простудишься, — говорила она.
Но Сацуко звала меня:
— Папа, идите к нам хоть не надолго.
У меня не было никакого желания есть жареную баранину или куриное крылышко, но мне хотелось посмотреть на отношения между Харухиса и Сацуко. Я присоединился к компании и минут через тридцать-сорок почувствовал, что ноги и поясница у меня замёрзли, и меня тем более беспокоило, что именно об этом меня предупреждала жена. По-видимому, жена поговорила с Сасаки, которая скоро с озабоченным видом появилась в саду и стала меня увещевать. Как обычно, от её слов я ещё больше заупрямился и продолжал сидеть на траве. Мне становилось всё холоднее и холоднее. Жена моя знает, как вести себя в таких случаях, и не пристаёт со своими советами. Сасаки же стала ужасно нервничать, я, продержавшись ещё около получаса, наконец поднялся и ушёл в свою комнату.
Но на этом не кончилось. Приблизительно часа в два я проснулся от страшного зуда в мочеиспускательном канале. Я побежал в уборную и помочился, — моча была мутная и беловатая, как молоко. Я снова лёг в постель, но не прошло пятнадцати минут, как я снова почувствовал позыв. Зуд не прекращался. Я бегал в туалет раза четыре или пять. Сасаки дала мне четыре таблетки синомина, приготовила тёплую ванночку, и боль постепенно утихла.
Уже несколько лет у меня гипертрофия предстательной железы (когда в молодости я болел венерической болезнью, она называлась простата), раза два или три, когда я не мог полностью или вообще помочиться, ставили катетер. У стариков часто бывают затруднения с мочеиспусканием; чтобы помочиться, мне требуется время, и мне очень неудобно, когда в театре перед моей кабинкой выстраивается целая толпа народу. Мне говорили, что операция предстательной железы возможна до 75–76 лет, поэтому, мол, решайтесь, пока есть время, ощущения после операции ни с чем не сравнимы, вы будете мочиться, как в молодости. Другие же говорили, что операция сложная и болезненная, и советовали её не делать. Пока я колебался, годы шли, а сейчас операцию делать слишком поздно. Врач мне сказал:
— К счастью, состояние ваше улучшилось, но так как после вчерашнего случая может быть рецидив, нужно принять меры предосторожности. При длительном употреблении синомина может быть нежелательная реакция, поэтому его нужно принимать только три дня, три раза по четыре таблетки. Каждое утро надо отправлять мочу на анализ, и если обнаружат какие-нибудь бактерии, вам надо пить настой убауруси.
В результате мне пришлось отказаться от сегодняшнего матча по боксу в Коракуэн. Утром у меня не было никаких осложнений с мочеиспусканием, поэтому можно было бы и поехать, но Сасаки не разрешила, сказав, что выходить вечером ни в коем случае нельзя.
— Как жаль, что ты не можешь пойти! Но я тебе всё расскажу, когда вернусь, — сказала мне Сацуко, убегая.
Волей-неволей мне пришлось отдыхать. Приходил только господин Судзуки, чтобы делать иглоукалывание. Сеанс продолжался с половины третьего до половины пятого, — тяжело и мучительно. Он дал мне отдохнуть в промежутке минут двадцать.
В школе каникулы, Кэйсукэ с детьми из Цудзито поедет в Каруидзава. С ними поедут моя жена и Кугако.
— Я приеду в августе, — сказала Сацуко, — пожалуйста, присмотрите за Кэйсукэ.
Дзёкити тоже приедет в следующем месяце в отпуск дней на десять. Наверное, в то же время сможет приехать и Сэнроку из Цудзито. Харухиса говорит, что очень занят на телевидении, днём декораторы относительно свободны, но каждый вечер у них очень много работы…
26 июля.
В последнее время мой день проходит следующим образом. Встаю приблизительно часов в шесть. Иду в уборную. Мочусь, первые несколько капель в стерильную пробирку. Затем раствором буры промываю глаза. Раствором серы тщательно полощу рот и горло. Потом очищаю дёсны зубной пастой «Колгейт» с хлорофиллом. Надеваю челюсть. Около получаса гуляю в саду. Лежу на доске. Сеанс удлинился до тридцати минут. Потом завтракаю, это единственный раз, что я ем в спальне. Стакан молока, гренок с ломтиком сыра, чашка овощного супа, что-нибудь из фруктов, чашка чёрного чаю. За завтраком принимаю одну таблетку алинамина. Потом в кабинете просматриваю газеты, пишу в дневник и, если есть время, что-нибудь читаю, но большей частью до обеда я веду дневник, а иногда — после полудня или вечером. Часов в десять утра приходит в кабинет Сасаки, измеряет мне давление. Раз в три дня делает мне укол, 50 мг витаминов. В полдень в столовой — второй завтрак, обычно это чашка вермишели и что-нибудь из фруктов. С часу до двух сплю в спальне. Три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу — с двух до четырёх приходит господин Судзуки делать иглоукалывание. С пяти часов лежу тридцать минут на доске. В шесть часов гуляю в саду; утром и вечером в сопровождении Сасаки, иногда — Сацуко. В половине седьмого ужин: чашка рису с приправами, которых мне разрешено много, поэтому каждый день мне дают что-то другое. Вкусы у стариков и молодёжи разные, и в семье готовят разные блюда. Едят все кто когда хочет. После ужина слушаю радио. Чтобы не утомлять глаза, вечером ничего не читаю и даже почти не смотрю телевизор.
Я не забываю того, что мне сказала Сацуко днём позавчера, в воскресенье, 24 числа: я проснулся часа в два дня и ещё лежал в постели, как вдруг дверь в ванную открылась и показалась голова Сацуко.
— Когда я принимаю душ, я никогда эту дверь не закрываю. Всегда можете её открыть.
Случайно слетели с её губ эти слова или намеренно сказала она — не знаю, но они меня чрезвычайно заинтересовали. Весь день, когда жарили мясо, и вчера, когда я оставался в постели, сказанное не выходило у меня из головы. Сегодня днём, проснувшись часа в два, я на некоторое время пошёл в кабинет, но в три часа вернулся в спальню. Я знал, что, если Сацуко никуда не уходит, она часа в три принимает душ. Я попробовал тихонько толкнуть дверь в ванную. В самом деле, дверь не была заперта. Слышался шум льющейся воды.
— Что тебе угодно?
Я лишь легко коснулся двери, и даже нельзя было сказать, что она дрогнула, но Сацуко, по-видимому, сразу же заметила. Я растерялся, но в следующий миг смело произнёс:
— Ты сказала, что никогда не запираешь дверь, вот я и решил проверить.
При этом я сунул голову в ванную. За белыми занавесками с широкими зелёными полосами она принимала душ.
— Убедился, что не лгу?
— Убедился.
— Что же ты стоишь там, входи.
— Можно войти?
— Ты же хотел войти.
— Мне особенно ничего не нужно…
— Ладно-ладно, но если ты начнёшь волноваться, ты поскользнёшься и упадёшь.
Доски были подняты, и весь кафельный пол был залит водой. Я осторожно вошёл и запер за собой дверь. В просвете между занавесками мелькали её плечи, колени, ступни ног.
— Тебе ничего не нужно, тогда мне будет нужно…
Шум душа прекратился. Повернувшись ко мне спиной, она выпрямилась, и над занавесками показалась верхняя часть её тела.
— Пожалуйста, возьми полотенце и вытри мне спину. У меня вся голова мокрая.
Она сняла виниловую шапочку, и несколько капель попали на меня.
— Не бойся, вытирай посильнее. Ах, я забыла, что у папаши левая рука болит. Тогда правой рукой, посильнее.
В тот же миг, не выпуская из рук полотенца, я обхватил её, прильнул губами к пышной округлости её правого плеча, прикоснулся языком к её коже — и получил оплеуху по левой щеке.
— Что за нахальные ухватки!
— Мне показалось, что ты позволила…
— Ничего подобного! Вот расскажу обо всём Дзёкити!
— Извини, извини…
— Уходи, пожалуйста! — но тут же прибавила: — Не нервничай, не нервничай, медленнее, а то поскользнёшься.
Добравшись до выхода, я почувствовал, как она тихонько подтолкнула меня в спину кончиками своих нежных пальчиков. В спальне я сел на кровать и отдышался. Вскоре она вошла ко мне. На ней был тот же крепдешиновый халат. Я посмотрел на китайские туфельки, вышитые пионами.
— Извини меня. Я так грубо обошлась с тобой.
— Нет, ничего…
— Больно?
— Нет, не больно, но я немного испугался.
— У меня привычка давать мужчинам пощёчины. Чуть что, я сразу пускаю в ход руки.
— Я так и подумал. И многих тебе приходится так отваживать?
— Но тебя-то мне не надо было хлопать…
28 июля.
Вчера из-за сеанса иглоукалывания не мог, но сегодня в три часа я опять приложил ухо к двери в ванную. Она не была заперта. Слышался шум воды.
— Входи-входи. Я жду тебя. Прости за вчерашнее.
— Я так и думал, что ты извинишься…
— С годами все становятся упрямыми.
— Позавчера ты меня выгнала, поэтому я должен получить вознаграждение…
— Что за шутки! Поклянитесь никогда больше ничего подобного не делать.
— Если бы ты разрешила поцеловать себя в шею.
— Я боюсь щекотки.
— Тогда куда?
— Никуда. У меня весь день было отвратительное ощущение, как будто на меня упал слизняк.
— А если бы на моём месте был Харухиса? — затаив дыхание, спросил я вдруг.
— Опять хлопну. В прошлый раз я ударила вполсилы.
— Тебе не надо деликатничать со мной.
— У меня гибкая рука. Если я ударю по-настоящему, будет больно так, что из глаз посыпятся искры.
— Этого я и хотел бы.
— Что за испорченный старик! Дедушка terrible[48].
— Но послушай. Если не в шею, то куда?
— Один разочек я бы разрешила… в ногу, ниже колена, но только один раз. Не касайся языком, только приложись губами.
Она была скрыта от колен до головы, и в просвет между занавесками высунулась её нога.
— Как на приёме у гинеколога.
— Дурак.
— Как же целовать, не касаясь языком? Совершенно бессмысленное условие.
— Да кто тебе говорит о поцелуях? Коснись губами, и будет с тебя.
— Ну хоть душ пока выключи.
— Не могу. Ведь после твоего прикосновения мне надо сразу же хорошенько вымыть ногу, иначе мне будет неприятно.
У меня было ощущение, как будто мне дали выпить воды.
— Кстати, о Харухиса-сан. Я вспомнила, что у него к тебе просьба.
— Какая?
— В такую жару Харухиса-сан просит разрешения иногда пользоваться этой ванной. Он сказал мне: «Попроси разрешения у моего дяди».
— А в их студии нет ванны?
— Конечно, есть, но там одна ванна для артистов, а другая для всех остальных, и она такая грязная, что туда не хочется входить. Он вынужден ходить в баню на Гиндза, в «Токийские горячие источники». Но сюда ему было бы ближе, это была бы для него большая услуга. Разреши своему племяннику.
— Ты и сама можешь ему позволить, нечего меня спрашивать.
— Вообще-то недавно он уже принимал здесь душ, но говорит, нельзя, мол, без спроса…
— Я не против, но надо попросить разрешения у моей жены.
— Может быть, ты сам ей скажешь? Я её побаиваюсь.
Но это только слова, Сацуко стесняется меня больше, чем жену.
Поскольку речь шла о Харухиса, она считала необходимым специально попросить разрешения.
29 июля.
…В половине третьего начался сеанс иглоукалывания. Я лёг на кровать, а слепой господин Судзуки, сев подле мена на стул, принялся за работу. Он всё делает сам: вытаскивает из портфеля ящичек с иглами, протирает их спиртом, но обычно его сопровождает кто-нибудь из учеников, который сидит сзади. До сих пор я никакого улучшения не чувствую: чувство холода в руке и онемение пальцев не проходит. Прошло двадцать-тридцать минут, из двери, ведущей в коридор, неожиданно появился Харухиса.
— Дядюшка, извините, что беспокою вас в самый разгар лечения, но я вам чрезвычайно благодарен за то, что вы ответили согласием на мою просьбу, которую вчера передала Сацуко-тян. Я сразу же воспользовался вашей любезностью и хочу немедленно поблагодарить вас.
— О чём говорить, тут и просить не надо было. Приходи, когда угодно.
— Большое спасибо. Пользуясь вашей добротой, буду время от времени заходить к вам. Постараюсь не надоедать вам каждый день. Дядюшка, вы прекрасно выглядите.
— О чём ты говоришь! Всё больше дряхлею. Сацуко меня каждый день только ругает.
— Совсем нет. Она восхищается, что всё время вы остаётесь молодым.
— Не говори глупостей. Вот и сегодня лечусь иглоукалыванием. С трудом поддерживаю своё бренное существование.
— Ну, что вы! Вы, дядюшка, ещё долго проживёте. Простите меня за вторжение. Пойду поприветствую тётушку, и должен срочно бежать.
— В такую жару… Отдохнул бы…
— Большое спасибо, но никак не могу.
Спустя некоторое время после ухода Харухиса О-Сидзу внесла поднос с чаем и сластями на двоих. Сделали перерыв. Сегодня был пудинг с кремом и холодный чай. После перерыва сеанс продолжался до половины пятого.
Всё это время мысли мои были заняты вот чем. Харухиса попросил разрешения пользоваться нашей ванной не просто так. Нет ли здесь какого-нибудь тайного умысла? Не подала ли ему эту мысль Сацуко? Не зашёл ли он сегодня нарочно, чтобы приветствовать меня именно в то время, когда у меня был врач? Не предусмотрел ли он, что в такой момент старый дядя не задержит его надолго? Я слышал краем уха, что Харухиса вечерами занят, но днём более или менее свободен. Он будет приходить во второй половине дня, возможно, в то время, когда Сацуко принимает душ. Одним словом, как раз тогда, когда я или сижу у себя в кабинете, или занят с врачом. Когда он будет пользоваться ванной, вряд ли дверь будет распахнута, он будет запирать её. Не будет ли Сацуко сожалеть, что завела этот дурной обычай?
Ещё одно беспокоило меня. Через три дня, первого августа, семь человек — моя жена, Кэйсукэ, Кугако с тремя детьми и прислуга О-Такаси уезжают в Каруидзава. Дзёкити второго числа едет в Кансай, вернётся шестого и седьмого тоже поедет в Каруидзава на десять дней. Всё это чрезвычайно удобно для Сацуко. Она говорит:
— Я тоже в будущем месяце буду ездить в Каруидзава дня на два — на три. Госпожа Сасаки и О-Сидзу останутся в Токио, но я всё-таки беспокоюсь, как папа будет тут один. А кроме того, в Каруидзава вода в бассейне слишком холодная, плавать я не могу. Так что время от времени я буду туда наведываться, но жить долго — увольте… Я предпочитаю ездить на море.
Слушая её, я сказал себе, что мне обязательно надо остаться дома.
— Я поеду сейчас, а ты когда же приедешь? — спрашивает меня жена.
— Не знаю. Начал иглоукалывание, подождём немного, что из этого получится.
— Да ведь оно не помогает. Не лучше ли было бы прервать, пока стоит такая жара?
— Мне как раз показалось, что наступает улучшение. Не прошло и месяца с начала лечения, и бросить было бы жаль.
— Значит, в этом году ты не собираешься ехать?
— Да нет, приеду попозже. Совсем извела своими вопросами.
Глава третья
5 августа.
В половине третьего явился господин Судзуки. Сразу же начался сеанс. В начале четвёртого сделали перерыв. О-Сидзу принесла кофейное мороженое и холодный чай. Когда О-Сидзу направилась к двери, я спросил её безразличным тоном:
— Сегодня Харухиса-сан не приходил?
— Приходил, но, кажется, уже ушёл, — как-то неопределённо ответила она и вышла из комнаты.
Слепые едят долго. Ученик по ложечке медленно отправлял в рот мороженое и каждый раз запивал чаем.
— Извините меня, пожалуйста, — сказал я, встал с кровати, подошёл к двери в ванную и попытался повернуть ручку. Дверь не поддавалась, она была заперта изнутри. Я сделал вид, что хочу вымыть руки, пошёл в уборную, из уборной в коридор и попытался открыть дверь в ванную. Она не была заперта. В предбаннике никого не было, но вещи Харухиса: спортивная рубашка, брюки, носки — были в корзине. Я открыл стеклянную дверь в самоё ванную. Она была пуста. Я заглянул даже за занавеску — никого. Но кафельный пол и стены вокруг были залиты водой. Эта дура О-Сидзу не знала что ответить, соврала. Но где он может быть? И где Сацуко? Я двинулся было на поиски в бар столовой, как оттуда показалась О-Сидзу с подносом, на котором стояли бутылки кока-колы и два стакана. Подойдя к лестнице на второй этаж, она увидела меня. Страшно побледнев, она остановилась, как вкопанная. Руки с подносом задрожали. Я сам растерялся: в такое время мне в коридоре делать нечего.
— Харухиса ещё здесь? — спросил я как можно более оживлённым и весёлым тоном.
— Да. Я полагала, что он уже ушёл…
— А-а, вот как!
— Он на втором этаже дышит свежим воздухом.
Два стакана, две бутылки кока-колы. Вдвоём на втором этаже «дышат свежим воздухом». Одежду бросил в корзину в ванной и, приняв душ, накинул на себя только лёгкий халат. Да мылся ли он один в ванной? На втором этаже есть спальня для гостей, — не в ней ли они дышат свежим воздухом? В том, что он накинул на себя лёгкий халат, ничего странного нет, но на первом этаже пустуют приёмная, гостиная, столовая, жена моя в отъезде, незачем было подниматься на второй этаж. Они, конечно, думали, что с половины третьего до половины пятого я буду в спальне лежать в постели и врач будет делать иглоукалывание. О-Сидзу поднялась на второй этаж, а я сразу же возвратился в спальню.
— Извините, пожалуйста, — сказал я, укладываясь в кровать. Я отсутствовал менее десяти минут. Они как раз доели мороженое. Сеанс возобновился. Ещё минут на сорок-пятьдесят я предоставил себя в распоряжение господина Судзуки. Когда в половине пятого он ушёл, я пошёл к себе в кабинет. За всё это время можно было спокойно тайком покинуть второй этаж. Их план не удался: я неожиданно вышел в коридор и, к несчастью, наткнулся на О-Сидзу. Если бы я не встретился с ней, они бы не догадались, что мне известна их тайна. Но это ещё не всё. Если подозревать их в ещё большем коварстве, то Сацуко, зная о моей недоверчивости, предположила, что я могу пуститься на розыски во время перерыва между двумя сеансами, и, решив представить мне возможность убедиться, нарочно послала О-Сидзу за кока-колой, чтобы я её увидел. Она, вероятно, подумала: «Пусть старик всё узнает. Чем скорее он поймёт, тем скорее покорится неизбежному». Мне показалось, что я слышу её голос: «Да не надо так волноваться, соберись с мужеством и спокойненько ступай к себе».
С половины пятого до пяти я отдыхал. С пяти до половины шестого лежал на доске. Потом полчаса отдыхал. За это время гость со второго этажа наверняка ушёл, вероятно, ещё до окончания сеанса иглоукалывания. То ли Сацуко ушла вместе с ним, то ли, чувствуя себя неловко, сидит одна на втором этаже, но она не показывалась. Сегодня я видел её только за обедом в полдень. (Вот уже два дня, как мы обедаем с ней вдвоём.) В шесть часов появилась Сасаки, чтобы вывести меня на прогулку. Я спускался с веранды в сад, как неожиданно показалась Сацуко.
— Госпожа Сасаки, сегодня я погуляю с папой.
В беседке я сразу же спросил:
— Когда ушёл Харухиса?
— Сразу же после того.
— После чего?
— После того, как выпил кока-колу. Я сказала ему, что ты узнал о его присутствии, и его внезапный уход наоборот покажется странным…
— Я не думал, что он такой пугливый.
— Он беспокоился, что дядя превратно истолкует происшедшее, и настойчиво просил меня всё тебе объяснить.
— Оставим это.
— Ты можешь думать, что тебе угодно, но на втором этаже больше свежего воздуха, чем внизу, только поэтому мы поднялись туда и выпили кока-колы. Старики немедленно всё истолковывают в дурном свете. Дзёкити сразу бы понял, как надо.
— Ладно, пусть так. Мне всё равно.
— Ну, не совсем.
— Но ведь и ты меня правильно не понимаешь.
— Что ты имеешь в виду?
— Допустим, между тобой… я говорю: «допустим», — между тобой и Харухиса что-то есть, я вовсе не собираюсь поднимать из-за этого шум.
Она недоверчиво смотрела на меня, не говоря ни слова.
— Я не проболтаюсь об этом ни жене, ни Дзёкити, — всё останется в тайне.
— Ты мне позволяешь пойти на такое?
— Может быть.
— Ты с ума сошёл!
— Может быть. Наконец-то ты поняла? Ведь ты так умна.
— Но откуда у тебя такие мысли?
— Я сам уже не могу наслаждаться любовными приключениями, зато мне доставляет наслаждение по крайней мере смотреть на других. Вот до чего доходят люди!
— Тебя приводит в отчаяние, что для тебя всё кончено?
— Но я могу испытывать ревность. Пожалей меня.
— Ты можешь убедить кого угодно. Пожалеть-то я могу, но я не хочу ради твоего удовольствия жертвовать собой.
— Какая же тут жертва? Разве, доставляя мне наслаждение, ты сама не получаешь удовольствия? Разве ты не будешь наслаждаться больше меня? Моё положение действительно достойно жалости.
— Смотри, как бы я опять не дала тебе пощёчину.
— Не будем обманывать друг друга. Впрочем, не обязательно Харухиса, это может быть Амари или кто-то другой.
— Как только мы приходим в беседку, сразу же начинается такой разговор! Пойдём погуляем, — у тебя не только ноги немеют, у тебя вся голова отравлена. К тому же госпожа Сасаки наблюдает за нами с веранды.
Дорожка достаточно широка, чтобы по ней ходить вдвоём, но с обеих сторон леспедеца так разрослась, что идти было невозможно.
— Листва такая густая, всё время цепляется за ноги. Держись за меня крепче.
— Если бы я взял тебя под руку.
— Каким образом? Ты такой низенький.
Она шла слева от меня и вдруг перешла на правую сторону.
— Дай мне палку. Держись за меня правой рукой.
Она предоставила мне своё левое плечо и, взяв в руки палку, стала раздвигать ветви леспедецы…
6 августа.
…Продолжаю вчерашнее.
— А как к тебе относится Дзёкити?
— Я сама бы хотела это знать. А что ты думаешь по этому поводу?
— Не знаю. Но я стараюсь особенно не думать о нём.
— Я тоже. Мои вопросы его раздражают. Правды он мне не говорит. Одним словом, меня он больше не любит.
— А если у тебя появится любовник?
— Он как-то сказал в шутку: «Появится так появится, делать нечего. Пожалуйста, не стесняйся».
Но похоже, он говорил серьёзно.
— Любой бы так ответил, если ему жена заявляет такое. Кто хочет признать своё поражение?
— У него, по-видимому, кто-то есть, какая-нибудь танцовщица из кабаре, какой я была когда-то. Я согласна на развод, если смогу видеть Кэйсукэ, но он разводиться не намерен. Он говорит: «Жалко Кэйсукэ, а ещё, если ты уйдёшь, папа будет плакать».
— Он подсмеивается надо мной.
— Тем не менее он всё о тебе знает, хотя я ему ничего не рассказывала.
— Потому что он сын своего отца.
— Он почтителен к родителям.
— В действительности, он не хочет терять тебя и только прикрывается мной.
Говоря откровенно, я почти ничего не знаю о своём сыне Дзёкити, наследнике дома Уцуги. По-видимому, мало на свете отцов, которые так плохо осведомлены о своих драгоценных отпрысках. Он окончил экономический факультет Токийского университета и поступил работать в акционерное общество Pacific Plastic[49]. Но я плохо представляю, чем он занимается. Его фирма, как будто, покупает резину у химической компании Мицуи и делает фотографическую плёнку, полиэтиленовые покрытия, предметы из полиэтилена, вёдра, тюбики для майонеза и так далее. Завод находится в Кавасаки[50], но основное отделение в Токио, на Нихонбаси, где он и служит. Скоро его, кажется, сделают начальником отделения, но какое у него жалованье и какие премии он получает, мне неизвестно. В будущем он станет главой семьи, но пока глава я. Содержание семьи до некоторой степени лежит на нём, в основном же на это идут мои доходы с недвижимости и акций. Ещё несколько лет назад хозяйство в доме вела моя жена, но потом оно перешло в руки Сацуко. По словам жены, Сацуко очень хорошо ведёт дела и тщательно просматривает все счета от лавочников. Иногда она заходит на кухню, проверяет содержимое холодильника. Прислуга дрожит, заслышав имя молодой хозяйки. Любящая новшества, Сацуко установила в кухне машину для переработки отходов и выговаривала О-Такаси за то, что та бросила в неё картофель, который ещё можно было есть.
— Если испортилось, нужно отдать собаке. Вам нравится кидать сюда всё что попало. Лучше бы я не покупала такую машину, — жаловалась Сацуко.
Но кроме того моя жена говорит, что Сацуко до предела сокращает домашние расходы, мучит прислугу, а сэкономленное кладёт себе в карман и, ограничивая остальных, сама купается в роскоши. Иногда она поручает О-Сидзу проверить на счётах расходы, однако большей частью занимается этим сама. Налогами у нас ведает управляющий, но все вопросы с ним решает она. Дел у молодой хозяйки очень много, и всё спорится в её руках. Без сомнения, эти качества Дзёкити очень нравятся. С этой точки зрения сейчас положение Сацуко в доме Уцуги очень прочное, и она необходима даже Дзёкити.
Когда моя жена возражала против женитьбы, Дзёкити отвечал:
— Да, она бывшая танцовщица, но я уверен, она прекрасно будет вести хозяйство. Я вижу, что у неё есть к этому способности.
В то время он говорил наобум, вряд ли он был настолько прозорлив. Её способности проявились после замужества, а до этого она и сама, наверное, не подозревала о своём даре.
Признаюсь, давая разрешение на брак, я не думал, что он продлится долго. Дзёкити вспыхивает и быстро гаснет, я сам был таким в молодости, но сейчас я не сказал бы, что дело обстоит так просто. В первое время женитьбы Дзёкити был влюблён по уши, а потом явно поостыл. На мой взгляд, Сацуко гораздо красивее, чем была до замужества. Скоро десять лет, как она вошла в наш дом, и с каждым годом только хорошеет. Особенно красивой она стала после рождения сына. В ней ничего не осталось от бывшей танцовщицы. Впрочем, наедине со мной она нарочно воскрешает свои прежние ухватки. Может быть, она так же вела себя наедине с Дзёкити в то время, когда они любили друг друга, но всё кончено. Ценя в ней прежде всего организаторские способности, не думает ли мой сын, что лишиться её было б крайне неудобно? Когда она притворяется невинной, она, как ни крути, производит впечатление достойной дамы. Речь и манеры у неё бойкие, она очень прозорлива, при этом так обаятельна, так любезна, так тактична! Внешне так оно и есть, и Дзёкити в глубине сердца этим гордится. Вряд ли он намерен разводиться, и если даже замечает что-то предосудительное, то смотрит на это сквозь пальцы, тем более что она так безупречно себя ведёт…
7 августа.
…Вчера вечером Дзёкити приехал из Кансай и сегодня утром уехал в Каруидзава…
8 августа.
…Днём с часу до двух спал, а потом, лёжа в постели, ждал господина Судзуки. Раздался стук в дверь ванной, и я услышал голос:
— Я закрываю.
— Пришёл твой красавец?
— Да, — голова Сацуко на мгновенье показалась в дверях, и тут же с шумом дверь захлопнулась. Лицо сразу же скрылось, но я успел заметить, что выражение его было чрезвычайно холодным и нелюбезным. Она первой принимала душ, с её шапочки капала вода…
9 августа.
…Сегодня господин Судзуки не пришёл, но днём, после обеда, я оставался в спальне настороже. Сегодня опять раздался стук в дверь и послышался голос Сацуко: «Закрываю». На тридцать минут позже, чем вчера. В комнату ко мне она не заглянула. В четвёртом часу я попытался тихонько повернуть ручку двери — закрыто. Когда я в пять часов лежал на доске, Харухиса, проходя по коридору, сказал мне:
— Дядюшка, большое спасибо. Благодаря вам я избавлен от каждодневной заботы.
Я не мог видеть его лица, а мне хотелось бы знать, с каким выражением он произнёс эти слова.
В шесть часов, гуляя по саду, я спросил у Сасаки:
— А Сацуко дома нет?
— Мне кажется, некоторое время назад хильман выехал из гаража, — ответила она.
Она пошла справиться у О-Сидзу и, возвратившись, подтвердила:
— Молодая госпожа уехала.
10 августа.
…Днём спал с часу до двух. Когда проснулся, повторилось всё, как было восьмого…
11 августа.
…В иглоукалывании перерыв. Сегодня после обеда было иначе, чем девятого. Вместо: «Закрываю» я услышал: «Дверь открыта», в дверях показалось весёлое лицо. Слышалось, как льётся вода.
— Он сегодня не приходил?
— Нет. Входи, пожалуйста.
Как только я это услышал, я двинулся в ванную. Она немедленно спряталась за занавесками.
— Сегодня я дам себя поцеловать.
Шум душа прекратился, и из-за занавески показалась её нога.
— Как? Опять как на приёме у гинеколога?
— Выше колена и не проси. Зато я выключила душ.
— В виде вознаграждения? Этого мало.
— Как хочешь. Я не заставляю. Но сегодня можно не только приложить губы, разрешаю коснуться языком.
Так же, как двадцать восьмого июля, я нагнулся к её ноге и прикоснулся губами к тому же месту на икре. Я спокойно касался языком кожи, это было что-то похожее на поцелуй. Медленно спустился к пятке. Против моего ожидания она не возражала, позволяя мне делать, что я хотел. Я дошёл до подъёма ноги, потом до большого пальца. Встав на колени, я приподнял её ногу и взял в рот три пальчика: большой, второй и третий. Прижался губами к своду плюсны. Подошва мокрой ноги была столь же обольстительна, как и выражение её лица.
— Довольно.
Неожиданно из душа хлынула вода. Её нога, моё лицо, моя голова — всё стало мокрым.
В пять часов Сасаки пришла напомнить мне, что пора лежать на доске. Поглядев на меня, она сказала:
— У вас глаза красные.
Вот уже несколько лет у меня часто к белкам глаз приливает кровь, и поэтому они всегда немного красны. При внимательном взгляде на окружность зрачка под роговицей видно множество тонких кровяных сосудов. Мне исследовали глазное дно, боясь кровоизлияния, и сказали, что глазное давление для моего возраста нормально. Но если глаза наливаются кровью, это значит, что пульс учащается и давление повышается. Поэтому Сасаки сразу же начала щупать запястье.
— Пульс более девяноста. Что вы делали?
— Ничего особенного.
— Надо измерить давление.
Волей-неволей мне пришлось лечь на диван в кабинете. Десять минут лежал спокойно, потом она затянула мне правую руку резиновым жгутиком. Сфигмоманометра мне не было видно, и о результате я мог догадываться по выражению лица Сасаки.
— Как сейчас вы себя чувствуете?
— Хорошо. А давление высокое?
— Около двухсот.
Когда она так говорит, это значит, что выше двухсот. Непременно должно быть 205–206 или даже 220. Несколько раз у меня давление поднималось до 245, но я не был так испуган, как врач. Я примирился с мыслью, что ничего не поделаешь, когда-нибудь настанет конец.
— Сегодня утром было 145 на 80. За это время ничего особенного не произошло. Отчего же давление так резко поднялось? Очень странно. Стул у вас не был слишком твёрдый? Вы не тужились через силу?
— Нет.
— Что же произошло? Ума не приложу.
Сасаки в недоумении склонила голову. Я молчал, прекрасно понимая, в чём дело. Я ещё чувствовал на губах незабываемое ощущение от прикосновения к своду плюсны. Без сомнения, давление поднялось в тот момент, когда я держал во рту три пальчика Сацуко. Лицо моё пылало, кровь ударила в голову, я чувствовал, что вот-вот умру от апоплексического удара, что уже умираю. Я давно был готов умереть в таких обстоятельствах, но всё-таки мысль о скорой смерти меня испугала. Изо всех сил стараясь успокоиться, я убеждал себя, что не надо так волноваться, но при этом, как ни странно, продолжал обсасывать её пальчики. Чем больше я думал, что этого не следует делать, тем более я становился безумным. Я сосал её пальцы, думая, что умираю. Мою грудь попеременно пронизывали страх, возбуждение, наслаждение, — и я почувствовал острую боль, как при приступе стенокардии. После этого прошло более двух часов, а давление так и не снизилось.
— Сегодня не будем лежать на доске. Вам надо успокоиться, — с этими словами Сасаки насильно потащила меня в спальню и положила в постель…
В девять часов вечера Сасаки вновь вошла ко мне, держа в руках сфигмоманометр.
— Давайте ещё раз измерим давление.
К счастью, давление опустилось до обычного. 150 на 87.
— Прекрасно. Теперь я спокойна. Было 223 на 150.
— Такое время от времени случается.
— Даже если редко… уж слишком высокое. Хотя это продолжалось всего два часа.
Не только Сасаки успокоилась. Говоря по правде, я сам вздохнул с ещё большим облегчением. Но в то же время я думал: «Вряд ли меня что-нибудь удержит, если такая безумная возможность представится и впредь. Это не любимый Сацуко pinky thriller[51], нельзя отказываться от столь далеко зашедшего приключения. Что из того, что я умру?»…
12 августа.
…В третьем часу пришёл Харухиса, пробыл около двух-трёх часов. Сразу после ужина Сацуко ушла из дому. Сказала, что пошла смотреть «Карманника» с участием Мартена Ласаля[52] в «Скала», потом пойдёт в бассейн Prince-Hotel[53]. Представляю, как выглядят её белые плечи и спина при открытом сзади купальнике в лучах вечернего освещения…
13 августа.
…Сегодня опять, приблизительно в три часа дня, был сеанс pinky thriller'a. Но сегодня глаза не покраснели, и давление, кажется, не повышалось. До некоторой степени я разочарован. Если глаза не наливаются кровью и давление не поднимается выше 200, я не чувствую удовлетворения…
14 августа.
Ночью Дзёкити приехал из Каруидзава. С завтрашнего понедельника он должен быть на работе.
16 августа.
…Сацуко рассказала, что вчера после долгого перерыва ездила в Хаяма[54] купаться. Оставшись со мной, она этим летом не могла поехать на море. Но она очень любит загорать. Кожа у неё белая, как у иностранцев, и от загара становится розовой. Треугольный вырез от шеи до груди стал розовым, а живот под купальником остался белым. Чтобы показать мне свой загар, она сегодня позвала меня в ванную.
17 августа.
Сегодня опять приходил Харухиса.
18 августа.
…Сегодня опять была сцена pinky thriller'a. Однако она немного отличалась от предыдущих. Сегодня Сацуко появилась в сандалиях на каблуках и оставалась в них, принимая душ.
— Для чего ты надела эти сандалии?
— Когда в мюзик-холле девушки выходят голыми на сцену, на них ничего нет, кроме таких сандалий. Ты сам сходишь с ума от ног — разве тебе не кажется это соблазнительным? Иногда можно увидеть подошву ноги.
Всё это было прекрасно, а потом произошло вот что.
— Не знаю, не разрешить ли тебе сегодня necking?
— Что такое necking?
— Не знаете? Разве ты совсем недавно не делал это?
— Поцелуй в шею, что ли?
— Да. Это своего рода petting.
— А это что такое? Я такого английского не знаю.
— Как трудно со стариками! Это значит «ласкать всё тело». Можно сказать и heavy petting. Надо сначала выучить тебя современному языку.
— А-а! И ты разрешаешь себя поцеловать?
— Будь благодарен.
— Я вне себя от радости. Но с чего такая перемена? Боюсь, мне придётся расплачиваться.
— Да уж приготовься.
— Выкладывай, чего ты хочешь.
— Ну что бы там ни было — целуй.
Я не устоял перед искушением. Более двадцати минут я наслаждался этим самым necking'ом.
— Я выиграла. Теперь ты не можешь отказать мне.
— Чего же ты требуешь?
— Только не падай в обморок.
— Ну, говори.
— С некоторых пор я хочу иметь одну вещь.
— И что это?
— Cat's eye.
— Cat's eye? Кошачий глаз? Драгоценный камень?
— Да. Но не маленький, я хочу большой, какой бывает на мужском кольце. Я видела такой в лавке гостиницы «Империаль», именно такой, какой я хочу.
— Сколько стоит?
— Три миллиона иен.
— Сколько?
— Три миллиона.
— Не шути.
— Я не шучу.
— Сейчас у меня таких денег нет.
— Я знаю, что такая сумма у тебя есть. Я уже сказала, что покупаю, и обещала принести деньги дня через два-три.
— Не думал, что твой necking стоит так дорого.
— Зато я разрешу делать это и впредь, когда тебе будет угодно.
— Всего лишь necking, что же ты запросишь за настоящий поцелуй?
— А говорил, что вне себя от радости.
— Ну и дела! А если жена увидит, что тогда?
— Неужели я сделаю такой промах?
— Однако это не так просто. Нельзя так издеваться над стариками.
— А сам доволен, по лицу видно.
У меня, наверное, действительно было довольное выражение лица.
19 августа.
Сообщают о приближении тайфуна. Наверное, поэтому рука болит нестерпимо и я совсем не могу передвигать ноги. Три раза в день принимаю по три таблетки дол осина, купленного Сацуко, и боль успокаивается. Это лекарство надо глотать, поэтому оно мне нравится больше ноблона. Но оно того же рода, что иаспирин, и я после него очень сильно потею.
В начале первого позвонил господин Судзуки:
— Из-за тайфуна я не смогу к вам приехать. Позвольте пропустить сегодняшний визит.
Я согласился и из спальни пошёл в кабинет. За мной туда немедленно вошла Сацуко.
— Пришла за обещанным. Сейчас пойду в банк, а потом сразу в гостиницу.
— Приближается тайфун, не лучше ли тебе сейчас не выходить из дома?
— Надо покончить с этим, пока ты не передумал. Умираю от нетерпения увидеть на пальце камень.
— Я от своих обещаний не отказываюсь.
— Завтра суббота, и если встану поздно, в банк не попаду. Надо ковать железо, пока оно горячо.
Я собирался употребить эти деньги иначе. Несколько поколений нашей семьи жили на Хондзё Варигэсуй, но мой отец переехал в район Нихонбаси, в первый квартал Ёкояматё. Я был тогда ребёнком и точно не помню, в какой год Мэйдзи это произошло. В 12 году Тайсё (1923 г.) после сильного землетрясения отец построил новый дом на Мамиана, районе Адзабу, и мы в него переехали. Отец умер в 14 году Тайсё (1925), когда мне был сорок один год. Мать на несколько лет пережила его, она умерла в 3 году Сева (1928 г.). Я сказал: построили новый дом, но в действительности в Адзабу, неподалёку от усадьбы, где в эпоху Мэйдзи жил Хасэба Сумитака[55], член Общества политических единомышленников, с давних пор существовало старое строение, большую часть которого перестроили, и только один флигель оставили в неприкосновенности. Мои родители жили отшельниками в старом флигеле, наслаждаясь тишиной места. После пожара во время войны дом был опять перестроен, но старая часть чудом избежала огня, и в ней оставалось всё так, как было при моих родителях. Она, однако, почти разрушилась, стала непригодна для пользования, и сейчас в ней никто не живёт. Я подумывал снести флигель, построить на его месте современный дом и жить в нём затворником. Но этому воспротивилась моя жена, считая, что нельзя без особых причин разрушать место, где провели последние годы жизни покойные родители, и надо сохранять эту часть дома, насколько это возможно. Разговорам не было бы конца, и я решил заставить жену согласиться и пригласить рабочих, чтобы снести развалившийся флигель. Остальная часть дома достаточно просторна, чтобы в ней расположилась вся семья, но для осуществления различных замыслов мне жить со всеми было бы неудобно. Говоря о новом месте уединения, я хотел устроить свою спальню и кабинет как можно дальше от комнаты жены и оборудовать для неё отдельную уборную рядом с её спальней и там же ванную, деревянную, японскую — «для удобства жены», а свою облицевать кафелем и установить в ней душ. — Напрасная трата — устраивать две ванные во флигеле, — говорит жена. — Я могу прекрасно мыться в одной ванне с госпожой Сасаки и О-Сидзу.
— Ты можешь позволить себе роскошь иметь персональную ванную. В пожилом возрасте так приятно спокойно наслаждаться в ванне.
Мой план заключался в том, чтобы жена насколько возможно сидела бы в своей комнате и не шастала по всему дому. Дом, в котором мы сейчас живём, я тоже хотел перестроить и снести верхний этаж, но, во-первых, Сацуко была против, а во-вторых, на это не оставалось бы денег. Тем не менее от мысли устроить себе уединённое жильё я не отказывался, — три миллиона, на которые нацелилась Сацуко, и были частью необходимой для этого суммы.
— Вот и я!
Сацуко вернулась очень быстро. Вид у неё был генерала, возвращающегося с победой.
— Уже съездила?
Она молча раскрыла ладонь и показала мне камень. Действительно, великолепный кошачий глаз. Мои мечты об уединённом жилище превратились в драгоценность в её руке.
— Сколько каратов?
Я положил камень себе на ладонь.
— Пятнадцать.
Неожиданно я ощутил в левой руке страшную боль. Поспешно выпил три таблетки долосина. Но, когда я смотрел на торжествующую Сацуко, сама боль доставляла мне невыразимое блаженство. Насколько это лучше, чем перестройка дома!..
20 августа.
Приближается тайфун № 14, сильный ветер и дождь. Несмотря на это, я, как раньше и намеревался, отправился в Каруидзава. Поехал вместе с Сацуко и Сасаки. Сасаки ехала во втором классе. Она изо всех сил старалась нас убедить отложить из-за плохой погоды отъезд на день, но ни я, ни Сацуко её не слушали. Мы оба были страшно возбуждены, и нам хотелось, чтобы тайфун свирепствовал ещё больше. Это чары кошачьего глаза…
23 августа.
Предполагал сегодня вместе с Сацуко возвратиться в Токио, но жена сказала:
— Детям нужно в школу, мы все возвращаемся завтра, на день раньше, чем собирались. Останься ещё на день, поедем все вместе.
А я-то предвкушал удовольствие ехать наедине с Сацуко.
25 августа.
Сегодня утром надо было опять лежать на доске, но пользы от этого нет, и я решил это прекратить. В конце месяца оставлю и иглоукалывание.
…Сацуко сегодня вечером умчалась на какой-то матч в Коракуэн.
1 сентября.
Сегодня 210-й день[56], но ничего особенного не произошло. Дзёкити улетает в Фукуока на пять дней.
3 сентября.
Чувствуется приближение осени. После ливня приятно смотреть на ясное небо. Сацуко в кабинете поставила в вазу гаолян и петуший гребешок, а при входе букет из семи осенних цветов[57]. Переменила в кабинете свиток — стихотворение на китайском языке Нагаи Кафу[58], написанное им самим на бумаге семи цветов:
Кафу не был особенно искусен ни в каллиграфии, ни в китайском стихосложении, но я очень люблю его повести. Я приобрёл этот свиток давным-давно у одного торговца произведениями искусства, однако я не уверен в его подлинности, поскольку существуют превосходные подделки каллиграфии Кафу. Он жил в Итибэ, совсем близко отсюда, в крашеном деревянном доме европейского стиля, сгоревшем во время войны, который он назвал «Домом чудес». Поэтому он и написал в этом стихотворении: «Седьмую осень живу в долине Адзабу».
4 сентября.
На рассвете, около пяти часов, в дремоте услышал стрекотание сверчка, слабое, но непрекращающееся. Пора сверчков уже наступила, но странно, что он завёлся в комнате. Даже у нас в саду его редко услышишь, и удивительно, что я, лёжа в постели, различаю стрекотание. Откуда он мог попасть в мою комнату?
Неожиданно мне вспомнилось детство. Мы жили тогда в доме на Варигэсуй, мне было лет шесть-семь, — когда я лежал в постели рядом с нянькой, обнимающей меня, около веранды часто слышалось стрекотание сверчка. Он прятался где-нибудь среди камней в саду или под верандой, и я ясно мог слышать эти звуки. Таких сверчков никогда не бывало много, не то что других: так называемых японских сверчков или мраморных сверчков. У нас он был только один, но трещал так, что звуки проникали глубоко в ухо. Заслышав его, нянька говорила:
— Ну, Току-тян, пришла осень. Вот и сверчок застрекотал. — Она начинала подражать доносившимся звукам. — Как услышишь его, знай, что наступила осень.
При этих словах мне казалось, что холодный ветер проникает в узкие рукава моего белого ночного платья. Я не любил накрахмаленной одежды и, надевая ночное платье, всегда чувствовал приторный, отдающий гнилью, запах крахмала. В моих отдалённых туманных воспоминаниях слились этот запах, стрекотание сверчка и ощущение от прикосновения к моей коже кимоно осенним утром. И даже сейчас, в мои семьдесят семь лет, как только на рассвете послышалось стрекотание сверчка, в моей памяти воскресли и запах крахмала, и присказки няньки, и моё ночное платье. В полусне мне показалось, что я всё ещё в доме на Варигэсуй и лежу рядом с обнимающей меня нянькой.
Но постепенно сознание прояснилось, и я убедился, что сверчок слышится в этой комнате, где рядом стоят две кровати: моя и сиделки Сасаки. Тем не менее это было странно. В комнату сверчок попасть не может, окна и дверь закрыты, и я не могу услышать его извне. Но в то же время я слышал его ясно.
«Вот-те на!» — думал я, прислушиваясь. Наконец-то я понял, в чём дело. Ещё и ещё я проверял себя, без сомнения, так оно и было: моё дыхание. Сегодня утром воздух сух, горло у меня пересохло, я немного простужен — и при каждом вдохе и выдохе возникает этот звук. Я не мог определённо сказать, возникает ли он в горле или в носу, но когда где-то там проходит воздух, появляется стрекотание. Я не мог представить, что звук исходит из моего горла, и решил, что он идёт откуда-то извне. Я не мог вообразить, что сам произвожу такой приятный треск, и мне казалось, что это сверчок. Я прислушивался к дыханию: каждый раз при вдохе и выдохе слышалось стрекотание. Заинтересованный, я беспрерывно пробовал дышать то так, то эдак. Если я дышал глубоко, звук усиливался, и казалось, что слышится флейта.
— Уже проснулись? — Сасаки приподнялась на своей кровати.
— Можете ли вы определить, что это за звуки? — спросил я, производя тот же свист.
— Это ваше дыхание.
— Вы это знаете?
— Конечно, знаю. Я его слышу каждое утро.
— Каждое утро вы слышите этот звук?
— Вы сами производите этот звук. Неужели вы не догадывались?
— Нет. Только сегодня утром я заметил, что что-то звучит. В полусне я подумал, что это сверчок.
— Совсем не сверчок, это ваше горло. Не только у вас, у всех пожилых людей горло пересыхает, и при дыхании возникает звук, как будто играют на флейте. У пожилых это часто бывает.
— Вы и раньше знали?
— Уже некоторое время, как я каждое утро его слышу. Звучит довольно приятно.
— Тогда я дам послушать жене.
— Она прекрасно знает.
— Если Сацуко услышит, она будет смеяться.
— Может ли быть, чтобы молодая госпожа этого не слышала!
5 сентября.
Сегодня на рассвете видел во сне свою мать. Это меня удивило: я не был почтительным сыном. Возможно, это связано с тем, что вчера на заре мне послышалось стрекотание сверчка и приснилась нянька. Я увидел мать очень красивой и молодой, какой я представляю её в самых ранних воспоминаниях. Не могу сказать, где она находилась, это было время нашего житья на Варигэсуй. Мать была в своём выходном платье: сером кимоно с мелким рисунком и чёрной крепдешиновой накидке. Я не понял, куда она собиралась идти и в какой комнате находилась. Наверное, это была гостиная, вытащив из-за пояса кисет и трубочку, мать закурила, потом вышла из ворот. Она шла в адзума-гэта[59] на босу ногу. Я ясно видел её причёску бабочкой, коралловые заколки, в которые было вставлено по драгоценному камню, черепаховый гребень с инкрустированной морской жемчужиной, а лица отчётливо не видел. Как все японцы прошлых эпох, моя мать была маленького роста, около пяти сяку[60]; возможно, поэтому я видел её волосы, а не лицо. Тем не менее я прекрасно знал, что это моя мать. К сожалению, она не смотрела на меня и ничего мне не произносила. Сам я не начинал разговора, зная, что, заговори я с ней, она обязательно будет меня ругать. У родственников в Ёкоами был дом, должно быть, мы направлялись туда. Сон длился всего лишь минуту, а потом всё померкло.
Проснувшись, я вспоминал образ, который видел во сне. Как-то раз, должно быть, это была середина эпохи Мэйдзи, год 27-й или 28-й (1894-й или 1895-й), в погожий день мать вышла из ворот нашего дома и на улице заметила меня, маленького мальчика. Впечатления от того дня, возможно, воскресли в моей памяти. Но странно, что только моя мать была молода, я же был стариком, как сейчас. Я был выше неё ростом и смотрел на неё сверху вниз. Тем не менее я ощущал себя маленьким ребёнком и думал: «Вот моя мама», поэтому я и предполагаю, что сновидение относится к 27–28 годам эпохи Мэйдзи, когда мы жили на Варигэсуй. Во сне всегда так бывает.
Мать знала, что у меня родился сын Дзёкити. Она умерла в 1928 году, когда ему было пять лет, и не могла знать, что её внук женится на Сацуко. Моя жена была страшно против этого брака; а если бы моя мать дожила до этого, представляю, как бы она возражала! Без сомнения, она бы этого не допустила. Никому и в голову не пришло бы, что можно жениться на бывшей танцовщице. Но если бы она узнала, что брак состоялся, что её сын подпал под чары своей невестки, что она разрешает ему petting, что в вознаграждение за это он покупает ей кошачий глаз в три миллиона иен, — если бы она всё это узнала, она бы лишилась чувств. А если бы был жив мой отец, он лишил бы наследства и меня, и Дзёкити. А что подумала бы мать о внешности и манерах Сацуко?
В молодости моя мать считалась красавицей. Она всё ещё была красива, когда мне было лет 15–16. Вспоминая её тогдашний облик и сравнивая его с внешностью Сацуко, я поражаюсь, насколько они отличаются друг от друга. Сацуко тоже считается красавицей. Именно поэтому Дзёкити на ней и женился. Но какое различие между двумя типами красавиц, между 27 годом Мэйдзи (1894) и 35 годом Сева (1950)! У моей матери были красивые ноги, но совсем не такие, как у Сацуко. Не скажешь, что это ноги человеческих существ одной и той же расы, что и те и другие — ноги японок. Ножки матери были очаровательны и такие маленькие, что могли уместиться у меня на ладони. Мать моя ходила в гэта, носками внутрь. (Во сне мать была в чёрной верхней накидке, но в гэта без носков. Не хотела ли она нарочно показать мне голые ноги?) В эпоху Мэйдзи не только у красавиц, но у всех женщин была такая гусиная походка. У Сацуко ноги изящные, узкие и длинные, как рыбки. Сацуко гордится тем, что плоская японская обувь ей не годится. А ноги моей матери были широкие. Когда я смотрю на ноги Бодхисаттвы милосердия, держащего верёвку[61], в храме Сангацудо в Нара, я всегда вспоминаю ноги матери. Ростом же в то время все были такими, как мать, женщины ростом около пяти сяку не были редкостью. Я сам родился в эпоху Мэйдзи, мой рост 5 сяку 2 сун[62]. Сацуко выше меня на 1 сун и 3 бун[63], её рост 161 см 5 мм.
И в употреблении косметики прежние женщины очень сильно отличались от нынешних большей простотой. Замужние, то есть старше 18–19 лет, брили брови и чернили зубы. С середины эпохи Мэйдзи этот обычай вышел из употребления, но во времена моего детства был ещё распространён. Я до сих пор помню специфический запах краски для зубов. Если бы Сацуко увидела мою мать в таком виде, что бы она подумала? Она сама волосы завивает, в ушах носит серьги, губы красит коралловой, жемчужной, коричневой помадой, брови подводит, веки подкрашивает, наклеивает фальшивые ресницы и красит их тушью. Днём глаза подводит тёмно-коричневым карандашом, а вечером краской и тушью. А что делает с ногтями — не хватит никакого времени, чтобы это описать. Неужели за какие-нибудь шестьдесят лет японская женщина так изменилась? Я сам удивляюсь, как долго я живу и сколько видел всяких перемен! Что бы подумала моя мать, если бы узнала, что её сын, её Токусукэ, которого она родила в 16 году эпохи Мэйдзи (1883 г.), ещё живёт в этом мире, бесстыдно влюбился в такую женщину, как Сацуко, жену её внука, что он получает наслаждение от её издевательств над собой, что он ради неё готов пожертвовать и своей женой и своими детьми? Разве она могла представить, что через 33 года после её смерти её сын станет безумным, а в наш дом войдёт такая невестка? Я и сам не мог этого предположить.
12 сентября.
…Приблизительно в четыре часа ко мне вошли моя жена и Кугако. Кугако долго не показывалась в моей комнате. Получив отказ 19 июля, она перестала со мной общаться. Даже когда она с моей женой и Кэйсукэ уезжала в Каруидзава, она сюда не пришла, а встретилась с ними на вокзале Уэно. Когда недавно я был в Каруидзава, она всячески меня избегала. Понятно, что сегодня она и жена пришли не просто так.
— Благодарю вас, что вы так долго заботились о детях.
— Зачем пришла? — решительно перебил я её.
— Особой причины нет…
— Вот как? Дети выглядели прекрасно.
— Спасибо, благодаря вам они в этом году прекрасно отдохнули.
— Наверное, потому, что я их редко вижу, я бы их теперь и не узнал, так они выросли.
В этот момент вмешалась моя жена:
— Кстати, Кугако узнала что-то очень интересное и хочет тебе об этом рассказать.
— Что же это такое?
Опять явились сказать что-то неприятное.
— Ты помнишь господина Ютани?
— Это тот Ютани, который уехал в Бразилию?
— Да. А сына его ты знаешь? Когда Дзёкити женился, он с женой пришёл к нам вместо отца.
— Разве всё упомнишь? В чём же дело?
— Я тоже его не помню, но он связан по работе с Хокота, и в последнее время они сблизились. Иногда они встречаются.
— Ну и что же из этого?
— А в том, что господин Ютани был недалеко от Хокота и с женой зашёл к ним. Его жена страшная болтушка, и Кугако думает: не нарочно ли она пришла, чтобы это сообщить?
— Что сообщить?
— Пусть дальше расскажет Кугако.
До тех пор они стояли передо мной, расположившимся в кресле, и тут тяжело плюхнулись на диван. Кугако старше Сацуко всего на четыре года, а выглядит как пожилая женщина. Она утверждает, что жена Ютани болтушка, но сама ей не уступает.
— Недавно, на следующий день после того, как мы приехали из Каруидзава, вечером 25 числа прошлого месяца, в Коракуэн был матч на звание чемпиона Азии по боксу в легчайшем весе. Вы это знаете?
— Откуда мне это знать?
— Значит, был матч. В тот вечер Сакамото Харуо, чемпион Японии в легчайшем весе, впервые завоевал это звание, нокаутировав таиландского чемпиона Сиринои Лукпракриса.
Кугако произнесла имя Сиринои Лукпракриса без малейшей запинки, в то время как я ни запомнить, ни произнести его без остановки не мог, — я бы обязательно укусил себе язык. Вот что значит поднатореть в болтовне!
— Господин Ютани с женой поехали туда немного пораньше, чтобы увидеть всю программу. Вначале справа от госпожи Ютани оставались свободными два места. Перед началом матча на звание чемпиона шикарная дама, держа в одной руке бежевую сумочку, а другой размахивая ключами от машины, вошла в зал и села на одно из них. Кто, вы думаете, это был?
Я молчал.
— Госпожа Ютани сказала: «Я видела госпожу Сацуко только в день свадьбы, с тех пор прошло семь-восемь лет. Ничего странного, что она меня не помнит и в такой толпе на меня не обратила внимания, но я-то её не забыла: такую красавицу, увидев один раз, забыть невозможно. С тех пор она ещё больше похорошела. Я подумала, что молчать неприлично, и уже хотела обратиться к ней: мол, не супруга ли вы молодого господина Уцуги? — но в это время появился какой-то мужчина, мне неизвестный, и сел рядом с госпожой Сацуко. Было видно, что они хорошо знакомы, так как они начали дружелюбно разговаривать». Я молчал.
— Это бы ещё ничего. То есть, ничего хорошего в этом нет… Но пусть скажет мама.
— Что же тут хорошего? — вставила моя жена.
— Мама, скажите вы, я не решаюсь… Но что прежде всего бросилось в глаза госпожи Ютани, было кольцо с кошачьим глазом, который блистал на пальце Сацуко. Она говорит: «Госпожа Сацуко сидела справа от меня, я хорошо могла разглядеть камень у неё на левой руке». Она говорит, этот кошачий глаз — большой красивый камень, такой редко увидишь, в нём не меньше пятнадцати каратов. Мама говорит, что до сих пор не видела у Сацуко такого кольца, я тоже ничего не знаю. Когда она смогла купить такую драгоценность?
Я молчал.
— Я помню, как разразился скандал, когда премьер-министр Киси[64] купил где-то во французском Индокитае кошачий глаз. В газетах писали, что такой камень стоит два миллиона. Во французском Индокитае драгоценные камни дешёвые, это там он стоит два миллиона, а если такой камень привезти в Японию, цена его повышается больше чем в два раза. Сколько же стоит камень Сацуко!
— Кто мог купить ей такую вещь? — вставила опять моя жена.
— Как бы там ни было, этот камень очень красив и необыкновенно блестит. Госпожа Ютани смотрела на него в совершенном изумлении.
Наверное, Сацуко это заметила. Она достала из сумочки кружевные перчатки и надела их. Но она не только ничего не спрятала, а сквозь кружева камень наоборот засверкал ещё больше. Перчатки были из французских кружев ручной работы, чёрного цвета. Через чёрные кружева блеск камня ещё сильнее привлекает внимание, а может быть, Сацуко нарочно надела перчатки, чтобы камень больше выиграл. Я была удивлена, что госпожа Ютани могла всё заметить вплоть до мелочей, а она ответила, что Сацуко сидела справа от неё, кольцо было на левой руке, она могла сколько угодно рассматривать камень. Она была так заворожена блеском кошачьего глаза сквозь чёрные кружева, что на сам матч и не смотрела.
Глава четвёртая
13 сентября.
Продолжаю вчерашнее. Жена подступила с ножом к горлу:
— Сацуко не могла сама приобрести такую вещь.
Я молчал.
— Когда ты купил Сацуко этот камень?
— Разве не всё равно?
— Нет, не всё равно. Во-первых, откуда у тебя такие деньги? Ведь ты сказал Кугако, что много приходится тратиться и ты не можешь дать взаймы.
Я молчал.
— Это и есть эти траты?
— Да.
Жена и Кугако были настолько потрясены, что не могли вымолвить ни слова.
— Это значит, что для Сацуко у меня есть деньги, а для Кугако нет.
Я ошеломил их, но в тот же миг придумал удачное оправдание.
— Разве ты не была против, когда я хотел снести старый флигель и построить новое здание?
— Конечно, была против. А кто бы согласился пойти на такую непочтительность к памяти родителей?
— Мои родители радуются в могиле, какая у них почтительная невестка. А я таким образом сэкономил деньги, предназначаемые для постройки дома.
— Если и сэкономил, для чего было покупать Сацуко такую дорогую вещь?
— А что в этом плохого? Я выкинул деньги не на постороннего человека, я купил драгоценность для любимой невестки. Это доброе дело. Если бы мои покойные родители узнали об этом, они бы только похвалили меня.
— Но ты потратил не все деньги, отложенные на перестройку дома? Наверное, кое-что осталось?
— Конечно, осталось. На камень я потратил лишь часть из них.
— А что ты хочешь делать с остальными?
— Это моё дело. Пожалуйста, не вмешивайся в мои планы.
— И всё-таки, на что ты хочешь их употребить? Просто я хочу знать.
— Да что-нибудь сделаю. Она говорит, что хорошо бы в саду построить бассейн, поэтому сначала сделаю бассейн.
Жена моя ничего не сказала и с удивлением уставилась на меня.
— Разве можно так быстро построить бассейн? — встряла Кугако. — Ведь уже осень.
— Требуется время, чтобы высох бетон. Если начать сейчас, через четыре месяца кончат. Сацуко всё узнала.
— Значит, бассейн будет готов зимой.
— Поэтому спешить не стоит. Можно потихоньку начать, и к марту-апрелю следующего года работы будут кончены. Но мне хотелось бы, чтобы кончили пораньше, — я хочу видеть, как она будет довольна.
После этого и Кугако не произнесла ни слова.
— Сацуко не согласна на маленький бассейн, какой обычно бывает в частных домах. Она хочет по меньшей мере 20 метров в длину и 15–16 в ширину. В противном случае невозможно исполнить её коронный номер из балета на воде. Она обещала показать мне его в сольном исполнении. Для этого я и собираюсь строить бассейн.
— Но это будет совсем неплохо. Когда в доме будет бассейн, Кэйсукэ будет очень доволен, — сказала Кугако.
— Его мать совсем не думает о нём, — вмешалась жена. — Даже чтобы помочь Кэйсукэ с уроками, она наняла какого-то студента. И дед его такой же. Бедный ребёнок!
— Но когда бассейн будет готов, Кэйсукэ сможет плавать. И мои дети будут приезжать из Цудзито, если вы позволите.
— Конечно, конечно. Пусть приезжают, когда захотят.
Такого удара я не ждал. Не могу же я запретить Кэйсукэ и чертенятам из Цудзито плескаться в бассейне! Однако до конца июля они ходят в школу, а в начале августа убираются в Каруидзава. А вот что мне делать с Харухиса?
Я ждал вопроса, во сколько обойдётся эта затея, но жена и Кугако были в таком замешательстве, что забыли о таком важном обстоятельстве. Я облегчённо вздохнул. Но дело было не только в том. Жена и Кугако, без сомнения, собирались, ведя непрерывную атаку, сначала выудить у меня признание насчёт кошачьего глаза и, поставив меня в тупик, перейти к отношениям между Сацуко и Харухиса. Но этот вопрос был слишком серьёзным, и они так и не решились затронуть его, боясь по оплошности не ляпнуть чего-нибудь лишнего. Я же стал отвечать им в несвойственном мне властном тоне, и они не смогли перейти к этому пункту. Но рано или поздно они к нему вернутся…
Сегодня, 13 сентября, — благоприятный день, и вечером Дзёкити и Сацуко приглашены на свадьбу. В последнее время они редко ходят куда-нибудь вдвоём. Дзёкити надел смокинг, Сацуко — парадное кимоно. Хотя уже сентябрь, всё ещё очень жарко, и она могла бы надеть европейское платье, но почему-то решила идти в японском. Это тоже в последнее время редкость.
На подоле белого крепдешинового кимоно изображены ветви деревьев разных оттенков: от чёрного до серого, вокруг них голубые тени. Сквозь ткань просвечивает синяя подкладка.
— Ну как? Пришла вам показать.
— Стань, пожалуйста, боком. Повернись спиной.
Двусторонний пояс из шёлкового газа, по синему фону с редкими серебряными нитями выткан жёлтым и золотом узор наподобие рисунка на фарфоре в стиле Кэндзан[65]. Бант несколько меньше, и концы его свисают ниже, чем носят обычно. Лента, поддерживающая бант, из шёлкового газа двух цветов: белого и бледно-розового, а шнурок поверх пояса — из золотых и серебряных нитей. На пальце кольцо с тёмно-зелёной яшмой. В правой руке маленькая сумочка, украшенная бисером.
— Ты редко надеваешь кимоно, а тебе идёт. Очень хорошо, что ты не надела ни серёг, ни ожерелья.
— Вы тонкий ценитель.
Вслед за Сацуко появилась О-Сидзу с коробкой с сандалиями, которые она поставила перед госпожой. Сацуко пришла ко мне в шлёпанцах, чтобы нарочно передо мной надеть сандалии из серебряной парчи на тройной подошве, с розовой внутренней стороной ремешка. Они были новёхонькие, и Сацуко никак не удавалось просунуть ремешок между пальцами. О-Сидзу на корточках, обливаясь потом, возилась с ним. Наконец, сандалии были надеты, и Сацуко прошлась передо мной. Она гордится тем, что в носках щиколотки у неё почти незаметны. Вполне возможно, она явилась в кимоно, чтобы мне это показать…
16 сентября.
До сих пор стоит страшная жара, необычная для середины сентября. Может быть, поэтому ноги всё время тяжёлые и отекают от голени до ступни, особенно подъём. Если нажать около пальцев, получаются страшные глубокие впадины, которые долго не проходят. Четвёртый и пятый пальцы на левой ноге совершенно парализованы и так распухли, что снизу похожи на виноградины. Тяжесть в икрах и лодыжках ужасная, но особенно в подошвах. У меня такое чувство, как будто к ним приклеили какие-то железные пластины, и не только на левой ноге, а на обеих. Ходить трудно, опухшие икры касаются друг друга. Когда, спускаясь с веранды, я собираюсь надеть гэта, мне это не удаётся, я всё время шатаюсь, ставлю ногу на камень в месте для снимания обуви, а иногда ступаю прямо на землю, и подошва ноги пачкается. Такое бывало и раньше, а сейчас сплошь и рядом. Сасаки беспокоится, каждый раз укладывает меня на спину и, сгибая колени, проверяет, нет ли признаков бери-бери. Кажется, нет.
— Не попросить ли доктора Сугита сделать детальное обследование? — говорит она. — Уже давно не снимали электрокардиограмму, надо снять. Меня очень беспокоит, что йоги отекают.
Сегодня утром произошло ещё одно происшествие. Я гулял по саду с Сасаки, которая держала меня за руку, и шотландская овчарка, сидящая обычно в своей конуре, по несчастной случайности неожиданно бросилась на меня. Ей хотелось всего лишь поиграть, но когда она ни с того ни с сего налетела на меня, я испугался. Мне показалось, что это дикий зверь. Я не смог устоять и упал навзничь на клумбу. Особенно не ушибся, но когда ударился затылком о землю, в голове зазвенело. Встать сразу я не мог, только через несколько минут подобрал палку и, опираясь на неё, кое-как поднялся. Повалив меня, собака бросилась к Сасаки. Услышав крики сиделки, в сад выбежала Сацуко в неглиже и, грозно посмотрев на собаку, крикнула: «Лесли, ко мне!» Овчарка немедленно успокоилась и, виляя хвостом, пошла за ней в конуру.
— Не ушиблись ли вы? — спрашивала Сасаки, отряхивая на мне кимоно.
— Не ушибся, но когда такая большая собака бросается на старика, который и так нетвёрдо держится на ногах…
— Хорошо, что вы упали на клумбу.
Вообще-то я и Дзёкити любим собак, и раньше они у нас были, но, как правило, маленькие: эрдельтерьеры, таксы или шпицы, — а после женитьбы Дзёкити завёл большую. Приблизительно через полгода после свадьбы он сказал: «А не завести ли нам борзую?» — и у нас появилась великолепная собака. Пригласили дрессировщика, и он её дрессировал, не пропуская ни одного дня. Но с ней было много хлопот: кормить, купать, чистить щёткой, — моя жена и прислуга непрестанно роптали, но Дзёкити и дела было мало (в своё время я писал об этом в дневнике). Потом мне стало ясно, что собаку хотел не Дзёкити, а Сацуко, и она выклянчила её у мужа, но поначалу я этого не подозревал. Через два года борзая заболела чумкой и околела от воспаления мозга. После этого Сацуко сама заявила, что вместо неё хочет купить другую борзую, и обратилась к собачнику. Она дала новой собаке кличку Купер и очень её любила. Выезжая на машине с Номура, она обязательно брала её с собой, гуляла с ней по улицам, и прислуга судачила, что молодая хозяйка любит Купера больше, чем Кэйсукэ. Но, по-видимому, ей всучили старую собаку, потому что очень скоро Купер заболел филариозом, произошёл застой лимфы, и он околел. Нынешняя овчарка — её третья собака. Согласно её родословной, отец её родился в Лондоне и звали его Лесли. Решили и щенка назвать так. Об этом я тоже должен был в своё время подробно писать в дневнике. Сацуко любит Лесли не меньше, чем Купера, но, кажется, Кугако всё время подстрекает мою жену, и вот уже два-три года только и разговоров, что лучше бы не держать в доме такую большую собаку.
Причина выдвигается следующая. Два-три года назад у меня ноги не болели, поэтому, если даже большая собака и бросилась бы на меня, ничего страшного бы не произошло, а сейчас моё здоровье пошатнулось. Какое там собака, меня и кошка собьёт с ног. В саду не одни только клумбы, тропинка там отлого спускается, там есть и лестница, и камни на дорожках. Если бы собака бросилась на меня где-нибудь там, я мог бы сильно расшибиться. Чем бы всё это кончилось? У одного старика (имярек) под ногами крутилась немецкая овчарка, он сильно расшибся, его отвезли в больницу, и до сих пор — вот уже три месяца — он в гипсе.
— Скажи сам, что собаку надо убрать. Я намекаю, но Сацуко не обращает никакого внимания, — жалуется жена.
— Она так её любит. Как же я скажу, чтобы она избавилась от неё?
— Да, но здоровье дороже.
— Если даже я скажу, куда деть такую большую собаку?
— Наверняка можно найти любителя.
— Была бы ещё маленькая, а такую большую трудно пристроить. К тому же мне самому Лесли нравится.
— Ты боишься рассердить Сацуко. Было бы лучше, если бы ты расшибся.
— Скажи ей сама. Если она согласится, я возражать не буду.
Жена моя сказать Сацуко ничего не может. Молодая хозяйка день ото дня становится влиятельнее, чем моя жена; из-за собаки может разразиться скандал, и жена опасается сделать промах, который привёл бы к войне.
Если говорить правду, я сам недолюбливаю Лесли. Я отдаю себе отчёт, что подольщаюсь к Сацуко. Когда я вижу, что она с Лесли куда-то едет, у меня портится настроение. Когда она уходит с Дзёкити — это естественно; с Харухиса — ничего не поделаешь; но к Лесли я даже ревновать не могу, и это меня бесит. При всём том у собаки аристократический вид, в ней чувствуется порода. Она более красива, чем черномазый Харухиса. В машине Сацуко сажает её рядом с собой, тесно прижимается к ней. То вцепится зубами в её шею, то трётся щекой о её морду. Даже прохожим на улице видеть такое неприятно.
— На улице она ничего подобного не делает, это только перед вами, — сказал мне Номура.
Наверное, она хочет поддразнить меня. Однажды я хотел подольститься к Сацуко и в её присутствии скрепя сердце стал ласково говорить с Лесли и бросил ему за загородку конфеты. Тут Сацуко начала серьёзно выговаривать:
— Что ты делаешь! Пожалуйста, сам ничего ему не давай. Посмотри, он выдрессирован так, что не ест того, что ты ему дал!
Она вошла к Лесли и нарочно начала его ласкать, тереться щекой, только что не целовать. Вспоминаю, как она с ухмылкой смотрела на меня, как будто говоря: «Или ты ревнуешь?»
Если бы я расшибся, это не было бы слишком дорогой ценой за наслаждение, которое она мне доставляет, и если бы я умер, я был бы счастлив. Но пусть растопчет меня она, а не её собака!
В два часа пришёл господин Сугита. Лучше бы он пришёл в другой день: Сасаки сразу же рассказала ему о случае с собакой.
— Столько натерпелись!
— Это всё пустяки.
— Во всяком случае давайте посмотрим.
Уложив меня в постель, он внимательно осмотрел руки и ноги. Плечи, локти и колени болят от ревматизма, они болели и раньше, и Лесли тут ни при чём. К счастью, моё падение не причинило никакого вреда. Несколько раз доктор простукал мне грудь, осмотрел спину, заставил глубоко дышать, при помощи портативного аппарата снял электрокардиограмму.
— Особенных причин для беспокойства нет, я пришлю попозже результат, — сказал он на прощание.
Вечером получил результат: «Как показывает электрокардиограмма, особенных отклонений от нормы не наблюдается. Есть кое-какие аномалии, связанные с возрастом. По сравнению с прошлой кардиограммой ухудшений нет. Надо было бы сделать анализ почек».
24 сентября.
Сасаки просила разрешения сегодня вечером поехать повидаться с ребёнком. Она уезжала в прошлом месяце, и отказать нельзя. Сказала, что вернётся завтра в первой половине дня, но, к сожалению, завтра воскресенье. Чтобы видеться с ребёнком, суббота и воскресенье для Сасаки наиболее удобны, но мне надо было спросить, что думает Сацуко. Ещё в июле моя жена отказалась замещать Сасаки.
— Ладно. Госпоже Сасаки это доставит удовольствие, окажи ей эту милость.
— А ты согласишься побыть со мной?
— Почему ты это спрашиваешь?
— Завтра ведь воскресенье.
— Знаю. Ну и что?
— Тебе, возможно, всё равно, а Дзёкити в последнее время только и знает, что путешествует…
— Ну и что?
— Он так редко бывает дома в субботу и воскресенье.
— И что дальше?
— Ему захочется понежиться утром в постели с жёнушкой.
— Беспутному отцу захотелось позаботиться о сыне?
— Чтобы искупить свои грехи…
— Ты слишком предупредителен. Для Дзёкити это была бы медвежья услуга.
— Как это?
— Не надо беспокоиться. Сегодня ночью я заменю госпожу Сасаки. Ты просыпаешься рано, и как только ты встанешь, я смогу пойти к нему.
— Да, но когда ты будешь входить, ты его разбудишь.
— А может быть, он всю ночь не будет спать и ждать меня?
— Твоя взяла.
Вечером в половине десятого принял ванну и в десять лёг. Как и в прошлый раз, О-Сидзу по её приказанию принесла плетёный стул.
— Ты опять будешь так спать?
— Об этом не беспокойся, замолчи и спи.
— Лёжа на этом стуле, ты простудишься.
— Чтобы не простудиться, я велела принести несколько шерстяных одеял. О-Сидзу знает, что делать, на неё можно положиться.
— Если ты простудишься, я буду виноват перед Дзёкити, и не только перед Дзёкити.
— Отстань. По твоему лицу видно, что тебе нужно принять адалин.
— Две таблетки не действуют.
— Неправда. В прошлый раз сразу подействовали. Не успел проглотить, как спал мёртвым сном. Рот широко раскрыт, слюни текут.
— Смотреть, наверное, было противно.
— Сам можешь представить. А почему, когда я ночую здесь, ты их не снимаешь?
— Мне лучше их снимать, но при этом лицо у меня становится старым и мерзким. Когда со мной жена или Сасаки, мне это всё равно.
— Ты думаешь, что я тебя не видела в таком виде?
— А разве видела?
— В прошлом году у тебя были спазмы, и полдня ты находился в состоянии комы…
— И ты меня в то время видела?
— Совершенно всё равно, надеваешь ли ты челюсти или нет. Скрывать это — смешно.
— Да я и не думаю ничего скрывать, только я не хочу, чтобы другим было неприятно.
— Неужели тебе кажется, что с надетыми челюстями ты можешь скрыть свой вид?
— Ладно-ладно, сниму. Смотри теперь, какое у меня лицо.
Я встал с кровати и подошёл к Сацуко. Стоя к ней лицом, я снял обе челюсти и положил их в коробку на ночном столике. Потом нарочно сильно сжал дёсны, так что лицо очень уменьшилось. Расплющенный нос навис над губами. Даже шимпанзе был бы красивее меня. Я несколько раз сжимал и разжимал дёсны; раскрыв рот, болтал жёлтым языком и решительно предстал в самом гротескном виде. Сацуко пристально на меня смотрела, потом вытащила из ящика ночного столика ручное зеркало и поднесла к моим глазам.
— Мне-то всё равно, какое у тебя лицо. А сам ты его хорошенько разглядывал? Если нет, посмотри. Вот как ты выглядишь. Как оно тебе кажется?
— Старое и мерзкое…
Я перевёл глаза со своего отраженья на Сацуко. Кто бы поверил, что мы оба относимся к одному виду живых существ? Чем уродливее казалось мне собственное лицо, тем великолепнее представлялась Сацуко. Я с сожалением подумал, что выгляжу недостаточно безобразным, тогда бы она была ослепительной красавицей.
— Ну спать, спать! Быстренько в постель!
— Принеси мне адалин, — сказал я, ложась.
— Сегодня ночью ты опять не сможешь заснуть.
— Твоё присутствие меня всегда возбуждает.
— Ты ещё чувствуешь какое-то возбуждение, поглядев на своё лицо?
— Посмотрев на себя, я перевёл глаза на тебя — и страшно возбудился. Понимаешь ли это состояние?
— Нет, не понимаю.
— Чем я безобразнее, тем ты красивее.
Она не слушала меня и пошла за адалином. Вернулась с американской сигаретой Kool.
— Открой рот пошире. К этому лекарству нельзя привыкать, поэтому сегодня только две таблетки.
— Не дашь ли из своего рта?
— Вспомни о своём лице.
Она взяла в руку таблетки и сунула мне их в рот.
— С каких пор ты стала курить?
— В последнее время покуриваю тихонько на втором этаже.
В её руке сверкнула зажигалка.
— Вообще-то мне курить не хочется, но это как принадлежность туалета. А сейчас хочу отбить неприятный привкус…
28 сентября.
…В дождливые дни руки и ноги страшно болят, и я накануне чувствую, что пойдёт дождь. Сегодня утром рука гораздо больше занемела, ноги тоже отекли больше, чем обычно, и стоять трудно. Мне казалось, что я вот-вот упаду, и я боялся свалиться с веранды. Рука онемела до самого плеча, — уж не парализует ли половину тела? Вечером, часов в шесть, рука стала ужасно мёрзнуть и потеряла чувствительность, как будто я погрузил её в ледяную воду. Собственно говоря, это не называется нечувствительностью: она мёрзла так, что я чувствовал боль. Но все, кто прикасался к моей руке, говорили, что она тёплая, как обычно. Только я один ощущал непереносимый холод. Раньше такое тоже случалось, но большею частью (хотя и не обязательно) холодной зимой. А сейчас середина сентября, и в такое время ничего подобного не бывало. Знаю по опыту, что в таких случаях надо намочить большое полотенце в горячей воде, замотать им всю руку, поверх закутать толстой шерстяной фланелью и ещё приложить две платиновых грелки. Минут через десять полотенце становится холодным, его надо опять намочить в кипятке, кастрюлю с которым надо держать около кровати. Так повторить пять-шесть раз. Чтобы вода не остывала, надо из чайника постоянно подливать в кастрюлю горячую. Сегодня тоже это делали несколько раз, и в конце концов я почувствовал небольшое облегчение.
Глава пятая
29 сентября.
Вчера вечером довольно долго сидел с рукой, обмотанной горячим полотенцем, боль немного стихла, и я смог заснуть. Но проснувшись на рассвете, я снова почувствовал боль. Дождь перестал, небо совершенно прояснилось. Если бы я был здоров, какую бодрость вдохнул бы в меня такой денёк бабьего лета! Ещё четыре-пять лет тому назад я наслаждался подобной свежестью — эта мысль привела меня в отчаяние, я готов был плакать от злости. Принял три таблетки долосина.
В десять часов измерили давление. 105 на 58. Сасаки меня убедила съесть два сухих печенья с сыром Kraft[66] и выпить чашку чая. Через двадцать минут опять измерили давление: оно поднялось — 158 на 92. Нехорошо, что в такой короткий промежуток давление так сильно колеблется.
— Не лучше бы вам не писать всё время? Боюсь, что от этого опять будет болеть рука, — сказала Сасаки, увидев, что я берусь за дневник.
Я ничего не давал ей читать, но так часто я вынужден обращаться к ней с просьбами, она не может не догадываться о нём. Возможно, скоро мне придётся просить её растереть тушь.
— Писание немного отвлекает меня от боли. Когда станет невмоготу, перестану. Сейчас мне лучше поработать, вы можете располагать собой.
В час дня я лёг спать и продремал около часу. Проснулся весь в поту.
— Вы простудитесь.
Снова войдя в комнату, Сасаки сменила на мне мокрое бельё. Лоб и шея были липкими от пота.
— Долосин — хорошее средство, но я от него страшно потею. Нельзя ли заменить его на что-нибудь другое?
В пять часов пришёл господин Сугита. Оттого ли, что я перестал принимать лекарство, рука нестерпимо разболелась.
— Господин сказал, что от долосина сильно потеет, — доложила Сасаки доктору.
— Как же нам быть? Как я вам говорил, рентгеновские снимки показывают, что ваша боль процентов на 20–30 центрального происхождения, а на 60–70 боль имеет невралгический характер, обусловленный остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Чтобы от неё избавиться, надо привести к декомпрессии нервов, — может помочь только гипсовый корсет или лежание на доске в течение трёх-четырёх месяцев. Но в вашем возрасте это трудно вытерпеть. Моментальную боль можно снимать лекарствами. Их много, и если долосин не подходит и нобулон не подходит, попробуем инъекции паротина. Надеюсь, они вам помогут. После укола я почувствовал некоторое облегчение…
1 октября.
Боль в руке не прекращается ни на минуту. Раньше особенно сильно болели мизинец и четвёртый палец, а другие пальцы меньше. А сейчас они болят все. Но не только ладонь, болит и запястье, болит от мизинца к головке локтевой кости и вся лучевая кость. Особенно больно, когда я пытаюсь вращать кулаком, что мне и не удаётся. Онемение в этой части руки очень сильное, и я не могу сказать, боль или онемение не позволяют мне повернуть кулак. Два укола паротина — вечером и ночью…
2 октября.
Боль не прекращается. Сасаки, посоветовавшись с доктором Сугита, сделала укол сальсоброканона…
4 октября.
Так как я отказался от ноблона, попробовали суппозиторий. Большого результата это не дало…
9 октября.
Все четыре дня рука сильно болела, и я не мог вести дневник. Я лежал в постели, за мной ухаживала только Сасаки. Сегодня немного получше, и я решил кое-что записать. За эти пять дней я принял много лекарств: пирубитал, иргапирин, кроме того паротин, суппозиторий иргапирина, дориден, броварин, ноктан. Я спрашивал у Сасаки все названия, но, возможно, мне давали и другие. Никак не запомнить с одного разу. Дориден, броварин, ноктан — снотворные, а не болеутоляющие. Обычно я сплю хорошо, но из-за боли в руке не мог сомкнуть глаз, поэтому принимал снотворное. Иногда ко мне заходили жена и Дзёкити.
Жена за это время впервые заглянула ко мне днём пятого числа, в разгар моих мучений.
— Сацуко хотела бы навестить тебя, но не знает, можно ли…
Я ничего не ответил.
— Нельзя? Я сказала, что, если ты увидишь её, ты немного забудешь о своих страданиях.
— Дура, — неожиданно заорал я.
Почему — сам не знаю. Я закричал, подумав, что мне было бы неприятно, если бы она увидела меня в таком жалком виде, но, честно говоря, я был бы не прочь, если бы она пришла.
— Ни Сацуко, ни Кугако, ни кто бы то ни был. Я не хочу, чтобы меня навещали.
— Знаю, знаю. Я на днях и Кугако сказала: «Рука болит сильно, но особых причин для беспокойства нет. Поэтому тебе лучше воздержаться от посещения». Она заплакала.
— С чего это она заплакала?
— Ицуко тоже хотела приехать, но я не разрешила. Но Сацуко может прийти? Почему ты невзлюбил её?
— Дура, дура, дура! Кто сказал, что я невзлюбил её? Совсем не невзлюбил, а наоборот, слишком сильно люблю и поэтому не хочу встречаться в таких условиях.
— А-а, вот в чём дело. Я этого не поняла. Но ты не выходи из себя, это очень вредно для здоровья, — сказала жена, успокаивая меня, как ребёнка, и поспешно ушла.
Она неожиданно задела моё больное место, и я рассердился, чтобы скрыть смущение. После её ухода, спокойно об этом подумав, я сказал себе, что лучше было бы не выходить из себя, ещё неизвестно, как воспримет это Сацуко, когда жена ей расскажет. Но Сацуко, видящая меня насквозь, вряд ли обидится… «Конечно, лучше было бы её увидеть. Надо в эти два-три дня найти удобный предлог и позвать её», — внезапно подумал я сегодня утром. Рука сегодня ночью непременно будет болеть. Уже сейчас я надеюсь, что она будет болеть. Когда боль станет нестерпимой, я позову Сацуко.
— Сацуко, Сацуко, больно, больно, помоги! — завоплю я, обливаясь слезами, как ребёнок. Сацуко в испуге вбежит ко мне. Она, конечно, засомневается: «Неужели этот старикашка плачет по-настоящему? Возможно, он что-то замыслил», — но она сделает вид, что страшно напугана. Я опять заору:
— Мне нужна только Сацуко! Никого больше! — и выгоню Сасаки. Наконец, мы вдвоём. С чего начать?
— Больно, помоги мне!
— Сейчас, сейчас. Скажи, что я должна делать. Я всё сделаю.
Если она так скажет, всё пойдёт как по маслу. Но она не будет так неосмотрительна. Как же её уговорить?
— Если бы ты разрешила себя поцеловать… я забыл бы о боли. Нет, не в ногу! И не necking! Я жажду настоящего поцелуя!
Я раскапризничаюсь, начну плакать, орать. Не будет ли она вынуждена уступить? Но почему не попытаться выполнить это в ближайшие два-три дня? К чему ждать, когда боль станет нестерпимой? Пусть рука и не болит, можно сделать вид. Надо только побриться. Я не брился четыре-пять дней, лицо заросло щетиной. А может быть, щетина только усугубит впечатление, что я болен? Но целоваться при такой косматой щетине будет неприятно. Челюсти надевать не буду. Но так, чтобы никто не заметил, вычищу рот… Пока то да это, рука опять заболела. Больше писать не могу… Надо оставить кисть и позвать Сасаки…
10 октября.
Укол 0,5 см3 иргапина. Закружилась голова, чего давно не было. Потолок вращается, вместо одного в глазах два или три столба. Такое состояние продолжалось минут десять, потом прошло. В затылке страшная тяжесть. Принял треть таблетки люминала 0,1 и заснул…
11 октября.
Рука болит так же, как вчера. Сегодня поставили суппозиторий ноблона…
12 октября.
Принял три таблетки долосина. Как всегда, после этого обливаюсь потом…
13 октября.
Сегодня утром почувствовал себя немного лучше. Спешу записать, что произошло вчера вечером. В восемь часов ко мне заглянул Дзёкити. В последнее время он старается возвращаться домой пораньше.
— Ну как? Немного получше?
— Какое там получше! С каждым днём всё хуже и хуже.
— Но вы побрились. Разве вам не лучше?
У меня рука так болит, что трудно держать бритву, но, превозмогая боль, я утром побрился.
— Бриться мне нелегко, но, когда большая щетина, я выгляжу совсем больным.
— Не лучше было бы попросить Сацуко побрить вас?
С какой целью он это сказал? Обратив внимание, что я выбрит, не стал ли он что-то подозревать? Он не любит, чтобы к Сацуко относились без должного почтения (это, естественно, происходит из его комплекса, что его жена — бывшая танцовщица), и в результате молодая госпожа совсем задрала нос. В этом есть и моя вина, но Дзёкити с самого начала всячески подчёркивал её превосходство. Как они там наедине — не знаю, но в присутствии посторонних он умышленно ведёт себя так. Решил ли он действительно просить свою дражайшую супругу побрить меня?
— Я не разрешаю женщинам касаться своего лица, — сказал я умышленно, но с удовольствием представил, как, сидя на стуле, закину назад голову и смогу видеть розовую внутренность её ноздрей.
— Сацуко прекрасно орудует электробритвой. Когда я болен, я всегда прошу её побрить меня.
— Ты просишь её?
— Конечно, что же в этом странного?
— Я не думал, что она легко соглашается на твои просьбы.
— Не только побрить, вы можете попросить Сацуко о чём угодно.
— Это ты мне говоришь, а ей ты сможешь приказать? Сделай, мол, всё, что папа просит.
— Конечно. Непременно скажу.
Не знаю, что и как он ей сказал, но вечером в одиннадцатом часу Сацуко неожиданно вошла ко мне.
— Вы сказали, что не хотите меня видеть, а Дзёкити велел мне прийти к вам.
— А что делает он сам?
— Опять куда-то ушёл, сказал, что хочет чего-нибудь выпить.
— Я бы хотел, чтобы он пришёл с тобой и на моих глазах дал тебе приказание.
— Никаких приказаний он мне давать не может. Он скрылся, потому что чувствовал себя не в своей тарелке… Я сказала, что он будет только мешать мне, и велела ему куда-нибудь уйти.
— Да, но не один он мешал бы нам.
Наконец-то до Сасаки дошло.
— Ухожу-ухожу… — сказала она.
В тот момент, как по заказу, боль в руке усилилась — рука сделалась как деревянная от локтевой и лучевой костей до кончиков пальцев, мне казалось, что в ладонь и тыльную часть вонзилось множество иголок, забегали мурашки, но ощущение было сильнее и болезненнее. Рука похолодела, как будто я сунул её в рассол. Похолодела и болела. От холода она совершенно потеряла чувствительность, но боль не прекращалась. Кто не испытал ничего подобного, тот понять меня не может, и даже врач не понимает, сколько ему ни объясняй.
— Саттян! Саттян! — завопил я невольно.
Таким голосом можно кричать только тогда, когда что-то болит. Если притворяешься, так естественно не завопишь. Я никогда не звал её «Саттян», это вышло невольно. Мой крик доставил мне неимоверное блаженство. Я наслаждался, испытывая боль.
— Саттян, Саттян, больно! — кричал я, как тринадцати- или четырнадцатилетний пострел.
Я ничего не делал нарочно, всё вышло само собой.
— Саттян, Саттян!
Я горько плакал. Вид у меня был непристойный: из глаз текут слёзы, из носа сопли, изо рта слюни. «А-а, а-а!» Я не разыгрывал комедии: как только я назвал её Саттян, я превратился в избалованного, капризного мальчишку, плачущего, орущего, который, несмотря на все усилия, не может с собой справиться. Не сошёл ли я с ума? Разве не это и называется сумасшествием? «А-а, а-а!» Сошёл — так сошёл, разве нужно теперь о чём-то беспокоиться? Но, к несчастью, именно в тот момент, когда я так подумал, во мне неожиданно вспыхнуло чувство самоконтроля, и я испугался безумия. Далее начался спектакль, я нарочно стал подражать капризному мальчишке.
— А-а, Саттян, Саттян, а-а-а-а!
— Пожалуйста, прекрати.
Сацуко, некоторое время подозрительно молчавшая, пристально смотрела на меня. Глаза наши встретились, и она сразу догадалась об изменении моего состояния.
— Если ты будешь разыгрывать сумасшедшего, ты действительно сойдёшь с ума, — сказала она мне на ухо, с ледяной усмешкой, до удивления спокойно. — Если ты можешь разыгрывать такое представление, это доказывает, что ты уже начинаешь терять разум, — добавила она с иронией.
Меня как будто окатили водой.
— Ты хотел меня о чём-то попросить. Но пока ты плачешь, я пальцем не пошевельну.
— Я уже не плачу, — сказал я спокойно, придя в себя.
— Я упряма, а если мне устраивают такие спектакли, я становлюсь ещё упрямее.
Я не буду подробно писать, что происходило дальше. В конце концов на поцелуй она не согласилась. Не касаясь моих губ, на расстоянии одного сантиметра, она заставила меня разинуть рот и дала капнуть в него своей слюне.
— Вот и всё. Если этого мало, воля твоя.
— Больно, больно, мне действительно больно.
— Уже должно полегчать.
— Больно, больно.
— Опять начинаешь орать? Я ухожу, а ты реви в своё удовольствие.
— Можно мне иногда звать тебя Саттян?
— Глупости.
— Саттян.
— Врун, избалованный старик! Кого ты этим проведёшь?
Она ушла в ярости.
15 октября.
…Ночью принял 300 мг барбитола и 300 мг бромурала. Снотворное мне надо время от времени менять, иначе оно не действует. Люминал не даёт никакого результата.
17 октября.
Господин Сугита посоветовал пригласить профессора Кадзиура, заведующего терапевтической кафедрой в Токийском университете. Профессор пришёл сегодня. Мы знакомы, так как к нему обращались, когда у меня несколько лет назад было кровоизлияние в мозг. Господин Сугита подробно рассказал ему, что произошло за эти годы, и показал рентгеновские снимки шейных и поясничных позвонков. Профессор заявил, что это не его область и он не может утверждать определённо, но относительно боли в левой руке он склонен согласиться с диагнозом, поставленным в ортопедическом отделении больницы Тораномон; он даст более определённый ответ, когда покажет рентгеновские снимки коллегам в университете; не будучи специалистом, он, однако, считает, что боль безусловно происходит от изменений, которые влияют на нервы левой руки; поэтому, если я не могу лежать ни в гипсе, ни на специализированной кровати, ни на доске, а других средств привести к декомпрессии нервов нет, ничего не остаётся как снимать боль лекарствами, предписанными господином Сугита; наиболее эффективными являются инъекции паротина; что касается иргапирина, лучше им не пользоваться из-за нежелательных побочных последствий. После чрезвычайно подробного осмотра профессор ушёл, взяв с собой рентгеновские снимки.
19 октября.
Профессор позвонил господину Сугита и сказал, что мнение коллег из университета совершенно совпадает с диагнозом врачей из Тораномон.
В половине девятого вечера кто-то без стука осторожно открыл дверь.
— Кто там?
Ответа не последовало.
— Кто там? — спросил я ещё раз.
На цыпочках в ночной рубашке ко мне вошёл Кэйсукэ.
— Что случилось? Почему ты пришёл так поздно?
— Дедушка, рука болит?
— Детям о таких вещах думать не надо. Разве тебе не пора спать?
— Я уже лёг. Я пришёл к вам втайне от всех.
— Иди спать, иди, дети не должны…
Неожиданно почему-то голос прервался, в носу защипало, и неожиданно на глазах показались слёзы. Это были совершенно другие слёзы, чем те, которые я лил несколько дней назад перед матерью этого ребёнка. Тогда они лились ручьём, а сегодня они капали из глаз. Чтобы скрыть их, я поспешно надел очки, но стёкла мгновенно затуманились. Я ничего не мог скрыть от Кэйсукэ. Те слёзы были, возможно, признаком сумасшествия, а эти? Тогда они не были для меня неожиданностью, а сегодня я был захвачен врасплох. Как и Сацуко, я люблю представляться бессердечным и считаю, что мужчинам плакать не к лицу, но в действительности я плаксив и могу лить слёзы от любого пустяка. Я всячески стараюсь, чтобы об этом никто не знал. С молодых лет я разыгрывал злодея и изводил жену колкостями, но как только она начинала плакать, я малодушно сдавал позиции. Изо всех сил я старался скрыть свою слабость от жены. Кое-кто подумал бы, что я добр, но на самом деле, несмотря на плаксивость и сентиментальность, я человек жестокий и извращённый. Но когда неожиданно появился этот невинный ребёнок и ласково обратился ко мне, я не мог сдержаться, и сколько ни вытирал глаза, очки всё время были мокрыми.
— Дедушка, держитесь… потерпите, и скоро всё пройдёт.
Чтобы скрыть слёзы и заглушить рыдания, я натянул на голову одеяло. Больше всего меня злило, что всё это видела Сасаки.
— Скоро пройдёт. Скорее иди, поднимись к себе, ложись в постель, — начал было я, но на словах «поднимись к себе» голос сделался хриплым, и я сам не понял своих слов. Под одеялом, в совершенной темноте, слёзы катились ручьём, как будто прорвали плотину. «Паршивец, до каких пор ты будешь торчать здесь! Убирайся живо на свой этаж, дрянь эдакая!» — думал я, и слёзы ещё больше лились из глаз.
Приблизительно через полчаса, когда глаза высохли, я высунул голову из-под одеяла. Внук уже исчез.
— Такой милый мальчик, — сказала Сасаки. — Ребёнок, а уже беспокоится о дедушке!
— Уж больно он боек! Нахален, не люблю.
— Как вы можете такое говорить!
— Я велел, чтобы ко мне не посылали детей, так он явился без спроса. Ребёнок не должен так вести себя.
Я был очень зол: в мои годы так глупо расплакаться! Как бы я ни был слезлив, я никогда не ревел по таким пустякам. Не признак ли это скорой смерти?
21 октября.
Явилась Сасаки с интересными для меня новостями. В своё время она работала в больнице PQ; вчера днём, отпросившись на час, она поехала на Синагава к зубному врачу и там в приёмной встретилась с профессором Фукусима, ортопедом из больницы PQ. Дожидаясь своей очереди, она разговаривала с ним минут двадцать. Профессор спросил, чем она сейчас занимается, она ответила, что в таком-то доме служит сиделкой, после чего разговор перешёл на боль в моей руке.
— Неужели нет никакого надёжного лечения? — спросила Сасаки. — Он старый человек, такое мучительное средство, как лежание на вытяжке, ему не подходит.
— Такое средство есть, — ответил на это профессор. — Оно связано с риском, очень трудно и требует уменья. Обычным врачам оно недоступно, и они даже не пытаются его применить. Но я это делать могу. Я вашего больного непременно вылечу. Думаю, что болезнь его называется плечелопаточный синдром. Если в патологический процесс вовлечён шестой шейный позвонок, надо сделать уколы ксилокаина в боковую поверхность шеи, чтобы изолировать симпатические нервы. Это сразу снимает боль в руке. Но так как шейные нервы проходят сзади шейной артерии, вся трудность в том, чтобы иглой не повредить магистральные сосуды шеи, вводя её в шейное нервное сплетение. Если задеть артерию, произойдёт катастрофа. Но дело не только в артерии, в шее бесчисленное количество капилляров, и если нечаянно ввести в какой-нибудь капилляр ксилокаинили хотя бы пузырёк воздуха, больной сразу же начнёт задыхаться. Обычно врачи этим способом не пользуются. Но я иду на этот риск и уже испробовал этот метод на многих пациентах. Всё проходило успешно, неудачи не было ни разу, я уверен, что и на этот раз всё обойдётся прекрасно.
— И сколько это потребует времени? — спросила Сасаки.
— Всего лишь один день, вся операция длится одну-две минуты. Правда, до этого нужно сделать рентген, но и на это уходит минут двадцать-тридцать. Если нерв изолировать, то — в случае успеха — боль сразу же прекращается, и через полдня пациент в прекрасном настроении возвращается домой.
Рассказав мне всё это, Сасаки сказала:
— Может быть, вам попробовать?
— На этого Фукусима можно положиться?
— Безусловно. Он работает в больнице PQ, в ортопедическом отделении, в его компетенции сомневаться не приходится. Он получил образование в Токийском университете, и я его знаю уже много лет.
— Если всё пройдёт хорошо… А если неудача, что тогда?
— Он так уверенно говорил, что тут сомневаться нельзя, но, может быть, вам лучше самому пойти к нему и подробно расспросить.
— Если бы это получилось, ничего другого и желать нельзя.
Не откладывая, я спросил господина Сугита, что он думает об этом. Он был очень сдержан и сомневался в исходе.
— Неужели кто-то может делать такие тонкие вещи! Если получится, это будет просто чудо!
22 октября.
Сасаки пошла в больницу PQ, чтобы встретиться с профессором и подробно его расспросить. Он дал ей множество профессиональных объяснений, но я всех деталей не понял.
— Как я вчера говорила, профессор уже вылечил несколько десятков больных, лечение всегда было успешным, оно не так сложно, чтобы говорить о чуде, среди его больных не было ни одного, который бы особенно тревожился или страшился, все они с лёгким сердцем давали делать себе укол. Облегчение наступало сразу же, и они в восторге возвращались домой. Профессор сказал: «Если ваш пациент беспокоится, на всякий случай можно пригласить анестезиолога, можно приготовить кислородную подушку. Если в случае ошибки лекарство или пузырёк воздуха попадут в кровеносный сосуд, мы немедленно вставим в трахею трубочку, через которую будет подаваться кислород. Обычно мы ничего подобного не делаем, никакой необходимости в этом никогда не было, но если ваш пациент согласится на операцию, мы примем подобные меры предосторожности, и волноваться будет не о чем». Что вы собираетесь делать? Профессор ни в коем случае не стал бы рекомендовать свой метод без достаточных оснований. Но он сказал, если у вас душа к этому не лежит, лучше не пытаться. У вас есть время всё хорошенько обдумать.
Я всё ещё находился под впечатлением ночной сцены, которая произошла недавно, когда, застигнутый врасплох, я разразился рыданиями. Сейчас это представилось мне дурным предзнаменованием: слёзы были вестниками близкой смерти. Я кажусь безрассудным, но в действительности я трусоват и очень осторожен, и я сам удивляюсь, что вознамерился по совету Сасаки подвергнуться такому опасному лечению. Или мне на роду написано скончаться, задохнувшись от укола?
Но разве мне не всё равно, когда умереть? Разве я уже давно не готов к смерти? Когда летом в больнице Тораномон мне сказали, что у меня подозревают рак позвоночника, жена и Сасаки, сопровождавшие меня, побледнели, а я остался настолько спокойным, что сам удивился. Я вздохнул с облегчением: вот и кончится моя жизнь. Почему же сейчас не попытать счастья? В худшем случае, о чём мне сожалеть? Боль в руке так терзает меня днём и ночью, что даже вид Сацуко не доставляет мне никакого удовольствия. Она относится ко мне, как к больному, а не как к своему возлюбленному. Для чего же жить в таких обстоятельствах? Вверяя свою участь провидению, я жаждал жизни только ради Сацуко — в противном случае существование теряет всякий смысл.
23 октября.
Боль не проходит. Принял дориден, но едва уснул, как снова открыл глаза. Сделали укол сальбро (сальдоброкканона). Проснулся часов в шесть, стал опять думать о вчерашнем.
Я совсем не боюсь смерти. Но как подумаю, что вот-вот умру, как в этот самый момент смерть предстанет перед моими глазами — даже думать об этом страшно. Если бы можно было, вот в этой комнате, спокойно лёжа на этой кровати, в окружении близких (нет, близких не надо, и особенно Сацуко не надо; когда я буду благодарить её за проявленную заботу обо мне и прощаться, от охватившей меня печали опять польются слёзы; при этом ради приличия заплачет и Сацуко, мне станет не по себе, я не смогу умереть спокойно; пусть лучше эта бессердечная женщина в момент моей смерти обо мне не вспомнит, пусть она в самозабвении отправится на матч по боксу или в бассейн выполнять номера балета на воде. Если я не доживу до следующего лета, я никогда её танца не увижу!), умереть, как заснуть, не понимая, что умираю. Но я не хочу умирать на кровати в неизвестной мне больнице PQ, окружённый ортопедами, может быть, очень известными, но которых я никогда не видел, анестезиологами, рентгенологами, окружённый их преувеличенными заботами, задыхаясь от укола. Я не хочу кончаться в такой напряжённой атмосфере. Я начну задыхаться, потеряю сознание — что я буду чувствовать, когда мне в трахею вставят трубочку? Я не боюсь смерти, но увольте меня от агонии, напряжения, страха. Без сомнения, в тот миг передо мной, как в волшебном фонаре, пройдут одно за другим все злодеяния, которые я совершил за семьдесят лет. Я уже сейчас слышу голос: «И это ты сделал, и это, ты слишком многого хочешь, желая умереть спокойно, ты мучишься сейчас по заслугам. Смотри же…» Лучше в больницу PQ мне не ездить…
Сегодня воскресенье. Небо затянуто тучами, идёт дождь. Не могу больше думать, как мне поступить, опять советовался с Сасаки.
— Завтра, в понедельник, пойду в терапевтическое отделение Токийского университета к профессору Кадзиура, посмотрим, что он скажет, — ответила она. — Я ему подробно расскажу, что мне говорил профессор Фукусима. Если он скажет: «Делайте», сделаем; а если он категорически будет возражать, не будем делать. Давайте так поступим.
Я в конце концов с ней согласился.
24 октября.
Сасаки возвратилась вечером.
— Профессор Кадзиура сказал, что он не знает Фукусима из больницы PQ, — рассказала она. — Сам он не специалист и поэтому не может высказывать своего мнения. Но профессор Фукусима — выпускник Токийского университета, работает в PQ, поэтому не доверять ему причин нет. Вряд ли это вздор и жульничество. Он, без сомнения, предпримет необходимые меры предосторожности на случай неудачи, поэтому ему можно довериться.
Я в глубине души надеялся, что профессор будет против, и я вздохну с облегчением. Но ничего не поделаешь, судьбе угодно, чтобы я подвергся риску, и избежать этого невозможно. Я ещё пытался найти какой-нибудь предлог, чтобы отказаться от операции, но в конце концов пришлось согласиться.
25 октября.
Вошла жена с озабоченным видом.
— Сасаки-сан мне всё рассказала. Ты уверен, что всё закончится успешно? Рука у тебя болит, но рано или поздно она пройдёт и без операции.
— Если даже дело не удастся, я не умру.
— Хорошо, что не умрёшь, но ты можешь потерять сознание, как будто вот-вот умрёшь, — я бы этого видеть не хотела.
— Лучше умереть, чем жить так, — сказал я, напустив на себя трагический вид.
— Когда же ты собираешься это предпринять?
— В больнице сказали: «В любое время». Если согласиться, то чем скорее, тем лучше. Поеду завтра.
— Подожди-подожди. Ты всегда слишком опрометчив.
Она ушла и тут же возвратилась с гадательным календарём Такасима[67].
— Завтра день неблагоприятный, послезавтра — вовсе несчастливый, двадцать восьмого — благоприятный. Поезжай в больницу двадцать восьмого.
— Что за вздор! Несчастливый или неблагоприятный день — нужно ехать как можно скорее.
Я знал, что она никогда со мной не согласится.
— Ах, нет-нет, раньше двадцать восьмого ехать нельзя. И я поеду с тобой.
— Зачем тебе ехать?
— Нет, я обязательно поеду.
Тут и Сасаки сказала:
— Если госпожа поедет, я буду спокойна.
27 октября.
Сегодня несчастливый день. В календаре сказано: «В этот день переезжающему, начинающему торговое и другие дела грозит неудача». Завтра в два часа дня я в сопровождении жены, Сасаки и доктора Су-гита поеду в больницу PQ, а в три часа мне сделают укол. К несчастью, сегодня с самого утра у меня были ужасные боли, и сделали укол пирабитала. Вечером опять рука сильно разболелась, поставил суппозиторий ноблона, а потом сделали укол опистана. До этого мне его не делали, это не морфий, но что-то вроде того. К счастью, боль затихла, и я заснул. Боюсь, что в течение нескольких дней я писать не смогу, и о последующем запишу потом, основываясь на истории болезни, которую ведёт Сасаки.
28 октября.
Проснулся в шесть утра. Наконец-то наступил решительный день. Очень беспокоен и возбуждён. Мне нужно быть как можно спокойнее, поэтому я остался в постели. Я ел в спальне и утром и в полдень. Когда я сказал, что мне хочется свинину à lа Дунпо[68], Сасаки засмеялась:
— Если у вас такой аппетит, беспокоиться не о чем.
Но в действительности я не хотел свинину и сказал это только для того, чтобы разрядить атмосферу. Днём стакан сгущённого молока, поджаренный ломтик хлеба, омлет по-испански, яблоко Delicious[69], чашка чёрного чая. Если бы я ел в столовой, мог бы увидеть там Сацуко, но меня туда не пустили. После еды минут на тридцать заснул, но не глубоко. В половине второго пришёл господин Сугита. Он измерил мне давление и ограничился общим осмотром. Выехали в два часа. Справа от меня сидел господин Сугита, слева — жена, Сасаки рядом с шофёром. Когда мы собрались трогаться, появилась Сацуко в своём хильмане.
— Папа! Куда это вы собрались? — остановив машину, спросила она.
— Да вот заедем на минуточку в больницу PQ, чтобы сделать укол. Через час вернёмся.
— Вместе с мамой?
— Она опасается, что у неё рак желудка, и тоже хочет показаться врачу. Но это, наверное, только нервы.
— Конечно, только нервы.
— А ты… — я обратился к ней на «ты», но тут же поправился: — А вы куда?
— В кинотеатр «Юраку». Извините, что меня не будет дома.
В голове у меня мелькнула мысль — после сезона дождей Харухиса совсем не показывается.
— Что там идёт в этом месяце?
— «Диктатор» Чаплина.
Хильман двинулся и скрылся из глаз.
Я запретил говорить кому-либо о предстоящей операции, и Сацуко не должна была ничего знать о ней. По, без сомнения, жена или Сасаки посвятили её в секрет, и она, не подавая виду, выждала время нашего отъезда и выехала вместе с нами, чтобы напутствовать меня. А может быть, это жена наказала ей сделать. Как бы там ни было, хорошо, что я увидел её. Сацуко — мастерица притворяться и, как ни в чём не бывало, весело укатила в кино. Но когда я подумал: «Не забота ли это жены?» — сердце у меня сжалось.
Прибыли в назначенное время. Сразу же меня повели в палату номер такой-то, на двери которой висела карточка: «Господин Уцуги Токусукэ». По всему было видно, что я не останусь здесь более одного дня. Меня посадили в кресло на колёсах и повезли по длинному бетонированному коридору в рентгеновский кабинет. За мной шли господин Су-гита, сиделка Сасаки и жена. Жена не может быстро ходить и, тяжело дыша, еле поспевала за креслом. Думая о предстоящих процедурах, я приехал в кимоно. Жена помогла мне раздеться догола. Меня положили на твёрдую гладкую доску и заставили поворачиваться и сгибаться так и эдак. Надо мной с потолка свешивался прибор, похожий на огромный фотографический аппарат, его долго приспосабливали к каждой из моих поз. Этим огромным сложным прибором управляют на расстоянии, ошибка в один миллиметр приводит к нежелательным результатам, поэтому его настраивали очень медленно. Конец октября, доска холодная, боль в руке не проходит, но странно, что из-за напряжения я не чувствовал ни холода, ни боли. Сначала меня заставили вытянуть вдоль тела левую руку, потом правую, потом перевернуться на бок, снимали спину и шею. И всё время долго регулировали аппарат, это довольно мучительно. Я не должен был дышать, когда делали снимки. В общем, всё так же, как в больнице Тораномон.
Потом отвезли назад в ту же палату и положили на кровать. Принесли ещё мокрые рентгеновские снимки. Профессор Фукусима, внимательно их рассмотрев, сказал:
— Будем делать укол.
Он взял в руки шприц с ксилокаином.
— Прошу вас, станьте вот так. В таком положении делать укол удобнее.
— Пожалуйста.
Я спустился с кровати и довольно бодро и твёрдым шагом подошёл к светлому окну, где стоял профессор.
— Начнём. Вам совсем не будет больно, пожалуйста, не волнуйтесь.
— Я не волнуюсь, не беспокойтесь.
— Прекрасно.
Я почувствовал, что он сделал укол в шею. И это всё? Я не ощущал ни боли, ни зуда. Я не побледнел и не вздрогнул, я был совершенно спокоен. Я был готов встретить смерть, но ничего угрожающего не чувствовал. Профессор вытащил иглу. Не только при уколе ксилокаина, так делают даже при инъекции витаминов, чтобы лекарство не попало в кровеносный сосуд: сделав предварительный укол, вытаскивают иглу, чтобы удостовериться, что на ней нет крови. Внимательный врач никогда не забывает об этой предосторожности. Поскольку мой случай был серьёзным, профессор Фукусима не преминул это сделать.
— А, это не годится! — воскликнул он в тот же миг, явно расстроенный. — Сколько я ни делал уколов до сих пор, я никогда не задевал сосудов. Что же сегодня произошло? Вот кровь, я где-то задел капилляр.
— Как же быть? Может быть, вы попытаетесь ещё раз?
— Нет. Если уж произошла такая неприятность, лучше оставить. Мне очень неприятно, но вам придётся приехать ещё раз завтра. Завтра ничего подобного не будет. У меня никогда не было подобной неудачи.
Я успокоился, из груди вырвался вздох облегчения: на сегодня спасён. Судьба подарила мне ещё один день жизни. Но, подумав, что завтра нужно опять приезжать в больницу, я захотел, чтобы профессор тут же попытался ещё раз, и, либо пан, либо пропал, всё было бы кончено.
— Он слишком осторожен, — прошептала Сасаки. — Капелька крови, можно было бы продолжить.
— Именно в этом и проявляется величие, — ответил господин Сугита. — Любой другой, вызвав анестезиолога и полностью всё подготовив, решил бы покончить с делом, и в таких условиях очень трудно из-за капельки крови остановить операцию. Решение профессора свидетельствует о его поистине прекрасном отношении к делу. Все врачи должны подражать ему. Меня его поступок многому научил!
Профессор назначил время на завтра, мы без промедления покинули больницу и вернулись домой.
В машине господин Сугита не переставал расхваливать профессора, а Сасаки повторяла:
— Лучше бы он решился и довёл дело до конца.
Они сошлись на том, что всё погубила излишняя предосторожность, что было бы лучше, не предпринимая никаких мер, отнестись к операции, как к самой обычной, что сам профессор слишком нервничал.
— Это очень опасно, ведь можно проткнуть шейную артерию, — говорила жена. — Я с самого начала была против. Может быть, лучше завтра не ехать в больницу?
Когда мы приехали домой, оказалось, что Сацуко ещё не возвращалась. Кэйсукэ играл с Лесли перед конурой. Я поужинал в спальне, мне опять было велено не волноваться. Рука снова разболелась.
29 октября.
Сегодня отправились в больницу в то же время, что вчера, и в том же составе. К сожалению, всё остальное было так же, как и вчера: профессор задел сосуд, показалась кровь. Так как всё было тщательно подготовлено, он настолько упал духом, что нам стало его жалко.
Посоветовавшись, мы решили, что, если уж такое невезение, то, как ни прискорбно, от намерения лучше отказаться. Было бы ужасно, если бы мы приехали завтра, и дело опять кончилось бы неудачей. Мне казалось, что самому профессору не хотелось предпринимать ещё одну попытку. Я совершенно успокоился и облегчённо вздохнул.
Домой вернулись в четыре часа. В нише стоял новый букет: цветы амарантуса и едкого лютика в бамбуковой корзинке работы Рокансай[70]. Наверное, сегодня приезжал преподаватель составления букетов из Киото, и Сацуко захотела оказать мне внимание. Или она с особым тщанием составляла букет, думая, что, может быть, его поставят у моего изголовья. Она сняла свиток с каллиграфией Кафу на разноцветной бумаге и повесила другой, работы Суга Татэхико из группы «Отшельники из Нанива»[71]. Длинный вертикальный свиток, изображающий зажжённый маяк. Очень часто Татэхико сопровождает свои рисунки китайскими или японскими стихами. И на этом свитке сверху вниз в одну строчку было написано стихотворение из «Собрания мириад листьев»[72]:
Глава шестая
9 ноября.
Прошло десять дней с моего посещения больницы PQ, Жена говорила, что я скоро поправлюсь, и мне действительно немного лучше. Я принимал главным образом неогрелан и седен; то ли болезнь прошла сама по себе, то ли эти обычные лекарства оказались эффективными. Если так пойдёт, я могу заняться делами, то есть поисками места для могилы, что меня занимает с самой весны. Подумываю, не съездить ли в Киото…
10 ноября.
— Чуть-чуть стало лучше, и сразу же ехать? Не подождёшь ли немного? А если рука разболится в поезде?
— Да уже почти всё в порядке. Сегодня десятое ноября. Если мешкать, в Киото наступит зима.
— Почему не отложить до следующего года? Подождал бы до весны.
— С таким делом особенно ждать нельзя. Может быть, это моя последняя поездка в Киото.
— Опять ты говоришь неприятные вещи. С кем ты хочешь ехать?
— Вдвоём с Сасаки я умру от скуки. Не взять ли с собой Сацуко?
В этом-то и лежит главная причина поездки в Киото, а поиски кладбища — только предлог.
— Ты остановишься на Нандзэн-дзи?
— Явиться туда с Сасаки — причинить им большое беспокойство. А если ещё Сацуко… Она останавливалась там и сыта по горло. Она просит её от этого удовольствия уволить.
— Если она поедет, непременно будет ссора.
— Потеха начнётся, когда они вцепятся друг другу в волосы.
Так мы разговаривали с женой.
— На Нандзэн-дзи очень красивые клёны возле храма Эйкандо. Сколько уже лет я их не видела!
— Для Эйкандо ещё рано. Сейчас самое время любоваться клёнами в Такао или в Макиноо. Но я с моими ногами вряд ли туда дойду.
12 ноября.
…Поехали в половине третьего на поезде «Эхо» № 2. Нас провожали жена, О-Сидзу и Номура. Я решил, что сяду у окна, рядом со мной Сацуко, а Сасаки по другую сторону от прохода, но когда поезд двинулся, из окна стало дуть, и я, поменявшись с Сацуко местами, сел в проходе. К несчастью, боль в руке немного усилилась. Я сказал, что хочу пить, и попросил официанта принести чай; тем временем вытащил из кармана приготовленные заранее таблетки седена и тихонько, чтобы не видели ни Сацуко, ни Сасаки, отправил в рот. Если бы они увидели, замучили бы меня своей заботой. Перед отъездом давление было 154 на 93, но когда мы сели в поезд, я чувствовал, что волнуюсь, — хотя вокруг были посторонние, я уже несколько месяцев не сидел рядом с Сацуко, к тому же на ней сегодня был очень соблазнительный наряд (костюм строгий, но блузка очень яркая, с шеи на грудь в пять рядов свешиваются бусы из искусственных драгоценностей, кажется, французского производства; что-то подобное изготовляют и в Японии, но у неё сзади в пряжку вставлено очень много камней, у нас такого не делают). Когда поднимается давление, я всё время хочу мочиться, а от этого ещё больше поднимается давление. Что от чего зависит, сказать не могу. Не доезжая до Ёкогама, я пошёл в уборную, потом ещё раз — перед Атами. От нашего места до уборной далеко, меня шатало, казалось, что вот-вот упаду. Сасаки, в страхе, ходила за мной по пятам. Мочусь долго, второй раз мы проехали туннель Танна, а я ещё не справился. Когда я, наконец, вышел из уборной, поезд подъезжал к Мисима. Пока шёл к своему месту, меня так качнуло, что я схватился за чьё-то плечо. Когда я уселся, Сасаки спросила:
— Не поднялось ли у вас давление?
Она сразу же подошла ко мне, намереваясь щупать пульс. Разозлившись, я прогнал её.
Так повторялось несколько раз, пока в половине девятого вечера не прибыли в Киото. На перроне нас встречали Ицуко, Кикутаро и Кёдзиро.
— Дорогая сестра! Как трогательно, что вы все пришли встречать нас!
Сацуко была необыкновенно любезна, это ей несвойственно.
— О чём тут говорить! Завтра воскресенье, для нас это удовольствие.
Чтобы выйти с вокзала, надо подниматься по пешеходным мосткам, это очень трудно.
— Дедушка, я подниму вас по лестнице.
Обратившись ко мне спиной, Кикутаро присел на корточки.
— Что за шутки! Я ещё не одряхлел до такой степени.
Из упрямства я поднялся одним махом до самого верха и потом не мог отдышаться. Все с беспокойством уставились на меня.
— На сколько дней вы приехали?
— Думаю, на неделю. Мы приедем к вам с ночёвкой один раз, а сейчас немедленно в гостиницу «Киото».
Я поспешил сесть в машину, чтобы избежать бесполезных разговоров. Семейство Сирояма на другой машине последовало за нами.
Я заказал два номера рядом, в одном две кровати, в другом — одна.
— Сасаки-сан, вы будете спать в соседней комнате, а мы с Саттян в этой.
Я нарочно сказал «Саттян» перед Ицуко иее детьми. Ицуко изменилась в лице.
— Пожалуйста, я займу соседнюю комнату. А вы с госпожой Сасаки будете здесь.
— Почему? Разве мы не можем спать вместе? Ведь иногда в Токио мы спали в одной комнате.
Я нарочно говорил так, чтобы Ицуко всё слышала.
— Сасаки-сан будет в соседней комнате, и тебе не надо беспокоиться, что что-то может случиться. Спи здесь.
— Мне будет трудно не курить.
— Кури сколько угодно.
— Если я буду здесь курить, госпожа Сасаки будет бранить меня.
Тут вмешалась Сасаки:
— Вы и так сильно кашляете. Если рядом будут курить, вы не сможете остановиться.
— Отнесите этот чемодан в соседний номер, — обратилась Сацуко к коридорному и быстро удалилась.
Ицуко, которая, приехав в гостиницу, так оробела и растерялась, что еле-еле нашлась что сказать:
— Ваша рука совсем прошла?
— Какое там прошла! Болит, не переставая.
— Вот как! А мама написала, что уже всё в порядке.
— Пришлось мне её обмануть, иначе я не смог бы уехать.
Сацуко снова появилась; она сняла плащ, переменила блузку, надела свои в три ряда жемчуга и подкрасила лицо.
— Я проголодалась. Папа, идёмте скорее есть.
Ицуко с сыновьями уже поужинала, поэтому мы сели за стол втроём. Я заказал для Сацуко рейнское вино. Она любит сырые устрицы; ей сказали, что они поступили из бухты Матоя, их можно есть без опасений, и она жаждала их попробовать. После ужина приблизительно с час проболтали с семьёй Ицуко в холле.
— После ужина можно мне выкурить сигарету, госпожа Сасаки? Здесь дым не застаивается.
Сацуко вытащила из сумочки свои любимые Kool и закурила. Сегодня она курила с мундштуком, которым обычно не пользуется, — длинный мундштук красного цвета. Ногти она тоже выкрасила в ярко-красный цвет, как будто в тон мундштуку, такой же была и губная помада. Пальцы её казались особенно белыми. Не хотела ли она поразить Ицуко контрастом красного и белого?
13 ноября.
В 10 часов утра вместе с Сацуко и Сасаки отправились на Нандзэн-дзи Симокавара-мати к Сирояма. Это моё второе посещение этого дома, но первого я почти не помню. Раньше они жили на Ёсидаяма, и я часто бывал там, но после того как муж Ицуко, Кувадзо, умер, семья переехала, и я от них отдалился. Сегодня воскресенье, Кикутаро ушёл в универмаг на работу, а Кёдзиро, который учится в Киотос-ком университете на инженера, был дома.
Сацуко заявила, что ей совсем не улыбается заниматься поисками могилы, она просит её от этого освободить, она предпочитает сейчас отправиться на Четвёртый проспект, чтобы сделать кое-какие покупки в магазинах Кирихата и Такасимая, а после полудня на Такао любоваться клёнами. Но одной ходить скучно. Никто не пойдёт вместе с ней?
— Это, конечно, интереснее, чем ездить по кладбищам, — сказал Кёдзиро. — Я бы с удовольствием сопровождал вас.
Они ушли, а мы — я, Ицуко и Сасаки- решили съесть по «полумесяцу»[74] в ресторане Хётэй, сначала поехать в храм Хонэнъин на Сисигатани, а потом посетить Синнёдо на Куродани и Мандзюин на Итидзёдзи. Вечером мы должны были встретиться в ресторане Киттё, на Сада, с Сацуко, Кёдзиро и Кикутаро и вместе поужинать.
Мои предки были торговцами из Госю[75], но уже четыре-пять поколений семья жила в Эдо, и сам я родился на Хондзё Варигэсуй, поэтому я настоящий житель Эдо, но несмотря на это теперешний Токио мне не нравится. А вот в Киото, напротив, есть какая-то прелесть, напоминающая мой старый родной город. По чьей вине Токио стал таким беспорядочным и вульгарным, если не по вине мужичья, бывших крестьян, едва покинувших свои деревни, так называемых политических деятелей, которые понятия не имеют об очаровании старого города? Не эти ли молодчики превратили чистую реку с мостами Нихонбаси, Ёроибаси, Цукидзибаси, Янагибаси в чёрную, как краска для зубов, канаву? Они даже не подозревают о том времени, когда в реке Сумидагава водилась рыба-лапша. Мёртвому всё равно, где лежать, но я не хочу, чтобы меня хоронили в безрадостном Токио, с которым меня ничего не связывает. Я бы перенёс куда-нибудь из Токио и могилы родителей, а также деда и бабки. К тому же никто из них не лежит там, где их поначалу похоронили. Мои дед и бабка были погребены в храме Хоккэдзи на Фукагава, неподалёку от Онагигава; но вскоре этот район превратился в индустриальную зону, и храм перенесли в Асакуса, в квартал Рюсэн-дзи. Во время землетрясения в 1923 году храм сгорел, и могилу перенесли на кладбище Тама. Вот так в Токио и таскают кости своих усопших то туда, то сюда. С этой точки зрения, самое безопасное — быть похороненным в Киото. Но где жили предки тех пяти-шести поколений моей семьи, которые родились в Токио? Наверное, в окрестностях Киото. Если меня похоронят где-нибудь в Киото, токиосцы, постоянно приезжая сюда на гулянье, скажут: «А-а, здесь могила дедушки», — и поставят ароматическую свечку. Это гораздо лучше, чем быть погребённым на кладбище в северной части пригорода Тама, где ничего не напоминает старый Токио.
— С этой точки зрения мне кажется, что самое подходящее место — это храм Хонэнъин, — сказала Ицуко, когда мы спускались по лестнице храма Мандзюин. — Мандзюин расположен слишком далеко, чтобы можно было сюда ходить прогуливаться, а в Куродани — надо специально подниматься на вершину холма.
— Я тоже такого мнения.
— Хонэнъин находится в самом городе, до него можно доехать на трамвае, а когда вдоль канала цветут вишни, там очень оживлённо. Но на территории храма всегда очень тихо, там обретаешь душевный покой. Думаю, лучшего места не найти.
— Мне секта Нитирэн не нравится, я с удовольствием перешёл бы в секту Дзёдо. Как ты думаешь, дадут мне место в храме[76]?
— Я время от времени, гуляя, захожу туда и хорошо знаю настоятеля. Он сказал мне, что место нам предоставят, если мы захотим. Не только последователи секты Дзёдо могут быть похоронены там, но и последователи Нитирэн.
На этом мы решили на сегодня закончить. Мимо храма Дайтоку-дзи поехали через Китано, затем через Омуро, мимо храмов Сякадо, Тэнрю-дзи, и прибыли в Киттё. Мы приехали рано, ни Сацуко с Кёдзиро, но Кикутаро ещё не было. Я попросил проводить меня в комнату, где бы я мог лечь и немного отдохнуть.
Тем временем приехал Кикутаро, а за ним, около половины седьмого, Сацуко и Кёдзиро. Прежде чем приехать сюда, они заехали в гостиницу «Киото».
— Заждались нас?
— Давно уже ждём. Зачем вам понадобилось заезжать в гостиницу?
— Мне показалось, что становится прохладно, и я поехала переодеться. И вам тоже надо быть осторожным, а не то простудитесь.
Ей не терпелось надеть купленные на Четвёртом проспекте обновки. На ней была белая блузка и синий вязаный жакет, вышитый серебром. Не знаю почему, она надела кольцо с кошачьим глазом.
— Выбрали кладбище?
— В общем, остановились на Хонэнъин. Думаю, они не будут возражать.
— Прекрасно! Когда же мы возвратимся в Токио?
— Что за глупости! Нужно пригласить из храма каменщика и обсудить с ним, в каком стиле делать памятник. Нельзя же решать так просто!
— Разве вы внимательно не изучали книгу господина Кавакацу о памятниках[77] и не сказали, что на могиле лучше всего поставить пятиярусную пагоду?
— Сейчас я думаю иначе. Мне кажется, что лучше не делать пятиярусной пагоды.
— Я ничего в этом не понимаю, да меня это и не касается.
— Нельзя сказать, что к тебе… к вам это не имеет отношения.
— Какое же?
— Вы скоро поймёте.
— Во всяком случае, я бы хотела, чтобы вы выбрали поскорее, и мы вернулись в Токио.
— Почему вам так не терпится вернуться? Опять матч по боксу?
— Что-то в этом роде.
Вдруг я заметил, что глаза четверых: Ицуко, Кокутаро, Кёдзиро и Сасаки — устремились на четвёртый палец левой руки Сацуко. Она совершенно не смутилась и так и осталась сидеть боком на подушке, положив на колено руку, на которой сверкал кошачий глаз.
— Тётушка, этот камень называется кошачий глаз? — спросил Кикутаро, желая прервать неловкое молчание.
— Да.
— Сколько же миллионов стоят такие камни?
— Такие камни… именно этот стоит три миллиона иен.
— И вы выпросили у дедушки три миллиона иен? Сногсшибательно!
— Кикутаро-сан, прощу вас не называть меня тётушкой. Вы сами уже не ребёнок, которого можно называть Кикутян, и не надо называть меня тётушкой. Между нами всего два или три года разницы.
— Как же мне называть вас? Пусть и три года, тётушка всё равно тётушка.
— Оставьте свою тётушку, называйте меня Саттян. И Кётян тоже. Иначе я не буду с вами разговаривать.
— Тётушка… извините, опять сказал «тётушка»… Я бы не прочь, но не рассердится ли дядюшка Дзёкити?
— Дзёкити рассердится? Тогда и я на него рассержусь.
— Папа может говорить вам «Саттян», но я не хочу, чтобы это делали мои дети, — сказала Ицуко, нахмурившись. — Возьмём среднее, пусть они обращаются к вам Сацуко-сан.
За ужином ни я, ни Ицуко, ни Сасаки не пили: мне категорически запрещено, Ицуко вообще не пьёт, Сасаки стеснялась, хотя она, должно быть, любит выпить, а Сацуко и оба внука от вина не отказались и чувствовали себя непринуждённо. Из-за стола встали около девяти. Сацуко отвезла Ицуко с детьми на Нандзэн-дзи и потом вернулась в гостиницу, а я и Сасаки, так как было уже поздно, остались спать в Киттё.
14 ноября.
Встали часов в восемь. На завтрак я попросил привезти соевого творога Сага, который продаётся рядом с храмом Сякадо. Поев и взяв творога в полиэтиленовыймешочек для Ицуко, я около десяти часов вместе с ней прибыл в храм Хонэнъин. Сацуко сегодня решила позвонить в чайный домик на улице Ханами, чтобы пригласить на обед гейш из Гион, с которыми подружилась, когда этим летом вместе с Харухиса была здесь; после обеда они пойдут в кинотеатр «Кёэй S.Y.» на Кёгоку, а вечером на танцы в кабаре. Ицуко познакомила меня с настоятелем, и мне сразу же показали свободные места для захоронения. Как Ицуко и говорила, это совершенно уединённый уголок. Я раньше заходил сюда раза два или три. Не верится, что такое спокойное место находится в самом центре большого города. На обратном пути мы с Ицуко поели в баре ресторана Танкума, и часа в два я вернулся в гостиницу. В три часа явился каменщик, которого прислал настоятель храма. Разговаривал с ним в вестибюле. При этом присутствовали Ицуко и Сасаки.
У меня самые разные проекты насчёт могилы, и я пока ни на одном из них не остановился. Мёртвому должно быть всё равно, под каким камнем лежать, но мне не безразлично, какой памятник поставят на моей могиле. Сейчас повсеместно делают гладкую прямоугольную плиту, на которой пишут посмертное буддийское или мирское имя усопшего; плита устанавливается на цоколе, перед ней два отверстия: одно для курительной свечи, второе для приношения воды, этого «последнего дара», — всё настолько банально и вульгарно, что мне, склонному к эксцентричности, совсем не нравится. Я знаю, что непростительно отказываться от формы могилы своих родителей и деда с бабкой, но мне хотелось непременно сделать пятиярусную пагоду, пусть не очень старого стиля, меня бы удовлетворила вторая половина Камакура[78], например, пагода храма Анракудзюин в Фусими, на Такэда Итихата. Ярус воды сужается книзу, как кувшин, край яруса огня толст; форма ската крыши вместе с ярусами ветра и неба, как утверждает господин Кавакацу Масатаро, типичны для второй половины Камакура[79]. Мне нравится и пятиярусная пагода храма Дзэндзё-дзи в деревне Удзи Тавара уезда Цудзуки, о которой сказано, что это классический образец стиля периода Ёсино[80],который был особенно распространён в южной части культурного ареала Ямато[81].
Но в душе у меня гнездится другое намерение. В книге господина Кавакацу помещены фотографии каменных статуй триады будды Амида в храме Сэкидзо-дзи в районе Камидзё, на Сэнбон Камитатиури Агару: в середине статуя сидящего в медитативной позе Амида, справа стоящий бодхисаттва Каннон, слева — Сэйси[82]. В книге помещены фотографии каждой статуи отдельно. Одежда и украшения на бодхисаттве Сэйси такие же, как на Каннон, — корона, ожерелье из драгоценных камней, небесная одежда, ареол, — всё вырезано с большой тщательностью. На короне — ваза с сокровищами. Бодхисаттва стоит, молитвенно сложив руки. В книге написано: «Среди гранитных статуй редко отыщется такой прекрасный образец буддийской скульптуры (…) Сзади на центральной статуе отмечено, что „открывание глаз“ состоялось во 2 году эпохи Гэннин (1225 г.). Таким образом, статуя является самым древним образцом в Японии скульптуры, вместе с цоколем и нимбом вырезанной из единого куска камня. Это драгоценный памятник, который можно считать эталоном каменной буддийской скульптуры эпохи Камакура».
Когда я смотрел на эту фотографию, мне неожиданно пришло в голову: «Что если изваять фигуру Сацуко в виде бодхисаттвы Сэйси и установить на моей могиле?» Ведь в конце концов я не верю ни в будд, ни в богов, какая религия — мне всё равно. Кроме Сацуко, для меня нет ни богов, ни будд. Лежать под статуей Сацуко было бы исполнением всех моих желаний.
Но как это выполнить? Можно устроить, что никто не догадается, с кого сделана статуя: ни сама Сацуко, ни Дзёкити, ни жена. Для этого достаточно не требовать большого сходства с Сацуко, а ограничиться одним ощущением, что изображение чем-то её напоминает. Вместо гранита лучше взять более мягкий камень, черты лица сделать не слишком отчётливыми, а выражение по возможности неясным. В таком случае никто не обратит внимания, и только мне, единственному, будет известно, кто это. Я не думаю, что это совершенно невозможно. Но вот в чём трудность. Скульптору нельзя будет не открыть, кого должна изображать статуя. Кому мог бы я поручить такое трудное дело? Ремесленник с такой задачей не справится, а среди моих друзей, к сожалению, скульпторов нет. Но если бы я и знал прекрасного мастера, согласился бы он на мою просьбу, когда бы я открыл своё намерение, захотел бы помочь в осуществлении безумного святотатственного плана? И чем более выдающимся художником он был бы, тем решительнее бы отказался! (Да и у меня самого не хватит храбрости прямо просить о таком кощунственном деле. Мне было бы неприятно, чтобы обо мне подумали: этот старик вовсе спятил!)
В результате упорных размышлений я нашёл, как мне показалось, решение. Если на поверхности камня глубоко вырезать фигуру бодхисаттвы, требуется большой мастер; но если не слишком глубоко, не справился бы с этим обычный ремесленник? Господин Кавакацу приводит пример барельефа будд четырёх сторон света в святилище Имамия на Камигё Мурасакино. «На четырёх сторонах камня около двух квадратных сяку, который добывается из реки Камо и называется нукэиси, вырезаны резцом барельефы четырёх будд (…) Барельеф был установлен в конце эпохи Хэйан во 2 году эпохи Гэндзи (1125 г.), и является, одним из наиболее древних изображений будд в камне». В книге помещены эстампы четырёх сидящих фигур, вырезанных на каждой стороне камня: будды Амида, будды Сяка, будды Якуси и бодхисаттвы Мироку[85], а кроме того эстамп с барельефа сидящего бодхисаттвы Сисэй из триады будды Амида, вырезанной из камня кагэроиси. «Эти три изображения, вырезанные на трёх сторонах высокого блока из песчаника, представляют будду и бодхисаттв, встречающих души праведников. Здесь помещён эстамп с фигуры Сэйси, которая наиболее хорошо сохранилась и черты лица которой можно сравнительно ясно разглядеть. Фигура бодхисаттвы рядом с буддой Амида, на облаке, спускающемся с небес на землю, очень красива. Он изображён сидящим с молитвенно сложенными руками, в развевающейся небесной одежде, — всё передаёт атмосферу конца эпохи Хэйан, когда изображения сошествия Будды на землю были очень популярны». На подобных изображениях Будда обычно сидит в мужской позе лотоса, а Сэйси в женской позе, соединив колени. Мне такая фигура кажется особенно привлекательной…
15 ноября.
Продолжаю вчерашнее.
Мне не надо делать статую с четырьмя ликами будд, достаточно изображения бодхисаттвы Сэйси. Следовательно, мне не нужен камень в форме куба, изображение будет вырезано только на одной стороне, и памятник должен быть необходимой для этого толщины. Сзади напишут моё мирское имя, если будет необходимо — посмертное буддийское, и даты рождения и смерти. Я не знаю подробностей работы резцом. В детстве мы ходили на праздники, у дороги было множество лавочек, где торговали амулетами. На поверхности медной таблички со скрежетом вырезали каким-то инструментом вроде долота имя, возраст и место жительства ребёнка, иероглифы были нанесены очень тонкими линиями. Наверное, резец — это что-то в таком же роде. В таком случае работать им не так уж трудно. Кроме того, резчику можно не открывать, с кого делается изображение. В Нара, в мастерской буддийской утвари я закажу рисунок фигуры, похожей на бодхисаттву Сэйси, как он изображён на скульптуре четырёх будд в святилище Имамия. Я покажу фотографии Сацуко в разных позах и попрошу придать бодхисаттве её черты, а потом отдам рисунок резчику. Так я получу желаемое изображение на камне без опасений, что кто-нибудь проникнет в мою тайну. Тогда я смогу вечно спать под изображением бодхисаттвы Сацуко, с драгоценной короной на голове, со свисающими на грудь ожерельями, в развевающейся небесной одежде.
Мы проговорили с каменщиком с трёх до пяти, сидя в вестибюле гостиницы вместе с Ицуко и Сасаки. Естественно, я никому из них не заикнулся о своём желании сделать изображение Сацуко, а только с видом знатока щеголял сведениями, почерпнутыми из книги господина Кавакацу. Все поражались моим знаниям о пятиярусных пагодах периодов Хэйан и Камакура, о буддах и бодхисаттвах на изображении четырёх ликов будд в Имамия и о фигуре бодхисаттвы Сэйси из камня кагэроиси, сидящего со сдвинутыми коленями. План о бодхисаттве Сацуко я таил в душе и старался никому о нём не проговориться.
— Вам надо решить, в какой форме делать памятник, — сказал каменщик. — Вы обладаете такими обширными познаниями, какие и у специалистов не часто встретишь, и я ничего посоветовать вам не могу…
— Я сам не знаю, что выбрать. Совсем недавно мне на ум пришла одна мысль, но дайте ещё пару дней на размышление. Когда я надумаю, я попрошу вас прийти опять. Извините, что отнял у вас так много времени.
После его ухода вскоре ушла и Ицуко. Я поднялся в номер и вызвал массажиста.
После ужина неожиданно я решил что-то купить и велел вызвать машину. Сасаки в испуге пыталась меня удержать.
— Куда вы собрались в такое время? Вечером холодно, подождите до завтра.
— Это совсем рядом, пешком можно дойти.
— Пешком — ни в коем случае. Ваша супруга мне наказывала, чтобы вы были особенно осторожны по вечерам, в Киото вечером очень холодно.
— Но мне обязательно надо кое-что купить. Вы можете поехать со мной, минут через пять-десять мы вернёмся.
Не описываю наших пререканий — я вышел из гостиницы, Сасаки, нервничая, за мной. Я поехал в Тикусуйкэн, лавку письменных принадлежностей, расположенную на Каварамати Нидзё Хигаси Хаиру. Мы доехали менее чем за пять минут. Сев у входа, я разговорился с хозяином, которого знаю с давних пор, и купил палочку самой лучшей красной туши китайского производства, размером с мизинец, — выложил за неё две тысячи иен, — а кроме того тушечницу из камня тайкэй[86] в лиловых разводах, которая принадлежала покойному Кувано Тэцуо[87], за которую я заплатил десять тысяч иен, и двадцать листов большого формата цветной китайской бумаги, окантованных золотом.
— Давненько я вас не видел, выглядите вы по-прежнему прекрасно.
— Что вы, здоровья совсем не осталось. Вот приехал в Киото устраивать себе могилу. В любой момент могу умереть.
— Не шутите так. Вам ещё жить и жить. Вы ничего больше не хотите купить? У меня есть образцы каллиграфии Чжэн Баньцяо[88], не угодно ли взглянуть?
— Я хотел бы попросить у вас кое-что, только не удивляйтесь. Если у вас найдётся, я бы купил.
— Что именно?
— Нет ли у вас куска красного шёлка приблизительно в два сяку и ваты для тюфяков?
— Действительно, неожиданная просьба. Для чего же вам это нужно?
— Мне необходимо срочно снять эстамп, и я хочу сделать подушечку для нанесения краски.
— Понятно. Вам нужен материал для подушечки. Что-то подобное у меня найдётся, сейчас спрошу жену.
Через две-три минуты показалась хозяйка с куском красного шёлка и ватой для тюфяков в руках.
— Это вам подойдёт?
— Прекрасно. Я таким образом очень быстро всё сделаю. Сколько я вам должен?
— Ничего. Я вам могу дать ещё, только скажите…
Сасаки, совершенно не понимая, зачем мне это понадобилось, стояла в полном недоумении.
— Вот и всё. Можно возвращаться.
Я немедля сел в машину.
Сацуко в гостиницу ещё не вернулась.
16 ноября.
Было решено, что сегодня весь день я буду отдыхать в гостинице. С самого приезда, в течение четырёх дней, я так много ездил, чего давно уже не позволяю себе, и так много писал в дневник, что мне необходимо отдохнуть. К тому же я дал обещание отпустить на сегодня Сасаки. Она родилась в провинции Сайтама и никогда не была в Кансай. Для неё приезд в Киото — большое удовольствие, и она попросила дать ей день отпуска для поездки в Нара. У меня свой план, поэтому я отпустил Сасаки именно сегодня и попросил Ицуко, которая сама давно не была в Нара, воспользоваться случаем и поехать с ней. Ицуко склонна к уединению и обычно никуда не ездит. С покойным мужем они путешествовали тоже редко. Я сказал, что им надо осмотреть в Нара хотя бы храмы; сейчас, когда я ищу место для могилы, Ицуко может снабдить меня некоторыми полезными сведениями. Я заказал для них на целый день машину и посоветовал по дороге в Нара остановиться в Удзи и посетить храм Бёдоин, а в Нара обязательно побывать в храмах Тодай-дзи, Син-Якуси-дзи, и в западной части в Хоккэн и Якуси-дзи. Одного дня на всё это, конечно, маловато, они будут всё осматривать бегом, но если они выедут рано, захватив с собой завтрак, — суси[89] из угрей из «Идзу»[90], то успеют до полудня управиться с Тодай-дзи, поесть в чайном домике где-нибудь возле Великого Будды и осмотреть остальное. Смеркается рано, надо закончить осмотр засветло, поужинать в какой-нибудь гостинице и возвратиться. Пусть они не волнуются, если будут задерживаться: сегодня Сацуко никуда не пойдёт и весь день будет в гостинице со мной.
В семь часов утра Ицуко в машине заехала за Сасаки.
— Уже поднялись? Вы, папа, всегда встаёте рано, — сказала она.
Развязав платок, она вытащила из него и положила на стол два пакета, завёрнутые в плёнку из бамбука.
— Вчера покупала суси из угрей, взяла и вам. Позавтракаете вместе с Саттян.
— Спасибо.
— Вам что-нибудь привезти из Нара? Печенье из риса с папоротником?
— Ничего не надо. Когда будете в Якуси-дзи, не забудь посмотреть на стопы Будды.
— Стопы Будды?
— Ага. Это камень, на котором вырезаны ступни Будды. Ноги Будды Шакьямуни обладали чудотворной силой. Когда он ходил, он поднимал их на четыре сун от земли, на его ступнях были чакраварти[91], которые отпечатались на поверхности земли. Всевозможные насекомые, попадавшие ему под ноги, в течение семи дней никакой опасности не подвергались. Его ступни вырезали в камне, они сохранились в Китае и Корее; а у нас стопы Будды находятся в Якуси-дзи. Обязательно посмотри на них.
— Непременно посмотрю. Нам пора ехать. Я забираю Сасаки-сан на целый день, — пожалуйста, будьте благоразумны.
— Доброе утро.
Из соседней комнаты появилась заспанная Сацуко, протирая глаза.
— Благодарю вас за вашу доброту. Я так виновата, что вам пришлось встать так рано, — Сасаки долго благодарила «молодую госпожу» и наконец вместе с Ицуко ушла.
Сацуко поверх неглиже надела синий халат на вате, на ногах у неё были атласные шлёпанцы такого же цвета с розовым цветочным узором. Лечь на кровать Сасаки она не захотела и легла на диван, покрыла ноги пледом — на белом фоне чёрные, красные и синие квадраты, от Джейгера, который я захватил из дома, а голову положила на подушку, которую принесла из своего номера. Она лежала на спине, носом в потолок, закрыв глаза, и со мной не заговаривала. Я не мог понять, вернулась ли она вчера поздно из кабаре и не выспалась или притворяется спящей, не желая со мной говорить. Встав, я умылся, приказал, чтобы принесли японского чаю, и принялся за суси. На завтрак мне хватило трёх из них. Я старался не производить шума, чтобы не разбудить Сацуко. Когда я кончил есть, она ещё спала.
Я вытащил купленную в Тикусуйкэн тушечницу, поставил её на стол и начал медленно растирать тушь. Стёр палочку почти до половины. Потом сделал подушечки: разделил вату, скатал её в жгуты длиной в шесть-семь и в два сантиметра, обернул их кусками красного шёлка, — получилось четыре подушечки, две побольше, две поменьше.
— Папа, можно мне пойти на полчаса поесть?
Сацуко проснулась уже некоторое время назад и сидела на диване, соединив колени. Я вспомнил фигуру бодхисаттвы Сэйси.
— Для чего тебе куда-то ходить? Я оставил тебе суси, поешь здесь.
— Спасибо.
— Мы с тобой не ели суси с тех пор, как ходили в Хамасаку.
— Да, кажется… Папа, а что ты делаешь?
— Да так, ничего.
— А для чего растёр тушь?
— Лучше пока не спрашивай. Ешь суси с угрями. Мы не знаем, когда воспользуемся знаниями о том, на что мы в молодости бесцельно смотрели. Я несколько раз ездил в Китай и, бывало, случайно видел, как на улице снимали эстампы (это я видел и в Японии). Китайцы в этом добились замечательного мастерства. Не обращая внимания на ветер, они невозмутимо окунают кисть в воду и похлопывают ею по белой бумаге, растянутой на поверхности каменного памятника, при этом эстампы их превосходны. Японцы дотошнее, более нервны, осторожнее; пропитывая большие и маленькие подушечки тушью или штемпелевой краской, они тщательно снимают одну за другой копии с каждой тонкой линии. Тушь и штемпелевал краска могут быть чёрными или красными. Я нахожу, что красные эстампы особенно красивы.
— Спасибо за угощение. Давно я не ела таких вкусных суси.
Сацуко начала пить чай, и я неторопливо приступил к объяснению.
— Вот этот кружок с ватой — подушечка.
— Для чего она?
— Её опускают в тушь или красную краску, потом похлопывают по каменной поверхности, и получается эстамп. Мне очень нравятся красные.
— Но где же камень?
— Сегодня я хочу сделать эстамп не с камня, а с другой вещи.
— С какой?
— Дай мне сделать оттиск с подошв твоих ног.
Получится красный эстамп на цветной китайской бумаге с подошвы ноги.
— Для чего это?
— С этого отпечатка твоих ног сделают стопы Будды. Я хочу, чтобы мои кости лежали под ними. Это будет действительно блаженной смертью.
Глава седьмая
17 ноября.
Продолжаю вчерашнее.
Сначала я не хотел открывать Сацуко, для чего собираюсь сделать копию с подошвы её ног. Пусть даже она не знает, что с них вырежут стопы Будды, что под этим камнем похоронят мои кости и это будет моя, Уцуги Токусукэ, могила. Но вчера я неожиданно решил, что лучше ничего от неё не таить. С какой целью? Для чего я открыл ей свой план? Во-первых, мне хотелось наблюдать её реакцию при моих словах: как изменится выражение её лица, какие эмоции на нём отразятся. Кроме того, мне хотелось увидеть, с какими чувствами она будет ставить свою вымазанную красной краской ногу на цветную китайскую бумагу. Она так гордится своими ногами, что, наверное, не сможет сдержать внутренней радости, видя на бумаге их отпечатки, которые должны стать стопами Будды. Я хотел видеть её лицо в эту минуту. Она, конечно, скажет, что это безумная затея, но разве душа её не придёт в восторг? После моей смерти она не сможет не думать: «Старый глупец спит теперь под моими прекрасными ногами. Даже сейчас я топчу жалкого старика». Она почувствует какое-то острое наслаждение, к которому будет подмешано что-то неприятное. Но если даже она захочет, ей не удастся так легко — а может быть, и за всю свою жизнь — изгладить из памяти это неприятное для неё воспоминание. При жизни я безрассудно любил её, и если желаю после смерти немного расквитаться с ней, ничего лучшего я придумать не смогу. Может быть, умерев, я не захочу больше думать о чём-то подобном? Разум говорит, что со смертью тела исчезает и воля, но вряд ли это всегда справедливо. Например, какая-то часть моей воли останется жить, войдя в её волю. Когда она, наступив на камень, скажет себе: «Сейчас я топчу лежащие под землёй кости выжившего из ума старика», моя где-то живущая душа почувствует тяжесть её тела, будет страдать от боли, ощущать гладкую кожу на подошве её ног. Безусловно, я буду это чувствовать! Я должен буду это чувствовать! Но и Сацуко будет чувствовать, как радуется в могиле моя душа под её тяжестью. Она будет слышать, как в земле будут стучать друг о друга кости, перемешиваться друг с другом, смеяться, петь, скрипеть. Для этого совсем не обязательно в действительности топтать камень ногой. При одной мысли о существовании стоп Будды, сделанных с её ног, она услышит плач костей под камнем. Плача, я буду вопить: «Больно, больно. Больно, но приятно. Выше этого нет удовольствия, я наслаждаюсь больше, чем при жизни. Топчи сильнее, сильнее…»
Когда я сказал: «Сегодня я хочу сделать эстамп не с камня, а с другой вещи», она спросила: «С какой?» На это я ответил: «Дай мне сделать эстамп с твоих ног. Получится красный эстамп на цветной китайской бумаге с твоих подошв». Если бы она почувствовала отвращение, оно бы выразилось на её лице. Однако она только спросила: «Для чего это?» И даже узнав, что с отпечатка сделают стопы Будды и что кости мои будут лежать под этим камнем, никакого удивления не обнаружила. Я видел, что моё предложение не только не вызвало у неё возражений, но показалось забавным. К счастью, в моём номере есть вторая комната в восемь дзё, я велел принести в неё две больших простыни и, сложив их вдвое, расстелить на циновке. Приготовил тушечницу с красной тушью и кисть. Потом принёс лежащую на диване подушку Сацуко.
— Тебе, Саттян, ничего не надо делать. Иди сюда и ложись на спину. Всё остальное сделаю я сам.
— Прямо в одежде? Ты не запачкаешь её тушью?
— Совсем нет. Я намажу тушью только подошвы ног.
Она сделала всё так, как я просил: легла на спину, изящно сложив ноги, и приподняла ступни, чтобы я хорошо мог видеть подошвы. Когда она была готова, я обмакнул подушечку в тушь, потом похлопал ею по другой, чтобы слой туши стал тоньше. Раздвинув её ноги на два-три сун, я начал похлопывать второй подушечкой по подошве её правой ноги, чтобы ясно отпечаталась каждая её часть. Было очень трудно положить ровный слой в переходе к своду плюсны. Левая рука у меня действует плохо, я не мог пользоваться ею, как хотел, отчего трудности возрастали. Я обещал Сацуко, что не вымажу её одежду и наложу краску только на подошвы, но неловкими движениями то и дело пачкал подол её нижней рубашки и тыльную часть ноги. Допустив оплошность, я вытирал её ноги полотенцем и снова мазал их тушью, испытывая невероятное блаженство. Меня охватило возбуждение. Без устали я возобновлял свои попытки бесчисленное количество раз.
Наконец мне удалось удовлетворительно наложить тушь на обе подошвы. Приподняв её правую ногу, я приложил снизу к ней цветную бумагу и попросил Сацуко немного надавить на неё. Но сколько я ни пытался, мне не удавалось достичь желаемого результата. Я без толку израсходовал все двадцать листов бумаги. Позвонив в Тикусуйкэн, я попросил привезти немедленно ещё сорок. Я решил действовать по-другому. Я тщательно вымыл ноги Сацуко от туши, вытер каждый пальчик, попросил её подняться с циновки и сесть на стул, а сам лёг на спину возле и в этой неудобной позе накладывал подушечкой тушь на её подошвы, а потом попросил наступить на бумагу…
Я предполагал окончить всё до возвращения Ицуко и Сасаки, отдать коридорному испачканные простыни, листы бумаги с отпечатками отправить в Тикусуйкэн, комнату убрать и с невинным выражением лица ждать их, но не вышло. Они возвратились в девять часов, раньше, чем я думал. Я услышал стук в дверь и не успел ответить, как она открылась. Ицуко с Сасаки вошли в номер. Сацуко мигом скрылась в ванной. Маленькая комната в японском стиле была в страшном беспорядке, белые простыни в огромных красных пятнах. Ошеломлённые Ицуко и Сасаки молча переглянулись. Сасаки, не говоря ни слова, измерила давление.
— 232, — сказала она с каменным лицом.
17-го утром в одиннадцать часов я узнал, что Сацуко, никого не предупредив, своевольно улетела в Токио. Она не вышла к завтраку, но поскольку она любит утром поспать, я думал, что она нежится в постели. А она, вызвав такси, тем временем направлялась в аэропорт Итами. Приблизительно в одиннадцать часов ко мне вошла Ицуко и сообщила об этом.
— Вот так штука! — сказала она.
— Когда ты об этом узнала?
— Только что. Я пришла, думая, куда бы нам вместе пойти сегодня, и вдруг мне говорят, что госпожа Уцуги, одна, некоторое время назад уехала в Итами.
— Ты лжёшь. Ты знала раньше.
— Как я могла знать?
— Хитрая лиса! Вы сговорились заранее!
— Совсем нет. Уверяю вас, я только что здесь об этом узнала. Я сама изумилась, когда мне сообщили: «Госпожа сказала, что втайне от отца вылетает в Токио; до тех пор, пока она не уедет, она не хочет, чтобы кто-нибудь об этом знал».
— Ты лжёшь! Ты хотела рассердить Сацуко и заставить её уехать! И ты, и Кугако — вы давно уже только тем и занимаетесь, что подстрекаете и обманываете всех. К сожалению, я забыл об этом.
— Это несправедливо! Как вы можете говорить такое!
— Госпожа Сасаки!
— Слушаю вас.
— Мне не нужны ваши «слушаю вас»! Вы, конечно, всё знали от Ицуко. Вы решили вместе обмануть старика и избавиться от Сацуко.
— Своими словами вы огорчаете госпожу Сасаки. Сасаки-сан, выйдите, пожалуйста, на некоторое время. Я хочу что-то сказать отцу. Если я лгунья, то могу ничего не скрывать.
— Пожалуйста, осторожнее, — давление у господина и так высокое.
— Да-да, знаю.
Вот что она мне сказала.
— Всё это чистая выдумка, что я вынудила Саттян уехать. Я предполагаю, что у Саттян были причины срочно возвратиться в Токио. Я этих причин не знаю, но разве вы сами ничего не замечали? — спросила она язвительно.
— Не только мне одному известно, что она в хороших отношениях с Харухиса, — ответил я, — она сама открыто говорит об этом, и Дзёкити об этом знает. Можно сказать, что об этом знают все. Но ничего не доказывает, что между ними тайная связь, и никто этому не верит.
— Неужели никто? — странно засмеялась Ицуко. — Может быть, мне не следует вмешиваться, но меня удивляет поведение Дзёкити. Если между Саттян и Харухиса что-то есть, разве Дзёкити не смотрит на это сквозь пальцы и не позволяет этого? Я-то думаю, что у самого Дзёкити кто-то есть, кроме Сацуко. Конечно, и Сацуко и Харухиса молча — да нет, совсем не молча — разве все они не сговорились между собой?
В этот момент, когда Ицуко это сказала, у меня в груди закипели невыразимое негодование и ненависть к ней. Ещё немного, и я бы закричал, но, к счастью, удержался, испугавшись, что от крика могут лопнуть кровеносные сосуды. У меня потемнело в глазах, и несмотря на то, что я сидел на стуле, мне показалось, что я вот-вот упаду. Видя, как я изменился в лице, Ицуко побледнела.
— Хватит. Замолчи и уходи, — сказал я очень тихо, весь дрожа. Из-за чего я так рассердился? Разве она неожиданно раскрыла мне тайну, о которой я не подозревал? Или эта хитрюга выдала мне то, что я сам давно замечал, но всё время старался закрыть глаза?
Ицуко исчезла. Шея, поясница, бёдра страшно болели: я расплачивался за свою неразумную деятельность в течение всего вчерашнего дня, — ночью я не мог спокойно спать и принял ещё раз три таблетки адалина и три атраксина, попросил Сасаки налепить мне на спину, плечи и поясницу пластырь Салонпас и лёг в постель. Однако заснуть не мог и подумал, не сделать ли укол люминала, но мне нельзя было долго спать. Я решил ехать вслед за Сацуко немедленно, дневным поездом и с большим трудом купил билет, обратившись к другу, работающему в киотском отделении газеты «Майнити». (Самолётом я ещё никогда не летал.) Сасаки возражала изо всех сил. Чуть не плача она пыталась уговорить меня:
— При таком давлении и думать нельзя о поездке, надо подождать три-четыре дня, пока давление не снизится.
Ицуко пришла с извинениями и сказала, что поедет с нами в Токио.
— Я не могу тебя видеть. Если поедешь, садись в другой вагон, — сказал я…
18 ноября.
Вчера выехали в Токио поездом «Эхо» № 2 в 3 часа 2 минуты. Я с Сасаки в первом классе, Ицуко — во втором. В девять часов прибыли в Токио. На перроне нас встречали жена, Кугако, Дзёкити и Сацуко. Они, наверное, подумали, что я не смогу идти, или решили, что мне этого нельзя, — меня ждало кресло на колёсах. Это, конечно, дура Ицуко рассказала им обо всём по телефону.
— Это ещё для чего? Я ещё не господин Хатояма[92]!
Я раздражился, никто не знал, как быть, и вдруг чья-то мягкая ладонь коснулась моей правой руки, — это была Сацуко.
— Папа, пожалуйста, послушайте меня…
Я замолчал, сел в кресло, и мы сразу же двинулись. На лифте спустились в подземный переход, кресло со стуком быстро покатилось по длинному тёмному коридору. Все с трудом за мной поспевали. Жена моя в конце концов потерялась, и Дзёкити пошёл искать её. Я удивился, какой огромный и с какими ответвлениями подземный переход на Токийском вокзале. По особому коридору мы вышли на стоянку машин, недалеко от центрального входа со стороны Маруноути. Нас ждали две машины. В первую сели трое: я, с обеих сторон от меня Сацуко и Сасаки; во вторую четверо: жена, Ицуко, Кугако и Дзёкити.
— Папа, извините меня, я уехала, ничего не сказав.
— У тебя было назначено свидание?
— Нет. Если говорить откровенно, я страшно устала, пробыв с вами вчера весь день. С утра до вечера вы возились с моими подошвами, — это было невыносимо. Я совершенно выбилась из сил и уехала. Извините.
Её голос был странным, в нём чувствовалось что-то нарочитое.
— Вы, наверное, устали. Я вылетела из Итами в 12.20, а в 2 уже приземлилась в Ханэда. Самолётом быстро…
…Возвратившись в Токио вечером 17-го ноября, пациент 18-го и 19-го большей частью спал; наверное, сказалась усталость от пребывания в Киото. Иногда поднимался к себе в кабинет и записывал в дневник то, что произошло за это время. Но 29-го числа в 10 часов 55 минут утра произошёл приступ.
Госпожа Сацуко приехала из Ханэда домой на Мамиана 17 ноября около трёх часов дня. Она сразу же позвонила по телефону господину Дзёкити и сказала, что психическое состояние старого господина становится всё более и более странным, что она не могла выдержать более ни одного дня в его обществе и возвратилась одна. Посоветовавшись между собой, они, ничего не говоря матери, отправились вдвоём к знакомому психиатру, профессору Иноуэ, и спросили, какие можно предпринять меры. По мнению профессора, болезнь старого господина заключается в патологической сексуальности, но в нынешнем состоянии нельзя говорить об отклонении от нормы в ментальном смысле; ему необходимо постоянно чувствовать сексуальные желания, это поддерживает его жизнь, и они должны соответствующим образом обходиться с ним; госпожа Сацуко должна быть особенно осторожна, она не должна ни слишком возбуждать пациента, ни перечить ему, но обращаться с ним как можно мягче, — это единственное средство. Поэтому по возвращении пациента из Киото господин Дзёкити с супругой насколько только возможно следовали советам профессора в обращении с отцом.
20 ноября. Вторник. Ясно.
В 8 часов утра температура у пациента была 35,5, пульс 78, число дыханий 15, давление 132 на 80. В общем состоянии никаких изменений не наблюдалось. Но, судя по словам и поступкам, было видно, что он не в духе.
После завтрака пациент ушёл в кабинет. По-видимому, он вёл дневник.
В 10.55 в необычном возбуждении он прошёл из кабинета в спальню. Он что-то хотел сказать, но я не понимала. Я уложила его в постель и велела полежать спокойно. Пульс был 126, учащённый, но ровный, без перебоев. Число дыханий — 23. Он жаловался на сердцебиение. Давление 158 на 92. Жестами показывал, что сильно болит голова. Лицо было страшно искажено. Я связалась по телефону с доктором Сугита, но он никаких указаний не дал. Он никогда не обращает внимания на то, что говорят сиделки.
В 11.15 пульс 143, число дыханий 38, давление 176 на 100. Я позвонила доктору Сугита ещё раз, но он никаких указаний не дал. Я проверила комнатную температуру, освещение, вентиляцию. В комнате больного была лишь старая госпожа. Подумав, что может понадобиться кислородная подушка, позвонила в больницу Тораномон и, описав состояние больного, попросила приготовить всё необходимое.
В 11.40 приехал доктор Сугита. Я рассказала всё, что произошло. Осмотрев пациента, господин Сугита достал из портфеля лекарство и сам сделал укол, это были витамин К, контомин и неофилин. Господин Сугита ещё не ушёл, как больной громко закричал и потерял сознание. Всё тело свели страшные судороги, на губах и кончиках пальцев показались признаки цианоза. Судороги вскоре прошли, но больной впал в сильное беспокойство, пытался вскочить с кровати.
Недержание мочи и кала. Весь приступ продолжался около 20–30 минут. Потом больной заснул глубоким сном.
В 12.15 старая госпожа неожиданно пожаловалась на головокружение, её отвели в другую комнату и положили в постель. Минут через десять ей стало лучше. Около неё осталась госпожа Ицуко.
12.50. Больной спокойно спит. Пульс 80, число дыханий 16. В комнату вошла госпожа Сацуко.
В 13.15 доктор Сугита ушёл, велев никого к больному не пускать. В 13.15 температура была 37,0, пульс 98, число дыханий 16. Обильный холодный пот, меняю бельё.
В 14.10 пришёл родственник, доктор Коидзуми. Я рассказала ему всё, что произошло.
В 14.40 больной проснулся. В полном сознании. В речи затруднений нет. Жалуется на острую боль в лицевой части, голове и шее. По совету доктора Коидзуми дала таблетку саридона и две адалина. Увидев госпожу Сацуко, больной остался спокойным и закрыл глаза. В 55 минут помочился нормально, 100 см3, мутности нет.
В 20.45 пожаловался на сильную жажду. Госпожа Сацуко дала ему 150 см3 молока и 250 см3 овощного супа.
В 23.05 больной задремал. Он уже совершенно опомнился. По-видимому, опасность миновала, но нельзя сказать, что рецидив исключён. Поэтому решили вызвать профессора Токийского университета. Было уже поздно, но господин Дзёкити привёз его. Профессор сказал, что это не кровоизлияние в мозг, а спазмы мозговых сосудов, и что сейчас можно не волноваться. Прописал два раза в день, утром и вечером, уколы 20 см3 20-процентной глюкозы, 100 мг витамина В1, 500 мг витамина С, за полчаса перед тем как ложиться, две таблетки адалина и четверть солвена. В течение двух недель абсолютный покой, никого не принимать; ванны отложить и возобновить их только тогда, когда больной полностью оправится; когда начнёт вставать, ходить немного по комнате; если самочувствие будет хорошее, в ясную погоду можно немного гулять в саду, но из дома никуда не выходить; не напрягаться, нам нужно отвлекать его от сосредоточенных мыслей; дневника ни в коем случае не вести…
15 декабря. Ясно, потом густой туман, потом опять ясно.
Основной диагноз: стенокардия. В анамнезе повышение артериального давления в течение тридцати лет, верхнее 150–200, нижнее 70–95. Иногда верхнее доходит до 240. Шесть лет назад больной перенёс геморрагический инсульт, после чего испытывает некоторые трудности в ходьбе. В последние несколько лет острая боль невралгического характера в левой руке, особенно от запястья до пальцев, которая усиливается при холоде. В молодости болел венерической болезнью, выпивал до сё (1,8 л) сакэ, но в последнее время при случае пьёт одну-две чашечки. Не курит с 11 г. эпохи Сева (1936 г.).
Теперешняя история болезни. Вот уже с год электрокардиограмма показывает депрессию ST — сегмента и сглаживание зубца Т, что может указывать на нарушение кровоснабжения, но до настоящего времени пациент не жаловался на боли в сердце. 20 ноября имел место приступ: сильная боль в голове, спазмы и потеря сознания; профессор Кадзиура определил спазмы мозговых сосудов. Лечение было правильным, и болезнь развивалась нормально, но 30 ноября пациент поссорился с дочерью, с которой не ладит, после чего почувствовал в течение 10минут лёгкую боль елевой стороне груди, и с тех пор такие приступы повторяются часто. Электрокардиограммы, снятые, тогда, не показывали значительных изменений по сравнению с предшествующим годом. 2 декабря вечером, когда он силился иметь стул, он почувствовал в области сердца острую боль, сопровождающуюся удушьем, которая продолжалась около 50 минут. Вызвали врача. Электрокардиограмма, сделанная на следующий день, показала возможный инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка. Вечером 5 числа у него был такой же сильный приступ, который продолжался минут 10, а в следующие дни несколько слабых приступов. Пациент страдает запорами, и приступы всегда имели место после стула. Врач прописал принимать таблетки PuQ кислородную подушку, болеутоляющее и инъекции папаверина. 15 декабря пациент поступил в больницу, был положен в палату первого класса. Выслушав лечащего врача С. и невестку пациента, которые рассказали, как развивалась болезнь, я сделал общий осмотр. Пациент полный, признаков анемии и желтухи нет, голени несколько отёкшие. Давление 150 на 75, пульс 90, частый, но ровный. На шее вздутых вен не заметно. В нижних отделах лёгких с двух сторон слабые влажные хрипы, сердце не увеличено, лёгкие шумы в проекции аортального клапана. Печень и селезёнка не прощупываются. Пациент жалуется на ограниченную свободу движений правой руки и ноги, но ни ослабления мышечной силы, ни патологических рефлексов не наблюдается. Коленный рефлекс ослаблен на обеих ногах в одинаковой степени.
Никакой аномалии в мозговых нервах. Домашние сообщают, что речь пациента не изменилась, но сам он после геморрагического инсульта жалуется на затруднения. Его лечащий врач, господин С. сказал, что у пациента наблюдается повышенная индивидуальная чувствительность к лекарственным препаратам, что требует уменьшения в две или три стандартных дозировки. Невестка посоветовала не прибегать к внутривенным уколам, которые уже приводили к спазмам.
16 декабря. Ясно, потом переменная облачность.
Может быть, оттого, что пациент успокоился после приезда в больницу, прошлую ночь приступа не было, и он спал хорошо, утром несколько раз жаловался на лёгкую боль в верхней части груди в течение нескольких секунд, возможно, нервного характера. Я посоветовал принимать слабительное, чтобы избежать запоров, но он с той же целью принимает истицин фирмы Бауэр, который выписал из Германии. Пациент уже долгое время страдает высоким давлением и невралгией, поэтому прекрасно разбирается в лекарствах, гораздо лучше, чем начинающие врачи. Он привёз с собой столько препаратов, что нет необходимости искать новые, — я велел принимать таблетки Р и Q. В случае приступа я прописал положить под язык таблетку нитроглицерина, который он тоже привёз с собой, велел приготовить возле больного кислородный баллон и всё, что нужно для срочных уколов. Давление 142 на 78, электрокардиограмма показывает, как и три дня назад, депрессию ST — сегмента и сглаживание зубца Т и признаки, которые заставляют подозревать инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка. Рентгеновский снимок показывает, что сердце несколько увеличено, но признаков артериосклероза нет. Заметного ускорения СОЕ нет, ни повышенного лейкоцитоза, ни роста ACT. Пациент в течение некоторого времени страдает увеличением предстательной железы и жалуется на трудности в мочеиспускании и мутность в моче. Но сегодня моча прозрачная, без белка, анализ показал небольшое количество сахара.
18 декабря. Ясно, потом облачно.
С тех пор как пациент поступил в больницу, сильных приступов не было. Боль возникает в основном за грудиной с радиацией влево, но редко продолжается более нескольких минут. Когда холодно, начинается невралгия и могут иметь место сердечные приступы, поэтому в палате установили несколько электрообогревателей, так как парового отопления недостаточно.
20 декабря. Лёгкая облачность, потом ясно.
Вчера вечером около 8 часов приступ боли в груди от солнечного сплетения, распространившейся за грудину. Продолжался полчаса. Сняли боль таблеткой нитроглицерина, уколами болеутоляющего и сосудорасширяющего, предписанными дежурным врачом. Электрокардиограмма никаких изменений по сравнению с предшествующей не показала. Давление 156 на 78.
23 декабря. Ясно, потом переменная облачность.
Каждый день лёгкие приступы. Так как в моче обнаружен сахар, утром пациенту дали обильный завтрак, рис с приправами, после чего взяли кровь на гликемию и возможный диабет.
26 декабря. Ясно, потом облачно.
Приблизительно в 6 часов вечера мне позвонили из больницы: у пациента сильная боль в левой половине грудной клетки. Продолжалась более десяти минут. Я попросил дежурного врача принять срочные меры и прибыл в больницу около 7 часов.
Давление 185 на 97, пульс ровный. Сделали укол болеутоляющего, и пациент успокоился, наверное, его испугало то, что по воскресеньям в больнице лечащий врач отсутствует, что и явилось причиной сильного приступа. Во время приступа давление повышается.
29 декабря. Ясно, потом град и сильный туман, потом ясно.
Сильных приступов за это время не было. Векторная электрокардиограмма показывает возможный инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка. Реакция Вассермана негативная. С завтрашнего дня я решил давать новое сосудорасширяющее средство, полученное из Америки.
3 января 1961 г. Ясно, потом облачно, потом дождь. Возможно, в результате применения нового лекарства больному гораздо лучше. Моча мутная, анализ под микроскопом обнаружил большое количество лейкоцитов.
8 января. Ясно, густой туман, ясно.
Вызвали профессора К. из урологического отделения. Он установил увеличение предстательной железы и уроинфекцию вследствие нарушения пассажа мочи. Посоветовал массаж предстательной железы и антибиотики. Электрокардиограмма показывает некоторое улучшение. Давление 143 на 65.
11 января. Переменная облачность.
Несколько дней жалуется на боль в пояснице. Кроме того, боль в груди, которая постепенно увеличивается, но больной терпел, а сегодня после полудня очень сильная боль и стеснение в обеих сторонах груди, продолжалась 10минут. Это самый сильный приступ за время пребывания в больнице. Давление 176 на 91, пульс 87. Дали таблетку нитроглицерина и сделали уколы сосудорасширяющего и болеутоляющего. Боль прошла. Электрокардиограмма не показывает никаких изменений.
15 января. Ясно.
Рентгеновский снимок, сделанный вчера, показал сильное искривление позвоночника. Чтобы пациент не сильно сгибался в пояснице, на кровать под поясницу положили металлическую пластину, чтобы тело в кровати не оседало.
(Опущено)
3 февраля. Совершенно ясно.
Электрокардиограмма показывает значительное улучшение. Последнее время никаких, даже лёгких, приступов. Скоро буду выписывать.
7 февраля. Переменная облачность.
Пациент уехал из больницы в хорошем настроении. Несмотря на февраль, сегодня очень тёплый день. Поскольку пациенту холод противопоказан, его отправили домой в середине дня в машине с отоплением. Мне сказали, что дома в кабинете господина Уцуги топят большую печку.
20 ноября прошлого года у отца были спазмы мозговых сосудов, вслед за тем сразу же приступы стенокардии и инфаркт миокарда. 15 декабря того же года его положили в Токийскую больницу, благодаря профессору Кацуми он выздоровел и 7 февраля этого года вернулся домой на Мамиана. Но от стенокардии он совершенно не избавился, после выхода из больницы было несколько лёгких приступов, и даже сейчас он иногда принимает нитроглицерин. С февраля до марта он из спальни не выходил. Сиделка Сасаки во время отсутствия отца оставалась в доме на Мамиана и ухаживала за моей матерью, а когда отец вышел из больницы, стала ухаживать за ним: три раза в день его кормит, водит в уборную и по большой и по малой нужде; иногда ей помогает О-Сидзу.
В Киото у меня особых дел не было, и я полмесяца прожила на Мамиана, ухаживая за мамой вместе с Сасаки. Отец видеть меня не хочет, поэтому я старалась не показываться ему на глаза. То же самое с Кугако.
Положение Сацуко особенно деликатное и сложное. Следуя указаниям профессора Иноуэ, она всё время относится к отцу очень ласково, но когда нежность становится чрезмерной и она подолгу сидит у его постели, отец приходит в возбуждение. Часто после посещения Сацуко у отца были приступы. Но если она несколько раз в день к нему не заглянет, он обязательно начинает беспокоиться, а это может привести к ухудшению его состояния.
Отец, как и Сацуко, психологически находится между двух огней. Приступы стенокардии очень болезненны, он, хотя и говорит, что смерть ему не страшна, боится предсмертных мучений. Поэтому он изо всех сил старается избежать близкого общения с Сацуко, но совсем не видеться с ней не может.
Я ни разу не поднималась на второй этаж к Дзёкити и Сацуко. По словам сиделки Сасаки, Сацуко теперь уже не спит в спальне, а перебралась в комнату, которая служила комнатой для гостей. Время от времени на втором этаже украдкой появляется Харухиса.
Когда я возвратилась в Киото, мне неожиданно позвонил отец. Я забеспокоилась, что случилось. Оказалось, что листы цветной бумаги с отпечатками подошв Сацуко до сих пор находятся в лавке Тикусуйкэн, и он попросил забрать их, отдать каменщику из храма и попросить вырезать по ним стопы Будды. В «Записках о странах, лежащих к западу от великой империи Тан» сказано, что отпечатки стоп Будды сохранились в стране Махадха. Длина их 1 сяку 8 сун, ширина 6 сун, на обеих ногах чакраварти. На отпечатках ног Сацуко чакраварти можно не изображать, но сделать их такого же размера, как стопы Будды. Он настоятельно просил, чтобы я всё точно исполнила.
Я не могу обращаться к кому бы то ни было с такой абсурдной просьбой. Выслушав его, я повесила трубку, а потом позвонила и сказала: «Мастер сейчас уехал на Кюсю и даст ответ позже».
Через несколько дней отец опять позвонил мне и велел в таком случае отправить эстампы ему в Токио, что я и сделала.
Вскоре я узнала от Сасаки, что, получив эти листы, он из нескольких десятков выбрал четыре или пять, которые показались ему наиболее удачными, всё время с большим вниманием их рассматривал. Сиделка опасалась, как бы это занятие его слишком не разволновало, но отобрать у него листы было невозможно, и она решила, что пусть он лучше возится с ними, чем непосредственно общается с Сацуко.
В середине апреля, когда наступила хорошая погода, он минут 20–30 начал гулять посаду. С ним ходит в основном Сасаки, а изредка его водит за руку Сацуко.
В то же время, как было предусмотрено, начали строить бассейн, и все клумбы срыли.
— Напрасно это, всё равно летом папа не будет выходить из комнаты, — сказала Сацуко. — Лучше прекратить эту бессмысленную трату денег.
Дзёкити на это ответил:
— Он смотрит, как идёт работа, и начинает о чём-то мечтать. Да и детям будет удовольствие.
Junichiro Tanizaki,
1961
Послесловие переводчика
Танидзаки Дзюнъитиро (1886–1965), один из наиболее выдающихся японских писателей XX века, получивший мировое признание, родился в Токио. Предки Танидзаки занимались торговлей и жили в «нижней» части города, отведённой для ремесленников и торговцев.
Своим благосостоянием семья Танидзаки была обязана деду писателя, Кюэмон, энергичному предпринимателю, чувствующему конъюнктуру в эпоху решительных реформ. У него была многодетная семья: три дочери и четыре сына, но отец не любил мальчиков и отослал трёх младших сначала в провинцию к кормилице, а потом дал их усыновить в другие семьи. Впоследствии, выдавая замуж дочерей, он поставил условие, что зятья примут фамилию Танидзаки. Его жена и отданные на сторону сыновья не переставали жаловаться, приписывая этой несправедливости причину последующих деловых неудач. В первой главе воспоминаний «Детство» (Ёсё дзидай, 1955–1956) Дзюнъитиро писал, что дед его, несомненно, был поклонником женской красоты, и видел в этом корни своего собственного преклонения перед прекрасным полом.
Две из дочерей Кюэмон вышли замуж за братьев Эдзава, представителей дома, занимающегося оптовой торговлей рисовой водкой, некогда преуспевающего, но в описываемое время находящегося в трудном финансовом положении. Как было сказано, оба брата приняли фамилию тестя и основали две младших ветви дома Танидзаки.
Младший из братьев, Васукэ, переменивший имя на Танидзаки Курагоро, женился на Сэки, третьей дочери Кюэмон, которая славилась редкой красотой. Их первый ребёнок прожил всего три дня. Вторым родился Дзюнъитиро, который был записан старшим сыном и который со временем должен был продолжить дело дома и возглавить семью. Кроме него, у Курагоро и Сэки было семеро детей, из которых один, Сэйдзи, тоже сделал литературную карьеру.
Детство писателя было счастливым. Дом был зажиточным. К матери, которая скончалась в 1917 г., Танидзаки испытывал особую нежность. Её образ появлялся на страницах его произведений, вплоть до «Дневника безумного старика» (Футэн родзин никки, 1961 г.).
Положение, однако, скоро изменилось. В 1888 г. скончался дед писателя. Курагоро не обладал ни талантами, ни энергией, необходимыми для ведения больших дел. Его преследовали неудачи. Несколько лет его поддерживал материально его брат, женившийся на старшей дочери Кюэмон, что на некоторое время оттянуло катастрофу, но в 1894 г. Курагоро с семьёй был вынужден переехать в небольшой дом, что для Дзюнъитиро означало конец безоблачного детства.
Склонность Танидзаки к литературе проявилась рано. Её развитию способствовал школьный учитель, Инаба Сэйкити, страстно влюблённый в китайскую и японскую словесность, знаток буддийской философии. Танидзаки был его учеником четыре года, с 1897 г., и всю жизнь считал своим учителем.
В 1901 г. Танидзаки поступил в Первое токийское училище, где изучал английское право, но всё больше и больше времени он отдавал литературе.
В 1908 г. Танидзаки, окончательно утвердившись в своём желании стать писателем, поступил в Токийский императорский университет на факультет японской литературы. Решение привело к конфликту с семьёй: старший сын должен был продолжить дело отца и вернуть обедневшей семье её преуспевающее положение. Учение вскоре прервалось: в 1911 г. Танидзаки не смог внести деньги за обучение и был отчислен из университета.
Время, когда Танидзаки появился на литературной сцене, было временем расцвета новой японской литературы с её главным жанром, романом, который в традиционной Японии считался не более чем развлекательным чтивом необразованной части общества. В эпоху Мэйдзи положение изменилось. Японский роман, развивавшийся под большим влиянием европейской литературы, стал чрезвычайно популярен и достиг расцвета. В творчестве Мори Огай (1862–1922), Нацумэ Сосэки (1867–1916), Симадзаки Тосон (1872–1943) и др. Основным направлением новой японской литературы стал натурализм, возникший в конце XIX в. под влиянием Мопассана и Золя. Наиболее крупными представителями этого течения были Куникида Доппо (1871–1908), Токуда Сюсэй (1871–1943), Симадзаки Тосон и Таяма Катай (1871–1930). Японский натурализм был явлением довольно сложным и распадался на несколько течений. Но несмотря на главенствующее положение, он не охватывал всей литературной продукции, к этому течению не примыкали такие крупные писатели, как Мори Огай, Нацумэ Сосэки и Нагаи Кафу (1879–1959). Танидзаки с самого начала заявил о себе как о писателе, чья позиция была противоположна натуралистической. Он создал в своих ранних произведениях особый мир, красочный и необычный, который отличался от скопированной действительности и простого отражения личной жизни героев, к чему зачастую сводился натурализм. Танидзаки тоже обнажал нутро человека, но по-своему. Любовь как дьявольское наваждение, различные эротические наклонности, одержимость злом, аморализм — вот темы его произведений.
Отличие Танидзаки от многих писателей того времени определялось не только литературой. В большинстве случаев писатели происходили из самурайского сословия, представители которого после прекращения междоусобных войн и объединения Японии в начале XVII в. составили интеллектуальную элиту. Получившие воспитание в конфуцианском духе, они проповедовали идеалы этого учения в своём творчестве: почтительность к родителям, супружеская верность, уважение в социальном плане — эти темы составляли основу их произведений. Выходец из торгового сословия, Танидзаки если и обращался к Конфуцию, то только для того, чтобы процитировать его высказывание: «Я никогда не встречал человека, который так бы любил добродетель, как плотские наслаждения»[95].
Особое влияние на Танидзаки оказал Нагаи Кафу, поклонник Эдгара По, Бодлера, Верлена и Уайльда. Эстет в литературе, он и в жизни воплощал для многих молодых писателей идеал, которому те старались следовать.
Танидзаки начинает сотрудничать с различными крупными издательствами, в которых регулярно публикует свои произведения.
После успеха своих первых сочинений писатель погружается в мир богемы. Он хочет вести жизнь, совершенно свободную от каких-либо обязательств, в том числе от обязанностей перед семьёй (что стало причиной его разногласий с братом Сэйдзи). Подобно Оскару Уайльду, он стремился создавать не только произведения, но самое жизнь артиста. Он покидает дом, несмотря на сильную любовь к матери, кочует из одной гостиницы в другую. Так продолжалось до апреля 1915 г., когда Танидзаки женился на Исикава Тиё, бывшей гейше из провинции.
1 сентября 1923 г. в районе Канто (районы, прилегающие к Токио) произошло сильное землетрясение. Танидзаки решает на некоторое время, пока не будет вновь отстроен разрушенный Токио, поселиться в Кансай (районы, прилегающие к Осака и Киото). Но реконструкция столицы его разочаровала. Нижний город, сильно пострадавший от землетрясения, застраивался в современном стиле. Танидзаки всё более и более склонялся к мысли поселиться в Кансай, центре традиционной японской культуры. Этот переезд совпал с наступлением зрелости в творчестве писателя.
В 1924–1925 гг. Танидзаки публикует роман «Любовь глупца» (Тидзин-но аи), действие которого происходит в Токио. Главной темой его является модернизация Японии. Сам автор до переезда в Кансай тяготел к европейскому образу жизни, но в противоположность Мори Огай, Нацумэ Сосэки или Нагаи Кафу, никогда не ездил ни в Европу, ни в Америку. В своём романе Танидзаки судит о стремлении героев жить по-европейски очень трезво. Он рассказывает историю любви и женитьбы героя, Каваи Дзёдзи, на девушке по имени Наоми. Само чувство Каваи Дзёдзи было выражением его тяги к западному образу жизни, девушка казалась ему похожей на американскую киноактрису, и даже её имя отличалось от японских женских имён, В личной жизни его ждёт горькое разочарование. Наоми, которая казалась влюблённому в неё молодому человеку совершенной женщиной, обнаруживает наклонность к садизму, издевается над ним и изменяет ему.
Тем временем переезд Танидзаки в Кансай привёл к глубоким изменениям в его творчестве. Токиосцы, как правило, презирали жителей Осака и Киото, как это обычно бывает при наличии в стране двух или нескольких культурных центров, но Танидзаки, узнав этот район ближе, был привлечён многими его особенностями. Этому способствовали события в его личной жизни. Танидзаки не был счастлив в первом браке, и в 1930 г. супруги разошлись. Но до этого, в марте 1927 г. Акутагава Рюносукэ познакомил Танидзаки с Нэдзу Мацуко, молодой женщиной, женой осакского коммерсанта Нэдзу Киётаро, покровительствовавшего писателям и артистам. Чувство к молодой женщине способствовало увлечению Танидзаки новым для него образом жизни. После недолгого второго брака с молодой журналисткой Фурукава Томико Танидзаки женился на Мацуко в 1935 г., как только она получила развод.
В Кансай Танидзаки часто переезжал с места на место, в общей сложности он прожил в этом районе до 1956 г. Изменился весь уклад его жизни, отныне он одевался по-японски, жил в японском доме, полюбил кансайскую кухню, о которой написал эссе (отголоски этого пристрастия содержатся и в «Дневнике безумного старика»). Действие его произведений часто разворачивается в Кансай (в частности, в Осака). Но более глубокое изменение заключалось в обращении писателя к прошлому Японии и к традиционной японской культуре. Со страниц его повестей почти исчезают фатальные женщины, являющиеся символом модернизации и европеизации.
Начиная с 1928 г. Танидзаки публикует одно за другим произведения, высоко оцениваемые критикой: «Свастика» (Мандзи, 1928–1930), «О вкусах не спорят» (Тада куу муси, 1928), «Лианы Ёсино» (Ёсино кудзу, 1931), «Рассказ слепого» (Момоку моногатари, 1931), «Тайная история князя Мусаси» (Бусюко хива, 1931–1932), «Рубщик тростника» (Асикари, 1932), «История Сюнкин» (Сюнкин-сё, 1933), «Похвала тени» (Инъэй райсан, 1933).
В двух произведениях, «Рассказе слепого» и «Тайной истории князя Мусаси», Танидзаки обращается к прошлому Японии. В обоих случаях это конец XVI в., время объединения страны после длительного периода междоусобных войн, что было осуществлено Ода Нобунага (1534–1582). Но по содержанию эти произведения отличаются друг от друга. Первое представляет собой традиционную историческую повесть. Героиней является сестра Нобунага, О-Ити, женщина редкой красоты и благородства. Она была выдана замуж за Асан Нагамаса (1545–1573). Её муж не последовал за шурином в его борьбе, но примкнул к его противникам. Нобунага разбил его в битве при Анэгава (1570 г.) и в 1573 г. разрушил его замок Одани, во время осады которого Асаи покончил самоубийством. Сестру же победитель увёз с собой. После гибели Нобунага власть в стране фактически перешла в руки Тоётоми Хидэёси (1536–1598), среди соратников которого был Сибата Кацуиэ (1522–1583). Хидэёси женился на дочери О-Ити от первого брака, а кроме того, как утверждают некоторые источники (возможно, без оснований), завязал любовные отношения с самой О-Ити. Затем она вышла замуж за Кацуиэ. Тем временем между Хидэёси и Кацуиэ произошёл раскол. Армия первого окружила замок последнего. Он предложил О-Ити, на которой был женат всего несколько месяцев, покинуть замок, на что та ответила отказом. Она сказала, что должна была бы умереть со своим первым мужем и не повторит во второй раз своей ошибки. Детей они всё-таки отправили к Хидэёси, а сами остались в охваченном пламенем замке. Кацуиэ убил жену и покончил с собой. История О-Ити рассказана слепым музыкантом.
Совершенно отличается от этого произведения «Тайная история князя Мусаси». Сам князь Мусаси — вымышленное лицо, и повесть посвящена тайным побуждениям бесстрашного воина. В «Тайной истории» Танидзаки приводит различные архивные материалы, позволяющие восстановить биографию героя. Все они вымышлены и обнаруживают страсть автора к иллюзии документальности, приёму, к которому он часто прибегал в своём творчестве. Импульсы, которые движут князем, эротического характера. Подростком он стал свидетелем сцены, которая произвела на него глубокое впечатление. После битвы в крепости, где он жил, должны были выставить трофеи: головы врагов, — и для этого их очищали от грязи, мыли и причёсывали. Занимались этим женщины, и для князя на всю жизнь слились образ юной красавицы, которая пробудила в нём эротическое чувство, и отрезанные головы, которыми она занималась (особенное впечатление произвела на него голова с отрезанным носом). Этим комплексом и определялись многие его поступки. Повесть открывается вступлением, в котором автор излагает тему своего произведения: сексуальная жизнь знаменитых героев и гениев часто странна, причудлива, о ней рассказывают удивительные анекдоты. Автор добивается поразительного контраста между содержанием и формой этого отрывка: он написан на классическом китайском языке с соблюдением всех правил риторики, то есть на языке высоких жанров и возвышенных тем.
В «Истории Сюнкин», как и в «Тайной истории князя Мусаси», рассказчик «реконструирует» биографию слепой музыкантши из Осака, которая якобы родилась в 1829 г. и скончалась в 1886 г., на основании рассказов очевидцев и документов эпохи. Как и в «Тайной истории», документы эти являются чистым вымыслом автора. В Сюнкин был влюблён Сасукэ, семья которого занимала положение, низшее по отношению к дому музыкантши. Он стал её учеником и впоследствии женился на ней, но для неё он всегда оставался слугой, и она потребовала, чтобы и на его могильном памятнике было указано, что он был всего лишь её учеником. Поклонение же Сасукэ перед женой было беспредельным, и дошло даже до того, что по её желанию он ослепил себя. Вполне возможно, что на замысел Танидзаки оказала влияние новелла Стендаля «Аббатиса из Кастро», которую он перевёл с английского перевода в 1928 г.
В «Лианах Ёсино» Танидзаки обращается к описанию Кансай, его истории и фольклору. Некий писатель, от лица которого ведётся повествование, совершает путешествие в горы Ёсино, находящиеся в провинции Ямато, центре традиционной японской культуры, приблизительно в сорока километрах от древней столицы Нара. Трудно достижимые, они с VII в. служили приютом преследуемых беженцев. Горный монастырь Кимпусэн-дзи был местом уединения многих знаменитых личностей. В ходе рассказа писатель упоминает различные исторические источники, которые он намерен использовать при создании своего романа. Его интересы сосредоточены на двух моментах японской истории: биографии Минамото Ёсицунэ и конце периода Северной и Южной династий.
Минамото Ёсицунэ (1159 или 1161–1189 или 1191) был сыном Минамото Еситомо, главы одной из ветвей феодального дома Минамото. В 80-х годах XII в. Ёсицунэ возглавлял дружины Минамото в войне против феодального дома Тайра и нанёс последнему окончательное поражение. Победой воспользовался его старший брат Ёритомо, который в 1192 г. основал военное правительство в Камакура. Желая избавиться от своего брата, пользовавшегося огромной популярностью, Ёритомо объявил его государственным врагом и выслал против него войско. Ёсицунэ покончил жизнь самоубийством (по другой версии был убит в сражении). Жизнь его обросла легендами, которые легли в основу «Сказания о Ёсицунэ» (Гикэй-ки), составленного, вероятно, в XV в. В «Лианах Ёсино» Танидзаки воскрешает эпизод бегства героя в горы в сопровождении возлюбленной Сидзука и верного друга Сато Таданобу (1161–1186).
В произведении Танидзаки горы являются ареной последнего эпизода исторического периода Северной и Южной династий (1336–1392), который также называется периодом Ёсино. Начало ему положила вражда двух сыновей императора Госага (правление 1242–1246). Один из них, император Годайго (1288–1339), был низведён с престола и отправлен в изгнание на остров Оки, а на престол был возведён Когон (1313–1364). Годайго удалось бежать с острова и захватить власть. Борьбу против него возглавил генерал Асикага Такаудзи, ив 1336 г. Годайго покинул столицу, захватив с собой регалии императорской власти — зеркало, меч и яшму. Он вскоре умер, его сын провозгласил себя императором Гомураками и установил трон в Ёсино, в то время как в Киото на троне находился император Коме. Объединение двух ветвей произошло в 1392 г., когда генерал Асикага Ёсимицу (1358–1408), внук Такаудзи, заставил императора Южной династии Гокамэяма возвратиться в Киото и вернуть регалии. Однако борьба на этом не прекратилась, и в 1443 г. была предпринята попытка захватить регалии и возвести на трон принца Мандзюдзи, якобы представителя Южной династии. Он был вынужден покончить с собой, но его сторонники, спасаясь от преследования, увезли в Ёсино священную яшму. Танидзаки в своём произведении останавливается на самом последнем эпизоде борьбы — гибели в 1457 г. двух последних претендентов на трон (история не сохранила ни имён этих принцев, ни дат их рождения).
Рассказчика в его путешествии сопровождает его школьный друг, Цумура, живущий в Осака. Он направляется к родственникам со стороны матери, которые живут в горах, в местечке Кудзу. Цумура рассказывает о своей матери, умершей в молодости. Им движет тоска по матери, стремление найти людей, которые могли бы что-то сообщить о ней, а также кого-нибудь из родственников, чья внешность напомнила бы ему туманный образ, который он сохранил в памяти. В этой же части приводится легенда о лисе-оборотне в образе женщины, родившей ребёнка, которого она должна была покинуть.
«Лианы Ёсино» не принадлежат к какому-либо определённому жанру. В Японии существовал жанр дневников путешествий, начало которому положил «Дневник путешествия из Тоса» (Тоса никки), созданный Ки Цураюки в X в. В соответствии с традицией произведение Танидзаки содержит впечатления от путешествия, описание гор, жителей, литературные и исторические ассоциации, связанные с местами, но документальная часть в нём дополнена вымышленной историей второго рассказчика.
В «Рубщике тростника» Танидзаки прибегает к тому же приёму: рассказчик, от лица которого ведётся повествование, прибывает в святилище Минасэ, которое вызывает в его памяти различные исторические и литературные воспоминания. Там он встречает человека, жителя Осака, который рассказывает ему историю своего отца, его взаимоотношений с двумя сёстрами: О-Ю и О-Сидзу (вторая стала его женой, матерью второго рассказчика, но к первой он питал страстную любовь). По форме эти произведения разнообразны. Из них только «О вкусах не спорят» написано от лица автора, остальные — от лица повествователя, который или принимает участие в событиях, или восстанавливает историю на основании «архивных» материалов. Для каждого из своих произведений писатель избирает особый стиль, обращая особое внимание на возможности графического оформления текста, которые предоставляет японский язык с его особой системой письменности, сочетанием знаков азбуки и иероглифов. Танидзаки использует все возможные комбинации. Вступление «Тайной истории князя Мусаси» написано по-китайски, то есть одними иероглифами. В «Рассказе слепого» автор стремился создать иллюзию произносимого текста, поэтому он записывает его преимущественно знаками азбуки с минимальным использованием иероглифики. В «Рубщике тростника» он воспроизводит графически стиль «женской прозы» эпохи Хэйан, в которой знаки пунктуации почти отсутствовали, повествование очень редко делилось на абзацы. Иллюзию таких бесконечных фраз создаёт в своём произведении Танидзаки. Замысел подобной стилизации объясняется, может быть, тем, что история, рассказанная человеком из Осака, возникла под влиянием отрывка из произведения хэйанской литературы, «Повести о Ямато» (Ямато-моногатари, отрывок № 148). В «Истории Сюнкин» — смешанное письмо, но и здесь текст представлен в виде длинных сегментов, с минимальным использованием знаков пунктуации.
В1932-1933 г. Танидзаки опубликовал знаменитое эссе «Похвала тени», посвящённое особенностям японской культуры. Автор выявляет, в частности, качество японской культуры и искусства: изобразительные произведения создаются в расчёте на обстановку, в которой они будут рассматриваться. Часто условием их восприятия является погружение их в темноту, так что перед зрителями появляются лишь отдельные детали, заставляя домысливать остальное. Если мы вновь обратимся к произведениям самого Танидзаки 30-х годов, то заметим в них определённое сходство с таким приёмом. Его героини в ряде случаев появляются как тени, как томительные воспоминания. Мать Цумура в «Лианах Ёсино», О-Ю в «Рубщике тростника» предстают перед читателем в перспективе двойного рассказа, частности довольно неопределенны, и о целом нужно догадываться. В «Рассказе слепого» рассказчик был участником событий и соприкасался с героиней, но из-за своего физического недостатка никогда её не видел, её образ погружён в темноту и лишён зрительной отчётливости.
В 1935 г. Танидзаки начинает работу над переводом на современный японский язык классического произведения «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи-моногатари), созданного придворной дамой Мурасаки-сикибу в XI в. Огромное произведение, считающееся шедевром японской классической прозы, чрезвычайно трудно в подлиннике из-за сложностей древнего языка и индивидуального стиля писательницы. Танидзаки поставил перед собой задачу исключительно точного перевода, который он представил по окончании на суд знатока классической литературы Ямада Такао. Первый вариант перевода был опубликован в 1939–1941 гг. В 1954 г. Танидзаки сделал второй, а в 1964 г. третий вариант. Его труд вызвал единодушное признание специалистов и критики. Во второй половине тридцатых — начале сороковых годов за исключением повести «Кошка, Сёдзо и две женщины» (Нэко-то Сёдзо-то футари-но онна, 1936) Танидзакн не публиковал собственных произведений. С одной стороны, он был занят переводом «Повести о Гэндзи», а с другой — замыслом романа «Мелкий снег» (Сасамэюки), который он начинает писать с 1941 г. Этот роман занимает особое место в творчестве Танидзаки. Это самое крупное по объёму из его произведений. Обычно писатели обращаются к форме многочастного романа, желая создать широкую панораму жизни с многочисленными персонажами. У Танидзаки не так: по содержанию «Мелкий снег» одно из самых камерных его произведений. Героинями романа являются сёстры Макиока. Старшая из них, Цурико, живущая с мужем и детьми в Токио, не принимает большого участия в действии. Остальные три сестры — Сатико, Юкико и Таэко — живут в Осака. Из них замужем только Сатико, и сюжет романа развёртывается в попытках выдать замуж Юкико. Действие романа охватывает период с ноября 1936 г. по апрель 1941 г.: в Японии и Европе происходят события огромной важности, но упоминания о них лишь подчёркивают полное равнодушие к ним персонажей. В своём романе Танидзаки хотел запечатлеть очарование кансайских женщин. Прототипами героинь явились его жена Мацуко и её сёстры.
Художественные достоинства романа оценивались очень высоко. Сразу после публикации всего романа Танидзаки был удостоен за него премии газеты «Асахи». В том же году ему, наряду с другими писателями, был присуждён орден за развитие культуры.
В 1956 г. писатель опубликовал повесть «Ключ» (Кати), которая вызвала наиболее громкий скандал в истории современной японской литературы. Член парламента, представитель либерально-демократической партии, внёс предложение о запрещении произведения как безнравственного. В прессе часто мелькало слово «порнография».
«Ключ» открывает собой последний период творчества писателя. Танидзаки часто болел, был вынужден диктовать некоторые из своих произведений. В 1959 г. он опубликовал «Плавучий мост грёз» (Юмэ-но укибаси), а в 1961 г. «Дневник безумного старика».
Произведения Танидзаки, посвящённые современности, к которым принадлежат «Ключ» и «Дневник безумного старика», имеют ряд особенностей. Действие в них обычно ограничено рамками одной семьи. Семья эта, как правило, зажиточна, принадлежит к средней или высшей буржуазии. Социальные и политические вопросы не интересуют героев Танидзаки. Они, конечно, читают газеты, слушают радио и смотрят телевизор, в их разговорах мелькают имена политических деятелей, но в весьма своеобразном контексте. В «Дневнике безумного старика» о премьер-министре Киси заговаривают только потому, что он купил в Индокитае «кошачий глаз», и члены семьи Уцуги пытаются выяснить, сколько такой камень может стоить в Японии. В той же повести упомянуты демонстрации против правительства по поводу заключения японско-американского Договора безопасности в 1960 г., но в связи с тем, что они могут помешать проехать из одной части Токио в другую.
Рисуя современную ему японскую семью, Танидзаки не интересовался проблемой «отцов и детей». Соперничество героини с дочерью в «Ключе» заставляет вспомнить не о романе Тургенева, а скорее об «Осенней сонате» И. Бергмана. В центре внимания писателя отношения супругов. Семьи у Танидзаки в большинстве случаев неблагополучны, супруги живут своей жизнью, но официально не разводятся, как молодые Уцуги в «Дневнике безумного старика». В «Ключе» объединённые чувственными желаниями супруги живут в атмосфере полного отчуждения друг от друга, недоверия и ненависти.
Если же взять семью в широком смысле, вместе с родителями, двоюродными братьями и так далее, то и она далека от идеального представления о ней. В «Плавучем мосту грёз» герой произведения, сын от первого брака, с позволения отца вступает в связь с мачехой, которая продолжается и после его женитьбы. Героиня «Дневника безумного старика» живёт с двоюродным братом мужа, а её свёкор (сам старый Уцуги) теряет голову от страсти к ней.
Иногда же дело доходит до преступлений, которые так и остаются похороненными внутри семьи. Героиня «Ключа» сознательно шаг за шагом ведёт мужа к гибели. Герой «Плавучего моста грёз» имеет все основания подозревать, что с его мачехой покончила его жена.
Эволюция нравов смягчила остроту откровенных описаний в «Ключе». Произведение естественно вписывается в картину развития творчества писателя. Здесь вновь появляется любимая тема молодого Танидзаки: любовь как беспощадный поединок враждебно настроенных друг к другу партнёров. Как в «Тайной истории князя Мусаси» писатель показывает изнанку устремлений бесстрашного воина, так же он обнажает оборотную сторону моральных принципов феодального воспитания, полученного Икуко.
«Дневник безумного старика» — последнее крупное произведение автора, безоговорочно причисляемое к вершинам его творчества. «Ключом» Танидзаки остался недоволен и никогда не называл его в числе любимых своих произведений. Возникает впечатление, что неудовлетворённый первой повестью автор решил повторить её тему ещё раз. Читатель обнаруживает многочисленные параллели между двумя произведениями. Старый Уцуги так же одержим стремлением к чувственным наслаждениям, как и профессор в «Ключе». Общими являются и их эротические наклонности (фетишизм ноги, что встречается в произведениях Танидзаки неоднократно). Но все эти темы доведены до гротеска, потому что между героями двадцать лет разницы, и Уцуги давно страдает половым бессилием.
В «Дневнике» особое значение приобретает мотив страха смерти. Поразительно мастерство, с каким автор объединил его на последних страницах с темой страсти к Сацуко в проекте могильного памятника.
«Ключ» отличается предельно абстрактным характером. Читатель не знает ни имени героя, ни рода его занятий. Окружающий мир представлен в «Дневнике» гораздо полнее, чем в «Ключе». Писатель наделяет старого Уцуги своими детскими воспоминаниями. Они воскрешают атмосферу большого дома в нижнем городе, который мог быть домом деда Танидзаки.
Для обоих произведений Танидзаки избрал форму дневника, хотя внутренние побуждения пишущих не одинаковы: в «Ключе» герои пишут друг для друга, в то время как Уцуги ведёт настоящий дневник, который не предназначен для других и в котором он совершенно безжалостен к самому себе. В обеих повестях, кроме названий произведений, ни разу не раздаётся голос автора, даже тогда, когда в «Дневнике» Танидзаки необходимо дать объективную информацию, он «воспроизводит» записи других лиц, создавая таким образом иллюзию абсолютной объективности. Тенденция представить повествование, как основанное на подлинных документах, получает в последних повестях предельное выражение — это не реконструкция на основании документов, это сами документы.
Интересно графическое оформление текста в обоих произведениях. Японцы, как уже говорилось, пользуются смешанным письмом — иероглифами и азбукой. Азбука существует в двух графических вариантах (катакана и хирагана). Традиционно считается, что первой должны писать мужчины, второй — женщины, но этого предписания уже никто не придерживается, и все пользуются вариантом хирагана. В «Ключе» использованы оба графических варианта азбуки, герой пишет на одном, героиня на другом, что приводит к интересному эффекту в конце произведения, когда героиня цитирует дневник мужа в той самой графике, которой он пользовался. Аналогично использованы варианты азбуки в «Дневнике безумного старика».
И в «Ключе», и в «Дневнике» отчётлива тема излюбленного Танидзаки противопоставления двух культур — японской и европейской. Писатель всегда был очень внимателен ко всем изменениям жизни, которые несло с собой время. Герои его произведений носят европейское платье, едят бифштексы, читают Фолкнера, смотрят американские и французские фильмы — всё это рядом с театром Кабуки, кимоно, национальной обувью, искусством составления букетов и так далее. В «Дневнике» большое место занимают вопросы об устройстве европейской ванны и уборной, герой детально сравнивает японскую и западную косметику. Прекрасный знаток национальной традиционной культуры, необычайно зорко наблюдающий за всеми признаками модернизации жизни, Танидзаки раскрыл сложность и противоречивость мира, в котором живут японцы.
В 1963 г. газета «Майнити» присудила Танидзаки первую премию за «Дневник безумного старика». В том же году он создал «Повесть о Великом мире, разыгранную на кухне» (Дайдокоро Тайхэйки), которая, однако, ничего не прибавила к его славе. В 1964 г. он был избран членом Американской академии искусств и литературы.
Танидзаки скончался в июле 1965 г. Пепел его был захоронен в Киото, в храме Хонэнъин (на том самом кладбище, которое выбрал для своего погребения Уцуги). В ноябре часть пепла была перенесена в Токио, на кладбище Сомэй, место захоронения его семьи, недалеко от могилы его друга Акутагава Рюносукэ.
Среди различных источников, которыми я пользовался при подготовке данного издания, необходимо отметить комментарии к французскому переводу «Дневника», выполненные Сесиль Сакаи.
Считаю приятным долгом выразить благодарность Янине Аскольдовне Ашневиц и Евгению Мартиновичу Зелтыню за неоценимую помощь в переводе медицинских терминов.
Владислав Сисаури