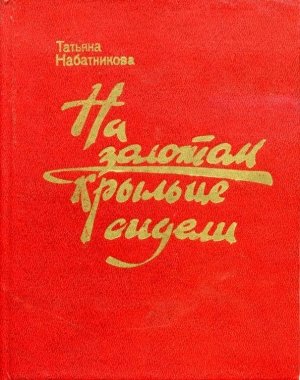
Повесть и рассказы молодой челябинской писательницы рассказывают о поколении, которое вступило в зрелость в 70-е годы и теперь с позиции уже собственного опыта осмысливает нравственные проблемы, встающие перед обществом. Его представителей отличает стремление к жизни по высокому счету, социальная активность, желание самим разобраться в сложностях взаимоотношений людей, четкость нравственных оценок.
Тебя от ранней зари...
Ни за что нельзя туда возвращаться. И всегда соблазн туда съездить. Наверное, я поддамся в конце концов. Но этого нельзя.
Я там родилась, а во втором классе меня увезли.
Там жаркое лето, от зноя глохнешь.
Там болотная речка Беляй под высоким берегом, и внизу крадется неслышно и жутко темная вода.
Я однажды видела тамрусалку. Она зависла в воде над глубиной и, склонив голову, заплетала косу. Коса длинная, русалка доплетала ее под водой, под черной прозрачной водой, и подробно было видно, как она шевелила на весу ногами и стояла так без опоры в пустоте и не тонула. Раз ноги, значит, не русалка, но как можно так стоять? Русалка с ногами.
Мне все кажется, что я там не дожила. Хочется вернуться и дожить. Но этого нельзя делать.
Как она стояла в воде? Там с самого дна из мрака поднимался остролистый резун, там каждое лето кто-нибудь пропадал на невидимом дне, а она плела косу и висела без опоры. Стоячий Беляй: зовущая мертвая вода.
Когда я ее увидела, я поняла: вот сейчас войду в воду, оторвусь от дна и поплыву. И действительно поплыла.
Наверное, увидеть бы мне летящего человека — я бы взлетела. Ведь летала же я во сне, ведь откуда-то помнит душа атавизм полета. Осталось только увидеть, как это делается. Но люди забыли, и каждый не верит. Неужели не найдется никого, кто бы взял и полетел!
Мы уехали из-за отца: надо было его увозить оттуда подальше. С этого времени для него все и кончилось, хотя он тогда еще не знал, что все кончится, он, наверное, думал: подумаешь! Думал, наверное, природе не надоест подкладывать ему на тарелку.
А я и вовсе ничего тогда не думала. Меня укачивало на третьей полке общего вагона, отец зачем-то будил на стоянках в самой глубине сна и выводил на перрон. Разгуляешься, говорил он, ничего... Бесприютная тьма смыкалась позади огней, хотелось уснуть сначала — и я плакала, а он брал меня на руки, такую большую, и, не отрываясь от дальней тьмы, рассеянно говорил: «Ах, Ева, Ева». И снова со вздохом повторял: «Ах, Ева, Ева».
— Холодно! — просилась я в вагон.
А он все ждал, как будто кто-то его должен догнать и остановить, но никто не появлялся из темноты, поезд лязгал и сдвигался с места — и мы запрыгивали в вагон ехать дальше, в Полянино, к маминой сестре тете Вере.
Он меня любил. Все кругом любили, я привыкла и думала: вот такой уж я подарок всем, я не знала еще, что любят всех детей подряд за их глупую радость жить. Думала, я особенная и самая главная, и все предназначено мне. Я выбирала и отвергала. И отвергнуто было много всего. Когда мы приехали в Полянино, навстречу нам бежала моя старшая двоюродная сестра Надя, и она была некрасивая: четырехугольное лицо и грубые черные глаза. Она схватила меня в охапку и радовалась, не стыдясь своих угловатых косящих глаз. Мне бы ее полюбить. Но я, как яд на острие стрелы, рассчитана была только на одного человека — и меня уже пустили.
У меня в Полянине появилась подружка Люба, краснощекая девочка, битком набитая плотью, — я и ее не полюбила. Она не могла понять, чего я хочу, когда мы играли в тети Верином черемуховом садике. А я хотела вот чего: на картинке в «Крокодиле» был нарисован заяц-ревизор, он сидел под березой за письменным столом, его шляпа висела на ветке, на столе пресс-папье, возле стола росли грибы. Вот так бы жить без крыши и без стен, посреди черемухи, вешать пальто на сучок — по правде.
Люба не умела хотеть того же, что я, она только моргала глазами и преданно смотрела на меня, потому что я приезжая, с неслыханным именем: Ева. Я не созналась ей, что это всего-навсего Евдокия.
Приходили к Наде подруги, прогоняли нас с Любой из садика, а сами там шептались, с привизгом хохотали и оттягивали на груди кофточки, чтобы было попышнее.
В Полянине жили хохлы, и они пели свои песни. Мы, оказалось, тоже были хохлы. У тети Веры собралась гулянка, я лежала на печи, подперев щеки кулаками, и слушала. На приступке печи лежала черная, истлевшая по краям старинная книга. Я ее открыла — там все было в твердых знаках и с неизвестными буквами, я прочитала одну строчку «Тебя от ранней зари ищу я», потом встретилось «Богъ», и книжку я отвергла. А хохлы пели незнакомую песню с совершенным печальным изгибом мелодии, голоса растекались на протоки и снова соединялись в одно русло.
Тетя Вера перестала сновать от печи к столу, сняла фартук, присела к гостям и вела основной мотив первым голосом. Я слушала — и мне хотелось плакать, как будто я все ближе, все ближе — и вот уже почти вспомнила, почти догадалась о жизни: откуда мы все, почему в сумерках времени я затеряна вместе с этими людьми и пропаду, почему они поют и почему я живу как будто несколько жизней, которые не смешиватотся между собой.
И я, как Василь, насилу переносила это пение, с мокрым дрожащим горлом, и все силилась додуматься до чего-то, нечаянно промелькнувшего, как будто разглядеть что-то в сумерках или во сне — и никак.
Дальше в песне мать не дозволяла Василю жениться на вдове.
Отец мой вдруг встал и вышел из комнаты за дверь. Мать с ревнивой ненавистью проводила его взглядом. А у меня все-таки просочились наружу слезы. Есть что-то одно в любви, в музыке и в книгах — совершенно одинаковое, — я узнаю его по тому, что плачу дремучим, смертной тоски плачем, которому нет причины, — как собаки воют на луну.
Василь все равно решил жениться на вдове, не послушался матери, я вышла на крыльцо, чтобы сказать об этом отцу, но его нигде не было.
На большом тети Верином огороде мы садили картошку, и Надя всех поторапливала, потому что в полдень на школьном дворе начинался праздник окончания учебного года. Праздник этот назывался фестиваль.
Я бросала картошку в лунки, которые копали мать и тетя Вера, идя друг за другом. Они тихо разговаривали — и я старалась не слышать слов матери.
— Он с ней работал вместе. Каждый день только и слышишь: Волошина сказала то, Волошина сделала это, а вот Волошина... и все такое. С языка у него не сходила. А потом вдруг замолчал про Волошину, — вполголоса мрачно рассказывала мать, косясь на соседнюю полосу, где садили картошку отец, дядя Вася и Надя. — И два года эта петля затягивается, затягивается, я говорю: все, или убирайся к чертовой матери, или давай уедем отсюда подальше, если хочешь с нами жить. Вот и приехали — куда мне еще деваться, как не к тебе.
Волошину я знала. Это она придумала мне такое имя — Ева. Года два назад, я еще не ходила в школу. Мать тогда лежала в больнице, а отец собрал у нас дома гостей. Много, все новые и красивые, играл патефон, и музыка тревожила меня предчувствием чего-то невыносимо печального и счастливого — и тоже хотелось плакать.
Гости танцевали, и отец танцевал с Волошиной. У нее под собранным на затылке волнистым валом волос лежали на шее два пушистых завитка, и я гордилась, что именно отцу досталось с ней танцевать.
Потом Волошина сидела на диване, притянув меня к себе и, улыбаясь через мою голову отцу с непонятной, тревожной для меня загадкой, говорила: «Пусть она будет не Дуся, а Ева. А? Смотри, как красиво: Ева, Евдокия».
Отец чуть коснулся пальцами ее завитков и сказал: «Так и будет». А потом тише добавил: «Может, это единственное, что я могу обещать тебе».
И он с тех пор стал звать меня Евой, и этому все подчинились и привыкли.
Волошина жила от нас через два дома, и в ее одинокой комнате, куда она однажды зазвала меня, купив по дороге кулек лесной земляники (помню обман: земляничный запах обещал такое, чего не мог сдержать вкус ягоды), — в ее одинокой комнате было усмиряюще чисто и тихо, а на комоде зачем-то сидела кукла, хотя никаких детей у Волошиной не было, и я, после земляники осмелев, тайно ждала, что вдруг эту куклу Волошина тоже подарит мне, но она не подарила, а я, захваченная напрасной надеждой, пропустила вниманием конфеты, которые она дала к чаю, так что даже не могла повторить потом в памяти их вкуса, что было очень обидно. Конфеты назывались «Озеро Рица».
— Я уж к ней и ходила. Разговаривала... — продолжала мать. — У, н-наглая такая, что... так бы и вцепиться ей в глаза...
Тетя Вера опасливо оглядывалась, чтобы Надя не слушала такие разговоры.
Я про себя выбрала Волошину: те два пушистых завитка на шее, когда она танцевала с отцом, подтверждали ее правоту.
— Ну все, я ухожу, — громко объявила Надя.
Тут через перелаз огорода заглянула моя подружка Люба и позвала:
— Ева-а! Ева-а! — она выговаривала это имя с аппетитом и удивлением, как ела бы невиданный фрукт из невиданной страны.
На Любе было неношеное, жестко топорщившееся платье из красного в белый цветочек ситца и штапельная косынка на голове.
— Иди, — отпустила меня тетя Вера.
— Ну сейчас, прям! — возразила мать. — А садить картошку кто будет? Да и нечего ей там делать, она еще никого не знает.
— Иди, иди, Евдокия, отправляйся! — строго скомандовала тетя Вера, тоном обозначая свое главенство над матерью как над своей младшей сестрой, и я сорвалась, побежала, наскоро умылась в тазу во дворе, так и не справившись с земляной каймой под ногтями из страха опоздать на фестиваль; ох уж эта мать, но ведь ее жалко, а отец — но что поделаешь, у Волошиной на шее эти завитушки, а тетя Вера добрая, конечно: ей с дядей Васей хорошо, но как же все-таки быть с матерью? И опять мне потом попало от нее: я поменялась с Любой косынками — мою крепдешиновую голубую на ее штапельную, и мать велела забрать назад, но тетя Вера заступилась: «А брось ты, ну какая тебе разница, нехай девчонки дружат».
На фестиваль мы с Любой не опоздали.
В школьном дворе было шумное гулянье, и тут меня выловила из толпы Надя и потащила в свой кружок.
— Смотри, — похвасталась она большому парню, выставляя меня перед собой. — Моя сестренка. Зовут — Ева. Перешла в третий класс.
И парень этот одобрительно кивнул, а Надя потрясенно на него смотрела, и углы ее лица сгладились, она уже не казалась мне такой некрасивой. С волейбольной площадки долетел неверно поданный мяч — и парень этот точно и красиво отбил его назад. Стало ясно, что он тут главнее всех, и имя его оказалось величательное: Олег Верховой. И лучше бы Надя держалась от него отдельно: она все портила. Тут же мне стало жаль сестру и стыдно за мою предательскую мысль — безысходность такая же, как с матерью и Волошиной, а мне хотелось всех примирить и все распутать: из подражания остальным людям — они ходили вокруг, и на их лицах была такая безмятежность, как будто у них-то все просто и удобно для жизни.
— Пошли, Верховой, смотреть волейбол! — предложила Надя и покраснела от усилия и ожидания.
— Надя, я бы с удовольствием, — растерялся Верховой, и я потянула Надю за руку поскорее уйти куда-нибудь от стыда. — Но меня ребята ждут в бильярд.
Надя удержала меня и сказала:
— Ну ладно, пойду тогда смотреть ваш бильярд.
— Ты понимаешь... Можно, конечно. Но там одни парни, — мялся Верховой. — Тебе будет неудобно.
— Ну и шут с вами. Пойдем, Ева, танцевать.
Удивительно: я понимала намного больше, чем могла понять. Мы стали протискиваться сквозь толпу на музыку: играли на баяне «Хороши весной в саду цветочки». Старшеклассницы парами вышаркивали по земле быстрый фокстрот, а народ стоял кружком и глядел на веселье. Надя, через силу улыбаясь, чтобы не заметно было ее огорчения, схватила какую-то подругу и пошла с ней в круг.
Я пролезла между юбками и вдруг в середине круга увидела: фокстрот играет мальчик. Он сидел на табуретке и прятал в баяне лицо, от застенчивости делая вид, что играет как бы вовсе и не он. Пальцы порхали по пуговкам — и выходила музыка.
Фокстрот кончился, и мальчик, светлоголовый, в серой школьной форме, стал играть ту самую мелодию, под которую когда-то танцевал мой отец с Волошиной. Я еще не видела детей, у которых из рук выходила бы живая музыка.
Музыка — это таинственное вещество, которое одно могло проникать до того места души, откуда происходили непонятные, ничем не объяснимые слезы.
Я слабею, как будто мне подрезали жилы, и расслабленно текут и текут мои слезы: пробился источник и омывает меня изнутри. Но я все-таки не заплакала.
Акации окружали школьный двор, тополя тянулись в вышину, я проследила до самого апофеоза, а там, за их верхушками, всходили купола облаков; они клубились по светоточивой сини и торжественным хороводом смыкались вокруг нас — у меня закружилась голова, но мне страшно было возвращать взгляд вниз, на мальчика — из-за опасности неизвестной силы. Я оглянулась вокруг для помощи или для объяснения, что же происходит, отчего мне так тревожно. Но никто ничего не опасался, у всех были одинаково бестревожные лица, как будто все очень обыкновенно и — ничего нового на земле. От этого я немного успокоилась и обернулась к мальчику.
Видно было, что руки у него мягкие и влажные. Расплющенные подушечки пальцев загибались из-под ногтей вверх, как обогнавший морскую волну гребень. От баяна, наверное, подумала я и уже не боялась смотреть.
Когда, наконец, через три года я взяла в темноте кино его руку с зажатым в кулаке билетом, он послушно подчинился, и я, успокаивая сердцебиение после первой решимости, замерла на минуту, а потом осторожно вытянула билет и скомкала в шарик, — его покорная рука, голая, мягкая, осталась в моей ладони, невольная, как больная птичка.
Тут протиснулась в круг Люба. На мальчика с баяном она не обратила никакого внимания.
— Ты где, я тебя все ищу, ищу.
— Ты его знаешь? — шепотом спросила я, чтобы не перебивать музыку.
Люба оглянулась на него и скучно ответила:
— А он из нашего класса, Толька Вителин. А что?
Это была ошеломительная удача жизни. Мы будем в одном классе. Я смогу даже говорить с ним, как Надя с Верховым — без всякой справедливости, по случайному праву одноклассницы.
— Почему ты мне про него сразу не сказала?
— Когда сразу? — не поняла Люба.
— Сразу, как мы познакомились, позавчера.
— Поду-умаешь!
Тут Толя перестал играть, поставил баян на табуретку, и круг дал ему дорогу, когда он уходил. У него была застенчивая походка, и лицо то и дело заливалось краской — он его прятал, зарываясь подбородком в грудь. У меня шумело в голове от изобилия всего, что мне являлось. Я не могла выделить главное. Мне хотелось заткнуть уши, закрыть глаза, ничего больше не чувствовать и подождать, пока уляжется то, что уже попало в меня. Но мир не оставлял меня в тишине ни на минуту, и я не успевала разобраться в нем.
— Поду-умаешь, ну и что, что он играет на баяне. У нас и в других классах еще есть мальчишки, которые играют. Ты как будто никогда не видела, как играют. Не видела, да?
Любе понравилось превосходство надо мной.
— Ну, видела, — неохотно соврала я и спрятала свое удивление подальше от ее разорительного равнодушия.
Сельсовет дал моим родителям квартиру: саманный дом на краю села. Мы сразу же пошли его смотреть. В нем давно никто не жил, мать ревниво пробовала рукой переплеты рам на окнах, озиралась, прикидывая высоту потолков и место для стола. Отец равнодушно прохаживался туда и сюда, чтобы занять время.
— Господи, дай нам бог здесь счастья! — с отчаянной силой сказала мать, стиснув руки.
Ее стало жалко. В доме было сыро и темно, несмотря на лето, и я вышла наружу. В бурьяне у крыльца, облитые светом, цвели ноготки. Я зажмурилась от солнца — так убедительно оно светило, что несчастья казались неправдоподобными. Я присела к ноготкам и стала выпалывать бурьян.
Вышел на крыльцо отец, крикнул матери, что посмотрит огород. Не заметив меня в траве после сумрака дома, он негромко заключил, отвечая за бога на молитву матери:
— Ни хрена тебе счастья не будет.
И засвистел, но тут заметил — в соседнем дворе за штакетником — женщина кормила уток, забыл про огород, который хотел посмотреть, воровато окликнул: «Варь, а Варь!» — и пошел к штакетнику, осмотрительно оглянувшись на дверь.
Я смотрела, как он крадется, и от сильного тока крови вдруг ясно догадалась, что им обоим уже не видать счастья — и ему, и матери: оно все неизбежно перешло ко мне, я услышала его в себе в виде нарастающего гула — приближения моего прекрасного будущего.
С этой поры я смотрела на своих родителей, как бы оглядываясь назад, в никому не нужное прошлое. Несчастья, в которых они горевали, должны были постареть и умереть вместе с ними, как пережитки капитализма, о которых говорило радио. Впереди их ничего не ждало, меня — все.
На другой день мать принялась белить, мыть и обставлять дом, надеясь на перемену жизни. Я помогала. Я вырезала белые бумажные кружева для кухонных полок ради общей красоты и надежды, хотя сама уже знала, что никакие кружева матери не помогут, что все счастье — мое, но не могла же я сказать это ей.
Потом, спустя годы, когда я была уже давно взрослой женщиной, мама как-то сказала мне, что в детстве она тоже предчувствовала свое необыкновенное прекрасное будущее и жила в ожидании его лет до двадцати, пока не родилась я.
В доме нашем было две комнаты, и в дальней поставили кровать родителей и круглый толстоногий стол, покрытый плюшевой скатертью. Учительница Лидия Васильевна, когда пришла к нам проверить условия, нашла наш дом очень благополучным.
— Не удивительно, что ваша Ева хорошо учится: у вас такие условия! — сказала она матери.
Мою мать Лидия Васильевна тоже когда-то учила, такая она была уже старая. Когда на уроке Люба спросила ее: «А Москва — большая?», Лидия Васильевна подумала немного и значительно назвала самую большую протяженность, какую только могла помыслить: «Двадцать километров!» И мы все ужаснулись огромности нереальной, несбыточной для нас Москвы. Единственно доступный нам по жизни город Климов назывался в деревне просто: Город. Так же, как единственная ягода наших степей — клубника — называлась просто: ягода.
Мы сидели с Любой за одной партой. В самый первый день, когда мы пришли в класс, девочки окружили нас, и Люба, свысока поглядывая на всех, объяснила: «Это моя подруга. Ева». Девочки оробели. Они все были Гали и Люды.
— Ева, — повторила одна завороженно и улыбнулась, стесняясь криво растущих зубов.
И тут я увидела впереди, за первой партой, Толю Вителина — он был весь на виду.
Только бы не оглянулся.
Ноги девочек вокруг меня кружком на коричневом полу, стены белые, мел, свет за синими переплетами, и стволы тополей опять поднимаются вверх, как на фестивале, от стволов тянутся ветки, и за ними облака укрываются за невидимый край — ну, что-нибудь, чтобы можно было заплакать, пусть кто-нибудь подбежит и ударит, чтобы упасть на парту, закрыть лицо и чтобы никто не спросил, что со мной, ведь я не знаю, что со мной, но если он оглянется, я заплачу.
Наверное, потому, что я сильно хотела его увидеть.
Пойти к тете Вере, вертелось в голове, зачем — не помню, — ах да, пойти к тете Вере и почитать ту истлевшую книжку, где написано: «Тебя от ранней зари ищу я».
Он все-таки оглянулся, но я уже не заплакала: привыкла.
Лидия Васильевна на первом уроке сказала: «Ребята, у нас новенькая, Дуся Паринова». А Люба поправила ее: «Ева». По классу прошел шум, кто-то шепнул: «Дуня»; кто-то подхватил: «Дуся»; кто-то сказал: «Барыня». Глупые, бедные, бедные дети, как они кривили рты, хихикали и оглядывались на меня. Девочки бросались драться на ближайших мальчишек, чтобы защитить меня, свое экзотическое достояние. Лидия Васильевна прикрикнула: «Тихо!»
Он не оглянулся.
«Дуню» сразу забыли, но осталось прозвище Барыня, обязательное по правилам детства.
«Барыня, дай списать!» — «На».
Никогда не просил списать Толя: отличник. И еще Павлуха Каждан: гордый двоечник, цыгановы глаза — я однажды оглянулась на их упорный взгляд. Лидия Васильевна хотела «прикрепить» его ко мне по русскому языку. Он покраснел так, что налились глаза, и зло ответил:
— Принести кнопки для прикрепления?
— Не дерзи, — ответила Лидия Васильевна. — Ничего тут обидного нет, просто будешь учить уроки с Евой, будешь ходить к ней домой. Дома у нее прекрасные условия.
— Это я сам буду решать, к кому мне ходить домой, — сказал Павлуха.
— Твое дело, Каждан, можешь оставаться двоечником, — обиделась Лидия Васильевна.
Я так думаю, она его понимала.
Только бы не оглянулся Толя. Я смотрела сбоку на его разогретый от окна румянец, и меня тянуло дотронуться до его щеки — только кончиком пальца, чтобы ничего в нем не повредить. На перемене я подходила к Гале, которая сидела за ним на второй парте, спросить что-нибудь, а сама тайком разглядывала вблизи пушок на розовой коже и впрыснутый просвечивающий румянец. Нежные пятна розовой крови... Глядя на них, я медленно запутывалась в каких-то невольничьих тропиках, в заколдованном мареве — и было ясно, что никто до меня здесь не был, никто из тех, кого я знаю, и названия для этого не найти.
Любовь — такое слово было: позорная дразнилка вроде моего несчастного имени Дуня — оно не годилось. Со мной случилось что-то другое, внеязычное, и я чувствовала с испугом, молча, догадываясь: это моя избранность, моя исключительная судьба, не видимая никому. И я хранила ее в тайне, чтобы никто не позавидовал мне.
Пресветлая осень поспела, осыпалась, устелила школьный двор желтыми листьями. На переменах грызли початки вареной кукурузы, мальчишки гонялись за девчонками по шуршащему двору, чтобы дергать за косы, и за мной гонялись с особенным пристрастием, привлеченные, как пчелы неуловимым запахом, тем счастьем, которое монопольно копилось во мне и зрело для будущей жизни. Это я так догадывалась. Потом оказалось, что просто у меня были длинные косы, и я была новенькая.
Толя Вителин не бегал на переменках, не гонялся за девчонками, и у меня всегда оставалась власть, если захочется, бросить всех, вернуться в класс и, сколько влезет, держать его — всего, с головы до ног; как кошка мышь, — в охвате зрения. Это было то изобилие, которое только и могло пребывать в царственном центре мира, помещенном во мне. Но я боялась: вдруг он оглянется, и я поскользнусь в его глаза.
Наш саманный сельсоветовский дом оказался холодным, зимой углы промерзли, отсырели и потемнели от пятен. Он стоял на краю села, дальше шла снежная степь — вечерами после заката на сугробах лежали фиолетовые тени, и в самой близи от нашего огорода начиналось смертное единовластье холода. Голое, без лучей, зимнее солнце целые дни студило землю.
Мать, закутанная в шаль, шаркала валенками по кухне и подбрасывала в печь угля. Печь была сложена плохо — все тепло уносилось в трубу.
Бумажные кружева на полках почернели от копоти и оборвались.
— Ева, я лягу. Пойди к отцу на работу, скажи, я болею и чтоб сегодня пришел пораньше, печку топить.
Я шла. Отец досадливо морщился:
— Ну, опять... Нет-нет, сегодня никак не получится пораньше, — начинал он прикидывать в уме, увиливая взглядом. — У меня отчет. Как-нибудь там сами... Неужели так сильно разболелась? Ах ты... Ну, а ты-то что же, разве не справишься?
Я-то справлюсь. Да в печке ли дело?
В те вечера, когда отец был дома, мы ужинали в молчании, невнятно говорило или пело радио из комнаты, после ужина отец брал книгу и ложился на неразобранную кровать читать. Но минут через десять он со вздохом откладывал книжку — в ней был отряд батьки Михая и лесные партизанские подвиги — и маялся в ожидании ночи. Иногда он напивался, чтобы проскочить эту мрачную вечернюю маету, и тогда ему было лучше, а нам хуже, чем обычно. Мне представлялось: мы вслепую ползаем на четвереньках под низкими темными сводами, и из подземелья этого никому нет выхода, кроме меня. Мне нужно только потерпеть и подождать: я вырасту, и для меня наступит настоящая жизнь.
Мне совестно было перед пропащими родителями безраздельно пользоваться своим будущим и бессмертной жизнью — и я все норовила уйти из дому и переночевать у тети Веры. Там потрясенная Надя переписывала в общую тетрадь стихи — их она мне не показывала, зато давала смотреть альбом с артистами, и в нем была одна открытка из «Колдуньи»: летящая по чащобе босая Марина Влади — со скорбным лицом.
Весной родители затеяли строить свой дом.
— Может, все-таки, не будем строить, а? Может, нам дадут другую квартиру, потеплее? Или, в крайнем случае, печку здесь перекласть, — говорил отец, — а то возни столько...
— Знаю я, куда ты клонишь, — решительно возражала мать. — Ты к Волошиной своей удрапаешь, а мы оставайся в этой саманухе, да?
— Нужна мне сто лет твоя Волошина, — отвечал отец мелким, семенящим голосом. — Ну, как хочешь. Строить так строить.
Что это стало с его голосом в последнее время: источился, стал хитренький, — наверное, от вранья.
За Волошину мне было обидно. За ее чистенькую комнатку и за кулек земляники, и те завитки — за то, что отец их забыл, и значит, погибель на земле и забвение. Я решила помнить ее за отца — чтобы ничто не пропадало даром на свете.
Родители строили дом, лето было жаркое. Каждый день я тащилась по пыльному переулку за хлебом и назад посреди стоячего июля, и под забором размеренно покачивались лопухи. Я останавливалась и подолгу смотрела на их стариковский покой, над ними ветки деревьев волновались, и от случайного ветра листья со вздохом вздрагивали, блестя и просеивая на землю свет. Хлеб в сетке царапал мне пыльные щиколотки, я взваливала сетку за спину и все стояла и смотрела на эти успокоенные лопухи. Хотелось запропаститься в рождающую глубину земли, в самую ее тьму и не ходить больше снаружи по ее поверхности.
И не иметь отдельной души и ничего не сознавать, а только качаться с травой от ветра на виду у одного и того же забора.
Как мне повезло в то лето, не описать. Меня взяли на один день на сенокос: возить копны. Это значит — ехать верхом на смирном коне, впряженном в волокушу: на волокуше едет копна сена, я везу ее туда, где скирдуют стог. И по пути к стогу, и по пути от стога мне навстречу едет со своей волокушей Толя. И всякий раз я ненасытно вглядываюсь: вот он показывается из-за холма, покачиваясь на своем коне, вот он приближается, вот мы поравнялись, потом я украдкой оглядываюсь, сколько могу. Он не оглядывается.
Поравнявшись, мы опускаем глаза и молчим, стесняясь друг друга, но все равно: щедро.
Он оставался там ночевать в шалаше со всеми мужиками, а нас вечером увезли. Но я успела ухватить: край вечернего неба, на горизонте холма вырезан силуэт пасущегося коня, а у шалаша перед костром — Толино освещенное зыбким огнем лицо среди изношенных мужских лиц.
Он поднимет вверх крышку парты, положит на нее голову, отвернувшись к стене, и сидит так перемену. Я не выхожу из класса, а Люба не понимает, как это мне не хочется бегать по двору в такие ненаглядные сентябрьские дни. Она тащит меня за дверь, я с сожалением делаю последний глоток наголодавшимися за лето глазами и плетусь за Любой. Я не могу ей ничего объяснить.
Тайна моя, бедные серые люди, — и никому невдомек.
Это мое открытие. До меня этого не было ни с кем, никогда. В кино были подвиги партизан, в книгах школьной программы — самоотверженные герои, а в жизни — скучные, тоскливо-горькие взрослые: по тому, как они жили и разговаривали, было ясно, что у них нет глаз увидеть это.
И я перестала бояться, что увидят и отнимут. Взгляд мой уже открыто то и дело тянулся к первой парте на третьем ряду.
Случилось невероятное: учительница, незабвенная Лидия Васильевна, вдруг посадила нас, двух отличников, меня и Толю, за одну парту, не очень убедительно пробормотав: «Пусть Ева поучится у Толи красивому почерку».
Лет через пять, встречая в коридоре школы оробевшую от старости, рассеянно отвечавшую на поклон Лидию Васильевну, я чувствовала себя виноватой перед ней — за то ее давнее понимание, которое я, по детскому неразумению, приняла за случайное свое везение. И всякий раз, здороваясь с уже нелюбопытной, по-старчески ушедшей в себя Лидией Васильевной, я говорила про себя: «Милая Лидия Васильевна...» И дальше не знала, чем же я могу ее отблагодарить. И теперь не знаю.
Воскресенье было худшим днем недели: без Толи. Дома — в новом доме — не стало лучше, чем в саманном. Мать много ела и скаредничала, наверстывая недостаток радости. Она все растеряла и стала равнодушной, как старые старики, уставшие любить и хотеть.
Отец был извивчив и скользок, как уж, и худел от постоянной лжи и притворства.
А у меня было: завтра понедельник, и снова — одна на двоих парта, тесная, по-семейному отдельная, наша. Мы совсем не разговаривали. Если я отваживалась сказать что-нибудь, он только застенчиво улыбался, как бы извиняясь, что не знает, как ответить и зачем говорить.
Я расставляла локти пошире, чтобы коснуться его руки — иногда он машинально отодвигался, чтобы дать мне место, а иногда не замечал, и тогда я переставала видеть и слышать Лидию Васильевну, все внимание к миру собрав в своем правом локте, которым чувствовала его тепло. Я опускала глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и Лидия Васильевна окликала меня: «Ева Паринова!» Мне становилось стыдно, как будто она могла разоблачить мой локоть.
Я записалась в школьный хор, чтобы слушать, как он играет там на баяне, и смотреть на него. Я в этом хоре просто раскрывала рот без звука: так лучше слышно баян.
Певцом оказался Павлуха Каждан. Наша учительница пения слушала его с дрожащими руками: волновалась. Его поющий голос бил, как струя из брандспойта, упруго, с большим запасом силы. Павлуха согласился на смотре художественной самодеятельности запевать в хоре.
Он пел бескрайним своим некончающимся голосом: «Орленок, орленок, взлети выше солнца и степи с высот огляди» и бережно слушал, как хор вторил ему: «Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один». Но после смотра больше не пришел в хор и только усмехался на восторг учительницы пения, которая обещала ему великое будущее. Я с назиданием отличницы сказала ему, что зря он не хочет петь: так плохо учится, что никуда не примут, а то бы хоть все-таки пел, развивал голос.
Он ответил, что его уже приняли, когда он родился.
— Ну и будешь пастухом, — пугала я его.
— Буду пастухом, — строго соглашался он.
У него были жестко глядящие из глубины глаза, он смеялся, говорил и двигался, не оглядываясь. Если я подолгу смотрела на него, появлялось странное удивление: он был настоящий. Но на каждом уроке увесистое мнение учителей совсем по-другому расставляло знаки симпатий, как будто красными чернилами исправляя мои ошибки, и я с сомнением, но подчинялась форме сосуда, в котором меня выращивали для будущей жизни. Павлуху однажды поставили перед всей школьной линейкой: у него нашли поджиг.
Как эти мальчишки умеют стоять под позором всей школы. Он стоял, и хоть бы что, и за него не было стыдно. Я бы провалилась. Я старалась вести себя без риска, с большим запасом благонадежности.
Меня удобно было назначать во всякие советы: я преданно поднимала руку вверх, где надо учителям, лишь бы не оказаться с ними в опасном противоречии. И меня неизменно назначали, и я научилась говорить нужные слова, рабская душа.
Однажды на совет дружины привели Артура Брема, пятиклассника: он, сказали, ужасно нагрубил учительнице. За длинным зеленосуконным столом пионерской комнаты сидели мы, девять пионеров-отличников, обладатели самой правильной истины, и с верховным осуждением смотрели на него, а он стоял перед нами, отвернув глаза, чтобы не видеть вплотную наших лиц и не рассмеяться от презрения.
— Стыдно? — с удовлетворением сказала пионервожатая, и он еще ниже опустил голову.
С Артуром меня связывала одна горькая тайная беда — и он переносил ее с гордым ожесточением, а я — с трусливым и притворным незнанием. Я чувствовала, что его грубость учительнице как-то зависела от этой беды и было бы честнее мне стоять сейчас рядом с ним, а не восседать против него за зеленым сукном.
— Как ты посмел? — сурово наступали на него. — А ты знаешь, что за это полагается? — спрашивали его с подводным айсбергом угрозы. — Какие будут предложения?
Мне стало совестно перед ним, как будто он заслонил меня собой от удара. Я кашлянула и робко сказала, отнимая у коллектива свое единогласие: «Но ведь не просто же так — взял и оскорбил. Наверное, была причина?»
— Не может быть причины для оскорбления учительницы, Паринова! — осадила меня пионервожатая.
Он взглянул на меня со сдержанной благодарностью одинокого, и я увидела, что он такой же беспомощный, как и я, хоть и гордый, и он так же боится, и мать его, наверное, бьет ремнем.
И еще он ненадолго задержал на мне взгляд, чтобы проверить, знаю ли я.
Знаю ли я, заступаясь за него, что мой пьяный отец иногда спит с его пьяной матерью в их единственной комнате за занавеской, в двух шагах от него. Я опоздала на секунду отвернуться от его взгляда, и за эту секунду между нами возникло печальное соратничество не имеющих выбора детей.
Он скоро ушел из школы в люди, и слава богу, потому что, встречая его, я со стыдом вспоминала, кто мой отец, а я не хотела об этом помнить.
Я рвалась в свое прекрасное будущее.
Верховой из Надиного класса поступил в Московский университет, и им гордилась школа. Его ставили в пример, и я уже знала, чего надо добиваться. Не было никого, кто сказал бы наоборот.
А Надя после школы работала на ферме — вот уж это было в стороне от моей дороги, и Надя для меня пропала, как все ненужное, что не стоило внимания. Мне некогда было отвлекаться от главного.
С Надей там еще какое-то несчастье приключилось, она ходила с опухшими глазами, отрешенная, а однажды я пришла к ним, а двери на засове среди бела дня. Тетя Вера выбежала ко мне и тревожно замахала руками, чтоб я тут же поворачивала домой, не до меня. На крыльцо вышла чужая старуха, и выплеснула что-то из таза, и тихо сказала что-то тете Вере. Мне было слышно только «...Верховой...».
И стало так страшно, я сразу же пошла поскорее прочь, а тетя Вера меня окликнула и сказала: «Дяде Васе ж смотри ничего не скажи!»
Это безопаснее всего было поскорее забыть, чтобы не запутывать непонятным жизнь и не мешать главному: подготовке к будущему.
Я жила, как в поезде, отвернувшись от окон, в нетерпеливом ожидании конечной станции.
Стоп, приехали.
Все лето после четвертого класса шли дожди. Грустная земля в тихих одуванчиках, сумерки и поникшие ветви были в то лето, и тихоструйная трава тонула в прудах. Появлялось солнце — и отяжелевшая земля выпрастывала кучевые туманы, но не успевала освобождаться до следующего дождя.
Мать с отцом ругались из-за того, что преет сено в валках, и, чтобы не слышать их, я уходила из дома за промокшую калитку, на сырую поляну. Я сидела на бревнах у своего крайнего дома, застрявшие на крыше капли падали с печальным звуком, и я смотрела, как этот одинокий шар со мною и с бревнами закатывается в сумерки, тонет и теряется в темноте. И некому пожаловаться...Чтобы забыть эту темноту, от которой хотелось плакать, как плачут помешанные и младенцы, близко чувствуя невидимую остальным опасность, я пряталась в дом, в свет и писала в комнате тайный дневник, ища разгадку непонятной жизни. Я начала подозревать: что-то главное от меня ускользает.
На кухне отец говорил матери: «Пришей-ка, мать, пуговицу: вот, на рукаве». Мать равнодушно отвечала: «Иди к Бремихе, пусть пришьет». С притворным и трусливым негодованием отец восклицал: «Ну когда тебе, мать, наконец, надоест выдумывать всякую чепуху!», на что мать с привычным безучастием молчала и, наверное, пришивала эту пуговицу.
А я писала: «Опять целое лето не видеть его. Так невозможно больше жить, а я живу. Знать бы мне: да или нет — и легче бы стало от ясности. Я как в камере сижу и не знаю приговора, уж лучше бы сказали «казнить», чем мучиться дальше в этой неизвестности. Я ненавижу его за эту неизвестность».
Я утешалась только тем, что многое помнила заживо и, когда хотела, могла снова и снова смотреть: лицо, прячущееся в баян, музыка, пляшущие пальцы посреди музыки, как сказочная саламандра в пламени огня, «орленок, орленок», — поет голос невидимого Павлухи Каждана, «взлети выше солнца», — играет баян близко перед глазами.
От дневника не осталось и следа. Я его выбросила. Я его сожгла. Я даже не открыла его после того, как в него забрался мой окончательно пропавший отец — а ведь еще недавно пухлым ребенком я плясала под елкой, вертя поднятыми вверх растопыренными ладошками, а он хлопал, смеялся и прищелкивал языком, встряхивая волосами, и он еще ждал тогда чего-то и радовался, как будто вот-вот получит от жизни самое желанное — господи, да что же это! — и он сидит теперь на кровати, пошатываясь, пьяный, икает и с сытым садизмом спокойно смотрит издали, как нарастает неразрешимая истерика матери. Я оттаскиваю ее от стены, отпаиваю водой и веду спать в свою постель. Ей осталось последнее — сладострастие страдания. Назавтра она утешится своим праведным «за что!».
Я ненавижу их обоих за их несчастья.
Когда я увидела, зайдя в комнату, как отец захлопывает мой тайный дневник... — Павлуха Каждан ударил бы отца, плюнул бы ему в лицо, убежал бы из дому, защитил бы себя любой ценой... — я же не была научена сохранению души, и я сказала:
— Это я все сочинила.
Я думала, трусость и предательство — это только на войне. Я не знала, что делаю самое страшное предательство.
Да нет, я знала.
Отец засмеялся. Я для убедительности засмеялась вместе с ним, но, не выдерживая долго отвращения, — к отцу, к себе (нет, я знала, что предательство. Но не разрешала себе знать) и к миру вокруг, — отвернулась и быстренько стала мыть посуду, наливать воду из чайника в миску и мочить с усердием тряпочку и отжимать.
Дневник я погубила, чтобы не помнить своего унижения и предательства, и все, что хранилось в дневнике, тоже на время пропало, как будто слабая душа упустила непосильную ношу.
Но скоро, очень скоро все зажило (услужливые прорехи памяти, куда проваливается все плохое), и, распластав руки, я гонялась во сне за летающим над бесконечными водами Толей, и русалки плели косы внизу под нами, и я замирала в полете посреди музыки, а благодарное эхо возносило и усиливало во мне эту музыку и поднимало гром до страха не выдержать.
Подружка Люба вернулась из пионерского лагеря сама не своя. Это называлось: любовь. Мальчик из той деревни, возле которой был лагерь, все время приходил к ним играть в волейбол и «бегал» за ней. Именно так она и сказала — бегал. И на прощальном костре разыскал ее и не отходил ни на шаг.
Люба рассказывала бурным шепотом, хотя никто не подслушивал, и на меня сильно действовало ее волнение.
— Он мне говорит на костре: мне, говорит, нравится одна девчонка. А я, говорю, ее знаю? Он говорит, ты ее каждый день видишь. А я все как будто ничего не понимаю и опять спрашиваю: кто, говорю, это, Галя Клюева, да? А он: не скажу и все. Ну, говорю, уедем из лагеря — и я уже не буду ее каждый день видеть. А он: нет, все равно будешь видеть каждый день.
— Люба, — не выдержала я. — А я люблю Толю Вителина.
Это было, как падать во сне: жутко и сладко. Я не могла больше удерживать мою сокровенную тайну, и она полилась из меня неудержимо первыми попавшимися словами. Как он играл «Хороши весной в саду цветочки», как я плакала неразрешимо одно за другим два лета, и даже когда мы весь четвертый класс просидели за одной партой — мне было этого мало, чего-то мне не хватало от него — знаю чего: чтобы взял и посмотрел мне прямо в глаза — щедро, ничего не жалея и не оставляя для себя.
— А он-то, он-то тебя любит? — с азартом перебила меня Люба.
— Не знаю.
— Во даешь. Ну, он за тобой бегает?
— Не знаю.
— Давай я спрошу!
— Ты что! — И тут до меня дошла вся непоправимость того, что я наделала: тайна упущена. Открытая, она стала такой беззащитной, с ней можно было сделать любое зло.
— Ну, не хочешь, и не надо, — разочаровалась Люба.
Начался пятый класс. При появлении Толи Вителина Люба делала мне большие глаза и подмигивала. Я была теперь в ужасной, рабской зависимости от нее и принимала ее язык: я тоже подмигивала в ответ.
В желтый листопад пошли мы с ней напоследок лета в лес. Там была вольная прощальная тишина, мы нарочно вонзали в эту тишину свои крики, пели громкие песни, и Люба ахала и кричала театрально и разгульно: «Ах, Толечка-Вителечка, где ты, вот бы послушал сейчас наши песенки!»
Я, преодолевая внутри себя что-то дорогое, поддавалась этой измене и тоже вслед за Любой выпевала: «Где ты, где же ты, мой Толечка-Вителечка!»
Я была слабая, из стада.
Мне бы утаить, — многое бы уцелело.
Я поняла: остается только то, к чему не прикоснулись словами. Слова — как порча. Что ни заденут — все вянет. Такой у нас был двенадцатилетний бессильный и губительный язык.
А тут наступило злое время: прыщи на щеках, полупонятные анекдоты, ухмылки. Мир перекосился, внутри шумело от роста и неизвестного движения соков, и мальчишки защищались от тяги к девчонкам лютой ненавистью. Страшно стало ходить в школу: в нарте могла лежать дохлая крыса или букет чахлых одуванчиков с гнусной запиской. Сидеть с Толей за одной партой было бы немыслимо.
Учительница литературы Юлия Владимировна входила в класс, как на казнь. Наши варварские нечистые глаза мутили воздух. Она приговорена была каждый день отдавать на попрание нашему табуну свои святыни. «Тургенев...» — говорила она, и голос дрожал от обиды, и лицо бледнело от мученичества.
Она была высокая, юная, она стояла в простенке между окнами, тонкий ангел, крылами опираясь о стену, и длинные текучие пальцы прогибались, удерживая разворот страниц. «Стихотворения в прозе» читала она вслух покорным голосом, и единственный из нас, к кому она поднимала время от времени глаза, был Толя Вителин. Я трогалась, как лед на реке, и плавилась изнутри слезами.
Пока она читала Тургенева, по классу среди мальчишек ходила какая-то записка. Ее прочитывали, хихикали и передавали дальше. На том месте, где тургеневская крестьянка Татьяна после похорон ела щи, потому что они соленые, Павлуха Каждан встал, прошел с развернутой запиской к Генке Войтенко, тот сжался, — Павлуха шлепком ладони распластал измятый лист на его лице и тут же, размахнувшись, этой же ладонью сильно ударил его поверх записки. Все ахнули, Юлия Владимировна оборвала чтение, Павлуха вернулся на свое место, Юлия Владимировна заплакала.
У нее не было спасительного навыка превосходства над нами, как у других учителей, поэтому вместо удовольствия власти она получала в школе страдание бессилия.
У Юлии Владимировны был муж, лихо красивый шофер Женька Холманский. Говорили, после новогоднего банкета учитель физики Анатолий Анатольевич написал ему письмо: «Вы грубый человек. Вы неспособны ни понимать, ни ценить вашу жену. Когда я вижу, с какими глазами она приходит утром в школу, я жалею, что теперь нет дуэлей».
Анатолий Анатольевич был приезжий и молодой, с несчастным лицом и в очках. Сразу же после каникул Женька Холманский пришел в школу, прямо на урок, и вызвал Анатолия Анатольевича наружу. Вернулся Анатолий Анатольевич без очков, гордый и пятнами покрасневший, а Юлия Владимировна уволилась. Мальчишки хихикали, на злую силу никак не находилось доброй — для справедливости.
Женька Холманский уехал с Юлией Владимировной жить в Город, но она умерла там очень скоро — говорили, от рака, но мне кажется: чтобы не терпеть больше своего несоответствия с этим миром.
Потом я узнала, что в той записке, которая ходила по классу на уроке литературы, был «роман с продолжением», героями романа были я и Павлуха Каждан, действие романа происходило ночью в пустом классе на парте.
Мне тоже хотелось, как Юлия Владимировна, уехать, умереть, уволиться. Но я была еще в бесправном детстве.
Мой отец пришел в школу на родительское собрание зимним вечером, пьяный до бесчувствия. Он заблудился в коридоре и попал в пустой директорский кабинет. Когда туда вошел директор, отец мой спал, как запорожец, разметавшись поперек комнаты, и разбудить его до утра не было никакой возможности.
Об этом мне рассказала мать, мстительно, почти со злорадством: «Вот он, твой папочка родимый». Я тоже научилась искать виноватого своим несчастьям, и подозрительнее всех казался отец: он был пьяница и позорил меня перед уважаемыми учителями и моими ровесниками. Только бы не узнал Толя.
Несколько дней после злополучного собрания я ходила в школу со страхом стыда, но усмешек не было. Видимо, скрыли из жалости к моим отличным успехам.
Мне было плохо в тот год. Я прожила его, зажмурив глаза. Шум во мне, шум стоял, и ничего я не успевала заметить и понять. Все зло мира, которому предстояло умереть вместе с отживающими взрослыми, снова возродилось в моих одноклассниках, искаженных ростом, в моих глупых одноклассницах — и во мне самой. Забыть бы язык и мысли.
— Только, чур, без девчонок!
— Не хочешь, Войтен, не ходи, без тебя как-нибудь.
— Да ты, Каждан, влюбился, так молчи, а нам эти дев... Ну ты, ну ты!
— Пацаны, не драться, всем классом пойдем — и все!
Пошли все на гору, играли в лапту, кончился пятый класс, и завтра летние каникулы.
Не знаю, кто был тем смельчаком, который отважился крикнуть: «Давайте в ручеек!». Неожиданно все заорали: «Давайте!» А я промолчала: потому что мне хотелось больше всех. Игра по-взрослому двусмысленная, как танцы. Можно взять Толю за руку, повести его в конец «ручейка» и стоять, сцепившись, и кормиться его живой рукой, и никто ничего не заподозрит.
Он сам притек ко мне под флигелем рук.
Сам.
Он мельком, украдкой взглянул на меня, и глаза его вдруг подались и растопились, как масло на плите, и рука его отзывчиво, с признанием соединилась с моей. А я не выдержала этого, я отвернулась и отвела глаза, стараясь, чтоб лицо никому не выдало, но ведь в это самое время, в это самое время наши руки уже сознались. И не дай бог — взглянуть — и глаза больше не подтвердят того, что делают руки. Не дай бог — и мы отворачиваемся и боимся друг друга.
Меня тут же кто-то увел — как противны были чужие, ненадобные руки! — игра продолжалась, но мы с Толей больше не выбирали друг друга в этой взрослой игре: страшно было, что все повторится, а еще страшнее — что не повторится.
И мы рассыпались с горы по домам — на все лето, и я проплакала все ночи в пионерском лагере от несбыточности, оттого, что я еще не человек, а подросток, и настоящая жизнь когда еще наступит — а счастье уже почти все истрачено, столько лет еще ходить в кино только на детские сеансы и отпрашиваться у матери из дому, — а все лучшее уже позади, и хочется умереть.
Клуб был старый, деревянный, с многими мальчишечьими попытками подкопов под сцену со стороны сада. Билеты на детские сеансы продавались без мест. С галдежом толкались сперва в засоренных семечками сенях возле кассы, потом открывалась дверь, врывались с воплями в зал и рассаживались, громко подзывая друг друга и маша руками.
Во всей этой возне главной задачей было сесть подальше от подружек и чтобы место рядом оставалось пустым — и как только погасят свет, в тот же момент он, как бы чуть опоздав, сядет рядом. В первое ослепление темнотой никто этого не успеет заметить. Руки невзначай смыкались сбоку, почти за спиной, и держать их там было неудобно, но безопасно от чужих глаз.
В той укромной глубине шло тайное взаимодействие двух горячих сокровенных ладошек, укрытых со всех сторон, не видимое никому, даже почти тайное друг от друга. Что-то делалось независимо от нас, а мы, замерев, слушали со страхом и удивлением, что там происходит.
Когда кино кончалось, заранее из опасения, что свет застанет врасплох, мы с сожалением разъединялись.
Я старалась не привыкнуть к этому счастью, чтобы надольше хватило. Мы по крестьянскому воспитанию были бережливы к радостям: с тарелок выедалось дочиста, а новая одежка не покупалась, пока старая не снашивалась дотла.
Но уже мало было, не хватало. Я прокрадывалась пальцами под его рукав, к запястью, и в этом была жуткая, хотя и безнаказанная рискованность. Когда он делал то же самое — я не могла выдохнуть и замирала на вдохе.
Глазами мы не могли повторить той близости, до которой дошли наши руки. Глаза, столкнувшись, робели и убегали в сторону. И только еле заметное движение улыбки подтверждало: да, это я, это моя рука соединялась с твоей в той кромешной темноте.
Мы не говорили никаких слов. Молчали.
И больше мы ничего не успели.
Родилась я девка глупая,
Неразумная.
Спасибо, нашлись люди добрые,
Научили меня, что к чему.
До меня уже все разведали
И на все вывели правило.
И теперь я живу, не смешу людей,
Всему научилась, на них глядючи,
И без горя или радости не плачу.
А все-таки интересно, как же она так стояла в воде? Да... Еще и коса. Скорее всего, показалось.
Мама рассказывала, что, когда была девочкой, слышала пластинку, называлась «Китайская серенада» — и много дала бы, если б снова услышать, но, видно, не придется. И вот прошло пятнадцать лет, мне случайно попалась пластинка с архивными записями тридцатых годов. Там была «Китайская серенада». Я поехала к своей маме. Она не вспомнила ни пластинку, ни того, что пятнадцать лет назад еще помнила ее.
Но это все так...
Славка Аксенов был на два класса старше меня. Он был лидер, комсорг, он понимал толк в правилах жизни. Я перед ним уважительно трусила.
Он сказал без запинки:
— Все дружат. Девчонка должна быть года на два моложе. Ты, конечно, лучше всех из младших девчонок. Ты мне нравишься.
Я не знала, что можно говорить такие слова. Но Славке виднее. Я и после на него полагалась: он был крепкий, авторитетный, школа им гордилась. У него были часы на левой руке — он покупал мне билет в кино и смотрел на свои часы, дожидаясь меня у клуба. Он жестко встряхивал прямыми волосами. Он поступил потом в военное училище.
Когда Славка сказал мне: «Я тебя люблю» — это мы уж год, как дружили, и пора было начинать целоваться, — я, подчиняясь логике момента, ответила: «И я тебя тоже», как полагалось, и ради особой важности случая снизила голос на полтона — по-моему, безукоризненное исполнение. Все как у людей. А ведь сначала я от него бегала, пряталась, когда он сказал, что положено дружить. Но он, кстати, не обиделся. Это, оказывается, тоже было положено — девушке гордиться, а парню быть настойчивым.
Про Толю он, конечно, ничего не знал.
Никто не знал.
В тот день я чуть не опоздала в кино. Когда я зашла в зал, все уже были на местах, и вот-вот погасят свет. Я сразу увидела Толю, я подошла и села рядом с ним, нарушив все предосторожности.
А свет все не гасили. Толя покраснел.
И тут-то подошел Славка Аксенов, с прямым чубом, с часами на руке и со своей мужской настойчивостью. «А ну брысь отсюда!», — сказал он Толе по-братски и от общего благодушия хотел даже щелкнуть его в макушку, но не успел — так быстро и покорно Толя поднялся и пошел себе на другой ряд. Он был маленький мальчик, мы учились в шестом классе.
Я зажмурила глаза. Чтобы притвориться невидимой. И чтобы пропустить, не видеть.
Славка уже по-хозяйски усаживался рядом, и тут позади себя я услышала презрительный смех Павлухи Каждана и его голос. «Слабздень», — сказал он.
Может быть, он сказал это про Толю. А может быть, вообще сказал кому-нибудь рядом о чем-то другом.
Сейчас-то я знаю: он сказал это про меня.
Погас свет, Славка наклонился и доверительно прошептал: «После кино я пойду тебя провожать. Не вздумай удрать». И сгреб мою руку, чтобы по всем правилам, держась за руки...
Я с того самого мгновения знала: руками не соврешь, выдадут. Безошибочно.
Впрочем, нет, это я только теперь знаю: по воспоминанию того мгновения.
Я вырвалась и пересела на другое место, защищенное с обеих сторон. Не к Толе.
И никогда после не рассказывала Славке, кого он согнал в кино с места рядом со мной и что он наделал.
Или я.
В одиннадцатом классе в школу на вечер встречи приехал Верховой. Он был уже инженером, кибернетиком. Бывших выпускников приехало человек десять. Их усадили перед нами на сцене, они по очереди выходили к трибуне и каялись, что недостаточно серьезно относились к учебе, о чем теперь сильно жалеют.
Призывали нас не повторять их ошибок. Верховой тоже каялся.
Перед вечером я сказала своей двоюродной сестре Наде: «Пошли на вечер встречи с выпускниками. Твой Верховой приехал, говорят».
— Что мне там делать, — ответила Надя. — Они ж все ученые, а я доярка.
И она усмехнулась с презрением, противоположным ее словам.
Она была замужем за шофером, дети у них не рождались.
После вечера ночь была гулкая, как чугунный котел. Я шла домой быстрым шагом, сама перед собой притворяясь равнодушной, — но всем своим слухом включившись на привычную погоню. Интересно было, кто же бросится вслед, на ходу застегивая пальто, провожать меня — Генка из параллельного 11б или этот молокосос Шульгин из десятого: он с таким упорством приглашал меня танцевать.
Но позади почему-то было мертво. Видимо, они все перетрусили, что меня пойдет провожать кибернетик Верховой — ну да, ведь он танцевал со мной и делал вид, что ухаживает.
Вот дураки — предположить, что он пойдет со мной! Смешно.
Я шла в обидном разочаровании, и тут из-за столба на моем пути выступил Павлуха Каждан. Он дождался, когда я подойду, и молча пошел рядом. Я удивилась и немного утешилась: все-таки кто-то меня ждал, караулил, провожает.
Он ничего не сказал. Я тоже.
Мы шли мимо темных дворов, и редкие собаки, проснувшись, брехали на нас.
В пространстве как будто развели синьку, и сквозь раствор просвечивал синий снег, синие дома и синие шевелящиеся звезды. А мы все молчали, и молчание тяжелело, и все труднее было сказать первое слово. Мы тщательно вдыхали и выдыхали синий воздух, чтобы такой занятостью оправдать молчание.
Так мы дошли до ворот моего дома. Остановились. Дом был на краю деревни, и там, дальше, в темноте звезд начиналась бесконечность чужой земли. Я заглянула в небо — в холодную пропасть, как в глубокий колодец, — мне стало страшно, и я вернулась к привычным для ума домам и заборам.
Павлуха сказал:
— Что-то тебя сегодня никто не провожал.
Мне послышалась насмешка. Я постоянно ждала и боялась насмешки. О, я была уязвима.
— Почему меня должен кто-то провожать? — гордо ощетинилась я.
— Тебя всегда кто-нибудь провожает, — сказал он печально, но с полной осведомленностью.
Мне и тут почудилось обличение. Еще я подумала, как он пять лет назад в кино сказал это гнусное ругательное слово, и мне было стыдно, вдруг он это помнит. Я проверочно взглянула на него. Он смотрел в пустыню за деревней. Я обернулась: там была бесконечность земли и синее пространство.
— Кто тебе это сказал? — спросила я.
— Что? — не понял он.
Похоже, он забыл, о чем говорил. Я промолчала.
— Некоторые догадываются, что есть кое-что получше жизни, — рассеянно сказал он, снова глядя через меня. — И после этого они уже не могут всерьез заниматься кибернетикой, другими всякими глупостями и рожать новых людей.
Все ясно: он, конечно, видел, как я разинула рот на этого Верхового и как осталась с носом.
— Слушай, Павлуха, — усмехнулась я. — Что тебе сделали кибернетики?
Я вспомнила, как мы с Верховым танцевали под безумный «Маленький цветок», и рассмеялась, чтобы было не так горько. Павлуху мой смех как в пропасть столкнул, он вдруг жутко спросил:
— Выйдешь за меня замуж?
Жутко — потому что тихо, с отчаянием, и он смотрел на меня, как... как раздавленный.
— Вот это да! — я фальшиво продолжала смеяться, я не знала, как повести себя, чтобы не оказаться в смешном положении, трусливая душа. — Замуж? Так ведь у нас же тогда будут рождаться новые дети, и придется заниматься другими всякими глупостями — мне, может быть, кибернетикой, а...
— Повтори: у нас будут дети! — он жадно подался ко мне, как будто я его облила чем-то горячим: в грамматическом будущем времени фразы, которую я сказала — «у нас же будут дети», — ему послышалось утверждение и невольное обещание.
Я отшатнулась, и холод, идущий изнутри меня, уже дошел наружу, я перестала заботиться о выгодном впечатлении и со злостью, без смеха докончила начатую фразу: «Мне, может быть, — кибернетикой, а тебе — пасти коров, как ты собирался». В дополнение я едко усмехнулась, мстя за обман сегодняшнего вечера ему — за то, что этот мерзавец Верховой не пошел со мной, хотя ведь было же что-то, было, когда мы танцевали, — взгляд, пауза, вопрос — все те дьявольские полуневинные «чуть-чуть», когда уже занесен шаг, чтобы переступить, но еще не поздно и отступить назад с непричастным видом, — и вот только сию минуту я призналась себе, что его шагов ждала за собой, когда уходила с вечера, его и ничьих других. Его, хотя уже знала, что было с Надей, его, хотя ненавидела его заранее, почти не сомневалась: не пойдет, только подразнит.
Павлуха посмотрел на меня тихим взглядом, как будто даря мне свое прощение, и пошел себе домой прочь.
Вот кого я не хотела бы теперь встретить: а вдруг сытый, благополучный, читает газеты, чем-нибудь перед кем-нибудь гордится. Что мне тогда останется? А так — я могу представлять о нем что захочется, любую вещь из самых настоящих. Так — я могу о нем сожалеть...
О других одноклассниках кое-что знаю. У Любы все, как у людей, дом, работа, посуда за стеклом. Толя Вителин, нежный мальчик, всю жизнь сторонился женщин, живет один в глуши, дремучий мужик, и сильно пьет.
Сейчас кругом развелись дискотеки. У клуба уже не висит афиша «танцы», а: «дискотека». В нашем НИИ тоже есть своя. Институтские любители вкладывают душу: рассказывают в микрофон, потом включают стерео, и разноцветные прожекторы мечутся в темноте по оклеенной фольгой стене актового зала. А народ встает из-за столиков (из буфета натаскивают сюда столики: чай и пирожные) и пляшет, не считаясь ни с чем.
Многим из нас под сорок, но в пятницу раз в месяц мы остаемся после работы на дискотеку и приходим домой к полуночи. В этом есть что-то бодрящее: музыка, ритм, подъем тонуса, некоторое расслабление нравов... Этакий привкус свободы, за который моя подруга Зина Зеленская так любит читать романы про красивую жизнь.
Она приносит на работу очередной номер «Иностранной литературы» и со стоном зависти читает мне избранные места. Сесть в желтый «ситроен», поехать в аэропорт, оставив троих детей на приходящую прислугу, слетать в Вашингтон на тайное свидание и к вечеру вернуться домой, как будто из супермаркета. «Дорогой, сегодня мы поужинаем дома: я купила холодную курицу».
Мы с Зиной всегда остаемся на наши дискотеки. Мы с ней младшие научные сотрудники. Вечные младшие научные сотрудники. Наши мужья хорошо зарабатывают, и карьера — это их дело, а не наше, считает Зина. А я вообще никак не считаю: мне все равно.
«Бони М» взвинчивает своим «Распутиным» накал до предела. Народ ослеп от ярости танца. Потом мы рассыпаемся за столики, утираем пот и отдышиваемся. К нашему столу подсаживается Рудаков, начальник катодного отдела. Он со своим чайником. Он сливает из наших чашек остатки в пустой стакан и наливает нам кофе. Мы пьем. «Ого», — с восхищением говорит Зина. Восхищение немного преувеличенное, но так надо: у них с Рудаковым начинается роман, поэтому все приятное преувеличивается. Это как магнит под железными опилками: все лучшее в одну сторону — к новому другу, а все неприятное — в другую сторону — к мужу. Потом она уйдет от мужа к новому другу, поляризация от жизни и времени рассеется и установится скучное семейное равновесие плохого и хорошего. То же, что и раньше, — и опять будет чего-то не хватать...
Мне-то чего не хватает — я знаю: чтобы заплакать, как в детстве, ни от чего. Но этого уже не будет: я разучилась. А другое меня не устроит.
Зина с Рудаковым идут танцевать. Я пляшу с Глуховым и предательски слежу за своей подругой Зиной Зеленской. Она вскидывает руки, трясет распущенными волосами и изображает восхищение. И они ведь доведут этот театр до конца, просто из самолюбия, раз уж начали. Я подло наблюдаю ради удовольствия превосходства. Наблюдатель всегда в превосходстве над действующим лицом.
Глухов танцует со мной заинтересованно, но я-то никому не доставлю удовольствия превосходства над собой, поэтому уже к середине танца интерес Глухова пропадает.
Но музыка все длит и наращивает свой безвыходный призыв. Проклятые Сирены. Так пропал мой отец: он думал, что его ждет бог знает что необыкновенное от всех этих танцев и музыки. Но я, как Одиссей, — я знаю этому обману цену. Эти сладкоголосые чудовища прожорливы, как утки. Я привязала себя к мачте.
Мы возвращаемся к столику, оглушенные громом музыки.
— Пошли к себе в отдел, — предлагает мне Зина. — Поставим чай, отдохнем в тишине. Владимир Васильевич просил чаю в тишине.
Мы поднимаемся на свой третий этаж. В нашей комнате за шкафом стоит стол — там мы обыкновенно пьем чай. Зина включает чайник, я расставляю чашки.
— А приятный человек Владимир Васильевич, правда? — непосредственно говорит Зина, но, спохватившись, суровеет: видимо, она собирается выдать мне свой роман за служебную дружбу. Она заглаживает оплошность, переводя мое внимание на свою материнскую озабоченность:
— Ну, как твоя Ленка? Мой Игорь совершенно меня довел: не хочет учиться.
Правильно делает, думаю я. У него сейчас глаза и уши, каких уже потом не будет. Ему слушать кругом, смотреть во все глаза и думать, а тут учебники. Если взять жизнь человека всю целиком и высушить, выпарить воду пустых дней, то останется сухое вещество жизни. И вот что окажется этим сухим тяжелым веществом жизни: детство. И больше почти ничего.
Вслух я этого не могу сказать, незачем. Да Зина меня и не услышит. У нее бегают глаза, она вскакивает и нервно ходит по комнате — с минуты на минуту зайдет ее Рудаков. Ей лестно, что он начальник отдела. Боже мой, бедность, бедность, убожество. Я говорю:
— В нашем классе был двоечник один — он из всех нас оказался самый умный. Павлуха Каждан...
— Кем он стал? — рассеянно спрашивает Зина, прислушиваясь к звукам в коридоре.
— Мудрецом.
— Это профессия? — говорит Зина с издевкой. Она про себя считает меня дурой. Как и все мы тут считаем друг друга. — Нет уж. В четвертом классе — и не хотеть учиться! Вырастет олухом — кому он будет нужен?
— Себе, главным образом, — а кому мы еще нужны? — бормочу я неубедительно и зачем-то добавляю: — В четвертом классе я очень любила одного мальчика...
— Ха-ха, — усмехается Зина — она вся в ожидании: откроется дверь, и он войдет. — Не надо путать серьезные вещи с детскими игрушками, — наставляет она меня.
— Да, конечно, — соглашаюсь я. Не заявлять же, что во всей моей взрослой жизни не оказалось такой серьезной вещи, с высоты которой я посмотрела бы на свои детские переживания, как на игрушечные.
Шаги, распахивается дверь, и входят Рудаков с Глуховым, внося в нашу комнату шум и движение. Зина начинает суетиться, как будто боится не успеть рассадить гостей и налить чай. Я сижу, не пошевелившись. Рудаков опять принес свой чайник.
— Да брось ты этот чай! — останавливает он Зину. — Мы со своим пришли.
Он наливает всем кофе.
Глухов смотрит на меня с некоторым вопросом: мол, стоит ему тут сидеть терять время или не стоит. Я отворачиваюсь передвинуть стул, чтоб не отвечать ему на взгляд. Пусть посидит, черт с ним.
— А вы не на машине? — спрашивает Рудакова Зина.
Ах да, у него же еще и машина — это для Зины немалый козырь. Если уж тужиться изображать раскрепощение под заграничные романы, то, по меньшей мере, должна быть машина.
Выедут по тряской дороге за город, откинут сиденья, и Зиночка будет закрывать глаза, чтоб не видно было, какую скуку она превозмогает, притворяясь страстной.
— «Милый, сегодня мы поужинаем дома: я купила холодную курицу», — говорю я в кавычках и усмехаюсь, вертя в пальцах свою чашку.
Мужчины недоуменно переглядываются, но Зина меня, кажется, поняла.
— Что такое? — спрашивает Рудаков. У него глаза навыкате и белесые курчавые волосы. Бездарный мужик.
— Холодная курица — это любимая Зинина закуска. Продается в кафе напротив.
— Напротив чего? — спрашивает сбитый с толку Рудаков.
— Вообще напротив, — объясняю я.
Зина язвительно говорит:
— Владимир Васильевич, не удивляйтесь Евиным странностям. Ей бы жилось легче, если бы их было хоть немного поменьше, — угрожающий короткий взгляд в мою сторону. — Она была влюблена уже в четвертом классе. А? Вам не приходилось?
— Мне? Зиночка, всему свое время. В четвертом классе я учился. И в десятом тоже. Потом в институте. Потом кандидатская. И вот, наконец, мне сорок лет — и я свободен для любви! — Рудаков ждет, что его шутку оценят. Зина хохочет и глядит на него с жалким в ее возрасте лукавством.
— Ева, — тихо обратился ко мне Глухов. — Я никогда не думал, что... — сейчас скажет какую-нибудь глупость, жду я. И пока он медлит, пробую угадать, какую именно. «Я никогда не думал, что буду заниматься катодами, а теперь, представьте, мне это даже нравится». Или еще какую-нибудь недомысль. Надеюсь, у него хватит вкуса не сказать мне: я никогда не думал, что мне может понравиться женщина, с которой я вместе работаю. Скорее всего, он сам не знает, что сказать после «я никогда не думал, что». Я не помогаю ему. Я без внимания верчу головой. Такая фамилия, Глухов, боже мой, ужас. Все-таки, человек похож на свою фамилию, тысячу раз замечала. Под бездарными фамилиями живут бездарные люди. Фамилия Глухов — это, наверное, происходит от какого-нибудь затюканного тугодума, который вечно все переспрашивает. «Ты что делаешь, рыбу ловишь?» — «Нет, рыбу ловлю». — «А, а я думал, рыбу ловишь». Вот ведь не повезет же мне сидеть за одним столом с каким-нибудь там Гранде. Декан у нас на факультете был Гранде. Боже мой, какой был великолепный, породистый мужчина — душа заходилась, когда он властно шел по коридору, и ветер шумел от его походки. Но моя природная фамилия — Паринова, и уже одним этим мне на роду написано, что не сидеть мне никогда за одним столом с Гранде, а сидеть с Глуховым и Рудаковым. И никакая я не Ева, а Дуся, так-то будет вернее.
— Я никогда не думал, что сам себя могу поставить в такое жалкое положение и еще так долго его терпеть неизвестно зачем. Вы смотрите на меня, как на идиота, и я подтверждаю это, оставаясь здесь сидеть. Пожалуй, я пойду, а? — наконец говорит Глухов.
— ...старик травник, он чай не пьет. Он считает, что пить и есть надо только то, что растет там, где ты живешь. Ничего привозного, ни винограда, ни чаю... — ведет свой разговор Рудаков, а Зина слушает его наготове с занесенным над чашкой чайником.
— Да бросьте вы, сидите, — говорю я Глухову. — Сейчас пойдем танцевать. А то как бы нас в институте не заперли. Придется тут жить два выходных до понедельника.
Рудаков услышал:
— О, я согласен!
— Пойдемте танцевать! — заключает Зина.
Это она боится, как бы ее не заподозрили в желании остаться с Рудаковым в институте запертой на выходные дни.
Мы с облегчением, что нашлось дело, идем вниз. Я думаю о том, что зря не родила еще одного ребенка. Не торчала бы сейчас на дискотеке. Жила бы в забытьи забот короткими перебежками — от одного дела до другого, — а они расставлены близко, — и не было бы у меня для обозрения такой точки, с которой я могла бы увидеть начало жизни и ее конец и ужаснуться.
Мы спустились вниз, но я не танцевала, нет, я дождалась, пока Демис Руссос сплачет свою жалобную песню, и незаметно ушла оттуда.
Или нет, не так...
Зачем я вру? Не знаю...
Мне бы все это забыть, чтобы заново надеяться дальше.
Враг
Сам же звоню — и сам бросаю трубку.
Через полчаса набираю снова. Алексей вздыхает, выражая последнюю степень долготерпения, но упорствует на своем.
— Я на твоем месте бросил бы всю эту... И пошел слесарем на завод. По крайней мере, хоть польза.
Это друг!.. Спасибо, говорю, ты всегда найдешь, чем утешить. А я, говорит, тебе не гейша — утешать.
— Зря я только с тобой время трачу. Найти бы где умного человека посоветоваться.
— Сам мучайся.
— Я его доклад уже наизусть выучил. Из ненависти. Ночами не сплю.
— Никому не сознавайся, — говорит, — про бессонницу. Это стыдно. Это значит, человек не наработал на отдых. Представь себе пахаря — чтоб он ночью не мог заснуть? Это ты не заслужил сна.
Катается по полу пух тополиный перекати-полем. Смирные тополя во дворе уже месяц с самым кротким видом душат своим пухом целый свет.
Маюсь дальше.
Открыл книгу — философ считает, что сознательная нравственность разрушает себя, как не может сохраниться в целости препарируемое для изучения животное.
Значит, наш инстинкт — бессознательно — должен сам знать, как поступить. В детстве, помню, читал «Робинзона Крузо» и удивился: «...росли плоды. Я попробовал — плоды оказались съедобны». Какое доверие к вкусовым рецепторам!
Мой инстинкт толкает меня: жги, коли, дави своего врага. Пытаю сознание — оно не знает.
...Дочке было года полтора, гулял с ней на детской площадке, и подрались два мальчика лет шести. Она у меня еще и ходила-то нетвердо, а тут немедленно заковыляла на выручку слабейшему. Пока добежала, драка кончилась, мальчишки расцепились, но она, безошибочно угадав нападавшего, толкнула его; он уже отходил прочь и ее толчка почти не заметил, а она преследовала его с грозными восклицаниями.
Вот ведь не оглянулась же она на меня, чтоб узнать, как ей поступить. Ее вел точный инстинкт, и ему она верила больше, чем нам вокруг — нам, не шелохнувшимся.
Спросить бы сейчас у нее, как быть. Да она в лагере. И выросла.
Жаркое лето.
Вчера в трамвае впереди меня сидела девушка, спина голая. Сидишь, не знаешь, куда деваться. Все понимаешь — и безоружен! А потом ее зажмут в темном переулке, и она же будет обижаться.
У Монтеня читал: одну вот так же поймали, и она рассуждает: «Впервые я получила наслаждение, не согрешив». Да они что, сдурели все? — не согрешив... В конце концов, у нее был выбор: бороться насмерть. А раз уж выбрала жить, раз уж ухитрилась еще и п о л у ч и т ь н а с л а ж д е н и е — какое простодушие считать себя безгрешной!
Нет, решительно все свихнулись.
Инстинкт пропал, выродилась интуиция.
Это ты, Дулепов, это такие, как ты, — вы всё перепутали в этом мире нарочно, чтобы и получать наслаждение, и считать себя безгрешными!
Я пристрелил бы тебя, Дулепов. Тысячу раз, думая о тебе, где-то там, в моем мальчишеском (или не мальчишеском) подсознании, я осуществлял это движение: медленно поднять прямую руку, снабженную компактным умелым металлом, навести, прицелиться в рыхлую твою мякоть, Дулепов, в твою заборовевшую шею, в огрузший твой огузок.
Пришла наконец-то Зина.
— Ты чего такой опухший? Квасу много пил? В жару вообще не надо пить.
— Поехали купаться!
— Сейчас, приготовлю поесть.
— После приготовишь.
— Нет, сейчас.
— Почему ты никогда не сделаешь, как хочу я?
— Я всегда делаю, как хочешь ты. Через час ведь ты захочешь есть.
— Пойдем купаться!
Это я уже капризничаю. Она даже рассердилась:
— Ну не драматизируй! Может, он, Дулепов, искренне считает твою тему бесперспективной!
Ха! Разумеется, искренне!
(Она всегда понимает, о ч е м я...)
Ушла на кухню. Я решительно не нахожу себе применения. Включил телевизор. Скрипач играл гениальную музыку.
Почему, когда имеешь перед собой готовое гениальное произведение, кажется: ну, рецепт ясен. А попробуй им воспользоваться! То-то.
Зина — вот она знает. Она гениальная. Да, в этом и вся ее тайна. Я, это один я открыл!
Она была — теперь я уже не замечаю от привычки, — а тогда она была рыженькая, костлявенькая, в кудряшках — и без образования. И никакого интеллекта — того, что мы тогда так ценили... Я бы на нее и внимания не обратил. Да и никто не обращал. Она была просто свой парень. Возьмет гитару: «А ты мчишься, стиснув зубы, только лыжами скрипишь. У меня замерзли губы оттого, что ты молчишь...» И тут происходило что-то такое, чего я никак не мог понять: влюбляюсь в нее — и все. Нету никакой реальной возможности влюбиться: некрасивая (для меня это всегда было непреодолимо), работает сборщицей на радиозаводе, ну совсем не для меня (моя тогдашняя, Ирина, наоборот: всё при ней, и учится со мной в институте, о чем еще мечтать?) — и вот, при всей невозможности, непарности ее для меня, тянет — и все, как к источнику счастья. Необъяснимо — что за черт! Берет эту самодельную песню, уличные аккорды — и делает со мною этакое немыслимое преобразование... Я потом понял: она переносит тебя в какие-то иные слои. Добавляет голосом. И то, что в голосе — тайный какой-то смысл, — он и перекрывает все: слова, обстановку, плоское и конечное их значение. «Голубой джаз, голубой джаз, — пела она, — успокой мое сердце больное...» Какой точной меры требовали эти дворовые тексты, чтобы сердце действительно заболело. И все, я понял: эта вот способность преображаться послушно неизвестной, высшей силе — одухотворяться — она стоит всего остального, чего у Зины недоставало. Моя-то тогдашняя, Ирина, — она не одухотворялась. Радовалась, веселилась, обижалась — да. Но духа во всем этом не было ни капли, только удовольствие или недовольство. А я-то все никак не мог сообразить: ну чего мне в ней не хватает, почему мне скучно так? Вроде бы умная, образованная. Хорошая. А вот же: она неотлучно была тут, при сей минуте, как привязанная у конуры. Нет чтоб внезапно понесло, повлекло, подхватило — ну как царевну-лягушку, Василису Прекрасную, — чтоб исчезла из «здесь», из «сейчас». Материальная, слишком материальная — вот что.
Никто ничего не мог понять, когда я выбрал Зину.
Потому что все дураки. Как и я был.
— Зи-ин, — плетусь я к ней. — Ладно, никуда не поедем. Спой, что ли?.. Помнишь, ты когда-то пела: голубой джаз, голубой джаз...
Она понимает мгновенно. Не кивнула, на лице не отразилось. Она будто ничего не слышала. Это так надо. Надо все сделать так, будто никто никого ни о чем не просил. Забыть. Незаметно забыть плиту, время, себя забыть, меня; как в театре между действиями, не опуская занавеса, совершают в темноте сцены приготовления, потом зажигается свет — и застаешь уже нечто другое. Она с гитарой, в ауре пробных звуков. «М-м-м-м-м», — настраивает голос, — вот одно за другим все исчезает: комната, окно, тополя, пух, лето — и плавным, неощутимым вниманию переходом, сведя себя и все вокруг к нулю, к несуществованию, осторожно, как потенциометром, перевести все в иное, т о с а м о е состояние — м-м-м-м-м... — и меня за собой... повлекло... еще немного физически необходимого времени... ну вот, уже очутились.
Там-то лучше всего.
Зубы у нее такие белые, что молочным свечением размывает их очертания.
А во всем остальном она обыкновенный человек. Обыкновенная моя жена.
И ночью потом я сплю. Забыв Дулепова. Моего начальника, бывшего моего товарища. Это уж ясно: лучшие враги получаются из друзей — как иначе можно оттолкнуться друг от друга, если не сблизившись? Закон Ньютона.
Не то чтобы друзья, а люди одних понятий. Пониматели. Мол, дураки — это кто-то о н и, не мы с тобой.
Вот уж правильно говорится: минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.
Но ведь он пришел к нам — из производства, практик, настоящий мужик — казалось, ну заживем! Наконец-то не будет этой подловатости, которой заражается неизбежно, как стоячая вода тиной, всякое дело, предмет которого не безусловен, — теория.
Дулепов не улучшил места, место его ухудшило. Он сел, огляделся — понравилось сидеть. Стал окапываться. Спешил: побольше успеть, пока сидит.
Иные тащат своих. Помогают, опекают, тянут, как репку, вверх, других оттесняют. Этот же, видим, вниз вообще не заглядывает, назад не оглядывается. Только вперед и вверх.
Вдруг начал активно внедрять измеритель Севцова (на фиг нам этот измеритель?!) А Севцов — завлаб в нашем головном институте, и база у него своя будь здоров.
Это не называется помогать — помогают слабейшему. Это называется подмазывать.
Нам бы, простакам, и в голову не пришло помочь вышестоящему.
Я наблюдал их отношения. Любопытнейшая картина.
Сидим как-то у Севцова в кабинете втроем: он, я и Дулепов. Ждем четвертого. Дулепов с Севцовым клеят разговор. Паузы тягучие, нудные, как очередь за пивом.
Севцов нашарил на столе папку — выжимку из чьей-то диссертации, — Дулепову:
— Ну, ты читал?
— Читал. Он как, хочет, чтоб мы вместе написали или порознь?
(Во, уже повязаны.)
— Он просит порознь. — Севцов усмехается. — Не знаю, что писать, не знаю: ничего тут нет. — Он берется за виски и трясет головой. — Ничего тут нет ни нового, ни интересного. — Вздохнул обреченно: — Но напишем, напишем: «Интересные исследования... любопытные результаты».
Качает головой, молчит, залюбовавшись на свое безмерное терпение: дескать, с какими дураками приходится иметь дело!
А я думаю: этот дурак ему позарез нужен — чтобы чувствовать себя умнее хоть кого-нибудь.
Меня в беседу не включают: чином пока не вышел. Но присутствие мое как бы дозволяется высочайшим доверием. Я свой — пониматель. Хотя я уже н е.
Наверное, я должен дать понять, что я уже н е.
Озадачив лбы, они толкуют о деле:
— А почему нельзя им дать установку питания... ну, ты помнишь... на 50 киловатт? — вслепую тычется Севцов.
— Так там мотор-генератор.
Дулепов-то хоть практик. Хоть что-то кумекает.
Секунду Севцов обсчитывает варианты: кивнуть, будто понял с полуслова, или уж уронить себя — спросить? Выбрал спросить — оно и демократичнее, да и все свои, чего там.
— Ну и что, что мотор-генератор?
А я не свой!
— Генератор не может питать установку: все равно нужен регулировочный трансформатор, а где его взять?
— А, да-да, конечно!
Да чего уж, любого коснись: каждый знает только то, что делает сам. По соседству уже путается. В нейробиологии, говорят, даже термин для обозначения нервной клетки у разных специалистов разный, настолько они взаимно не ведают, что делается рядом. Одни называют нейроном, другие невроном. Потом один важный директор института издал под своим именем роскошную научную книгу о мозге, не удосужившись прочитать, чего там понаписали его «негры». А «негры» — в зависимости от специальности — одни писали про невроны, другие — про нейроны. Вот, говорят, позору было. Впрочем, чего там, дело привычное...
Опять пауза.
Ожидание нашего четвертого затягивается.
— Ну вот, потеряно уже два часа времени, — для виду досадует Дулепов. Его-то время сейчас работает на него как никогда: копится поминутно начальственная дружба, крепнет высочайшее расположение.
— Кстати, вот, ознакомься с памяткой по организации труда ИТР, — роняет иронично Севцов. Дескать, мы, мозговая аристократия...
На бумажке отпечатано про улыбки, про сдержанность чувств и про то, что хорошее настроение поднимает производительность труда на восемнадцать процентов. Это напечатано без иронии. Кто-то научно трудился.
Я чувствую себя подонком, подслушивающим у двери. Я не свой тут, я чужой. Я должен встать и предостерегающе оповестить их: я здесь! Чтоб не обманывались на мой счет.
И не знаю, как это сделать.
Наконец возникает наш спасительный четвертый. Решаем вопрос, как побыстрее смонтировать выпрямитель. И, главное, кто это сделает: мы или головной институт. Или заказчики, заинтересованные в скорейшем проведении испытаний. Мы деловые и озабоченные. Севцов по-царски обещает электрика. Со свово плеча. Дулепов энергично заключает:
— Ну хорошо. Давайте сейчас все посмотрим и прикинем, а там быстренько сделаем.
На этом расстаемся. Я с четвертым, заинтересованным лицом от заказчика, еду «смотреть и прикидывать» на месте, а Дулепов и Севцов возвращаются к своим заботам. Наверное, жутко довольны собой: и деловито день провели, и удалось все дела отодвинуть на после того, как «посмотрим и прикинем»...
Мой Алексей убежден:
— В таких случаях надо брать и делать все самому.
— Они же начальство, ты не понимаешь, что ли? — злюсь я на Алексея (нужно мне больно его беспристрастие! Ты мне поддакни, посочувствуй, вот тогда ты — друг!). — Поперед них в пекло не прыгнешь.
Алексей-то прыгнул бы. Не дожидаясь очереди. Это мы с ним оба знаем.
(Он, когда заканчивал строительный институт, женился на абитуриентке. Она в тот год так и не поступила. Алексей заставил ее поступать на следующий — а уже на сносях была. Поступила, в ноябре родила, а если не сдать в январе первую сессию, придется поступать снова. Так он, Алексей, работая прорабом, весь январь забирал двухмесячного Генку с собой на объект, там ему сколотили в теплой комнате лежанку, Генка на этой лежанке болтал ручками-ножками, а отец по объекту мотался, в каждом кармане по бутылке с соской. Вот такой мужик. Выучил жену на дневном, заработал квартиру, привез мать... Я в нем тоже постоянно нуждаюсь и — есть маленько... — не выношу его за это. Иногда.)
Он говорит (знает, с какого боку подступить!):
— Ну а вот скажи, к примеру: бывало такое, что он, этот твой Дулепов, у тебя на глазах расчищал для себя место за счет кого-то другого — не за твой счет?
— Что ж, бывало.
— Несправедливо, — уточняет Алексей.
— Но искренне! — вставила Зина ехидно — молчит-молчит да и вставит что-нибудь!
Разумеется, искренне, не от подлости же...
Постепенно, день ото дня, искренность обращалась в то самое, в подлость. Потому что она сама не знала, что она такое — то ли искренность, то ли подлость.
— И ты ведь ничего, терпел? — докапывался Алексей. — До тех самых пор, пока не смахнули тебя самого, а?
— Ну уж вот это — нет!
Хотя чего там нет... Видел: гребет под себя. Но ты был пока друг, поэтому сам лично в безопасности. И так легко было прощать Дулепову его поступки, зачисляя их в разряд заблуждений. И только когда эти заблуждения обернулись против тебя, — они получили новое название: подлость.
— Знал бы ты, сколько я с ним спорил! Боролся! Сколько доказывал!
— «Ты непра-ав, Фе-едя!» — изображал Алексей мою «борьбу».
— Но ведь мы же были вроде как друзья!
— И сейчас бы были, не пострадай твоя личная мозоль.
— Да нет, — вяло возражаю я. — Мы и разошлись-то потому, что я возникал.
Не начни я возникать — и мозоль бы моя цела осталась. Разве не так?
— Ну ладно, молодец, молодец, — снизошел Алексей.
— Хорошо нам с тобой: разные территории топчем, делить нечего. А то, может, тоже бы...
Несогласно помалкивает. Ему не нравится такое подозрение.
— Еще и предмет, понимаешь, у нас такой. Зыбкий, н е о б я з а т е л ь н ы й. Сеяли бы хлеб — без разговоров было бы все ясно. И видно, кто чего стоит. А у нас — каждый как будто виноват. И еще прежде подозрения торопится доказать, что он не верблюд. Что верблюд — не он. А сеяли бы хлеб...
— Э, там свои конфликты. Там тоже не все безоговорочно. Отец, помню, рассказывал, у них был один мужик — когда пошли указания пахать на двадцать два сантиметра, он решил доказать, что это глупость, что пахать надо наоборот мелко, на двенадцать сантиметров, чтобы корни брали питание из нетронутого плодородного слоя. И так и засеял свою делянку. Тогда всё говорили о стопудовом урожае — так он собрал сто шестьдесят пудов. И вот: никто на это даже внимания не обратил, а ты говоришь: очевидно. Очевидного вообще не бывает. Он собрал сто шестьдесят пудов, а остальной народ ходил, мечтал о ста пудах и упорно пахал на двадцать два сантиметра.
— Ну вот, а сам же говоришь: плугарь — он пашет, так он и спит.
— Ну а что, и спит.
— А я так думаю, что тот, который пахал на двенадцать сантиметров, не спал, злился ночи напролет.
— А чего ему злиться, он засеял — и он за свои сто шестьдесят пудов спокоен. А вот ты в своих пудах и сантиметрах уверен ли?
— Как тут можно быть уверенным, — загоревал я. — У нас дело такое — только вскрытие покажет, кто был прав.
И наступает ночь — примерно каждая седьмая (остальные шесть копится заряд) — и я «выхожу на трибуну».
Я выхожу всякий раз по-другому. И говорю тоже разное. Но начало моей речи неизменное.
— Товарищи! То, чем занимается в науке Дулепов, заслуживает полного умолчания. (Дальше у меня идут варианты.) Этим занимались и пятьдесят лет назад, и будут сто лет спустя заниматься — те, кто не способен к настоящему первопроходческому делу. Ни холодно, ни жарко от этого не было и не будет. Удоя от козла дождешься ты скорей, как сказал бы Омар Хайям (нет, это, конечно, надо вычеркнуть). И пусть бы себе занимались, я повторяю, эта тема заслуживает полного умолчания — заслуживала бы, если б она не стала той печкой, от которой танцуют в нашем отделе и от которой принуждены танцевать мы все. И печка эта заняла в финансовом отношении столько места, что мы, другие, вообще свалились с пятачка. При том, что эта самая печка — прошлогодний снег нашей отрасли. Бесплодность изысканий Дулепова я берусь наглядно доказать. Я борюсь, собственно, не против Дулепова, а за свое существование в науке — свое и моих товарищей, потому что эта печка нас спихнула.
Я репетирую свою речь так и сяк, на сто ладов, меня заносит то в одну, то в другую крайность. Отпускаю себя с цепи в отрадную злость. Дойдя до конца, возвращаюсь к началу — и опять, и опять, — пока не забурюсь в дряблую трясину утра.
Сколько-то успеваю поспать.
Прихожу на работу весь ватный.
Завижу его — костюм, походку, жесты, эту шею, вывалившуюся из воротника, как тесто из квашни, — и становлюсь не способным к работе.
— Драсте, — не глядя.
— Здравствуйте, — корректно отвечает он.
Проклятие субординации! Я должен приветствовать его первым.
Ненавидеть в одиночку мне мало. Я ищу союзников — сообща ненавидеть. Широким фронтом. Помощников чувству ищу. Я вылавливаю из текущей жизни чье-нибудь малейшее недовольство и методом резонанса раскачиваю амплитуду плохого отношения. Частный случай где-то на запятках интонации переходит в обобщение и подается в виде готового, еще до меня созревшего общественного мнения, которое последним случаем только лишний раз подтвердилось.
Я поступаю неблагородно. Отлично понимаю это. Но я так поступаю.
«Да что ты! Для Дулепова это даже еще и умно!»
И вот мы уже внесколькером, сомкнувшись плотным строем, плечо к плечу, выставляем против Дулепова пики наших чувств. Мы, его противники, друг друга любить начинаем, хотя прежде не имели для этого никаких взаимных оснований. Мы отпускаем друг другу все прежние разногласия. Мы становимся партией. Хотя знаю: всякое объединение сомнительно, потому что чуть сдвинь нашу объединяющую точку в сторону — и вся параллельность пик нарушится, и некоторые обернутся друг против друга врагами. Что и происходит.
Человеку, бедному существу, надо иметь куда вперить рога своей агрессии. Встали друг против друга, напрягли ноги в этом противостоянии — и отсчитываем секунды жизни в содержательном времяпрепровождении.
Ну и дело помаленьку все же делается.
Делалось бы лучше и больше, если б не вражда. Если б не считали пустяком то, чем ты занимаешься как самым необходимым. Был бы Дулепов не такой дуболом, делал бы тишечки свои делишечки, но и других бы не заталкивал. А то ведь ему край надо доказать, что ты дурак, а умный он один. Ему жизнь не в радость, пока он этого не доказал.
— Но ведь он же искренне! — талдычит свое Зина.
Алексеи уже матери своей рассказал про мои муки. Мать тоже включилась.
Ни в коем случае, говорит, не надо на собрании выступать против. Не надо вообще никаких действий «против», надо все силы тратить «за» свое, но не «против» чужого.
Алексей ей: «Это твое личное мнение или это ваши теоретики выработали как принцип?»
Мать: с собой, говорит, борись, на себя бы одного хватило сил. А за другого ты не решай. Ты видишь только его поступки, но не видишь его покаяния.
«Да какое покаяние, мать! Они собой довольны вполне!»
Она: а ты вспомни, когда распяли господа, первым ему поклонился разбойник на кресте. Для всех господь был унижен, один разбойник только и различил высоту его. Нет, никого перечеркивать нельзя.
«А что ж, — сердится Алексей, — здороваться с ним, любезничать?»
Ну, отвечает, любезничать зачем, а здоровья как не пожелать? Ты погляди: церковь — за гонителей своих ни одного дня не забывает помолиться. Вот как.
— Ты смотри, мать у тебя какая!
— Да, у нее по всякому случаю соображение. Они, религиозные старушки, все время думают. Опять же, у них руководство проповеди читает.
— А моя мать думает только, где что купить да приготовить, — я позавидовал.
— Но ведь это не называется «думать».
— Тогда, значит, она вовсе не думает.
— Что ж, ведь это многие так.
Вдруг новость. Лабораторию Медведева потеснить, внедрить на ее площадь группу из пяти человек — и эта группа, как оказалось, будет заниматься... темой Севцова. Статистику копить.
Не слабо, да? Есть, вообще, здравый смысл на свете или вышел весь?
Мне-то, конечно, плевать. Теснят уже не меня. Но доколе же это будет? Докуда может дойти это лизоблюдство? Кто остановит?
«Этот случай не забылся, а причина тут одна, да тут одна: через месяц вдруг...»
Через месяц открылось: Дулепов, оказывается, готовится к защите. В доктора хочет. «Хорошие» оппоненты нужны, отзывы. И Севцов, стало быть, куплен. Ни ручкой, ни ножкой теперь не трепыхнет, пришпилен благодеяниями Дулепова, как бабочка булавкой.
— Ну, тут просто надо по-мужски бить морду, — определил Алексей.
— Медведев сейчас сломан: он как раз с женой развелся. Он не сможет по морде.
— А ты?
— Меня неправильно поймут.
И опять я про собрание: как я выйду и выведу на чистую воду. Или к прокурору пойду и разоблачу эту хитрую взятку Севцову — не борзыми, чай, щенками, а нашими лабораторскими фондами.
— Нет, — качал головой Алексей. — Надо по морде. Ну хочешь, я дам ему по морде?
— Ты-то дашь, но ведь он не поймет, за что.
— А я объясню.
— Все равно не поймет. Это тебе не Митя Карамазов. Такое только у Достоевского может быть: приговорили Митю к каторге за чужое убийство, а он головой согласно кивнул: это, дескать, мне за мою подлость. А Дулепов ведь не вспомнит про свою подлость, он одни материальные законы признает и первейший из них: не пойман — не вор.
— Ну а сам-то ты, — говорит Алексей с сомнением, — уверен, что ищешь одной только справедливости?
— А чего еще?
— Ну а зависть? К власти, к влиянию. Власть, думаешь, так раздражает только из любви к справедливости? Больше из зависти: ах, ему можно, а мне нельзя? Основная движущая сила переворотов.
— А я бы, как декабристы: власть отнять — но не для себя.
Алексей рассказал:
— Однажды в институте, в общежитии, у нас чуть не случилась драка. Она уже готова была развязаться. В комнате у наших девчонок. Ну, обыкновенное такое противостояние нескольких самцов — вы на мы. И вдруг в последний момент один из «тех» и говорит своему главному: а брось ты. Как это брось? А так, говорит. Я, говорит, например, чувствую себя мужчиной только тогда, когда у меня в кармане есть сто пятьдесят рублей. Есть у тебя в кармане сейчас сто пятьдесят рублей? — Нет. — Ну и пошли отсюда. И действительно почему-то тут же все выдохлось, горючая смесь испарилась — и ушли.
— Ты к чему это?
— А к тому: есть у тебя в кармане сейчас сто пятьдесят рублей? Ну, я условно говорю. Есть у тебя авторитет твоих р а б о т? Имя есть? Которое говорило бы само за себя. Ты бы молчал, а результаты твои за тебя бы говорили? Вот то-то. Чего издавать цыплячий писк? Надо делом бороться, а не выступлениями. Дело — оно просто само по себе вытеснит то, что менее достойно.
— Да как же оно вытеснит, если ему Дулепов ходу не дает? — заорал я.
— Дело должно быть таким сильным, чтоб перло самоходом. Чтоб давило препятствия. Я не знаю в истории таких случаев, чтоб дело, если оно того стоит, не прорвалось бы. Не сразу, может, с опозданием лет в пятьдесят, — но прорывается.
Я скис:
— Ждать пятьдесят лет?
У моего дела не было такой самоходной силы.
Ну и пошли отсюда...
(А еще — я не рассказал — я ведь писал телегу на Дулепова в партбюро. Писал, писал, сочинял, потом позвонил Алексею и зачитал ему текст по телефону. Он все выслушал, сперва давал советы, что убрать, что оставить, что поправить. А потом вдруг говорит: знаешь что, никогда не пиши никаких бумаг ни в какие места и органы. Сказать вслух можешь что угодно, но бумаг — никаких! Разница необъяснима, но слишком существенна!
Он так разволновался, так расстроился. Ладно-ладно, говорю.
Как не послушать Алексея, он лучше всех людей на свете.
И вопрос этот сразу отпал.)
Тут меня еще показали нечаянно по телевизору. Шла американская техническая выставка, я там очутился — а тут как раз телевидение. Указали на меня как специалиста, чтоб прокомментировал. И начал я что-то там произносить, описывая руками круги могучего смысла, — а остальное, дескать, элементарно. (Это мы, когда учились еще в институте, один преподаватель давал нам демократическую возможность — самим иногда читать лекции. Заранее готовишься, восходишь на кафедру и поучаешь своих товарищей. Страшный соблазн. Расхаживал у доски Миша Арцимович, небрежно писал выкладки, целые звенья пропуская: ну, а остальное элементарно! — а мы, дураки, сидели, рты разинув, стыдясь, что не понимаем. Думали, и правда элементарно...)
Ну, когда я увидел себя по телевизору... Иногда полезно взглянуть на себя со стороны. Не надо мне вообще высовываться. Где-то читал в старинной насмешливой книге: стоит в церкви дама, вся из себя, свысока поглядывает — а по ее платью ползет вошь.
Ну я и затих. Замолк.
Только каждую седьмую ночь — как заведенный. Репетирую, высказываюсь, разоблачаю. Иду к прокурору.
— Товарищ прокурор!..
И так далее.
Интересно, причиняю ли и я ему такие же муки?
И вот, когда я задал себе этот вопрос, я понял, что потерпел поражение.
Ведь победой над ним было бы полное забвение.
Говорят: кого поминают, у того уши краснеют. Или икота начинается. Или он в гробу переворачивается. Примета такая. Короче, тот, кого поминают, ощущает прилив некой энергии, импульс питания, который немедленно производит в нем тепловую работу.
Значит, я своим постоянным поминанием креплю и питаю врага энергией моей ненависти, а он, как паразит, ходит, греется теплом моего бедного сердца, которое я трачу на него, вместо того чтобы на дело.
Да чтоб он сдох, ни на секунду больше не подумаю о нем. Много чести.
Мы долго и подробно обсуждали с Алексеем научные основы моего энергетического взаимодействия с врагом на расстоянии. Хоть диссертацию пиши.
Со сцены в зал упирались софиты — прямо в глаза: столичное телевидение снимало конференцию.
В боковых рядах всего по четыре места, я сидел один — и ко мне без труда прямо посреди речи пробрался Воронухин.
— Я всех о вас спрашивал — и вот мне вас показали, — счастливо сказал он. — Как ваши дела? — Спохватился: — Да, я не представился: Воронухин.
Скромность — как будто кто-нибудь в этом зале мог его не знать!
— Вы меня ни с кем не спутали? — (Я его перескромничал.)
— Да как же, мне на вас указали, — улыбался он, — а теперь я и сам вижу: это вы. Облик человека имеет ту же структуру, что и его способ мышления. Человек-то весь изготовлен по одной формуле, и все, что он может из себя произвести, тоже подчиняется этой формуле. Как ваши дети похожи на вас — дети есть? — (удовлетворенно кивнул), — так и ваши работы. Я читал, и мне понравилось, как вы мыслите. И если бы мне сказали: это написал вон тот дяденька, — Воронухин кивнул на обернувшееся лицо (растекшееся пятно с гулькиным носом где-то не совсем по центру, а немного сбочку), — я бы не поверил. Сказал бы: нет, не он. Он придумал, верно, что-нибудь великое, но совсем другое, чем то, что я читал. И на вас гляжу — в точности вижу подтверждение вашего авторства.
Он, что называется, балдел, Воронухин, с мальчишьей безудержностью, как будто черт его тыкал в бока и щекотал, а он должен был этого черта утаивать на людях — и они были как заговорщики перед окружающим серьезным человечеством.
Ну вот, сказал я себе, дают — бери. Вот ты бился-бился снизу башкой об лед, а тут тебе сверху — нате — спасительная прорубь: вылезай, дорогой, говори, чего просишь. Напрямую говори, без посредников.
— Вас в президиум вызывали, а вы опоздали, — сказал я от смущения.
— Это я нарочно. Я президиумов боюсь. У меня такое предчувствие: как только я присижусь в президиумах — все, я кончился.
А ведь знал я, всегда таил эту детскую веру — что как в сказке: настанет день, подойдет кто-то и выразит: о-о-о!
— Ничего, что мы с вами во время доклада разговариваем? — Я робел все-таки, как школьница перед директором.
— Да все только ради этого и собираются, оглянитесь. Ну, так как же ваши дела? Как работа?
Кем бы я был, если б стал жаловаться? Дела у меня прекрасно.
— Такое можно услышать только от сибиряка. От москвича вы этого не дождетесь. — Воронухин веселился, как будто шла не просто жизнь, а специальный — для того, чтоб радоваться, — праздник. Готовность радоваться предшествовала причине и находила ее во всем.
— Такие-то результаты мы получили в последнее время, — бубнил я, скромно пропустив его лестное замечание.
— А как у вас с жильем?
Вот сейчас возьмет и позовет к себе работать («Мне нравится, как вы мыслите...» — пелось и повторялось где-то у меня в позвоночнике). Если позовет, соглашусь я или нет? — примерился я. Но нет, не подошло. Не впору. Не люблю, действительно не люблю Москвы. (В метро какая-то дама уперла мне в спину угол своей книги и читает. Я зажат. Вертел-вертел шеей: «Извините, а нельзя вам эту книгу дочитать после?» — «Я что, вам мешаю?» — «Да, мешаете». Помедлила секунду, потерпела — и высвободила с наслаждением: «А мне наплевать, мешаю я вам или нет!» Приличная вполне дама. Это их московская жизнь довела до такой ручки.)
Я успокоил моего высокого внезапного покровителя:
— Спасибо, у меня все есть, не отвлекайтесь, пожалуйста, на мой быт.
— Как там дела у Медведева? — переключился он с благодарностью. — Мы с ним когда-то учились вместе и дружили. Да и сейчас, но дружба — она ведь как технологический процесс: требует непрерывности. Разъехались — не писать же друг другу письма!
Вот Медведев, поганец, никогда не говорил!..
— Медведев — надежнейший человек, — подтвердил я. (Одобрил, сволочь, его выбор. И как он только обходился без моего одобрения?) — Сейчас, правда, у него тяжелое время: развелся с женой.
— А-а-а, — сразу все понял Воронухин, — то-то я смотрю, ничего о нем не слышно. Наверное, все дела забросил. Ну, это так всегда и бывает. На год человек выбит.
Я потом удивлялся, как это могло случиться, что я ни разу не вспомнил про Дулепова. Ни на вопросе «как дела» не пришло в голову, ни на «результатах испытаний», ни даже на Медведеве — а уж тут ли было не вспомнить! — «ничего о нем не слышно...» — а где услышишь, когда Дулепов, окапываясь, укреплял свое кресло костями товарищей: он тему Медведева заслал на заруб, хотя никто ее не запрашивал на оценку и контроль. Добровольно заслал, с опережением. Продемонстрировать свою благонамеренность и осторожность. Нажить себе капитал научной бдительности. Там это понимается однозначно: специалистам на месте виднее — тему зарубили.
И я — я не вспомнил! Развод Медведева — да что развод по сравнению с гибелью темы!
Или я идиот, ошалевший от счастья лицезрения великого человека, или...
А не странно ли, что, полгода ни на миг не упуская из ума этого проклятого Дулепова (язва уже на месте этой мысли образовалась, как выеденная кислотой), я тут как отключился. В нужный и единственный момент. Как кто нарочно позатыкал все щелочки, откуда мне постоянно, день и ночь, смердило Дулеповым.
Неспроста. Неспроста все то.
Мы приятно пробеседовали с Воронухиным до самого перерыва и расстались во взаимном удовольствии бескорыстия. После перерыва Воронухин «слинял». А я так и грелся весь день в блаженстве нашей беседы, как в ванне. Я вспоминал, как в нашу сторону поглядывали с тоскливой завистью. На меня — как сироты на обласканного родительского ребенка. Уж они-то не растерялись бы, выпади эта удача им, а не мне...
И еще несколько дней я не вспоминал про Дулепова. То есть про Дулепова я вспоминал — как обычно, со злостью. И про Воронухина то и дело вспоминал — со счастьем, но ни разу в мыслях я не свел двух этих людей в одну точку; и ни разу мне не пришло в голову, что целый час у меня в руках было все равно что ядерное оружие, и я мог в мгновение ока расправиться с моим врагом. Истребить его одним словом. Воронухин поверил бы мне... Да бодливой корове бог рог не дает.
И только дома, когда я, вернувшись с конференции, рассказывал, слегка захлебываясь, про эту встречу с Воронухиным, Алексей спросил сурово:
— Ну, а про Дулепова ты ему рассказал?
Я ахнул: нет!
Зина громко расхохоталась:
— Дурачина ты, простофиля! Не сумел ты взять выкупа с рыбки! Взял бы ты с нее хоть корыто!
Я растерянно моргал. Не мог понять, как это так случилось.
— Молодец! — с облегчением — гора с плеч — выдохнул Алексей.
— Да как же так! — сокрушался я.
— Все правильно, все правильно, — твердил Алексей.
Я поговорил с Медведевым. Так и так, ты его близкий друг, напиши, позвони ему — он ведь многое может. И мокренького места не останется от нашего самозванца.
Медведев (и откуда в них такая уверенность — в Алексее, в нем?) сразу без раздумий ответил:
— Нет, уволь, я не могу действовать методами Дулепова. В чем тогда будет наше различие?
И я отошел, посрамленный.
Но, сколько веревку ни вить, а концу быть. Кибернетики знают: алгоритм «устает», теряет силу, начинаются сбои. Знают фармацевты и врачи: лекарство тоже устает, действие его снашивается, и тогда нужно искать новое. Может быть, и добро — когда оно слишком долго добро, назойливо, без перемен, как одежда упорно шьется по старой моде — так надоедает, что становится злом. И зло — действует, действует и, глядишь, само себя отравило, захлебнулось в себе и погибло. Скорпион, который сам себя жалит.
Зарвался наш Дулепов, залетел.
Севцову подвернулась годовая командировка за границу. Дулепов тогда захотел отложить свою защиту до его возвращения. А Севцов: да брось ты, зачем откладывать, когда все готово. Да зря ты волнуешься, все будет в порядке, я в тебе уверен.
Козел Адонис. Фильм так назывался, десятиминутная притча про козла Адониса: красивый такой, белый, роскошный домашний козел с колокольчиками на рогах. Идет — позванивает, побрякивает, очарованные козы, овцы и коровы собираются и завороженно следуют за ним. Он ведет их вдоль поля, ромашек, вдоль природы, вдоль изгороди, улицы, вдоль бетонной стены — и приводит наконец к двери. Из двери выходит человек и награждает Адониса куском сахара. Адонис разворачивается и уходит за новыми своими последователями — привести их к этой волшебной двери. Однажды дверь оказалась неосторожно раскрытой, и Адонис увидел, что там делают с теми, кого он приводит. Догадался козел Адонис, кто он. Не берет сахар, опустил голову, поник: не прощает человека. Не хочет больше служить ему. Тогда человек снимает с великолепных рогов Адониса колокольцы и отправляет его туда же, куда всех — за дверь.
И Севцов этому Адонису, козлу-Дулепову: спасибо тебе, козел, подоил я тебя, больше ты мне не надобен. Не бойся, иди, там не страшно. Я оставляю тебе хорошего оппонента вместо себя, мужик-умница, ты зря волнуешься.
Мужик оказался действительно умница, это Севцов не соврал. Главное — и, наверное, самое умное в нем: не задолжал ничего ни Севцову, ни Дулепову и, видимо, вообще никому — в принципе.
Завалил он Дулепова. Народ-то — он трус и помалкивает ради своей безопасности до поры до времени, но на тайном голосовании ему незачем скрывать своего отношения.
Бывают и такие голосования, что вообще ни одного «за» не оказывается, хотя при обсуждении оппоненты рекомендовали диссертацию наилучшими словами... И сами же оппоненты кидали потом черные шары.
А здесь официальный оппонент — «умный мужик» — и вслух выразил полное свое отношение.
Постепенно сняли Дулепова с занимаемой должности. Как несоответствующего. И Севцов оказался как бы ни при чем. Хотя мог бы заступиться за Дулепова из любого далека. «Не бойся, я уверен в твоем будущем!» — откупился.
Нет, мне лично Дулепова жалко. Ходит побитый, в глаза заглядывает. Обнадеженный и потом брошенный. Нет, я лично первый ему руку подаю.
— Ну как дела? — говорю я ему теперь. И вполне искренне беспокоюсь, чтоб дела его пошли как-то получше.
А в тот день, когда его сняли, я ликовал и побежал звонить Зине, чтоб она скорее узнала эту радость. А она как-то даже не обрадовалась.
— Вот видишь...
Как упрекнула.
Как будто это я оказался предателем. Уже горевала за будущего — несчастного Дулепова.
И тогда я сбавил немного свое ликование. Но все равно его сколько-то осталось. В автобусе по дороге домой я сочинил стихи:
И был очень доволен своим творчеством.
Чайка Алины
— Ну что, наших, как всегда, не соберешь? — оглядевшись, презрительно сказала Люся.
В квартире реденько маячили бывшие одноклассники, остывшие и почужевшие, когда-то кровно близкие люди. С каждым приездом Кости собрать их становилось все трудней.
Люся протянула Костиной маме влажный букет, бегло поцеловала в щеку и проследовала к дивану. Там она небрежно бросила себя в сиденье на рассмотрение присутствующим (не боялась дать себя на рассмотрение).
Гошка, ее муж и одноклассник, пожал Косте руку и хохотнул в знак дружбы.
— Что такое, все стали какие-то замотанные, потускнели и мордой в будни! — высказывалась Люся. — Скажешь иногда: ну ребята, давайте соберемся, давайте хоть на природу, что ли, у нас машина, лодка, — нет: у того болячки, у того картошка на даче сохнет — да ску-учно же, дорогие мои!
— Вам-то что, на вас киндеры не виснут! — завистливо сказал один из потускневших.
— Нашел чему завидовать, — тихо заметила его жена.
А Костя услышал. Он вдруг испугался, как опоздавший, как в детстве, когда дружки уходят на рыбалку, а ты проспал и, путаясь, натягиваешь штаны.
С молодой женой Костя развелся после первого же плавания и впредь не собирался повторять «эту глупость». Он был уверен, что поступает разумней всех.
Он забыл в руке приготовленную для дарения детскую игрушку, забыл и задумался, а рука машинально сжимала и мяла ее упругую плоть.
— Да наш уже вырос, в школу пошел, — ответили ему на эту игрушку. — Оставь себе, пригодится еще...
Костя всем привозил подарки из своих загранрейсов, а если стеснялись брать, говорил, что щедрому приваливает еще больше. Морской бог, говорил, заботится о дающих. Так что есть прямая корысть быть бескорыстным. И вот, говорил, ребята, кто тут возьмется определить, где кончается мое бескорыстие и начинается корысть?
А ребята не берутся определить, им уже неинтересна Костина традиционная занимательность, они из нее выросли. У них теперь другое, конкретное: работа, семья, стройматериалы...
И тогда к концу вечера Костя поднялся с рюмкой и сказал:
— Все, ребята, больше не собираемся. Кончилось.
— Да ты что, Костя, что кончилось? — испугалась Люся, не желая мириться с потерями.
— Мне казалось, на то время, пока я там, в океане, живу своей «суровой мужской жизнью», — Костя усмехнулся, — наш сухопутный город замирает и дожидается моего приезда без перемен. И вы все тоже. И забываю, что у вас-то нет отдельного музейного места для сохранения детства, приходится жить и стареть прямо тут же. Когда нет в доме лишней комнаты для старой мебели, ее выбрасывают. Вот и вы бросили ваше прошлое в прошлом. А я лезу дурнем в него возвращаться. Приезжаю и думаю: во будет радости! А от козлика остались рожки да ножки.
Костина мама сейчас же увлекла огорченную Люсю на кухню.
— Он уйдет в плавание на месяц... — говорила она и искала своими измученными глазами Люсиного понимания, чтобы не пришлось договаривать все остальное.
— Понимаешь, Люсенька, обеспеченность и все готовое портят молодых девушек, они так нестойки, я боюсь, что Костя снова нарвется...
Люся помогала ей мыть посуду.
— Как ты думаешь, Люся, ведь нельзя вечно оставаться мальчуганом. Каждому возрасту свои радости. Хорошо, что Костя сам понял.
Люся приуныла: ей не хотелось менять радости, ей нравились старые. Они с Гошей перешли в супружество прямо из школьной дружбы и поддерживали в себе моложавый спортивный дух, который считался еще с девятого класса высшим пилотажем жизнеотношения.
Домой они вернулись поздно вечером. Люсе было тоскливо и тревожно. Она молча напялила длинную юбку — «это тебе, Люська, специально для сидения у камина, ты у нас буржуазная женщина» (Костя умел угадать и угодить).
За окном была ночь и падал дождь, Люся включила электрический камин и зажгла две свечи. Чудная эта картинка отвлекла ее от печального. Люся взяла на колени вязанье, от камина падал красный отсвет, вязкие тени от свеч чуть колебались, ровный шум дождя — все это умиротворяло и отгоняло в темноту опасные предчувствия перемен.
— Почему-то, когда я думаю про Костю, — значительно сказала Люся, — по какому-то непонятному сходству обязательно припутывается Алина...
— Алина? — удивился Гоша. — Да брось ты. Никакого сходства.
Люся молчала, не соглашаясь.
— Алина — вдова, от нее веет чем-то таким...
— Ты не понимаешь! — уперлась Люся.
— Алина — это почти мужик, — настаивал Гоша. — Она ушла в работу, как в пьянство. Недавно в цехе полетела автоматика, так начальник цеха звонит и кричит: срочно пришлите толкового мужика. Алину пришлите, требует. Представляешь? Алина у них — толковый мужик!
— Вот и надо Алину спасать.
— А Костю топить? Впрочем, мне без разницы, — отмахнулся Гоша.
Чистое утро. Сиреневый воздух не шевелясь лежит на воде. Сонная кромка песка, и по берегу спешит опоздавшая Алина, а они ждут ее в лодке, все трое молча сидят и смотрят, как она поспешает.
— Суббота: народу, автобус... — запыхавшись, извиняется она и, оступаясь, неуклюже карабкается в лодку.
— Познакомьтесь, пожалуйста!
Алина и не подозревает, что едут устраивать ее жизнь. Она едет просто за грибами, ее так позвали: за грибами. Люся и Гошка ревниво следят за Алиной: не подвела бы.
Спрячь руки, мысленно подсказывает Люся, досадуя: ногти на виду, обгрызенные в самозабвенном мыслительном труде. «Боже мой, да она забыла уже, что женщина. Она, как старушки и дети, которые не боятся быть смешными: им ни к чему».
Так и хочется загородить ее от Костиного взгляда.
Ну понравься ему, Алина! Понравься. Будет хорошо.
«Лето, ах лето, лето знойное, будь со мной», — поет Алла Пугачева по «Маяку».
Потом заревел мотор и все заглушил.
Лодка вонзается в нетронутую блескогладкую лаву воды, вода распластывается двумя фалдами от носа, и Алина ладонью разрезает надвое ее тугое полотно. Хорошо!
Немедленно все разделись загорать, чтоб не пропадало солнце. Все в общем-то еще молодые и ладные.
— А вода-то теплая, братцы! — кричит Алина, преодолевая шум мотора.
Люся с Гошкой благодушно переглядываются: хозяева-дарители. Пользуйтесь и водой, и солнцем. И грибами — их полно на островах, и водные лыжи будут, и дай вам бог... — вот что в глазах Люси.
За лодкой увязалась чайка, и летит над ними, и летит. Они сидят, запрокинув лица к солнцу, они тонут в теплом воздухе, чуть потревоженном их скоростью, а чайка то залетит вперед, то приотстанет, и они следят за ее игрой, щурясь в небо.
— Алина, смотри, она играет с нами! — говорит Люся, обернувшись назад.
А Алина сидит на задней скамейке рядом с Костей — закаменела, подавшись вперед, коленями стиснула свои ладошки и ничего не отвечает.
— Сбавь ход! — толкнула Люся локтем Гошку. Он сбавил и обернулся от руля:
— Ты чего, Алина? Тошнит?
Она покачала головой: нет.
Он снова наддал, снова мотор загудел, и долго-долго ехали по озеру молча, ровный гул уже врос в мозги, пустил корни и усыпил. Алина нагнулась к Люсиному уху и испуганно сказала:
— Знаешь, есть поверье: души умерших превращаются в чаек и летают поближе к своим. А вдруг это он? Чего она не отстает, а?
Чайка не отставала.
— Алина, ну ты что, всерьез, что ли? — размякнув в долгом блаженстве, лениво пристыдила Люся.
Костя с любопытством покосился. Ему ничего не слышно: гудит мотор.
Мужчины поставили на берегу палатку — на всякий случай: переодеться, может быть, прикорнуть. Или внезапно грянет дождь — лето нынче какое.
Женщины вытряхивали сумки, собирали завтрак.
Алина все еще была не в себе, хотя чайка улетела.
— Детские сказки, Алина, красивые бредни.
Алина рассеянно кивнула, соглашаясь. Потом сказала:
— Ты видела, как он улетел? Как будто отпустил: за грибами. Он еще прилетит.
Это она про чайку-то: он. Сумасшедшая женщина.
Потом завтракали.
— Товарищ старшина, а танки летают? — Нет, Иванов, не летают. — А товарищ полковник говорил, что летают. — Вообще-то, Иванов, они, конечно, летают, но так — низенько-низенько.
Алина вздрогнула на смех и удивленно всех оглядела, как разбуженная. Прослушала. Как рассеянный ученик на уроке.
Потом разбрелись по лесу.
Грибы: откуда ни возьмись — торчит посреди скучной травы такой мохноногий, и шляпа на нем из коричневой замши. Природа — как мудрый правитель: каждому по заслугам. Вот медоносная пчела: ее наградили дорогой меховой одеждой, а рядом суетливо носятся бестолковые подобия пчел, лесной плебс — и брюшко у них из подражания такое же полосатое, но лысое. Не обманешь. А этот подберезовик — он вырос за ночь из простой земли, — и где только он взял бархат шляпы, а разломишь — на разломе чистое тело, тугая плоть — эту плоть он в одно утро насосал из рыхлой земли — поверить этому нет сил, и науке не справиться.
Алчные глаза не оторвать от земли.
Люся набрела в лесу на Алину: та сидела под березой, обняв колени. В маленькой ее корзиночке было пусто.
Алина виновато сказала:
— Так, что-то развспоминалась. Вообще-то я себе этого не разрешаю.
— Первое время, — сказала она, — мне все казалось: вот приду домой, а он, несмотря ни на что, меня встретит. Вырвется о т т у д а и встретит. Потом я себе запретила.
— У меня на стене висела большая панорамная картина: Красная площадь, — снова сказала она. — Когда-то мы были с ним в Москве, там, собственно, все и началось, и Москва для меня — вроде Мекки. И вот я сколько раз: спохвачусь — оказывается, стою перед картиной и ищу его там, высматриваю среди людей. Сняла со стены.
(Алина после похорон месяц сидела на работе за своим столом и изо дня в день выводила на бумаге одно и то же слово: конец. И больше почти ничего не делала. Начальник на нее и план не писал. Пока она сама, наконец, не подошла и не попросила работы. С тех пор она в работе не останавливалась ни на минуту.)
— Это я так просто, — извиняется она за свои воспоминания.
Люсе неуютно: откровенность болезненна — голый под напряжением. Немедленно Люся выстраивает защитную цепочку сопротивлений между собой и Алиной, чтобы не сгореть, ибо мощность у Люси слабенькая и не рассчитана на высокое напряжение. Люся переводит разговор в область слабых токов:
— А Костя у нас в школе был самый знаменитый и странный. Однажды он всех убедил, что его в детстве украли цыгане и он воспитывался в таборе. И ведь поверили. Хотя все знали его мать. Он сказал, что знает черную магию, и мне в десятом классе нагадал, что в двадцать восемь лет я буду одинокой и никому не нужной. И ведь знаешь, я так поверила, что все время боялась. И когда исполнилось двадцать девять — гора с плеч: пронесло!
— Непонятно, — сказала Алина с осуждением, — сводите вы меня с ним, что ли? Это вы зря...
— Ну что, в конце концов, Алина, — защищалась Люся, — не до смерти же тебе жить одной!
Алина побрела в сторонку, наклонивши взгляд к земле, на которой должны расти грибы. Люся пошла за ней.
— Слушай, Алина, вот что я тебе расскажу. На днях я повесила новые занавески на окна — и получился праздник. Все обновилось. И мы сидели, шел дождь, а у нас горел камин, и я зажгла свечи. А? — соблазняла она Алину прелестью картинки. — Ведь жизнь проходит, ты разве не боишься?
— А у тебя разве не проходит?.. А занавески — не знаю... У нас не было реквизита. Без декораций. Ни дождя, ни свеч, ни камина. Просто.
Потом она вздохнула:
— Вот, он теперь прилетел, хочет предостеречь. Он вас понял.
— Алина! — Люся смотрела на нее с укоризной, чтоб ей стало стыдно за свою глупость. — А если бы мы поехали не на лодке по озеру, а на машине по суше, куда-нибудь в лес — как бы он тогда тебя предостерег? Или бы он сорокой обернулся? — Люся потеряла терпение.
— В том-то и дело, — кротко отвечает Алина, — в том-то и дело, что мы поехали не на машине, а именно на лодке. Чтобы он меня предостерег...
— Ну уж это совсем... бабские бредни, чепуха, — Люся рассердилась.
— Есть, — задумчиво говорит Алина, взвешивая свою мысль и еще больше в ней утверждаясь, — есть на свете что-то такое...
— Чему тебя в институте учили! — возмущается Люся, но глаза зацепили гриб, она ахнула на полуслове — и побежала к нему.
— Смотри, еще! Ведьмин круг! — восклицала Люся.
— Алина! — позвала она и оглянулась. Тишина, Алины не было.
— Алина! — она подождала и пошла назад.
Она со страхом обратила внимание, какая топкая, неотзывчивая стоит тишина — как на болоте. Алина не откликалась. Тихо и пасмурно, как в заколдованном сне. Люсе стало жутковато.
Но тут она натолкнулась на Алину. Та стояла тут же, прислонившись спиной к дереву, и беспомощно моргала.
— Алина, что происходит? Ты не слышала, я тебя звала? Ну, с ума тут с вами сойдешь!
Алина затравленно взглянула, как бы обороняясь.
«Проклятая чайка», — мысленно ругалась Люся.
— Алина, пошли-ка на берег, к палатке. Пошли. Будем лучше на водных лыжах кататься. Черт с ними, с грибами!
Костер уже горел.
Рыбы для ухи предусмотрительный Гоша наловил еще накануне. Он старый походник и дело знает. Уж этим он живет.
Мужчины тащили из лесу сушняк на топливо, увлеченно разговаривали и хохотали. И о чем уж таком они разговаривают? — завидно. Вот всегда так: в праздники, когда мужчины поднимаются из-за стола и выходят на лестничную площадку покурить — вот только там и начинается настоящее веселье, а женщины, скучая за поредевшим столом, вежливо спрашивают друг друга о детях, и только хозяйке спасение: она собирает грязную посуду и уходит на кухню.
Люся с Алиной чистили у воды рыбу и картошку и не находили, о чем говорить. (А о чем, правда, говорить? Если не завелось какого-нибудь, хоть небольшенького, наблюдения и если не содержишь в себе мучительного вопроса, который подруга помогла бы разрешить, — о чем говорить, если тебе все ясно?)
— Поеду осенью в Красноярск, — сказала Люся доверительно. — На курорт по бесплодию.
— Что, Гоша хочет детей? — осторожно удивилась Алина.
— Не знаю. Я никогда не знаю, чего он хочет на самом деле.
— Э, — сказала Алина, — да тебе лучше не рожать.
— Почему?
— Это я так, — передумала Алина. — Рожай, конечно, рожай. Это в любом случае хорошо.
Что происходит? — озадачилась Люся. Что-то происходило «за ее спиной», а она не видела. Другим видно, а ей нет. Она чувствовала себя, как ребенок, когда взрослые смеются, а ему непонятно, над чем.
После обеда катались на водных лыжах. Это Гошкина страсть, и он ее всем навяливает. Он спортсмен и больше всего в жизни любит радости тела: еду, баню, крепость мышц, и лечь расслабиться под солнцем, и начерпать кожей энергию солнца, и красиво посмуглеть. Лодка, лыжи, ветер в лицо — это его вотчина.
Алина встала на лыжи в первый раз. Она падала в воду, взвизгивала, была смешной. Но упорствовала. Люсе было досадно: нарочно она, что ли, чтобы не понравиться? Потом, наконец, поехала. Ненадежно поехала, зыбко по неровному лодочному буруну.
— Ну как? — почти виновато спросила Люся Костю, оставшись с ним вдвоем на берегу.
— Будем стараться, — неопределенно ответил он.
Ага, значит, все-таки будут стараться. Люся приободрилась. Она так беспокоилась за его впечатление, как будто выставила на суд свое творение.
— Как инженер, она страшно толковая, — горячо заговорила она. — Таких толковых у нас и мужиков-то нету. Да она красивая! Только она сама про это уже забыла. Она думает, с ней все покончено. А знаешь, какая она была! И еще будет! — спохватившись, добавила.
— Хватит сватать, сам все вижу.
Гошка повез Алину вокруг острова, и они скрылись из глаз.
Солнце пропало, стало пасмурно и неуютно, как под угрозой. Люся и Костя слонялись по берегу, Костя подыскивал камень, чтобы пнуть.
— Кстати, почему твое предсказание — помнишь, ты мне в школе нагадал, что в двадцать восемь лет я буду одинока и никому не нужна? — почему оно не сбылось?
— Почем мне знать, дорогуша, а может, оно и сбылось.
Тут он нашел, наконец, подходящий камень и с чувством запнул его в воду, наблюдая, как пошли по воде круги.
Люся смутилась. Опять что-то происходило «за ее спиной», чего она не могла видеть. Она затаилась, обдумывая горький смысл сказанного. Костя понял, что напугал ее, и отступился от своих слов.
— Сложный вопрос, — уклончиво сказал он.
Люся еще сильнее покраснела и молчала.
Из-за острова, с другой его стороны, показались водники. Издалека было видно, что ноги у Алины загорели только ниже колен — сколько солнцу доставалось ниже платья. Над ней летела чайка. Но Алина, вся в усилии удержаться на лыжах, вряд ли видела ее.
Гошка у берега круто вывернул лодку так, чтобы Алину понесло к кромке песка.
— Бросай фал! — кричал Костя.
Она отпустила фал — глаза вытаращены от напряжения — конечно же, какая там чайка! — и, побалансировав, упала в воду на обе руки вперед. Там было уже мелко: у самого берега.
Ну, а уж восторгаться Алина умеет — как азартный пацан.
— Да езжай, я тебе говорю, знаешь, как здорово! — она хлопала Костю по груди, забывшись и в горячке перейдя на ты. Лицо раскраснелось. Костя улыбался.
— Холодно, — сказал он и как бы нехотя пошел к воде.
— Будет сейчас рисоваться, — неприязненно сказала Люся, не прощая ему скрытного знания о себе.
Костя проехался: он пролетелся, он залихватски замедлился у самой кромки берега и встал на землю, не дрогнув ни единым мускулом, будто от природы был летуч и только сдерживал силы из жалости к другим, неумеющим, чтобы им не стало обидно.
Лицо хранило сдержанное безучастие.
— Пижон! — сверкнув глазами, фыркнула Люся.
Алина вдруг загрустила.
Чайка укромно сидела на берегу и не летала за Костей. Люся все время старалась встать так, чтобы заслонить ее от Алины. Впрочем, Алина забыла про чайку и смотрела на Костю.
Тут запустил дождь. Кинулись в палатку. Люся протолкнула Алину вглубь, чтоб эта чертова чайка не попалась ей на глаза. «Хоть бы она улетела, — думала Люся, — не перебивала бы людям жизнь. Должны же куда-то деваться в дождь эти птицы!»
Есть неповторимый уют внутри палатки, когда дождь шлепает по скатам. Похвалили Гошку за предусмотрительность, и он самодовольно сказал:
— Старый морской волк!
— Отгадайте загадку: в магазин вошел мужчина и попросил полкило колбасы. Продавщица ему взвесила. Теперь, говорит он, разрежьте пополам. Теперь еще каждую часть пополам. И еще раз. Достаточно. А продавщица завернула и говорит: возьмите, товарищ летчик. Как она догадалась, что он летчик?
Алина напряглась. Ее стихия. Работа ума во всех видах. Как спортсмен любит движение, как цирковое животное любит службу. Она мучилась, выводя следствие из того, что было дано в условии задачи. Слишком математический ум, это ее подвело. Тут требовалось нарушить правила. Костя небрежно сказал:
— Он был в форме.
— Это нечестно! — расстроилась Алина.
Действительно нечестно, но уж такая задача.
И они сидят в тепле, в сухом месте, снаружи льет дождь, всем хорошо. А Люся среди них — как старшая сестра: она знает больше, чем предназначено им, малышам: она стережет их от этой чертовой птицы — кыш, проклятая! — она готовит им счастье... Но остался внутри у нее неуютный холодок от Костиных слов. Что он имел в виду? Люся была уверена, что не роман... Нет у Гошки никакого романа. Не может быть. Если и есть что, так какая-нибудь равнодушная ленивая связь, не больше — неопасное... Потому что любовь и страсть скрыть невозможно. Будь она — он не смог бы жить так, как живет сейчас. А как он живет сейчас? — задала себе вопрос Люся. А никак, — был удручающий ответ. Праздно. Душа его не задействована.
Может быть, это и есть разгадка?
Палатку понемногу начало трепать ветром, и Гошка озаботился:
— Плохи наши дела: сейчас озеро расходится. В шторм на нашей «казанке» нельзя.
— Смотри, старик, тебе лучше знать возможности своей посудины на этом водоеме, — пожал плечами Костя-мореход.
— Поедемте домой, братцы, а, пока не поздно, — встревожилась Алина.
Гошка выглянул наружу и сообщил:
— Уже поздно. Озеро уже болтает. Это здесь, между островами, еще тихо, а в открытое место выйдешь — пиши пропало. Будем жить здесь до штиля.
Он хохотнул и потер руки, прельстившись своим прогнозом. Наверное, ему казалось очень кстати устроить вынужденную ночевку для Кости с Алиной.
— Слава богу, спальные мешки у меня всегда в трюме, — похвастался он.
Все примолкли и слушали, как дождь долбит брезент. Каждый затаился и ждал, что будет. Они, наверно, не сходились в желаниях. Кому-то, может, хотелось, чтоб стихло, а кому-то, может, наоборот. Люся посмотрела на лица и не смогла определить, кому чего.
А мне, — спросила она себя, — мне чего?
А если придет старость или болезнь? — подумала про себя и про Гошку, и ей стало страшно.
Гошка встретился с ее взглядом, ухмыльнулся и подмигнул: мол, все идет как надо и даже лучше, чем надо. И отвернулся. Ничего не заметил. Он не умел читать в ее глазах — навык лишний, когда существует речь. У них принято было плохое переносить в одиночку. «Не портить друг другу настроение». Настроение ценилось.
Перестало барабанить, и от тишины зазвенело в ушах. Только ветер широкими мазками мел крышу палатки.
Они выбрались наружу. Мокрая трава брызгалась холодным, кожа ежилась от капель. Оделись. Какие-то неуютные сумерки навалились на землю, хотя до вечера было еще далеко. Низко летели, рвались клочья туч, небо не просматривалось. Озеро черное шумело.
Ну что ж, ночевать так ночевать. Они разбрелись по острову, чтобы натащить дров для костра. Люся пошла вслед за Гошей. Какой-то неясный вопрос был у нее к нему, какая-то тоска, требовавшая немедленного утешения — чтобы он разубедил ее и рассеял сомнения.
Странный день.
— Гоша, а помнишь, прошлым летом: мы должны были тетю Надю встретить на вокзале — и не поехали, потому что по телевизору шла четвертая или пятая серия. А она приехала на такси, и мы сделали вид, что не получили телеграммы.
— Ну и что, — невозмутимо пожал плечами Гошка. — И правильно сделали: и кино досмотрели, и тетя Надя не пропала.
Он ухмыльнулся, вспомнив:
— Бедная тетя Надя все порывалась пойти на почту и получить назад свои деньги.
Люся нехорошо молчала, поеживаясь.
— Почему ты вспомнила? — недовольно насторожился Гоша.
— Не знаю. Наверное, погода. Тоже дождь шел.
— Ну вот, еще и дождь шел, ехать на вокзал... А впрочем, это ведь твоя тетя Надя, а не моя. Я-то при чем? Ты меня как будто обвиняешь, — рассердился Гошка.
— Гоша, поедем домой! — болезненно попросила Люся.
— Да ты что! Думаешь, я вру? — возмутился он. — Выйди на ту сторону к берегу и посмотри, там открытое место.
Ветер шумел по верхушкам, обрывались с веток капли. Многослойные тьмы туч неслись по небу без конца и без края.
Люся остановилась, но Гошка этого не почувствовал, не оглянулся и рассерженно удалялся между деревьев.
Ей захотелось немедленно найти Алину и узнать, в чем состоит любовь и как она выражается, потому что Люся вдруг заподозрила, что не знает этого и никогда не знала. А вдруг их долгое мирное сосуществование с Гошей — вовсе никакая не любовь, а просто они вдвоем — артель по наращиванию благосостояния, а?
Она пошла по лесу наугад и вдруг вспомнила, как после Нового года спросила Алину, какое желание та загадала в новогоднюю полночь, и Алина ответила, что уже три года загадывает одно и то же: не разлюбить.
Что мы делаем! — оторопело подумала Люся и остановилась. И не знала, как быть. Догнать Гошку? Сказать ему: нельзя это, нельзя! Уговорить — пусть отвезет всех домой и больше не трогать Алину, пусть она сохраняет это свое, такое важное. Лучше утонуть в шторм, чем то, что они затеяли сделать с Алиной.
Деревья безучастно стояли вокруг, каждое на своем извечном месте. А она, Люся, была здесь чужая и незваная, и ничто не имело к ней сочувствия. Бог послал сиротливые заросли, мглу и ветер, чтобы ей узнать этот час: сумерки и дождливые травы — как они клонятся к земле. Она быстро пошла, не глядя под ноги. Ей теперь было не до топлива: только бы отогнать эту тоску, прохватившую ее ознобом насквозь.
Вот так живешь, — думала она, — а потом прорежется, как зуб мудрости, такая вот минутка, и не дай бог.
Она вырвалась к берегу, на незнакомое место. На открытом мысу деревья трепало ветром и мотало из стороны в сторону. Гошка прав: настоящий шторм. Неслись непробиваемые тучи, ветром косило кусты.
И вдруг последнее солнце пробилось в прореху неба, тучи взорвались и закишели белым огнем, бока волн и мокрые коряги на песке яростно осветились, все дрожало, извергалось, деревья метались и расхлестывали пламя солнца, а столбы света нерушимо упирались в берег: свадьба жизни и смерти, а на песке, на коряге сидела, сползая, Алина, то закрывая лицо руками, то отнимая их, и, захлебываясь, плача, она дико повторяла: «Ну иди же сюда, я здесь, я с тобой, я с тобой», и шторм глушил ее голос, а там, куда она обращалась в таком страшном изнеможении, чайка тревожно топталась на вывороченном пне, топорщась белыми перьями.
Окаянное, окаянное место.
Все-таки ночь они провели благополучно. И Алина ничего, приплелась в темноте к костру, а ведь Люся думала: ну все, сейчас она утопится в этой пучине, чтобы потом тоже летать, и пусть, думала, может, ей так лучше будет. Лучше, чем устраивать благополучное гнездышко с занавесками, с камином. И Люся не потревожила ее на коряге и ушла потихоньку к лагерю, к костру.
Она сказала, что Алина придет, что искать ее не надо.
Она сварила ужин.
И действительно, Алина пришла. Нет, живуч человек, слаб. Так подумала с огорчением Люся.
Устроились в палатке: Гоша с Люсей посередине, а те по краям. Чтоб, значит, не прикасаться.
Мужчины легко заснули здоровым сном. Люся и Алина лежали рядом и притворялись спящими, чтобы молчать. У обеих было безутешное чувство — только разное.
Потом Люся тихонько выползла из палатки и сидела на берегу одна. Тихая была пустынность. Вода, материнское вещество. Хотелось уплыть и спрятаться в глубь нее.
Ветер перестал. Небо очистилось, но остатки волн еще выбрасывались на берег вместе с отражением луны. Потом луна закатилась за хмарь, и вода погасла.
Люся знала, что никто не выйдет из палатки и не потревожит ее. Некому было следить за ней с пристальным чувством любви и заботы. Ей предоставлено было жить в благополучии, и у нее была компания приятелей против скуки. И не было у нее кого пожалеть — разве что себя.
Напрасная моя плоть, — думала Люся, — скоро, скоро все кончится. Никто не прилетит.
Грибы она замариновала.
Алина сдалась. Как уже выяснилось, слаб бедный человек, Они с Костей решили пока не расписываться. «Ведь я даже не разведена», — неловко сказала Алина Люсе и опустила глаза.
Однако по настоянию Костиной мамы собрали небольшую вечеринку. Шампанское.
А Люся не пошла, она что-то расхворалась: с недавнего времени душевные огорчения стали отражаться на ней физически. А раньше это было по отдельности. Гошка пошел один, ответив ей: «Как хочешь». В соответствии с принятым у них невмешательством в дела другого.
Молчи
Так напевал и насвистывал сухопутный мальчик моей юности. Он присел передо мной на корточки и соображал, как исправить мое лыжное крепление.
Ловко починил, мне бы так ни в жизнь не сообразить. Толковый был мальчик. И отправились мы на охоту.
Отплывает теплоход наш в Тихий океан, валится, валом валит мягкий снег, на палубе кидаются снежками. Промыло воздух снегом, профильтровало — и пахнет чистым сухим электричеством — как под кварцевой лампой. Ультрафиолетовый воздух.
Матросики наши вылепили прямо на палубе снежную бабу. Видимости никакой. Трудно будет вести корабль.
Лыжи были на валенках. Зимние каникулы, рождественские морозы, середина континента, а мы отправились на охоту — на двоих с одним ружьем; мы шли по лесу, он впереди; редкие березки, блистающая пыль с них осыпалась, наст сиял, кололся тысячью игл, к счастью, мы не встретили жертвы для убийства; он шел впереди на лыжах и то напевал, то насвистывал: «Вода, вода, кругом вода...», а я замирала, глядя и слушая, растворившись в любви к нему вся, без осадка.
На дальнем пирсе кто-то черный, сквозь смутный снежный занавес, обнимает снежную бабу в одинаковый с ним рост.
Тишина; тише, чем в снегопад, не бывает.
Ребята кидают снежки на причал. Оттуда несмело летят ответные. Бегут опоздавшие пассажиры. Уже несколько раз поднимали и снова опускали трап. Наконец подняли окончательно.
Два буксирчика деловито оттянули нас за бок от причала и отбежали в сторонку. Заработали наши двигатели. Грянул марш «Прощание славянки». Кто уцелеет? Я всегда плачу. Я славянка, и я прощаюсь.
Прощай, охотник, мой мальчик. Хорошо, что мы ничего не убили тогда, потому что летом перед тем — убили. Я убила. Вынырнул сурок и вытянулся дудкой, подсолнухом, насторожившись у своей норки. Моя очередь была стрелять, и он упал. Мы даже не взяли его, мне сделалось худо, хотя никогда я не смела вблизи моего мальчика иметь какие-либо личные ощущения, кроме нестерпимого, неразрешимого, безмолвного обожания.
Он увидел, каково мне, и, ни слова не говоря, увез меня оттуда на мотоцикле, поступившись своим очередным выстрелом.
Когда приехали домой, Нянька добродушно сказала, что зря не взяли сурка: у него полезный жир.
Ну вот, а зимой он опять позвал на охоту — и я иду, и попадись дичь и повели он выстрелить — не поколебалась бы, потому что рядом с ним меня не было вообще. Так я любила: себя не помня...
Пассажиры все устроились; час-другой — и выйдут из кают, начнут обживаться, гулять по палубам, коридорам, лестницам и переходам и тайком присматриваться друг к другу — примерять к себе. Известно. Надежды, у кого внятные, у кого нечаянные. Плыть долго, будут завтраки-обеды-ужины в ресторане, вечера в цветно-освещенном баре, танцы в музыкальном салоне и, неизбежно, зарождение любви или чего там. Пора кончать с этими плаваньями, нагляделась вот так.
Я уже начинаю понимать стариков, которых вся эта любовь только возмущает.
У нас в рейсе новая уборщица с несбывшимся именем: Инга. Ну ведь понятно же: нарекая девочку таким именем, на нее возлагали непростые надежды... А она их обманула. Или ее обманули. Но все равно ее з а м е т н о. Сразу выделяется человек, который в потоке жизни среди множества безучастно влекомых один выгребает — в е д е т с е б я.
Я немного дольше, чем следует, немного внимательнее необходимого взглянула ей в лицо. (Увидела: из изношенного, перепаханного поля лица торчит колом наружу любопытствующий, сильный взгляд.) А человек — он, подлец такой, только и ждет, что ему внимательно посмотрят в глаза. Он тут же начинает исповедоваться. Потому что ему сто лет никто не интересовался заглядывать в глаза. И в первый же мой вечерний прием уборщица Инга (ничего себе сочетание «уборщица Инга», а?) сидела у меня в амбулатории. Утомленная кожа в местах малейшей мимики собиралась гармошкой. Сорок три. Почему, говорит, мы не покрыты, как кошки, шерстью, доктор? Или хотя бы как мужчины — бородой. Это, говорит, предательство природы.
Жалобы есть?
Жалоба одна. Одна и та же. «Без этого у меня постоянные головные боли». Вот и устроилась на судно. Надо же как-то устраиваться. (Бедное это судно...)
— Начать вам рассказывать мою жизнь — вечера не хватит.
Я непоощрительно молчу. Я выслушала уже столько жизней, что сама могу рассказать ей ее жизнь. Но выслушать все же придется. Раньше для этого был судовой священник. Теперь врач. (Всё заодно: лечить, гонять тараканов, пробовать пищу и выслушивать жизни.)
Далась же им эта «любовь»! С каждым годом мне все удивительнее, до чего люди однообразны. Ведь в жизни так много к р о м е любви — а все рвутся к ней. Боятся оторваться от верного источника радости, как жеребенок от материнского вымени, и уж гневная кобылица лягает своего детеныша: отцепись, дурак, пришла тебе пора другая — скакать, нестись сквозь плотный ветер, ловить ноздрями чистый дух земли. Кто бы лягнул человека, отогнал его от привычного этого вымени.
— А вы как обходитесь? — спрашивает совета уборщица Инга, тремя годами старше меня.
— Можно, я не буду отвечать? — ставлю ее на место. Не надо нам впадать в дружбу.
— Извините...
Порода в ней безусловно есть. Инга просто не сумела ею распорядиться.
На стене у меня медицинский плакатик. Молния, переходящая в зловещее начертание «стресс», расколола черный силуэт головы, сколок накреняется, как кирпичная кладка, и сейчас рухнет. Чтобы не было стрессов, надо иметь забот побольше — они тогда маленькие. И чужих (на этот счет у врача идеально). А когда забота одна и своя — это уж точно треснешь. Наверное, нет человека невозмутимей врача. Разве что священник. Каждые десять минут он тоже получает долю чьей-нибудь горести, и эти инъекции привили его от любых страданий.
Иногда я сожалею об этом. Теряя способность чувствовать новую боль, я берегу старую — в памяти — ту, которую еще умела ощущать — чтобы оставаться человеком. (Дочка с причала жалобно машет рукой. Я на палубе. Галактион тоже видит ее. Наши взгляды скрещиваются на ней. Как в юности: «Смотри каждый вечер ровно в десять на луну». И смотрели из разных городов, справляя эти свидания взглядов.)
Миша из команды стармеха, юноша: выберется наружу, свесится с кормы на нижней палубе и глядит, глядит, как волны заметают след киля. В вывороченной воде охотятся чайки, точно галки в опрокинутых плугом пластах, и простирается эта солнечная пашня до самого бугра горизонта.
Вода в Японском море серая, безрадостная. Только под солнцем она с трудом просиняется. А в лазоревом проливе Босфор когда-то поднялся на борт седой стамбульский лоцман, достойнейший мужчина, и повел наше судно по каверзному месту. Ему подали крошечную чашечку, как полагается, турецкого кофе, и он вел нас, красуясь в рулевой рубке, изысканно держа чашечку на отлете, поблескивая золотом зубов, серебром усов — нажитым своим состоянием... Вот там, в южных морях, воде ничего не стоит быть синей.
Такие вещи можно рассказывать Мише: он понимает, о чем это. А можно и молчать. Подойду — мы только переглянемся. Такие вещи он тоже понимает. Нечаянно-хороший от рождения человек. Дочку за такого отдать. Но эти нечаянно-хорошие люди знают и ценят только море, корабль и работу. А себя не считают стоящими собственного внимания. Рассеянны к себе — и теряют. Ведь это просто — как с деньгами. Разменяешь крупную купюру — и мигом она разойдется. Хозяйки знают. То же самое с личностью. Владея целым — дорожишь им. Стоит часть отдать, уступить — остальное разойдется по мелочам. Именно с ними, с нечаянно-хорошими, это и случается.
Миша оторвется от этой килевой пахоты, оглянется на меня — глаза беззащитные, как нежные плоды какого-то чудного растения. Хорошие глаза. А очень много есть людей: поднимет веки, а под ними оказывается не загадочное вещество ума и духа, не лучистая материя глаз, а почти такая же равнодушная плоть, из какой сделаны нос и щеки.
Недавно у Миши случилась какая-то техническая неисправность — и глаза его глядели с испугом. Ребенок. (Маленькая моя племянница смотрела мультфильм про оттаявшего мамонтенка, который отправился по морю на льдине искать свою маму, и поскуливала от жалости, а когда я взяла ее на руки утешить, она сквозь слезы объяснила мне: «Это — ребенок!» — чтобы я поняла все бедствие.) Миша ведь еще ребенок, а в машинное отделение спустишься — гудящая горячая утроба, переплетение труб, прокопченных и мазутных, и надо вползать в тот отсек, где уходят вдаль, к корме, в окружении железных сплетений, два толстенных вала — на которые насажены где-то снаружи гребные винты. И мальчик, после среднетехнического училища, должен в этих железных кишках все понимать за сто, простите, пятнадцать рублей в месяц. Мне кажется, в человеческой середке, во влаге таинственного биения жизни, куда мы входим по хирургической необходимости, и то не так страшно ошибиться: живое, умное вещество, оно как-нибудь все же срастется и залепит твои промахи, как дерево заживляет натеками коры свои раны, а ведь железные эти дурные механизмы — на них нет никакой надежды, они не могут поправить себя сами. Они могут только необратимо разрушаться и все сокрушать вокруг себя.
Глядит Миша, глядит на воду и говорит:
— А огонь тоже все любят. Когда пожар — все сбегаются смотреть. Там его так много!
Однажды, рассказал Миша, горел дом на соседней улице, маленький деревянный дом, и он залез внутрь помогать пожарным, внутри всё в дыму, и мечется у комода пожилая женщина с суровым таким прокуренным лицом фронтовички. Миша к ней, начал ящики дергать — они вполне выдвигаются, и в них белье и все, что бывает в комодах, а она даже и не думает все это спасать. «Да вот этот не открывается!» — стонет. «А что там?» — спрашивает Миша. «Партийный билет там!» Миша думает: вот это да! Тут добро гибнет, а она о корочках. Давай он скорее спасать барахло из комода этой коммунистки, но тут скомандовали: «Все из дома! Сейчас рухнет перекрытие!» Он ее в окошко выпихивать — сопротивляется. Наверное, тронулась маленько. Но ничего, вытолкал.
— Миша, — осторожно спрашиваю я. — А где это было? Мне кажется, я знаю эту женщину.
Э, да мы с тобой земляки. И ты, значит, спасал мою маму...
Стало быть, Миша, мы, за поколение до тебя, попирали ту же самую траву босыми ногами и колесами наших мотоциклов.
У нас была отличная компания, летом мы валялись на пляже, играли в карты, плавали и гоняли на мотоциклах — в нашей почти деревне мы ездили тогда без прав и без шлемов, и даже босиком; всегдашняя готовность побежать, прыгнуть, нырнуть и поплыть; физически мочь всё — вот что у нас ценилось, я и сейчас это ценю; а однажды я посадила на мотоцикл подругу и повезла ее по какой-то ее надобности в деревню за двадцать километров, и в чистом поле среди ржи, на взгорке мотоцикл мой заглох, и я не знала, что с ним; мы оказались вполне в идиотском положении на пустой полевой дороге: движение здесь — одна машина в сутки; и тут вдруг послышался звук до боли знакомого мотора — издалека, он ехал сюда, какое счастье, боже мой, да и кто бы он был, мой мальчик, если бы не умел оказываться в самый нужный момент на нужном месте, я глядела навстречу, растерявшись от счастья, а он остановился, запрокинул голову, как он это делал всегда, и смеялся, и зубы его сияли на солнце.
Подравшиеся наши, порезавшиеся пассажиры лежат у меня порознь: один в изоляторе, другой — в двухкоечном лазарете. Чтоб не схватились еще раз.
— А чего он! — жалуются мне друг на друга.
Перевязываю. Подолгу отмачиваю повязки в фурацилине. Чтоб не больно им, собакам.
Очень разные. Коля все время виновато и просяще улыбается. Он в этой драке потерпевший. Сначала я боялась исповедей. Исповеди — мое бедствие. Стоит нацепить фонендоскоп и прислушаться к сердцебиению и дыханию, как тут же эта внимательность прочитывается в универсальном смысле — и человек принимается рассказывать мне всю свою жизнь.
К счастью, Коля не мог связать больше двух слов, на третьем только руками поводил. А второй, Гапирсон, — гордый. Не исповедуется и ничего ни у кого не спрашивает: сам знает.
Но по два словечка Коля все же рассказал. Естественно, сидел. Естественно, не раз. И, конечно же, любовь (вот она уже где у меня!). Вышел из тюрьмы — взял одну, стал жить, а к ней прежний освободился. «Ну, так он или я?» — «Не знаю». — «Ну, тебе хорошо с ним?» — «Не знаю». — «Может, тебе с ним плохо?» — «Может. Не знаю». — «Так как же будем?» — Пожимание плеч. И — ничего не понимают, что с ними происходит, и оттого равнодушны к своей участи. На собственную жизнь глядят, как в кино.
А до тюрьмы у него была другая, но Коля ее забыл — не от плохого отношения, а по недостатку памяти: просидел три года и за этот срок нечаянно забыл. Она, скорее всего, не заметила этого.
На нашей деревянной улице жила такая. Родила одного, другого, а третьего оставила в роддоме. Решила, видимо, что это несправедливо и невыгодно — кормить троих. Ходит, и лицо ее ничего не выражает: ничего не берет из мира и ничего ему не отдает. Взгляд как прахом присыпан. Ее старая мать на расспросы соседок отмахивается: «А, я не знаю!» И, правда, не знает. И знать не старается. Едят, спят — ну, значит, и живут, чего еще?
Коля такой же — с сонным взглядом без памяти. Сон жизни.
И оставленный тот ребенок вырастет тоже без памяти, с таким же сонным взглядом. Ему не будет больно. Жизнь их заранее анестезирует.
Впрочем, бог даст, его взяли какие-нибудь бездетные супруги. И бог даст чужой женщине терпения и сил, как он дает их родившей матери вместе с молоком для кормления.
Даст, бог все даст.
Коля ждет от меня ответа на его корявые исповеди. Я должна как-то о т н е с т и с ь к этому всему. Но как?
Поменяй, Коля, жизнь? Иди, Коля, пахать на великую стройку? Какая там стройка, он весь податливый, нетвердый, как пластилин, приминается, куда ни нажми, от одного взгляда приминается, слабый, пьющий и обреченный быть тем, что он есть. Не вырваться ему из круга судьбы. Иди, Коля, воруй дальше? Воруй-садись, воруй-садись, такая твоя планида?
Я прячусь в конкретность забот: приготовить раствор, перевязочные материалы... Некогда мне думать за них...
Отмалчиваться — позорно. Пожалеть — дешево. Помочь? — разве в силах один человек помочь другому: каждый в кольце своей отдельной судьбы. Я могу прооперировать его и спасти от смерти. От жизни мне его не спасти. Что же остается? Иди, товарищ, иди и делай дальше свое паразитское дело, справляй работу страха, а меня оставь в моем благополучии мирно зашивать ваши порезы, лечить ангины и травить тараканов на судне — так?
Не знаю. Не знаю. Отвернусь от Коли, лишь бы в лицо не смотреть, лишь бы толково прилаживать повязку, чтобы остаться довольной сделанным делом и, может быть, сохранить этим необходимое самой к себе уважение.
Куда легче с Гапирсоном. («Это ваша фамилия?» — «Неважно. Пишите: Гапирсон», — надменно.) Коля, видимо, и прилепился к нему, чтоб кто-то з н а л за него. «Работали» вместе. Подрались, порезались. Спрашиваю у пассажирского помощника: «Будем их на берегу милиции сдавать?» — «Да пошли они! Пусть расправляются между собой сами. Милиции меньше работы».
Гапирсона я еще раньше заметила, до того, как он стал моим пациентом. На палубе. Шезлонги, солнечно. Молодая пассажирка читает, жмурясь от света. Доски палубы с аккуратными кружочками шпонок нагрелись, ветер не касается их. Хорошо перегнуться через борт и погрузить взгляд в бег воды за бортом — так усталые ноги опускают для облегчения в воду.
— Девушка, я вот смотрю, такое солнце, у меня глаза забило, а вы читаете. Что это вы читаете? Учебник истории, что ли? В институт, что ли, поступать собрались?
Девушка терпеливо ответила:
— Вы мне мешаете.
— Девушка, дочитать можно в каюте. Дайте-ка, я проверю свою память, — потянул книгу на себя, девушка не уступила, суше и строже повторила:
— Вы мне действительно мешаете!
А он даже хорош собой: какая-то примесь азиатской крови, и злоба азиатская вскипела.
— Ах-ты стер-ва, — как из тугого тюбика выдавил. Пора подойти и обозначить свое отношение, но я медлю. Совершиться преступлению или нет, я знаю, зависит и от поведения жертвы. — Ах ты, коза недоученная! Дура неграмотная, — он стоял рядом и нанизывал ругательства на свою тишайшую ярость.
Девушка не встала, не ушла, не вспыхнула, она выбрала правильное оружие — спокойствие.
— Дура, хочешь показать, что грамотная, читаешь на палубе, чтоб все видели. В каюте у тебя места нет, да? Мне смешно.
— Ну так смейся, что ж ты. — (Знать, она сильна...)
— Ха-ха-ха, я смеюсь. Только ты мне не тычь!
— Давай, ты быстренько скажешь мне весь твой запас слов, но после отвалишься от меня, только в темпе, договорились?
— Красивая! Ух ты! А глаза узкие, у меня глаза вдвое больше твоих! Ишь, сапожки, то, се! Богатая! — злоба его и правда выдыхалась, выходила вместе со словами, как газ из шампанского. Уже без жара, скорее примирительно, повторил: — Коза неграмотная.
Она продолжала спокойно молчать.
— А зачем учишься-то? — вдруг с любопытством спросил Гапирсон.
— Неграмотность ликвидирую, — улыбнулась незлопамятная девушка.
Он снова заглянул в книгу.
— «Империализм». Да ты знаешь, что такое империализм? «Женева». Это во Франции?
Она опять молчала, но ссора уже рассосалась, началась Гапирсонова тоска:
— Эх, если бы ты знала...
— Ну ладно, пока, будь здоров, — встала, ушла.
Напрягся, ощетинился, выпустил колючки дикобразик. Оскорбленный Гапирсон.
Ну вот, а позже попал ко мне.
Заносчивый воришка («отпустите меня, я уже зажил»), в глазах сухой огонь.
Пришла Инга, взгляд уводит: «Отпустите его, доктор. Скоро путь кончится... У меня очень сильные головные боли».
— Да он же!.. — ахнула я.
— Мне какая разница, — выжатым, высохшим, выцветшим голосом.
Села, откинула голову на переборку. Сидим, молча перетягиваем, как канат, время. Там, за ее виском, за переборкой, лежит в лазарете Гапирсон.
— ...В Находке один мичман, тридцать девять лет. Мы с ним были... И у него случился приступ сердца. Я ему давай массаж. Он после... — да все они одинаково говорят: ах, почему мы не встретились раньше! И зачем-то еще врал, что не женат. Зачем врал, я же ведь не против была. После я разыскала его брата, думаю: что-то не показывается, может, умер уже от сердца, спрашиваю: Олег-то хоть живой? — Живой, да я у них давно не был. «У них» — значит, женат... Зачем же было врать? Так по мне уж лучше Гапирсон, чем... Доктор, а капитан наш женат?
— Не знаю!
Она вздохнула, отвела свои сильные, неутолимые глаза.
Выпустила для нее на волю молодого Гапирсона.
— Только чтоб без поножовщины, я вас зашивать не успеваю! — поворчала для виду.
Гапирсон обиделся.
— Вы меня, конечно, доктор, извините, но гарантию, как говорится, может дать только страховой полис. Мы живем, доктор, на всем серьезе. Вам не понять. Вам главное приличия. А мы вот такие люди.
Гордый Гапирсон.
Ему лет двадцать пять. Поджарый. Стремящийся. Его ждет женщина Инга, вдвое выше, вдвое шире и вдвое старше, кожа гармошкой, женщина, постыдно не насытившаяся до сего времени.
Это надо успевать. Не потому ли юность полна была маленьких измен? Сердца много, сознания мало, и в сумерках его едва отличишь «приятно» от «правильно». И не отличали.
...Мальчик мой тогда все не ехал на Новый год. Каникулы уже начались, каждое утро Витька прибегал, будил меня, и мы мчались на автостанцию встречать ежедневный автобус: да приедет наконец этот чертов Гал? И день, и два, и вот уже 31 декабря, а автобус, последний в этом году, пришел без Гала.
— Витька, ну что?
Посмеивается:
— Тебе видней. Ну, хочешь, Налима позовем?
Бездумно, легко предавали, не ведая пока тяжести расплаты, не зная еще цены верности.
— Что-то надо делать, не оставаться же одной!
Позвали Налима, он без ума. Вот уже одиннадцать часов, вода закипает, сейчас пельмени спускать, мы вчетвером у Витьки: он, его подружка, я и Налим. Уже гуляем. И тут открывается дверь, клубы холода катятся по полу кухни, а поверх летит улыбка. Я безумею. Я перестаю видеть и слышать. Я глохну, кидаюсь к нему напрямик — может быть, даже через стол, я влеку его в дальнюю комнату, не снявшего пальто: ну как ты?! Счастье, как ветер, как метель: все застило — это так бывает, несется человек по улице надутым парусом, сам не зная куда, сощурился, чтоб не ослепнуть от радости, — и что там такое у него сбылось? Дура полная, я и секунды не затруднилась представить себе, каково моему преданному Налиму, нежданно-негаданно допущенному и тут же брошенному назад, он взял нож и резанул себе поперек ладони, чтоб я узнала, как это, — а я все равно ничего не «узнала», так была надута ветром счастья. Налим ушел, и весь ему Новый год, а нам хоть бы хны, задумываться некогда: пельмени поспели, да и столько радости, что места нет для мысли, мы ели, пили наше вино, глаза моего мальчика сияли, он приехал на попутной невозможной машине среди метели за час до Нового года, это было так невероятно и так чудесно, что сил не хватало усвоить. Он уснул с дороги и с радости, а я тихо сняла платье, в голубой сорочке, семнадцатилетняя, украдкой легла рядом, в его тепло. Витька заглянул в дверь и рассмеялся. Это была его комната, его постель. Ничего. Сон моего мальчика был глубок. Я полежала, может, час, может, два, потомилась около него, спящего. Ушла домой.
Зимой голое солнце. Словно обдирает своими казнящими лучами землю — где сейчас та земля? — наверное, сияет на сопках снег, исчерченный черными тенями стволов.
Народ обжился, на палубе беседы — каждый стремится укоренить свою личность в чужом сознании, подобно насекомым, откладывающим яйца в других живых.
«Я могу работать хоть кем. И хоть где. И он это знает!»
«За мной ухаживал один майор...»
Что-то, конечно, про «снабжение там неважное».
И рефреном: «Кошма-ар!» — о чем угодно, со всею полнотой чувств, отпущенных человеку на весь перепад горя и счастья.
Пройдет мимо подвыпивший мужчина — его дыхание, как мерзлое железо, клещи. Наш теплоход — попутно и дом отдыха. Вот и отдыхают. В каютах, в ресторане, в музыкальном салоне — чуждый дух не-дома, хищно-ветреный, зовущий предать и забыть. Тяжело — недостойно — стыдно — находиться среди этого.
Три подгулявшие дамы проветриваются. Ревизорши, в командировку едут. «В Петропавловске у меня нашлось бы кому позвонить», — уклончиво-игриво. Курят. «А у меня в Петропавловске есть — летящее-светящее». Хором ей в ответ одобрительное мяуканье. «Да, — продолжает, нежась в зависти подруг. — Летчики. И, если покопаться, то найдется в любом конце Советского Союза...»
Доносит ветром сатанинский запах коньяка и дорогих духов. Ненавижу духи, хоть это и узаконенное оружие в войне между женщинами и мужчинами — кто кого.
Когда моя дочка была маленькая и я впервые рассталась с нею, — помню, подошла к ее опустевшей кроватке, стала убирать, а одеяло хранило запах нежных испарений ее кожи... (Если человек растет рывками, во сне или во время детских болезней, то и душевные его изменения тоже идут ступеньками: в такие вот моменты — услыша запах детского одеяла...)
А духи мне сколько ни дарили — так зря и пропадали.
Я любила, как пахнет кожа под солнцем. На берегу нашей речки мы лежали кружком, в карты играли — и лицо моего мальчика в тени сомбреро притягивало меня — я сама не понимала, что происходит. Я тогда не знала, что это я люблю его. Просто чего-то сильно не хватало, когда на пляже среди нашей компании я не заставала его. И безотчетно ждала, ждала — и какое вдруг наступало счастье, когда на краю обрыва над нами, лежащими на песке, он возникал, стремительно затормозив на мотоцикле, и переднее колесо зависало над пустотой, крутясь, вздернутое на подножке, и он, сияя улыбкой, заслонял половину горячего неба — вот тогда наконец приходил ко мне покой окончательного порядка мира, хотя за миг до его появления я даже не понимала, что жду. Я не понимала, отчего это мир становится такой складный и ясный — как будто удалось правильно сложить кубики в детской игре. Валялись на песке, тянуло глядеть только туда, в тень сомбреро, где укрывались глаза, а он раздает карты, губы его что-то произносят, но я не слышу, следя только за недоступной их жизнью, и не смею поверить, что и он тоже смотрит на меня с осторожным ожиданием...
Я не смела поверить, и я не умела тогда создавать жизнь по своей воле, не умела ставить ее, как ставит режиссер спектакль, я ждала готового. Думала, жизнь сотворяется где-то вне меня, как обед у мамы на кухне, а мне садиться за стол и есть, что дадут. Ну, а он, мой мальчик, умел всем распорядиться по своему усмотрению.
В августе он уехал; я сама отвезла его на мотоцикле до шоссе, до попутной машины. Потом он влез в кузов сельского газика, я махнула рукой, осталась одна, медленно (чего теперь спешить) завела мотоцикл, пригнала его во двор Нянькиного дома — его Няньки, поставила там, взрослые все на работе, августовский день; и пошла потихоньку к себе домой, босиком по траве и земле, которые по утрам уже покрывались холодной росой в знак скончания лета, и вот только в этот момент я догадалась, что люблю его — по той пустоте, которая образовалась в природе после его отъезда, по той утренней холодной росе. По боли: что его нет.
Я за версту отличала звук его мотоцикла от множества наших околоточных моторов. И вот уже после его отъезда вдруг слышу: он. Я ушам своим не поверила — звук моего счастья приближается — ведь этого не может быть, он уехал, его нет. Ничего не могу понять, мир содрогнулся и сдвинулся, как в геологические эпохи: его нет — и все ж он едет... Вылетела на крыльцо — пылит по улице его зять, Нянькин муж, на законном своем мотоцикле. Взрослый, посторонний, равнодушный к нашим делам человек, он попирал собой этот аппарат вполне буднично, не догадываясь даже, что использует в своих обыденных целях жреческое приспособление, атрибут священнодействия, машину моего счастья...
...Вот, а они — «летящее-светящее». Нехорошо мне здесь оставаться дольше, в липком этом сиропе домотдыховской «любви». Все пропитано им. «Находка теперь не та. Вот раньше, когда ходили вокруг Африки и заправлялись только в Находке, — вот это был город морякам! И женщинам. Иные специально приезжали из окрестных мест на выходные. Подработать. Увозит, глядишь, рублей пятьсот. А почему нет? Моряки в такие разы ничего не жалели. А теперь что, теперь Находка не та. Конвенция, в любом порту заправляйся».
— Почем картошка в Находке? — интересуется стармех Анатолий Петрович. Глядя на него, плотно утрамбованного, пригодного для жизни в любых условиях, слово «стармех» прочитываешь как «старый механик», а не старший.
— Пять — шесть рублей ведро, — отвечают ему.
Я с благодарностью смотрю на Анатолия Петровича: за то, что он — хоть не о «любви». Отдыхаю на нем.
— А мы свою садим, — говорит стармех. — Всё свое.
— Зачем ты еще плаваешь, стармех? Торговал бы картошкой.
Не обижается. Его обидеть трудно — он в жизни как дома: свой человек, и неуязвим.
Еще я признательна пассажирскому помощнику Юрию Борисовичу — тоже за то, что «хлопочет» он мимо «любви».
Придет в амбулаторию — «доктор, будем рвать зуб». Это уже у нас такой ритуал: я — за ампулой новокаина, а он: «Нет-нет, у меня на новокаин аллергия, я умереть свободно могу от повторения этой атаки». Ритуал должен быть исполнен весь до конца. «Будем рвать без анестезии?» — «Ну...» — он выразительно подергивает бровями, поводит плечами, делает всякие иносказательные знаки пальцами и глазами, означающие примерно так грамм сто — сто пятьдесят.
Наши первобытные предки избегали называть зверя его настоящим именем — чтоб не потревожить его дух и не спугнуть перед охотой, — и по сей день мы со всеми предосторожностями обозначаем деньги башлями, капустой, а выпивку и того таинственней — каким-нибудь молчаливым подмигиванием...
Да на здоровье!
Потом мы должны посидеть какое-то время, «пока подействует». «Вы готовьтесь, доктор, готовьте инструмент!» — заверяет меня. И я ему вторю: «Да инструмент у меня наготове, Юрий Борисович. Давайте пока, жалуйтесь на судьбу».
Потому что ко мне приходят с жалобами двух видов: на здоровье и на судьбу. На здоровье — гораздо реже. «Ну что судьба, доктор, идем в Петропавловск-Камчатский! — вздыхает. — Два года все по внутренним линиям. Эх, доктор, а помните, нас австралийцы зафрахтовали, а? Вот была жизнь!.. А тут — Петропавловск!.. А мне «Шарп» нужен вот так вот, магнитофон такой, знаете, с эквализатором, у него перезапись идет со скоростью перемотки, на одном аппарате: двухкассетный, у-у-у...»
Потом звонит капитан, гневно требует объяснений: «Доктор, я опять вижу перед собой вашу заявку на спирт!»
— Зубники, капитан, — объясняю я и подмигиваю пассажирскому помощнику. Он втягивает голову и выкрадывается из амбулатории, чтобы Зевсова молния из телефонной трубки не достала его.
И весело глядеть, как несерьезен он — знать, жизнь легка. И это обнадеживает и утешает, как если бы всем классом бились-бились над задачей — и вдруг кто-то воскликнул: «Решил!» Хоть кто-то решил.
Самая трудная вахта считается с четырех до восьми утра. Все спит. Только в эти часы мы позволяем себе говорить на ты. В остальное время — даже наедине — конспирация не нарушается. Как у разведчиков в героических сериалах.
— ...Нам сорок лет, а ты крадешься ко мне, как в чужой огород...
— Глупая, проснуться в четыре часа утра можно только от великой нужды и любви, и только на рыбалку, и только в юности, а нам целых сорок лет — и наши свидания все еще происходят!
Хотела возразить, что уже нехорошо все это, тяжело, не по годам, и сироп этот липкий во всем, что окружает нас тут... не дал договорить, надвинулся, накрыл в темноте, загородил собой остатки белого света. Всего-то белого света. Мимо иллюминатора струится, уносится ночная вода океана.
Потом я проснулась и протерла глаза. Сумрачный туман ночи был вокруг. Галактион спал рядом. От сосен, окружающих нас, шел ночной холод. Сосны молодые, мех ветвей касался травы. Я поежилась от холода, пожалела о ночной рубашке. И что-то еще тревожило посреди лесной ночи. Я приподнялась на кровати, села и заметила вблизи себя дым сигареты. Мне пришлось сильно напрячь глаза, чтобы пронзить темноту, я оглядела всю ее кругом себя, и заметила в отдалении посреди сумрачного тумана — за соснами сидела девушка на стуле, курила и пристально глядела на нас. С осуждением.
Приснится же! Этот вечный страх разоблачения доведет меня.
— Вставай, проснись,Галактион! Пора...
Пора тебе уходить. Смываться.
Приходит мой товарищ, старпом Федя. Сядет, вздохнет.
— Доктор, а вот в тибетской медицине врач обязательно учитывает год, в который пациент родился: или это огненный год змеи, или там поспокойнее — лошади, собаки; и состояние планет, и активность солнца на момент рождения и во время болезни. Это все сказывается и определяет способ лечения.
Знаю я этого Федю. Уловка. Думает он сейчас совсем не об этом. И говорить со мной хочет тоже не об этом. Но он, застенчивый деревенский человек, боится утомить меня своей жалобной темой. Хотя все равно мы обязательно с ним на эту тему свернем, как всегда.
Федю нашего — бросили... В нашей моряцкой жизни это такое обыкновенное дело, что язык не повернется обвинить конкретно: жена бросила. Это какая-то темная сила, гораздо более общая и могущественная, чем отдельная неверная женщина. Как на войне не говорили «немец убил», говорили «его убило». Убило о н о, нечто огромное, слепое и неповинное в своем нраве. И Федю нашего — не жена бросила, его тоже «бросило» по слепому закону вероятности, с завязанными глазами выбирающей себе необходимый процент жертв.
Конечно же, он мне постепенно, частями, все рассказал. Кому же ему еще было рассказывать, как не мне, штатному исповеднику.
— И врач у них там, в Тибете, оборванец, нищий, я в кино видел. Они врачевание считают своим священным долгом и платы не берут. И у них такие правила: сперва лечат правильным образом жизни. Потом массажем. Потом уж лекарствами и в самую последнюю очередь хирургически.
— Поезжай, Федя, в Тибет, подлечишься.
— Что ты, доктор, не знаешь, на землю Тибета не может ступить нога ни одного иностранца, если он не паломник. Карается смертью. Один японский исследователь проник под видом паломника, так его разоблачили. Бедный. Монахам, которые дали ему приют, выкололи глаза. Зато нашему одному буряту удалось. Он даже вывез оттуда целую библиотеку медицинских сочинений. Но толку-то! Там везде написано: «Не знаешь, как поступить, — спроси учителя!»
— Вот видишь, Федя, человека так легко убить, уничтожить, выколоть ему глаза. А твое горе — тьфу! Развелся. Да это счастье! Теперь ты можешь найти себе красивую молодую девушку.
Но Федя не согласен объезжать свою беду на козе, должен сполна ее скушать. Когда-то он приехал во Владивосток из украинской деревни — господи, аж на край света! Иду, говорит, ничего не знаю, кроме того, что должен стать моряком. Его еще в школе звали Моря́ка. Нашел училище, говорит: возьмите меня кем угодно, только чтоб в конце всего мне оказаться моряком. Посмеялись над ним и устроили... Потом приехал в свою деревню после училища, шел по улице, в форме — ой, что ты! — все ослепли от золота. Шел, сам себя не чуял.
Вот это и было, наверное, его счастье.
Но теперь-то как ему жить?
— Знаешь, Федя, тебе надо жениться на актрисе, — придумала я.
— Да? — удивился Федя.
— Да, Федя, точно. Я читала, Чехов — он ведь был женат на Ольге Книппер, актрисе. Он всю зиму из-за чахотки жил в Ялте, а она во МХАТе играла. Она хотела оставить сцену, чтоб быть с ним, а он ей сам не позволил, он считал, что актриса должна играть. И у них было вдохновенное товарищество, у них была такая переписка! Такие потом встречи! И еще знаю, читала про одну актрису — у нее муж был адмирал. Они жили каждый своим делом, и разлука была их вдохновением. Зато какие встречи, все в цветах, море цветов! Актриса, Федя, это существо высшего эмоционального порядка, эти люди умеют ценить красоту момента, и любовь, вся в разлуках — это для актрисы родная стихия, как вода рыбе, жизнь — вечный праздник и вечная трагедия.
Федя слушал меня, призадумался — и уже начал верить. Я и сама уже начала верить.
— И ваша семья, Федя, будет держаться не кухней, не привычкой, а незатухающей любовью. Любовь надо ставить в такие условия, чтоб она не потухала. Это можно, Федя, я тебя уверяю, это бывает... А в твоем варианте это возможно только с актрисой. Актриса не нуждается в кухне!
— Но где же я здесь возьму актрису!.. — с отчаянием вскричал Федя. Знать, полюбил эту мысль.
— Ничего, Федя, на берегу поменьше по ресторанам, побольше в театр. Иди, бери там наугад любую за руку — она тебе за одну красоту жеста все бросит...
В декабре леса на сопках прозрачны, как щетина на теле поросенка. Ночами хребты темных туш ощетинены, процеживают начало рассвета. Затем наблюдается ежедневное небесное знамение: гигантская капля расплава, гудящий кугель прокатывается по всему небу и норовит стечь за кромку моря, но под конец холодеет, багровеет и затвердевает в плотный круг. Бледный купорос воды, розовый соленый лед намерз шапками на макушках камней — вернувшись, мы будем молча гулять по набережной и увидим все это своими глазами.
«Я на тебе не женюсь».
Время от времени накапливается и разражается бунт:
— Сколько еще притворяться? Не могу больше. Тебе не бывает противно?
«Тот, кто, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что золото сыплется с кружев золоченых брабантских манжет...»
Твердо, убежденно, ласково: нет! Не бывает.
Бунт мой подавлен — сцелован, сласкан. Потом сшучен до основания.
— Ведь ты мне не жена. Наконец, не забывайся! Какой еще правды ты хочешь?
А было ли противно обмануть всех на свете, когда посреди гудящего пира нашей компании он вдруг разбойничьим шепотом и взглядом:
— Ну, бежим отсюда?
И, не медля ни секунды, — в соседнюю комнату, из нее — через открытое окно в огород, никто не видел, всех провели (не стыдно было? — нет...), и сели на бревна за бурьяном, и опутал, окутал целованием — мурашки по коже, это как теплый ливень, не расчленимый на капли, целование-ливень, молоко и мед язык твой, возлюбленная моя, молоко и мед; бесконечное, перетекающее из одного мига в другой цветами побежалости целование. В юности нет стыда. Стыда, греха. А теперь есть. Не принимает больше душа. Давно пора сменить радости, а они нарочно задержаны, остановлены, и это уродливо, как создание лилипутов для цирка.
Помнишь Урию Хеттеянина?
— А что Урия Хеттеянин?
О, это исто-ория... Он был военачальник, Урия Хеттеянин, и был как раз на войне. А царь, всеправедный и справедливый царь Давид — да и как ему не быть всеправедным, если он сам — народная кость, если он в юности пас отцовское стадо, и когда волк уносил овцу, юноша догонял волка, отнимал овцу и душил его голыми руками, и когда лев нападал — он душил льва, потому что не знал, что человеку это непосильно; и как он принес однажды посылку своим старшим братьям на поле брани и невзначай услыхал, как единоборец Голиаф позорит его народ и его бога, вызывая себе соперника на поединок, и как этот мальчик вышел против Голиафа со своим единственным оружием — пращой, в своих единственных доспехах — холщовой рубахе... о, это отдельная история, ее долго рассказывать, а теперь Давид давно уже не юноша, а всеправедный царь, и не числилось за ним никакого греха, пока он, выйдя на крышу своего дворца, не увидел в дальнем дворе женщину, купающуюся в бассейне. Ему сказали, что это Вирсавия, жена его военачальника Урии Хеттеянина. Не пожелай жены ближнего своего, но Давид послал за нею, и привели. После нескольких дней отпустил, но она сама прислала сказать, что забеременела. Царь вызвал с войны Урию Хеттеянина в Иерусалим — с донесением. Прибывший доложил о ходе сражений и был отпущен царем на ночевку домой, к жене Вирсавии. Но не пошел, остался ночевать у стен дворца. Царь был удивлен и задержал донесенца еще на один день и на одну ночь, не отпуская на войну. Но и второй ночью воин не воспользовался. В чем дело? — не понял царь. «Мои товарищи там сейчас... а я тут буду...» С этим уже ничего не поделаешь. Царь отпустил его. Но уж на войну — так на войну. Чтоб так, чтоб уж... И после привел Вирсавию в свой дворец окончательно. Она вошла женой. Она родила миру царя Соломона, так что, по высшему счету, может, оно и стоило того... Но когда состарился царь Давид, он вознес своему богу благодарение за содержательную жизнь и нашел необходимым упомянуть в молитве тех, кому был особо обязан. Таких дорогих для царя имен набралось немного, всего тридцать семь за всю жизнь. Последним назвал дряхлый Давид одного своего преданного, давнего, всеми давно забытого, мужественного военачальника — Урию Хеттеянина...
Слабо́ тебе быть, как Урия Хеттеянин? Слабо́. Твои товарищи тут... а ты...
Молчи, тс-с...
— Ну и прокрадывайся, как пацан!..
И гнев, и отворачиваюсь. И стыжусь с каждым годом все больше. Пора, стало быть, на берег.
Все хотят любви. Все ждут, ищут, ловят. И вот среди вас человек, наевшийся, уже пресытившийся любовью — а она все еще есть. Это богатство тяжелее миллионов — миллионами хоть можно поделиться с сочеловеками своими, успокоить грешную душу.
А в Томске тогда (я студентка мединститута) в ресторане подавали клюкву с сахаром. С тех пор вздрагивала: ты уехал, а эта клюква осталась повсеместно, как завет сердца. В буфетных витринах, в столовых красная ягода на белых тарелках, розовым сахаром присыпана.
Почему-то было тогда дешево, уютно, официантка такая осторожная, будто знала, что у нас с тобой сегодня самый важный вечер. Мы не пили вина, и наш ужин стоил всего четыре рубля на двоих. Давно уж это было.
И из ресторана, на пороге домика, где я снимала комнату у хозяйки:
— Рыжая!.. Я не хочу, чтобы мы поженились.
Такое вот сделал признание.
— Я думаю, это вернее, — сказал.
Он хотел вечной любви.
Я только кивнула, молчком. Он вздохнул — как перекрестился. И мы толкнули дверь.
Вот и был весь наш свадебный обряд.
Потом летом на каникулах несколько коротких дней. Я из Томска, он из Владивостока. В доме его Няньки была комнатка с отдельным входом, и эту комнатку, конечно же, приезжая, занимал он. Мне было так надежно около него — как у пристани. Нигде я не засыпала так безмятежно. Не успев хоть бы что-нибудь набросить на себя. Жаркое лето. Мы еще никому не сознались. Наш брак был только между нами.
А однажды едем на мотоцикле, он за рулем — чуть обернулся (ветер сдувал набок волосы, заголяя лоб):
— Сказать или нет? — колебался.
— Ну! — потребовала я.
— В моей комнате холодильник.
Гудит наш мотор, ветер несется навстречу, «ну и что?» — кричу в ухо.
Он тоже криком, через шум мотора и ветра:
— Я только сегодня узнал: Нянька утром корову подоит в шесть часов — и заносит молоко в холодильник...
Прижалась к его спине — ох, стыд-то! Ох...
— Ничего, — сказала тихо, трусливо. — Мы уже большие.
И до сих пор тот же страх и тот же стыд: застукают. И даже то, что большие, совсем уже большие, не спасает.
Что-то вроде неписаного закона: не должно быть на морском корабле семейственности. И чтоб жена капитана была судовым врачом — нельзя.
Поэтому я не жена капитана.
Рыжая — это мое тайное имя. Оно и до сих пор мое.
Хмарь, море срослось с тучами неба, и проплывающий невдалеке корабль едва виден сквозь пепельную вуаль.
Если смотреть туда, где взгляд один на один с морем, начинаешь представлять, как выглядел мир, когда небо и земля еще не разделились, и «дух носился над водами».
Ты помнишь те сиротские дни, когда катерок, такой низенький против волн, проваливаясь между ними, храбро выныривал и шел вперед, с окатыми боками, мыльница, и ты в нем, и всюду кругом только ртуть океана, ртутное солнце и ртутное небо. И катерок все топорщился, стойко задирал нос из волн, твой катер по имени «Ягуар», а у меня тогда была маленькая дочка. Накануне ты приезжал, и мы все трое ходили за грибами. Ты затерялся где-то в березовых колках, и мы с нею ждали тебя. «Давай сядем», я подстелила ей свою куртку, мы уселись, уставшие, рядом, и время от времени я подавала голос, чтобы ты вышел на нас. «Галактио-он!» Ты показался наконец, мы следили, как ты идешь к нам через поле из ближнего колка И улыбаешься. Мы смотрели с ней, и твой вид был нашим счастьем. После твоего отъезда мы продолжали с нею ходить по грибы. И вот мы набродились вдосталь, устали, сели. Сидим. Она и говорит мне: «Ну, зови!» Я с сомнением на нее поглядела: она что, серьезно? Но подчинилась и стала звать: «Галактион! Галактион!» И ждать, вытянув шею, не покажешься ли ты и вправду из леса на зов. И снова: «Галактион!» Она со страхом замерла и следила за свершением жизни: сбудется воля или нет? Но потом, видимо, побоялась, что не сбудется. Или за меня испугалась, ей стало жаль меня, так доверчиво обманувшуюся. Тихо она попросила: «Не надо...»
Так мы любили тебя.
И ты на катерке своем... Это сейчас тебя легко любить — никакого усилия. Ни труда, ни печали, ни жалости в теперешней любви, одна гордость: ты капитан. А тогда ты был просто ТЫ, без капитанства, без золота и блеска, одним собою должен был поддерживать тепло и огонь.
Когда ты теперь собираешь команду, я из своего уголка тайно удивляюсь: ты — мой! Это как в хороводе: пляшут все, но ты видишь только одного, и он — тебя, вы скрыты общим танцем, и у всех на виду сохраняется ваша тайна, и сладкий мед растекается по крови. Как тогда на бережку, на песке, среди нашей компании, и твой взгляд из-под сомбреро — и мы с тобой уже знали про нас.
На морском парапете, когда вернемся в свой порт и будем вечером гулять вдвоем, мы проверим, что проделало время за наше отсутствие. Стальные петли арматуры в бетоне набережной будут еще сильнее съедены ржавчиной, кое-где уже до основания — только оплывшие пеньки остались от них, будто железо растаяло и превратилось в бесформенную кучку застывшей лавы.
Надо добывать новую руду, лить новое железо взамен старому,съеденному морем.
В детстве казалось: у мира неизменное лицо, и старательно заучивались его черты, имена спортсменов и артистов — на пожизненную память, как теорема Пифагора. Потом оказалось: время съедает имена и лица, как ржа железо.
Событийный ряд жизни тратится, тает в текущем дне, и через два — три года уже трудно вспомнить, где был, что делал. Уцелевают лишь какие-то мгновенные островки, не имевшие для событий никакой пользы, — они-то впоследствии и составляют твое прошлое. То, в чем ты п о м н и ш ь с е б я. Как на экране в кино движение получается поочередным показом замерших кадров, так фильм о моей жизни — что он такое? Мотоциклетное колесо, крутясь, зависло над обрывом, синий взгляд из-под сомбреро в томящей июльской жаре, клубы холода по полу, грибы в траве и ожидающее лицо маленькой дочки, запах ее одеяла, бревна в бурьяне, клюква с сахаром, ртутное море болтает маленький катерок, трепещут на ветру приветственные флаги, буксиры подтыкают наш большой корабль к причалу, шапки соленого льда на камнях, прозрачная щетинка леса на хребте сопок, оплывшие пеньки железа. Это и окажется — моя жизнь.
С корабля я уволилась, стала работать в «Скорой помощи». И тут только оказалось, что вся команда про нас все давно знала... Да и могло ли быть иначе? И все берегли нашу тайну от нас пуще, чем мы сами.
В «Скорой помощи» у нас тоже знают уже, что я жду из рейсов некоего капитана, который скрашивает мое одиночество во время своих коротких пребываний на берегу. Нас уже видели на улице вместе.
И все идет великолепно, светится алая ягода, пропитавшая сахар розовым соком; седая щетина по утрам на постаревшей щеке моего возлюбленного мальчика-мотоциклиста, музыка прощального марша славянки и отошедший напев: «Как провожают пароходы — совсем не так, как поезда...»
Как стая рыбок
Вот и все. Оказалось, так просто!.. Она только и сказала, что убирайся отсюда, что все, я больше не могу, я с тобой что-нибудь сделаю, — тряся головой и больно морщась, чтоб скорее, — и все, и возразить было нечего — да и чем возразишь отвращению? Оно ведь не укор, не обида, которую быстренько раз-раз, повинился, загладил — и лучше прежнего стало. Отвращение — это неопровержимо. Это как лом, против которого нет приема.
И главное, почему убедительно: сам иногда чувствуешь похоже...
Ну и все, собрал вещи — без лишних движений и звуков, чтобы не чиркнуть по ее ярости, не поджечь.
Дождь моросил, на остановке стояли люди, на лицах затвердело молчание. Вот так в дождь молчат коровы в стаде, смирясь с судьбой, и люди тоже, когда укрыться все равно негде — и только сократить себя, сжаться кочкой, чтоб меньше досталось тоски и сырости.
Он пристроился к толпе и растворился. Ему казалось: по чемодану все поймут, что он изгнан. Но никто не обратил на него внимания, каждый замер, как в анабиозе, вжавши плечи и пригасив сознание. Он тоже скоро забыл о людях — отгородился. Он нуждался сейчас в укромном месте: залечь и осваивать происшедшее, чтобы, привыкнув к нему, сделать своей незаметной принадлежностью; как животное лежит и терпит, пока пища в желудке сварится и станет его собственным телом.
Автобусная остановка годилась для уединения — оцепеней и стой себе хоть весь день. Если не принесет какого-нибудь знакомого... Тошнило от одного представления о словах: что их придется говорить и слушать.
Тридцатый прошел... Недавно ехали им. Еще смотрел в окно и она смотрела, но не вместе, а каждый будто в отдельный коридор пространства, и нигде эти коридоры не пересекались. Она вздохнула, и он спохватился, виноватый, что давно не проявлял любви, и обнял мельком — напомнить: все в порядке — отметился в любви, как на службе присутствием, и быстренько забрал руку назад, задержав ее ровно настолько, чтоб не противно... Конечно, было когда-то и так, что тело ныло без прикосновений, тосковало и не могло успокоиться, и нужно было то и дело касаться друг друга, чтоб стекало это электричество, эти полые воды весны, иначе разорвет изнутри. Но что делать: не может быть так, чтоб вечная весна... Вот и совсем зима, хуже зимы.
Ничего, выползти из старой кожи и отряхнуться...
Если бы не... кому расскажешь? — у дочки такая кудрявая, золотая и серебряная, иногда золотая, иногда серебряная, головочка, ей год всего, она бежит-бежит, остановится — и поднимет на тебя глаза... Теща удивляется:
— Ну откуда такая? — и глядит, любуется, понять ничего не может, а потом сообразит: — Из сказки, наверное, — и успокоится на такой мысли.
Теперь больше все, все...
Свобода и ясная даль, как на обложке журнала «Знание — сила».
...Она ночью заплачет, не просыпаясь, возьмешь ее на руки, всю так мягко к себе прижмешь, окутаешь собою, теплым, как одеялом, она сразу и замолкнет, устроится на твоей руке и вздохнет — как до места добралась. Она же чувствует, к а к ее держат, семь Китайских стен, семь крепостей охранных, и на улице, на прогулке — заслышит машину, самолет ли на небе, мопед ли во дворе — кидается со всех ног к тебе, прижмется — и все, спаслась, теперь хоть танк едь на нее, она обернется и глядит из безопасности — куда тому танку или самолету! — гуди, гуди, а у нее папа. Он загородил крепостью рук, щитами ладоней заслонил, она выглядывает, как мышка, из укрытия — кому рассказать? Вон, ходят матери с дочками-сыночками, ни одна не боится, что отнимут, — у-у-у...
Он рассеянно смотрел перед собой — из своей тоски, как из окна: сам внутри, но что-то и снаружи невзначай замечаешь. Лицо прохожего не такое, как у всех, взгляду на нем отраднее держаться, чем на прочих, — так больной руке нечаянно отыщется положение — и ей легче... И тут сквозь тупой машинальный взгляд пробилось: прохожий вел за руку девочку-подростка, за скрюченную руку вел, ноги ее приволакивались, и стало ясно, чем отличалось его лицо: он был мужественный человек, который ни от чего не увиливал. Он вел свою дочку, красивый отец, прочно держа ее руку своей голой, под дождем, рукой, вел у всех на виду, нес свое наказание, не было в его лице места заботам, которые одолевают благополучных, и лицо его было на них непохоже.
Да отвернись же, ты!..
Падчерица — таких же где-то лет... Женился, хорошая была дочка у жены, дошкольница — ласковая, он полюбил ее, — но разве то походило хоть сколько-нибудь на чувство, которое теперь: когда приходишь с работы после целого дня и берешь на руки, а она пахнет — ну будто рыбки крохотные стайкой мерцают, ласково тычутся, щекочут, она пахнет, как мягкая булочка, ситный хлеб, и, как у голодного, голова кругом, вобрать бы в себя навечно, но никак — на пол опустишь ее, и все растаяло, неуловимое, вроде музыки, которая снится, но, проснувшись, ни за что не поймаешь ее, не схватишь — так т а м и останется.
А какой раньше был дурак — думал, счастье — это женщина. Ну, там, любовь, то-се... А теперь, когда по телевизору возмущаются: дескать, в Палестине стариков, женщин и детей — так даже удивительно, как можно равнять!
Особенно невыносимы их босоножки, вот они стоят тут вблизи, эти знаменитые женские ноги, штук двадцать, раньше слюни пускал, разуй глаза, дурень, стоят, забрызганные грязью, в полном ассортименте облупившихся ногтей, кривых пальцев и потрескавшихся пяток, и подкосились их каблуки, дрогнув под этими эфемерными... а как же т о г д а не подкашивались? Хитрая природа, она подменяет тебе мозги, ишь, чтоб не пустели ее пределы...
Прозрело око дурака, помилосердствуйте, спрячьтесь под паранджу, спрячьте эту слабину вашей мякоти, дребезжащей на ходу, груз ваших избытков скройте, вы, — вот они насытились за полвека еды и теперь плывут, как баржи, медленно, степенно, тараня поперед себя колеблющиеся свои чрева, боже мой, господи, это как же надо лишиться зрения, слуха и самого разума!
А их голоса, особенно у оперных певиц, но, правду сказать, и мужики не лучше, а вот автобус, хорошо, пустой, увы, мужики ничем не лучше...
Как-то, невзначай очнувшись, он обнаружил себя едущим в автобусе, причем совсем не туда, куда собирался. Сработал по рассеянности старый механизм — этим автобусом много лет ездил с окраины в незапамятные времена. К тому же чемодан свой забыл на остановке. Ну и черт с ним, с чемоданом, после вернусь, пропадет так пропадет. ...Увы, мужики ничем не лучше. Но мужики хоть что-то теряют — эти же всегда в выигрыше. Смех один, закон: мол, родители равны в правах — да где это вы видели, чтоб равны; взять хоть падчерицу: она вылитый отец, а при разводе без всяких разговоров осталась матери, а почему, собственно? Ей же самой с отцом было бы лучше: они так похожи. А что выходит? — девочке же и хуже. Она и мать — слишком уж они разные. Одни конфликты.
А тут еще эта народилась... Гуляли недавно все вместе, старшая сорвала колючку с репейника и тянется этой колючкой к маленькой, а та мордашкой своей любопытной навстречу — с полным доверием.
— Глядите, морщится, не нравится!
Ей-то смех. Десять лет, уже наловчилась жить. В школе: «Зуб болел». — «Ладно, садись». И ей хорошо, и учительнице. Соврал — и всем только лучше. Потом станет постарше: «Скажите, что меня нет дома!..» А совсем вырастет — встретит на улице школьную подругу: «О, как дела, где работаешь, как живешь?» — и будут обреченно беседовать, десять лет не видались, еще бы сто не видаться, но они уже сами не отличают, где врут, а где нет, у них это уже срослось.
Десятилетняя уже умеет изобразить добродушный смех:
— Не нравится! Морщится!
А та заплакала горько — не от колючки, нет, уж это точно.
От обмана.
Старшая ухмыляется, рожи корчит: вроде бы развеселить. А та еще горше плачет и, плача, жадно глядит сестре в лицо сквозь рожи, ищет, требует, сейчас же требует себе любви, иначе не выжить, а веселые рожи взамен любви никак не годятся, детеныш не взрослый, его не купишь на видимость, детское сердце знает.
И тогда большая растерялась:
— Ты смотри-ка, что-то еще понимает! — пробормотала и притихла перед правдой-то, как класс примолкает, когда ворвется среди шума директор на помощь безответной учительнице, — притихла перед правдой, которая не имеет зычного директорского голоса и незаметно покидает гулкое место, оставаясь жить только в бережном сердце.
...Пусть живут теперь втроем, пусть. Им будет хорошо.
Попробовала бы сама остаться без своих детей!..
Автобус между тем достиг конечной своей остановки и опустел. Дождь все шел, вздрагивала мокрая трава.
Город остался где-то позади, боясь придвигаться близко к обрыву, к гиблому месту, и прежняя здесь, как в детстве, топкая тишь. Похоже, тут видимый мир соприкасается с каким-то иным, взаимодиффузия, и следы того, иного, шлейфом витают в пространстве, незримые, с детства их чуял — особой тревогой внутри. Вот и сейчас... Опять. Вон большая река возникает из дымчатой дали и проплывает с достоинством мимо, а здесь, под обрывом — меньшая, она тайком вкрадывается в ту, и вид их соития тревожит, и лучше бы место впадения было сокрыто, чтоб не смущать детский глаз человека — ведь токи вод и их слияния — тайна.
Темное место, темное, тут потонул друг семилетний: его вынесло в стремление большой реки, а в это время отец его, рыбак, возился на берегу с корчажками и видел, долго глядел, как несет кого-то быстрая вода весны, то пряча, то показывая наружу, он смотрел и тихо радовался, что это не его несет, что он в безопасности тут на берегу со своими корчажками... — сам же от горя признался. А на похоронах раздавали дружкам богатство: коньки, кому лыжи, кому куртку, кожаный ремень... И ты, прослышав, примчался, тут как тут, запыхался, встал во дворе и ждал: вот выйдет его мать и позовет. Можно было войти и без зова, но уж так сначала себе постановил, а потом не мог переиначить, и чем дальше, тем невозможнее — стыдно ведь заходить за подарком самому (а он и тогда врать не умел: раз уж пришел за подарком, так больше и ни за чем), ну вот сейчас, сейчас выйдет тетя Валя, увидит во дворе тебя, забытого, обойденного, и поймет свою страшную ошибку: «ой, как это я тебя-то упустила!..» Так и удалился, несчастный, без подарка... Козел...
Нет-нет, не простое здесь место. Люди, конечно, не верят в чепуху, обживают берега, вон мостки настелены через топкие хляби, переберешься — на той стороне можно сена накосить: за пойменной чащей сырая луговина. Но это уж люди себя обманывают, чтоб спокойней, а однако ж не зря тут вода неподвижно стоит, тучи стелются низко и далеко, и тишина будто дыхание затаила — как подстерегает тебя: вот поскользнешься и упадешь в черную воду — и тогда все... Еще один дружок, лет пяти, остался лежать тут добычей у этой хищной, прозрачной насквозь, черной, нет, не простой воды — в самом безобидном месте: у берега, у мостков; мостки тут были тогда прилажены белье полоскать — бабы дуры, их ничем не проймешь, об стенку горох, хоть и схоронили в матроске мальчика, лишенного этой водой загадочного свойства жизни.
Он перебрался по скользким мосткам на пойменный берег этой таинственной стоячей воды, гроздья мертвецких, бледно-синюшных ягод тут росли на кустах — ими стращали друг друга, а сиреневые султаны каких-то роскошных цветов застыли среди топи и манят, манят, заманивают... — тьфу-тьфу, наваждение!..
Шел и дрожал с оглядочкой — забрался во владения гибельных сил.
Но вот и большая река, прошел по песчаному берегу — сразу отпустило: вырвался из заколдованной зоны. Вот и подуло, вот музыка донеслась — а там-то, там болотная тишь намертво губит все звуки, топит, заглатывает: видно, и в звуках тепло жизни, пища.
Вздохнул, расправил грудь, музыка доносилась из пионерских лагерей в бору — где-то там сейчас падчерица, как раз собирались съездить к ней в выходной... Теперь о н и съездят без него.
Когда подросла месяцев до восьми и начала что-то лепетать, важней всего для нее было, похоже, освоить священное имя сестры. Набирала воздуху и единым духом выпаливала:
— Тада! — и снова: — Тала! — не восторгом ждала отзыва, а та благодушно (поддаваясь на любовь) ворчала:
— Во, опять то недолет, то перелет.
Поддаваясь, а то ненавидела. Да и понятно: подросток, знает, откуда берутся дети, никакого сочувствия к причине их появления на свет не находит в своем разуме и должен ее, причину, ненавидеть. И самих младенцев тоже: они так близко стоят к ней, причине, так близко стоят, что дыхание их еще смешано с горячей влагой тайны, и ничего еще, кроме этого тяжкого наследия своего прошлого, младенцы не имеют.
— Фу, вонючая! — и сморщится, а мать сладко поет:
— Хоро-ошая! — и тянется лицом.
— Плохая! — сердится старшая.
— Хоро-ошая! — блаженно поет мать, а бедная маленькая хлупает глазками, как глухонемой, и живет свои дни с великим трудом, сворачивая их, как глыбы, тяжко и с плачем.
...Уж выросла чуть-чуть. Язык появился. «Ав-ав». Еще такое волнистое «а-а-а-а» — спать, значит. И еще «аль-ляль-ляль» — это чтение и книга. Проснулась днем в коляске, а он стоял над нею, читал. Продрала глазки, небесно улыбнулась и сказала насмешливо:
— Аль-ляль-ляль...
Читаешь, мол...
И они смеялись вместе. Она — хрупким голоском...
Из пионерского лагеря репродуктор усилился, и донеслось заунывное:
Наглый обман почудился ему в словах песни, потому что так — «весело и дружно» — человек никогда не чувствует, всегда сложнее, а особенно ребенок (он ведь еще не привык жить как взрослый: экономно, без чувств); и ему представилось некое учреждение, в котором властные такие дамы-методистки, все как одна блондинки с пышными прическами, учреждают эти «весело и дружно», как прививки детям ставят, чтоб те подрастали, не чувствуя боли и горя, чтоб научились ничего не замечать, и страшно он разгневался на этих дам за такое вредительское упрощение жизни, а на дальнем берегу реки, в сумраке бора стояло печальное здание прошлых времен с горсткой беленых колонн посередине; здание было правдивое, не то что песня, внутри него лежали туберкулезные дети, и дом знал про это, чувствовал и потому держался сурово и просто, как тот мужчина на улице с дочерью — он жалел и берег детей внутри себя, он их не стыдился перед всем парадным светом, и это отражалось в его фасаде и в его беленых скромных колоннах.
А с обрыва, когда он поднялся назад, виднелись вдали неизвестные раньше холмы и на них строения. Видно, земля беспрестанно бугрится, шевелится, и вдруг выпирают какие-то города и дома, появляются на виду, потом пропадают, но никого это не касается.
Все это потихоньку смешалось с его отдельной судьбой, и она перестала быть отдельной; ничем он был не лучше, чтобы рассчитывать на иную долю, чем досталась другим.
Он вздохнул и примирился.
Дождь больше не шел, но капли изредка падали с намокших волос и досаждали лицу. Волосы у него были жесткие, прямые и распадались с макушки, подобно траве на болотной кочке. Это никогда не было красиво, зато дочке досталась золотая серебряная головка от матери, и пусть, пусть они теперь живут сами, без него.
Чемодан невредимо стоял на остановке, смеркалось, люди все разъехались и уже, наверное, обсохли у себя дома.
Какая-то молодка строго сказала:
— А, так это ваш?
Лучше бы его сперли, чтоб не помнить, что нет больше дома и дочки, а эта еще будет сейчас отчитывать: мол, что же это вы, бросаете без присмотра... — у, бабье! — он напрягся, палец вставил в кольцо гранаты: сейчас она произнесет свое поучение, а он дернет за кольцо и подорвет ее к чертовой матери вместе с собой — себя не жалко ради хорошего дела.
Он заслонился от нее спиной, не ответив, и она отошла, пробормотав: «Извините...»
Он решил взглянуть на нее. Путь его взгляда пролегал понизу, асфальтом, она, слава богу, оказалась не в босоножках: безобразие (а он сейчас не верил ни во что, кроме безобразия) ее ступней было милосердно укрыто от глаз кроссовками. Еще на ней были вельветовые брюки и замшевая куртка, а в руке дипломат, и все это было такое мягкое, удобное, такое все коричневое... такое все...
Она тихо прохаживалась поодаль, но рано или поздно ей пришлось повернуться к нему лицом. Стало тут ему совсем грустно, потому что у нее было смуглое пригожее лицо. Потому что он увидел: она особенная, таких мало, они нужны всем, но на всех не хватает, как этих замшевых курток, и достается все это не таким, как он, нет, не таким. И все те, кому не досталось, потому и бросают себя на полдороге, махнув рукой: незачем больше бежать. Вот и он: стремился-стремился, а потом сказал себе: а, и так сойдет! — и сошел.
Он не успел убрать глаза, она вздрогнула и стала всматриваться в него взглядом врача: где, где болит?
И он круто отвернулся — спиной, потому что так не бывает, чтоб такие женщины поворачивались лицом к таким, как он, — это нельзя.
Пришел ее автобус. Все стало пусто.
Он провел рукой по своей мокрой болотной кочке, пригладил траву и тоже уехал, куда собирался.
Квартира сестры пустовала с год — она вышла замуж в другой город, но квартиру прежней своей жизни не трогала пока — мало ли...
Ну вот и будет тут жить теперь... Он осмотрелся. Будет тут жить, и до работы отсюда поближе. Можно подолгу задерживаться, ходить где хочешь — никто не спросит и не упрекнет. Нет, ничего, терпимо.
Ободряя себя будущим, как клячу кнутом, он открыл чемодан, чтобы разобрать и поместить вещи в шкафу. Решив жить тут долго и счастливо, он заспешил: дел много — прибраться, вытереть пыль, сходить в дежурный гастроном за едой, помыться, постирать кое-что из вещей, попришивать недостающие пуговицы к рубашкам, — чтобы сегодня же покончить со старой и завтра приступить к новой жизни.
Все горизонтальные плоскости необитаемого жилья покрылись пылью, на стул нельзя было присесть, и он тогда решил начать с уборки, пошел в ванную, намочил тряпку, стал вытирать пыль, но прикинул, что за это время как раз вскипит чайник; отправился на кухню, поставил чайник, уставился в окно, в пустую даль...
Спохватился: ой, ведь в одиннадцать закроется гастроном! Побежал.
В магазине он про чайник забыл, скитался среди полок в гулком зале, продавщицы изнемогали перед закрытием и никого уже видеть не могли. С усилием вспоминал, за чем пришел. Фокус мысли убегал, он ловил его, как дурного коня, принуждал работать. Взял сверток печеной рыбы, кулек конфет, батон... Вспомнил, что голодный. Пришел сегодня с работы и радостно: «О, горелым пахнет — знать, я дома!» И теперь голодный. Взял еще пачку чая и вспомнил, что чайник... Прибежал — вся кухня в пару, чайник почти выкипел. Долил его, хотел вытереть лужу, стал искать тряпку. Тряпка нашлась в комнате на подоконнике: он, оказывается, начал уборку...
Сел он на пыльный стул и сидит.
Заканчивать уборку он не стал, а решил поесть и передохнуть перед тем, как разбирать вещи.
На столе после еды осталась лежать кучка рыбных отходов. Он сказал себе: а, после уберу, прилягу.
Он прилег, где-то заплакал ребенок — и он тоже вдруг заплакал с неумелыми рыданиями — некрасиво и стыдно. Какие-то медные звуки из него исторгались, похожие на «гын-н-н...» литавр.
Он плакал, потому что вот так же сейчас, может быть, плачет его дочка, а с женой вдруг что-нибудь нечаянно случилось, она лежит сейчас мертвая или без сознания, а дочка надрывается, и всю ночь она будет одна, а соседи не обратят внимания на ее плач, да его и не хватит надолго, а старшая в лагере...
Он рисовал картины одну страшней другой и медно рыдал, и облегчение испытывал, травя себя. Как тот проклятый отец, который стучал кулаком в грудь: «Его несет, а я гляжу, тихо радуюсь: кого-то несет, не меня...»
Потом плач далекого ребенка стих. Значит, и дочка заснула. Можешь уснуть и ты. А завтра встанешь и пойдешь на работу...
Ну вот, и придешь ты завтра на работу, — и что? Там в макетном зале распростерся на полу каркас химцеха, он сделан из чего придется, но точно по размерам в масштабе, ты начиняешь его нутро. Вылавливаешь ошибки конструктора, вызываешь его по телефону, и он прибегает, бледный, аж вспотеет, а ты полупрезрительно молчком протянешь ему деталь, сделанную по его чертежу, пусть чешет лоб, — а ты будешь стоять, такой вот безошибочный герой, смотреть, как он станет выпутываться. А потом, без четверти пять, отложишь кусок плексигласа с торчащей в его прозрачном теле пилой, расслабишься, потянешься, вымоешь руки, снимешь черный сатиновый халат с налипшими опилками и поедешь домой — дверь откроешь, она к тебе затопает, радостно выкрикивая что-то среднее между «баба» и «папа», а жена выйдет погреться у той умильной сцены: как ты вознес ее к себе наверх, прижал и замер — слушаешь, как она копошится, высвобождаясь из тесноты рук...
Да, именно так все и было. И даже сегодня еще — вплоть до «о, пахнет горелым...» Так было все налажено, так подогнано одно к другому, как детали одного узла: макетная — плексиглас — полупрезрительно — устал — домой — дочка... Дочка — как завершающий здание шпиль, окончательность смысла. Вот его обрубили, шпиль, и вопреки всем порядкам природы здание рушится до основания — все лишается смысла — и домой, и умывалка, и устал, и полупрезрительно (господи! да какое уж теперь!..), и плексиглас, и макетная — как будто стояло построение на шпиле, а не на фундаменте.
А ведь вполне благодушно сказал: «О, пахнет горелым: родимый дом. Но ничего, отечества и дым...», но она вдруг раздраженно что-то про его паразитизм, что он сам такой, отлынивает от работы в саду и прячется за спину тестя, тому пришлось и навоз привезти, и песок ребенку в песочницу. А он на это обозлился, натянулся весь и металлически ответил, что о своем ребенке сам в состоянии позаботиться и был бы много благодарен тестю, если бы тот не совался куда не просят. А она: если бы он не совался, то воз и поныне... и так далее, неохота вспоминать, а завтра он придет в макетный зал, а его пила торчит, уперевшись зубьями в прозрачный монолит пластмассы — как он оставил ее вчера, но уж все будет другое, потому что вчера, когда оставил, — была дочка, а сейчас больше ее нет у него, и как же надо будет себя обмануть, провести за нос, чтобы с вчерашней деловитостью тягать эту пилу туда и сюда и, уставши, окидывать любовным взором сделанную работу. На кой эта работа, если потом руки будут пусты, тщетны, как паразиты какие-нибудь, и не будет им оправдания, и не будет вознаграждения (взять осторожно на руки, а косточки неспелые, ребрышки — так и подадутся под пальцами...), ничего больше в этих руках не будет, кроме пилы, так зачем и пила, с нею как клоун становишься, дело́вый такой — смех да и только, а серьезное на свете есть только одно: это «гуль-глю-ль-гали», выводимое над твоим ухом, — поистине труд, а ночью она жалобно заплачет, а ты будешь спать далеко от нее, тут, в постыдном покое, никто не потревожит сна, в безделье ты будешь жить и жрать свою рыбу один. И некому будет перебить твое пищеварение, не придется больше вскакивать среди ужина с полным ртом и бежать за горшком, когда она вдруг задумалась посреди кухни и сосредоточенно закряхтела.
Будешь теперь, как дезертир, питать свое драгоценное брюхо пищей, заботиться о себе и лелеять свою ненаглядную жизнь!..
Или собачку себе заведешь, будешь с ней носиться, кормить ее, обихаживать — как та старуха с набеленным лицом, с крашеной ниткой улыбки (ин-тел-ли-гент-ка!), без внуков, без дела и без смысла, с трясогузкой-собачонкой...
Ничего, привыкнешь.
Привычка — страшное дело. Это пока не привык, невыносимо. А потом ничего. Вон, зубы когда вставил, они сперва мешали, а потом забыл про них. Даже чужое железо во рту и то принимает удобный вид!
Да, вставил вот зубы... Старый, чего там, тридцать пять, и женщина та, на остановке сегодня, потому и заговорила с ним сама без всяких затруднений — что он старый. Она с ним по-человечески заговорила, а не как женщина с мужчиной. Так она могла бы заговорить со старушкой и с ребенком, но никогда с мужчиной, годным ей в пару. Дурень! Остолоп...
Отмирает по частям жизнь, не вся сразу; как ступенчатая ракета: отваливается кусками, и не слышишь потерь.
И незаметно, милосердно природа погрузила его в сон, как ребенка погружают в ванну: постепенно, чтоб не испугался. До утра он отдохнет и накопит силы работать и чувствовать.
Он спит без постели на диване, не раздевшись, не выбив пыль из диванной подушки, рот его приоткрылся от душевного изнеможения, и во сне он плывет на лодке по мертвой беззвучной воде, кругом потонувшие дома, бревна плавают, тихо и сумеречно, и погибшие деревья. И вот — сумасшедший дом, и в нем сумасшедшие, но они как бы мертвые. Но как ни в чем не бывало снуют вокруг свеженькие румяные медсестры, и в стеклянном шкафу у них хранятся таблетки: веселин и тому подобное. Медсестра вышла, он выкрал стандарт веселина, проглотил таблетку — и ощутил подъем сил и тогда догадался: эти медсестры выкачали из сумасшедших всю силу жизни, оставили их пустыми, а вытяжку спрессовали в таблетки и сами теперь получают себе добавочную чужую энергию. И тогда он хотел дать сумасшедшим по таблетке, вернуть отнятое у них — но не успел.
Он спит. Проснувшись, ему трудно будет вспомнить, где он и что, но потом он увидит знакомые предметы и поймет, что он в квартире сестры, а вслед за этим и все предыдущее грянет, и сознание установится в действительность, как вилка в гнездо. Но все же это будет следующий день, самое страшное останется позади; свежая боль — ее отпечаток остался витать в тумане над болотом, добавив в таинственный воздух еще толику тревоги, отчего тишь в том месте замерла еще плотней, а физические свойства пространства дополнительно исказились по сравнению с большой дорогой, овеваемой всеми ветрами. Впрочем, досталось и большой дороге его тоски, он всюду рассыпал ее, где проходил — мало-помалу боль рассеялась и выветрилась, к утру почти и здоров.
Вчерашние рыбные отходы он выкинул в ведро, помыл посуду, а завтракать не захотелось.
По дороге на работу он репетировал, как небрежно и бодро расскажет товарищу: «Все. Мы разошлись. Оказывается, это запросто!» Слова он подбирал трудно, как неумелый гармонист подбирает на слух мотив. Надо, чтоб обошлось без всяких там соболезнований. Утаить же никак невозможно: друг должен знать настоящее положение дел, а то как-то обидно для него получится: что вроде ходил дураком, разговаривал с тобой, как с прежним.
Еще, пожалуй, надо зайти в бухгалтерию и сказать, чтоб высчитывали, сколько там полагается на двоих детей... А может, лучше самому относить деньги?
Он вспомнил, что получка через два дня, и заволновался вдруг, зарадовался: уже послезавтра вечером он получит право прийти туда, он принесет деньги — и увидит дочку!
Он вообще сообразил, что как отец имеет право. И может по вечерам с работы ехать к дочке и гулять с нею, это любой суд подтвердит!
Но тут он представил в подробности себя, приходящего папу, и как жена будет досадливо говорить: «Мы как раз собрались уходить, извини, сегодня не получится!», и возьмет дочку за руку, и дочка с отчаянием оглянется, и бант в ее кудрях вздрогнет, ибо тогда у нее уже будет бант, а из-под платья кружева, и он останется стоять, жалкий, а они удаляются, и дочка все оглядывается, оглядывается, и кружева и складочки юбки подскакивают в такт шагам...
Нет выхода.
Товарищ, к счастью, не вышел на работу, и врать нужда отпала.
Было и еще одно облегчение: оказалось, плексиглас ему вовсе не так противен, как он себе представлял. Даже и вовсе, можно сказать, наоборот. Работа как работа...
К концу дня он вдруг додумался, что ведь и зарплаты ждать не обязательно, просто пойти на базар, купить винограду — и все. Он отец, имеет право.
Ах, как он ехал с этим виноградом, кто бы знал! И не упомнить, когда в последний раз испытывал такое. На свиданиях? Вряд ли. Тогда было все просто и убого: зашел, подождал, пошли в кино, женился, по праздникам к товарищу, отсидели застолье семьями — слава тебе, господи, еще один день отвели. А вот чтоб такой трепет, как сейчас...
Перепало от его нежных мыслей и жене, которая все-таки родила эту дочку. Он ехал и нарочно вспоминал о жене все, что имел подумать хорошего, — как бы улещивая ее всеведущего ангела-хранителя, — чтоб он смягчил ее, о которой так много есть вспомнить хорошего, чтоб раздобрил ее сердце, и она не препятствовала бы его встрече с дочкой, а наоборот — чтобы наделила эту встречу добавочным теплом своего благоволения.
И ангел внял его подхалимским мыслям: жена, открыв дверь, удивилась, и все ее лицо расползлось в нечаянной радости.
Улыбка была и виноватая, и прощающая, и благодарная, что вот он какой оказался умница: приехал.
Он, когда увидел эту улыбку, тоже весь растаял, тепло родства пролилось в кровь, ах ты, подумал он с нежностью, и понял, как соскучился по ней за пропасть разлуки.
Дочка устремилась привычно...
— Что, нагулялся? — насильно водворяя на лице строгий прищур, сказала жена, но упрека никак не получалось, улыбка растаскивала его во все стороны по мелким частям и торжествовала одна в ее глазах под нарочно насупленными бровями.
— Я-то нагулялся, еще когда ты пешком под стол ходила. Вот ты-то нагулялась ли? — счастливо ответил он.
— Хм, я-то тут при чем? — жена по-девичьи дернула плечом.
Действительно, и как он, дурак, мог всерьез поверить в развод!
Вышла теща — уже тут как тут! — он нахмурился...
— Есть будешь? — поспешно спросила жена, загораживая собой мать.
— Какой там!.. — отмахнулся (испортила проклятая теща весь пейзаж).
— Мам, ну мы тогда пойдем погуляем!
А раньше отправляла гулять с дочкой его одного, а сама оставалась что-нибудь поделать, потому что гулять вместе было нерентабельно и могло бы оправдаться только душевным излишеством — а его не было...
— Мы пойдем погуляем! — повторила жена, и теща, наконец, сообразила:
— Ну, так я поеду домой!
— Ага, мам! — срочно согласилась жена и, устыдившись этой срочности, виновато прибавила: — Папе привет!
Да уж, конечно, привет, а как же... Не надо оправдываться, все понятливо простят друг друга.
Они пошли. Шум волнения в сердце утих, в тишине они смутились, и каждый погрустнел — так упругие шары, по школьному учебнику, столкнувшись, сближаются плотнее своих пределов, зато в следующий момент силою этого избыточного сближения отталкиваются врозь.
Он ведь уже произвел за вчерашний вечер и ночь и за сегодняшний день — такое огромное время! — уже произвел над собой то отсекновение, и уж срез начал затягиваться понемногу, а к срезу приставили отсеченное и ждут, чтоб оно приросло к старому месту.
А она спохватилась и возобновила свою обиду, сочтя прощение слишком поспешным: дешево отделался!
И так они шли и молчали, и друг на друга не глядели.
Зато голова дочки вертелась во все стороны. Она подбирала на дороге камушки, она совала палец в каждую выщербинку асфальта, и нужно было ее поднимать и отряхивать, потому что она всякий раз успевала сесть и удобно расположиться для своих исследований. Ее брали на руки, а она, досадуя, отвоевывала камешек, который пытались вытряхнуть из ее кулака, и, отвоевав, забывала о нем, роняла и принималась петь свое «ляль-ляль», прикивая себе головой, а родители тогда оглядывались друг на друга, чтобы разделить безоружную улыбку по своей дочке, и это было им нетрудно.
— Гляди, — наконец обратился он к жене, и голос растопился, — видишь, во-он те дома вдали — а раньше их не было видно с того места. Я этот эффект вчера открыл: земля колеблется, бугрится и опадает.
— Да ты просто раньше не смотрел, вот и не видно было, — жена улыбалась, но улыбка теперь относилась не к дочери.
Он нагнулся опять за девочкой, а когда выпрямился, жена шла впереди, она была в босоножках, но — он себя специально проверил — ничего, на сей раз ничего... Каблуки, пятки — ничего... Хотя пространство в этих местах было самое обиходное, без каких-либо особых искажений.
Ночью они лежали в своей постели — непривычные, как новички. Всякий-то раз после ссоры приходится начинать все заново. Почему-то с каждым разом все трудней.
Она лежала неподвижно: соблюдала гордость, а он тоже прирос спиной, оцепенел в темноте и весь затормозился. Он понимал, что должен сам, первый, но все откладывал, медлил, ему было тоскливо и хотелось снова плакать. Как будто жаль было расставаться с вчерашним. Как будто разлюбил счастье.
Он думал о том, что всегда теперь будет жить здесь, потому что к их постели приставлена буквой Г деревянная кроватка. Он теперь пугливый раб, его сломали. Все стерпит, ненависть свою удушит, лишь бы не отсекать больше от себя эту пуповину. И лучше всего ему постараться полюбить жену и держаться за эту любовь изо всех сил, как за костыль держится безногий, ибо иначе ему не ходить. И так ему стало жаль себя, что задрожало сердце и пролилось, как стакан воды в трясущихся руках.
Потом он сказал себе: ничего, утро вечера мудренее — и понемногу успокоился.
Жена его была румяная медсестра, он вспомнил сон, потом сделал над собой усилие, вздохнул и с неизбежностью медленно повернулся.
Домохозяйка
На всю даль улицы простерся вой сирены, вдоль собственного вопля мчалась не смолкая пожарная машина, подлетая на ямах, и Лена заплакала в своей квартире от чьей-то невидимой беды. Следующие машины пронеслись молча и сосредоточенно, но где-то включилась заводская сирена тревоги. Нет звука ужасней, а чувства Лены больно обострены: вчера они приехали в этот незнакомый город, в эту квартиру, вещи свалены в кучу, двухлетняя дочка неприкаянно ходит из угла в угол, ночевали на полу, и Лена не знает, за что хвататься. Сирена смолкла, тревога скрылась в прошедшем времени. Наползли, как муравьи, на чистое место тишины другие, мирные звуки. Побрякивали трамваи, ворочались громоздкие троллейбусы, Лена успокоилась. Она была пока чужая этому городу, и труд ее не пригождался выполнению его планов, и никому не помогли ее слезы. Все, что с ней происходило, не имело для общества пользы. Она была домохозяйка.
К соседке Вале то и дело за чем-нибудь: новоселы ведь.
Пришел по вызову слесарь, спросил внимательно, как врач:
— Что у вас?
Он был плотный, некрасивый, но глядел в лицо глубоко и любопытно и оттого сразу становился очень знакомым — а у знакомого уже не видишь внешности. А батарею, сказал, починит летом. Вызов делать не надо, он так запомнит.
Программа «Время» здесь в полдевятого. Рабочему классу рано вставать. Рабочий город Челябинск.
Дотаивает снег, грязно, Лена таскает дочку на руках.
Прохожие на улицах тоже порожняком не ходят, уйма детей.
— А что, стали платить — вот и рожают, — рассудила попутчица в трамвае. Иная попутчица знает всё про всё. Очень удивилась, что в сибирском городе, откуда Лена недавно, детей не прибавляется, хоть и стали платить.
— Ну, а вообще, как там у вас? — глаза зажглись: сейчас и про тот город все будет знать.
— Чуть похолодней.
— А снабжение?
— Там с молоком похуже. Сливок нет.
— Ты смотри-ка, есть где-то еще хуже Челябинска! — обрадовалась женщина. — А чем же кормить детей? — встревожилась. — А-а, — тут же все поняла, — вот потому и не рожают!
Снег окончательно сошел, трава наливается соком. В субботник вылизали весь город, и дождь его обмыл. Улица опустела к вечеру, дома стояли румяные от заката, бежали по тротуару две спортсменки. Радостно их окликнул, свесившись из окна общежития, мордастый парень: «Побежали, девчата!» — и заржал, счастливый, что весна, вечер, бегут вот девчата — как подтверждение наличия у жизни смысла, гармонии и порядка. (Хороший город!) И Лена подумала, что вначале у жизни, может быть, не было смысла, но он копится отдельными усилиями всех людей. Впрочем, мысль Лены не имела общественного значения, ведь Лена все еще была лишь домохозяйка.
Ждали у подъезда мусорную машину, соседка Валя сказала:
— У меня ведь двое детей, ты не заметила? Один ЛЕЖИТ.
Когда-то она должна была это сказать.
— Что, болеет?
— Да, — Валя старалась сделать свои слова понезаметнее (так хорошая медсестра умеет поставить укол, что не почувствуешь), — ему полтора года, в четыре месяца заболел энцефалитом, и теперь он уже полный дурак.
Весь двор на виду. Каждое утро приезжает слесарь на своих «Жигулях» и привозит товарищей. К этому времени нужно успеть запастись водой. В девять они отключают ее и потрошат в подвале трубы: выбрасывают старые, варят новые. Они работают без передышки часов до пяти, и видно, как они возятся во дворе со сварочными баллонами, с трубами, как испачканы их брезентовые спецовки и как накапливается усталость к концу дня.
Лена смотрит только на одного из них, потому что он — ЗНАКОМЫЙ.
Вечером опять появляется в кранах вода.
Ночью Лена проснулась от детского плача. Плакал Валин ребенок за стеной. Валя так и говорила о нем: «ребенок». Потому что ни «мальчик», ни имя, выделяющее человека из подобных ему, тут не годились. Неконкретное, безличное «ребенок» — так легче, потому что личности дитя лишено. Валя уже «привыкла», ей «хоть бы что» — но вот он плачет от боли, то жалобно поскуливая, то вскрикивая в страхе, кто-то ест его изнутри, как лисенок под одеждой маленького римлянина, кто-то его жрет, и он поэтому — жертва, детская жертва какой-то невидимой силе, а взрослые, хоть бы и сгрудились вокруг него стенкой, не в силах заслонить его, и Лена зажмуривает глаза и молится: «Господи, да что же это!..» — в унижении, какое чувствует взрослый, предавший младенца. Оставивший его без помощи на растерзание. Потом, нескоро, стихло. Лена заснула, и ей приснился утешительный сон: будто она берет этого мальчика на руки, а он разговаривает с ней и все понимает. Ну, думает Лена, если это — «полный дурак», то еще ничего, терпимо...
Позвонил у двери слесарь, передал из домоуправления расчетную книжку. Он внимательно поздоровался с поклоном головы и обозначил на лице самое почтительное отношение. И целый день Лене видно из окна, как он работает во дворе, ходит в робе, усталый, не заботясь о походке. Еще бегают по двору два маленьких брата из многодетной семьи, один рыжий, другой черный. От разных отцов. В садик они не ходят, так растут, по милости природы. Природа к ним милостива. Вот старший рыжий нечаянно сбил с ног младшего черного и растерянно стоит над ним, а тот вопит. Помог ему подняться, и черный, всхлипывая, в яростной обиде ударил брата. Рыжий принял удар скрепясь — лишь бы тому стало легче. Тот еще раз ударил — рыжий еще раз принял. Потом, постояв немного, пораздумав, виновато и осторожно обнял своего меньшого братана.
На пасху продаются всюду куличи, помазанные белой помадкой, посыпанные разноцветной крошкой. Кто-то из гостей спросил просто так: а что, собственно, означают эти куличи?
— Древний фаллический символ, — сказал муж Лены.
Лена смотрела на своего мужа, и все, все в нем вызывало ее раздражение, сама его красота и ум тоже. Они прожили вместе пять лет, и для первых трех годилось наименование любви. Но что же теперь? Может, усталость переезда? Пройдет она? Или любовь была лишь уловкой природы, принудившей их продлить род? И теперь, когда ребенок рожден, любовь удаляется со сцены, как актер, сыгравший свою роль. И остаются одни декорации, да и с них уже краска облезла. Неужели всё? Подруга на вопрос: «У тебя что, кто-то есть?» умудренно вздохнула и как о н е и з б е ж н о м: «А как же. Надо ведь иметь какой-то стимул». И просвещала: «Эти инъекции свежего, на стороне, новенького — они необходимы, как диабетику регулярные дозы инсулина»...
Лопнули почки, деревья окурились зеленым дымом. В воскресенье завод Орджоникидзе проводил свою весеннюю эстафету. Растянулись по улице Гагарина этапы, трепетали флаги, попрыгивали, разминаясь, легконогие спортсмены. Громкоговорители передавали парад, происходивший где-то у начала улицы, доверчиво назывались во всеуслышание цеховские имена. Но ведь это так опасно (Лена сжалась) — в человеке жив реликтовый страх, что кто-нибудь чужой сможет нанести ему вред через звук беззащитного имени или через изображение, и даже на Доске почета висеть согласится не каждый. Лена оглянулась: но никто тут ничего такого не страшился, улица по-хозяйски была захвачена бегунами, воздух громыхал заводским радиовещанием — ТУТ ВСЕ БЫЛИ СВОИ.
Мы тут все свои, заводские, ясно? Это наша улица, и дома эти наши, и магазины, и киоски с мороженым, и троллейбусы. И мы тут не какие-нибудь нейтральные, посторонние друг другу горожане, мы — свои. А вы, чужие, бойтесь соваться в нашу краянку!
Лена стоит на тротуаре, чужая, никого не знает в лицо и боится, что это заметят. Хочется скорее примкнуть к этому неуязвимому обществу — СВОИМ. Закапал дождь, дочка спросила, откуда он капает. С неба. «А кто его туда набросал?»
Лена сидела одна в кухне за столом, чувство «я ненавижу тебя» переполняло ее, требовало высвобождения. Уже много раз она готова была пойти и сказать: «Я тебя ненавижу». И не хватало... мужества? честности? а может, самой ненависти не хватало?
Наверное, это обидно было бы услышать. Видеть, знать — одно, а услышать — другое. Слово отсекает оттенки, оно однозначнее правды — значит, вовсе ложь.
Да и так ли уж важно, в конце концов, ее чувство, чтоб кричать о нем вслух? Она взяла обрывок бумажки, написала: «Я ненавижу тебя». Страшно стало читать, слова жглись. Она скомкала бумажку, бросила в ведро. Топорщились, кололись, коло́м торчали оттуда злые буквы. Достала бумажку, расправила, густо зачеркала — и тогда выбросила. Снова достала этот комок, положила в раковину, подожгла спичкой. Сгорела ненависть.
Соседка Валя решила больше не вызывать к «ребенку» врача — пусть... Но врач, сказала она, все равно приходит — сам. Посмотрит «ребенка», выйдет в прихожую и, присев на корточки, записывает что-то в тетрадку, подложив свой «дипломат». Пишет, пишет, а потом задумается, задумается... Валя его спросит: «И о чем вы там всё думаете?» А он тихо: «Думаю, как бы ему помочь...»
Дрогнуло сердце, Лена с тех пор как увидит из окна — идет по двору молодой человек с «дипломатом», так и гадает: он? Уже раза четыре видела одного. Наверное, он. Ходит, сердечный, по вызовам. Вызовов много, детей уйма, ужас! (Еще бы, сливки есть, и рожают бесстрашно всё новых и новых, убежденные, что так оно в мире всегда и пребудет). Наверное, он. Свои-то, околоточные мужики не носят «дипломатов». Собираются во дворе по вечерам и часами беседуют, стоя кружком.
Дочка вышла во двор с маленькой машинкой. Беда с этой машинкой, всем она нравится. Вот рыжий братец догнал обидчика, отнявшего машинку, заботливо вернул ее девочке и потом долго стоял перед нею с кротким видом — упивался своим великодушием. Эти благородные порывы знакомы всем хулиганам. Рыжий стоит перед девочкой, великодушие его разрастается снежным комом, да и должно же снежным комом развалиться, не вынеся собственной тяжести. Спустя полчаса он потихоньку стянул у нее эту машинку и снес ее домой.
Пора, впрочем, забирать дочку, Лена вышла во двор; тронулась и притормозила, поравнявшись с Леной, машина слесаря. Он выглянул поздороваться. Сизый селезень, называла его Лена про себя. Лицо его было полно закоулков, в которых таились оттенки многих чувств, они складывались по-разному, переливаясь, как сизое оперение, и читать с его лица эту повесть, наверное, не наскучило бы долго. Вместе с приветствием на его лице прочитывалось: «Смотри, а у меня машина, а ты не знала?» — совершенно мальчишье, и: «Что это на цепочке у тебя, талисман, да?» — любопытное, и: «Сразу видно, что ты молодец!» — ухажерское, на всякий случай, и: «Уважаю таких!» — одобрительное бюргерское. Да каких?! А по-за мусорными кучами новостройки гоняли друг друга растленные городские кобелишки, весна их одолевала приступами неисполнимой любви.
Притча: приехал в город цирк, и афиши возвестили, что человек будет залезать в бутылку. Народу собралась целая сила, вынесли на арену бутылку, вышел и обещанный человек. Походил-походил, позалезал-позалезал — не залез. Ушел. Публика возмущаться, а ей: а кто вам обещал, что он з а л е з е т?
Вспомнила Лена притчу и горько рассмеялась. Никто вам ничего не обещал! Она сидит у темного окна на кухне, муж сказал ей сегодня: «Заткнись!», и вот она не спит, и он там тоже не спит, но они не смогут успокоить друг друга. Лена не винит его. Она сама могла бы сказать ему «заткнись» и даже почище того. Но он ее опередил. Сидеть ей в темноте еще долго. Надо износить злость дотла, истратить, иначе не уснешь. Интересно, каково поживает слесарь-сизый селезень? Некоторые знакомые Лены разошлись и снова в поиске. Брачные объявления дают. Надеются на удачу. Есть ли хоть одна удача среди этих бедных человеческих попыток? Наверное, есть, иначе откуда, из каких примеров люди черпают надежду? Но Лена не знает таких примеров, нет. Говорят, восемьдесят процентов разводов происходит по заявлениям женщин. Восемьдесят процентов брачных объявлений дают тоже женщины... Утром они помирились.
Дочка заболела, пришел врач. Оказалось: он. С «дипломатом». Он прикасался к девочке так, будто хотел не столько выяснить болезнь, сколько тут же, этим прикосновением, немедленно помочь ей. Он был юноша, прячущий усталость. Каждый день на много часов он погружается в среду чужой боли — как водолаз в толщу вод, как рабочий-гальваник в яд испарений — и на сколько же его хватит сидеть в прихожей на корточках и раздумывать, как бы облегчить муки Валиному «ребенку».
Он сказал: опасный отит, надо показаться лору; запись туда за неделю вперед и прием раз в неделю, но постарайтесь попасть.
Лор их принял без записи и без лишних слов — еще не научился отказывать в помощи. Тоже оказался совсем юный, тоже прикасался к девочке целительно, и она доверялась его рукам. Он выходил раз покурить, и, когда шел мимо томившихся в коридоре матерей с детьми, клонил голову, виноватый перед ними за боль, за очередь и за свое неумение сделать мир совершенным.
Вот уже недели две Лена не слышит плача за стеной. Ей хочется думать, что «ребенок» пошел на поправку, хотя путь его болезни один: каждый приступ пожирает часть его мозга. Но пока он перемогается и молчит, не напоминает взрослым об их ничтожестве — и спасибо. Валя вышла на работу, потому что приехала ее бабушка и смотрит за «ребенком». Ну, бабушка вынесет. Бабушке в привычку выносить, она не юноша врач и не истеричка, способная не спать ночь из-за мужнина «заткнись».
Дай бог Вале хоть на работе забываться. Муж ее «объелся груш». Но Валя все равно улыбается. От великодушия. Чтоб не взваливать на мир свои огорчения. Миру и так хватает.
— Поднимай ноги! Иди по-человечески!
Стояла глубокая ночь. Лена проснулась и мгновенно все поняла. Одного этого ржавого голоса было довольно. В нетронутой тишине ночи он бесчинствовал один, нестерпимый, как визг пилорамы, как скрежет железа о стекло, и издавать его могла только какая-нибудь «карлица», лицо которой, Лена поручилась бы, выглядело так, как если бы резиновую голову надули, а потом сверху сплюснули.
— Поднимай ноги! Иди по-человечески! — с визгом царапала она по стеклу, по нервам, неотступно преследуя свою жертву. — Да пойдешь ты?!.. Поднимай ноги!
Самое жуткое было это «по-человечески», косноязычное, с «ц» вместо «ч», произносимое н е ч е л о в е к о м — НЕДО...
Голос уже миновал окно, начал удаляться за многократные преграды панельных стен. В ответ ему не слышалось ни звука, ни всхлипа, даже ни шарканья маленьких шагов, один ужас тишиной навис и силился прикрыть мальчика (конечно, то был мальчик! — они рожают, чтобы было на свете хоть одно существо, беззащитное перед ними), но не мог заслонить его, а эта злобная ястребица налетала сверху, выпростав клюв, подстерегая каждый его шаг, сделанный не по ее нраву, а сделать по ее уже не было возможности, потому что ястребица нуждалась в неистовом поклеве.
— Кому я сказала, тварь! Поднимай ноги! Иди по-человечески! — голос захлебывался в сладострастии силы, которой не было противосилия.
Вот уже теряются где-то в тишине и темноте — этот давно настигший и давно всемогущий, но длящий истязание голос и его жертва, Лена вскочила с постели. Уже не видно из окна. На часах ровно два. Ни души больше на улице, весь город увяз в сладком клею сна, утоп, ушел на дно, не слышит этой ястребицы, не знает про муки ее детеныша. Некому прийти ему на помощь, а он и не ждет помощи. Разверзнись, земля, укрой его.
А сон как сладкий мед, в постель бы назад, но — встряхнуться! Быстро в прихожую, ну-ка! Плащ, в комнатных тапках — пусть, пригодится, мягче догонять, ключ, дверь оставить незапертой, важно! — и вон.
Сердце стучало, круто переключенное со сна на подвиг или на преступление — что бог пошлет. Вон они. Мальчик в свете дальнего фонаря возвышался над тротуаром вряд ли больше, чем та занеженная девочка, что спала сейчас, сытая и умытая, в мягкой своей постели у Лены дома. «Карлица» неотвратимо нависала над ним хищной птицей, а он брел, рожденный на свет для той же цели, для какой в некоторых странах, говорят, продаются специальные сервизы: бить. Пар спускать. Мальчик забывал вздрагивать, трясина ночного времени уже наполовину поглотила его сознание. Шаги Лены, днем погасшие бы в шуме улицы, как в ковре, раздавались сейчас беспощадными шлепками. Что ж, тогда нападение и грабеж. Быстрота и натиск. Как там с гневом? Это важно. С гневом в порядке, хватит расшибить ему «карлицу» в лепешку, если понадобится. Неслась на таран — только бы не струсить. «Карлицу» ударило, снесло, она прошоркнулась по асфальту, Лена схватила мальчика раньше, чем та упала. Схватила, прижала к себе, хватит предавать их, хватит дезертировать от них в уют своего нейтралитета! Она бежала с ним на руках, в ушах мешался ветер с воплями поверженной, никогда, никогда ей не догнать Лену; дворами, запутать. В подъезде нет света, отлично. Она спохватилась наконец взглянуть в лицо мальчика, уж больно он безволен; отняла его голову от своей напряженной руки — мальчик спал глубоким сном, запав в него, видимо, немедленно в тот же миг, как его оторвали от земли и освободили, осужденного в два часа ночи «поднимать ноги», пересекая бесконечность пустых улиц. В дверях квартиры стоял в потемках муж, собранный и готовый сделать все, что понадобится. Он всегда был на месте вовремя. Он из любой глубины сна умел почувствовать тревогу Лены и просыпался. Черт возьми, они вообще-то были настоящей парой...
— Тс-с! — Лена быстро затворила спиной дверь. — Мальчик! — сказала радостно, как будто только что родила его.
— Киднап! — предостерегающе сказал муж.
— Ничего. Мы не будем ее шантажировать.
— А она нас?
— Знаешь что! — рассердилась Лена. — Я его не выбирала, бог послал. Раз меня разбудили, значит, меня предназначили для этого.
Муж принес раскладушку, они уложили чумазого. По спящему изможденному лицу не понять было, насколько он плох или хорош, туп или смышлен. Это всё в глазах. Надо быть готовыми к тому, что не смышлен и не хорош. Неоткуда. Но тут ничего не поделаешь. Валя за стеной тоже не выбирала себе судьбу. По улице негромко топотала «карлица», она поглядывала на темные фасады домов и, поскуливая, робко взывала: «Эй!.. Эй!..» — привыкнув, впрочем, что ничего ей в этом мире не причитается. Отняли у нее единственное создание, на котором она только и смела осуществлять конкретность своей ненависти, силы и, может быть, любви... Они слабее всех, эти люди. У них можно отнимать невозбранно.
Время нарастает, ложится слоями, как обои на стены, прежнее закрывается так, что и рисунка не вспомнишь. Лена привыкла к сыну. Больше он не вызывает в ней чувства близкой слезы и жалости. Нормальную вызывает усталость и досаду, как и свой ребенок. Когда они — дочка и сын — едва телепают за ней из магазина, она покрикивает: «Да пошевеливайтесь вы, наконец!»
К плачу Валиного, за стеной, «ребенка» она тоже притерпелась и едва замечает его. Вой пожарных машин — она проверяла — оставляет ее спокойной. Получается, разные дни — разные Лены?..
Она боится, что когда-нибудь это произойдет: «карлица» схватит мальчика на улице и будет улепетывать, мальчик оглянется, взыскуя решения судьбы, а Лена и пальцем не пошевельнет. И только дочка бедственно заревет, указывая матери пальцем на совершающуюся утрату, а Лена бессильно скажет: «Не реви. Он только погостил у нас», а ночью поплачет-поплачет — по мальчику, по себе, по «карлице» и по всем бедным на этом свете — и забудет.
Нет! — вырывается, не дается. — Нет. Пусть в нужный час хватит сил не предать. Она надеется, что не сможет так легко отказаться от мальчика. Ведь она уже сказала себе: мальчик — мой. Еще она надеется (пуще остального), что «карлица» не посмеет. Обделенные люди отступают перед силой и ни на чем не настаивают. Еще лучше, если «карлица» не захочет. Тогда будет уж совсем всё отлично. А еще лучше — если «карлицы» вообще нет. Нет, и всё. Приснилась. Примерещилась. Ведь может такое быть?
Иногда бывают дни, в конце которых Лена получает некое успокоение — как будто чью-то похвалу: «Ну, девка, славно ты сегодня пожила». Отошедший день как бы принят неведомым ОТК. Она пытается уловить отличительные признаки этого дня, делающие его пригодным для какого-то использования (ОТК знает, для какого), но признаки неуловимы. Иногда ей кажется, что она поняла их и сможет повторить, чтобы снова п о л у ч и л о с ь — но увы... Во всяком случае, она доподлинно установила, что дни, когда на нее не действует плач ребенка или сирена тревоги, — плохие дни, пропащие. Так и остается неизвестен ей долг, но иногда она чувствует его исполненным. Это почти не связано с ее работой (а она больше не домохозяйка, она теперь на заводе, где ВСЕ СВОИ), и это тем более странно и заслуживает отдельного внимания.
Дочь
(повесть)
...природа всегда возрождает одно из другого
и ничему не дает без смерти другого родиться.
Лукреций
Глава 1
...Классе еще в пятом-шестом: конкурс самодеятельности, и мы с подружкой Галькой пляшем (каждый год мы с нею пляшем и получаем призы). Галька зевнула: «Скорей бы кончалось да приз получить!» Я замерла: сглазит! И тут же рассердилась на себя: что еще за несознательное суеверие! Преодолеть! Подошла к кому-то, не помню, и так же развязно, как Галя, уронила: «Уж скорей бы! Получить приз да домой». И этот кто-то на меня так же опасливо покосился.
Дети врожденно суеверны. Это позднее безнаказанность переубеждает нас в атеистов.
Наши ангелы-хранители устают нянчить нас, махнут рукой: а, живите, как знаете. Мой еще подобросовестнее прочих: долго возился со мной. Строжился, наказывал, воспитывал. Приз-то мы с Галькой в тот раз так и не получили. Я уверена: из-за моего. Галькин — прохвост, ему с самого начала было все равно. Такой уж ей достался. Моему — спасибо за труды, но, правду сказать, иногда я не видела его годами. Улетал. Оставалась сама на себя.
Шура говорит: «Ну пойдем, а?»
Уговорить меня было нетрудно. «Без тебя я не пойду!» — решительно заявила Шура. И все.
День прошел сбивчиво и бестолково. Есть в нашей работе неудобство — регламент сознания. Вошел в аудиторию к студентам — и не можешь пользоваться своим сознанием в личных целях. Но я так и не научилась переключаться как следует. То и дело посреди занятия вспоминаю: вечером идем в ресторан. Гуляем.
Только вслушаться в это старинное слово: гу-ля-ать! — какой соблазн.
Наверное, это во мне от отца. Он был в молодости на гулянках незаменимый человек — гармонист. По деревянному корпусу его гармошки вилась перламутровая инкрустация — стебли с цветами. И выложено молочным перламутром: «Лилия» — затея ее ручного создателя.
Застывшая лава света — перламутр, тайна, мое детское прельщение, беда моей матери...
— Здесь уместно воспользоваться рядом Тэйлора, — подсказываю я. Эти ребята до того толковые, что я по-детски радуюсь, если мне удается сообразить вперед них и что-нибудь подсказать.
Перламутр — кажется, по-немецки это «мать жемчуга»... Гармошка была первой семейной покупкой моих родителей. Уж как потом мама ее ненавидела! Не знала кума горя, да купила порося. Она-то мечтала о полонезе Огинского. Она была девушка культурной революции, и крестьянская природа в ней боролась с передовым началом, воспитанным школой-семилеткой. Она и до сих пор страдает, когда ее называют Нюрой.
Бедная мама, и зачем только ей сдался этот полонез, была бы лучше с самого начала бабой, как все, — самой бы легче было.
Бог знает, когда я последний раз была в ресторане. Года два назад? Не помню. Во всяком случае, еще до Мишки.
Мне предстояло еще позвонить ему и предупредить, что задержусь. Тяжкий труд этого звонка я весь день откладывала на потом. Мне не хотелось, чтобы Мишка заставил меня отказаться.
Ресторанов он не выносит. Как и всякую двусмысленность. «Там официант, еще только подходя к столику, вступает с тобой в скрытую борьбу — вроде перетягивания каната — и победит. А ты сидишь и тужишься делать вид, что о т д ы х а е ш ь. К тому же это — место, специально отведенное для того, чтобы порядочные женщины там не появлялись...»
Наверное, он прав.
Наконец после занятий я спускаюсь в вестибюль; там на стене в укрытии газетных стендов висят телефоны-автоматы.
С кафедры этот разговор невозможен.
На стендах студенческие стенгазеты — какая искристая, раскованная сила ума, и куда это все девается потом? У нас, например?
Ах, сейчас вопрос не в этом...
Я набираю номер, но на последней цифре спотыкаюсь: а может, мне не звонить совсем? Уйти убегом — как делал мой отец: гармоху под мышку и крадучись из дома вон. Потом мать, потерявши голову от забот и злости, прибегала за ним прямо к застолью, прижав к себе для пущего страдания маленького Тольку, моего старшего брата. Толька глупо хлопал глазами и ничего не понимал — он и сейчас такой... Бабы ну увещевать ее: не хотелось им упускать гармониста — только-только пляска пошла. Перемигивались с понятием: успокоить бы Нюру да спровадить. Кто-то вливал ей в рот стопку браги, она отплевывалась, вырывалась и по-бабьи голосила, ее тянули за стол, лицемерно уговаривая: «Нюра, да ты сядь, выпей, ну глянь: все гуляют, я вот тоже еще посижу чуток да домой. Останься, Нюр, вместе и уйдем!» Но солидарные бабочки, жены пьяниц, отнимали ее из вражьих рук и уводили домой, сплюнув напоследок: «Пошли, Нюра, а ну их всех!»
Отец при этом нарочно глупел, чтобы оставаться непричастным, и только ухмылялся. Его обнимал какой-нибудь суровый друг, кривился: «Бабье!» и убежденно наливал себе и ему по стопке. Они выпивали: друг — с возмущенным чувством справедливости, а отец — так просто, и снова он растягивал мехи, бабы с привизгом плясали, выкрикивая охрипшими голосами частушки, мол, «матушки да тетушки, спите без заботушки», а с дочерьми вашими, дескать, все будет как надо, потому как «по деревне мы идем», и прочее.
Домой приползал, напившись до полной безответственности, чтобы спать и не слышать слез и упреков.
На следующую гулянку вывернется наизнанку, а убежит. Глазам стыдно, зато душе радостно, как говорят. Я очень понимаю это чувство — именно оно сейчас и напрашивается...
Я набираю последнюю цифру.
— Миша!
Обычно я говорю «Мишка»...
— Я задержусь сегодня... Это для Шуры! Приехал из какого-то заполярного города Ректор — по делам — бывший Шурин... ну, я не знаю, у них какие-то полупогибшие отношения прошлой полулюбви и, может, еще не все пропало. Он пригласил Шуру к себе в гости, а Шура просит меня пойти с ней — для прикрытия, понимаешь? Ей одной неудобно.
— Куда? — спрашивает Мишка. — Куда в гости?
— А в гостиницу, — отвечаю я как можно невиннее. — Он в гостинице остановился.
Благодарю стенды за тень. Благодарю вестибюль за шум перерыва: не так гулко раздается моя ложь, и от этого ее как бы меньше.
Студентки перед зеркалами надевают свои богатые шубы и застенчивые пальтишки.
— Ну что ж... — неохотно сказал Мишка и задумался.
Я бросила:
— Ну, пока! — и быстренько повесила трубку, пока он не накопил сомнений и новых вопросов.
У-уф! Упарилась.
— Итак — г у л я е м!
Я озираюсь в пунцовой утробе ресторана — я здесь впервые. Оформили, подлецы, с понятием: зовущая жаркая темнота, цвет красных внутренностей.
Меня знакомят с Ректором; Славиков немного заискивает, Шура выжидательно молчит, а Ректор улыбается на три части: мне, Шуре и Славикову — и всем достается с избытком.
Еда, вино.
Оркестр готовит свою аппаратуру.
Живот подбирается в ознобе предвкушения: музыканты пробуют звуки.
Я не сказала Мишке, в какой гостинице... Как-то еще придется отчитываться. Авось как-нибудь. Не думать об этом, потом, потом...
— Этот зал напоминает мне утробу, — говорю я. Ведь что-то надо говорить.
— А я никогда не видел утробы, — воспитанно признался Ректор.
— Там как в пещере, — поделилась я. Они засмеялись.
Смеются надо мной.
— Да-да! — настаиваю я.
Мне в детстве снился повторяющийся сон: будто ползу я по тесной пещере, на четвереньках, а выход все сужается и сдавливает меня, но ползти почему-то надо. И вот уж мне приходится в ужасе принять самое беззащитное положение: навытяжку — меня так легко раздавить! И стискивает, стискивает со всех сторон, а я продолжаю выбираться с нарастанием ужаса — и от страха просыпаюсь.
— Мне снилось, как я рождалась: как из пещеры. Ведь сон — это считывание старой записи подсознания, так?
— И мне такой сон снился! — преданно заступилась Шура.
— А я свое рождение проморгал! — говорит Славиков и подливает всем коньяк.
Сдались им наши сны...
Я ничего не пью, даже шампанского, чтобы не пахнуть вином — пригодится дома, если умалчивать ресторан.
Впрочем, дело не в вине и не в ресторане — в Левке дело. Левку Славикова мне важно умолчать, вот что.
Мишка прав: не надо было мне сюда ходить. Не надо мне здесь сидеть. А я сижу. Внутренне зажмурившись, чтобы не видеть необходимости встать и уйти.
Шницель вкусный. Картошка фри, салат ассорти...
Мишка меня все время воспитывает и открывает мне глаза — чтобы я не жила вслепую, как это делает большинство.
А я все равно сижу в ресторане.
Общество пьет.
— Пойдем, покурим? — наклоняется ко мне Славиков.
Шура растерялась: она робеет оставаться вдвоем с Ректором. Но мне же охота послушать и Левкины любовные намеки, я встаю.
Любовь он завел от скуки, она у него липкая, как карамелька в ладошке, но по гулянке сойдет. На кафедре, когда мы оказываемся вдвоем, Лева Славиков поднимает на меня очи, томно глядит и протяжно вздыхает: «Ли-и-ля...» — а я делаю вид, что ничего не понимаю, и говорю: «Меня так назвали в честь отцовской гармошки».
И так греемся этой игрой: он разыгрывает красивое страдание неразделенной любви (ведь я в п о л н е замужем), а я непонимание — и оба в безопасности.
Сели мы с ним в холле, он закурил.
— Ой, Лева, я еще один феномен памяти вспомнила, — затараторила я. — Мне еще снилось все время отцовское поле боя и как меня ранило — слушай! Будто бы изрытая взрывами долина, а я на какой-то возвышенности. Все гремит и грохочет. И вот, будто летит пуля — летит так, что я вижу ее траекторию...
Славиков меня не слушал. Я замолчала, а он даже не заметил, сосредоточенно готовясь что-то сказать. Он курит, отражается в стенных зеркалах и пьяно зыблется; ходят мимо выпившие едоки, из ресторана и назад, и швейцар, злясь, закрывает за ними дверь.
— Что? — рассеянно спохватывается Славиков.
— Нет, ничего.
Я не обиделась — ведь мы чужие.
Я тупо смотрю на швейцара, а Славиков, силясь придать словам внутреннюю напряженность, отрывисто и с паузами говорит, что у него есть теперь квартира, правда, не здесь, а в Заполярье, ему дает эту квартиру Ректор, и не хочу ли я поехать туда с ним?
Я понимаю, Славикову хочется игры по крупной, да и когда же еще, ведь уже сорок, а все нет бурной — на разрыв аорты — жизни, есть только надоевшая семья, а Ректор сейчас за столом только что авторитетно изрек: «Любовь — болезнь сорокалетних».
— Нет, не хочу! — отвечаю я с кокетливым капризом и мотаю головой, как семнадцатилетняя девочка.
В дверь дует, швейцар сердито ее закрывает и с ненавистью смотрит на меня, как я фальшиво смеюсь в уплату за жратву и вино. Ох и перевидел он здесь таких дамочек! Мне хочется подойти к нему и оправдаться: я не такая, я здесь случайно, я больше не буду.
Дуть перестало, а я поеживаюсь и все оглядываюсь на здоровенные окна, занавешенные прозрачным тюлем; окна на улицу, и мне кажется: вот сейчас там будет проходить Мишка и увидит меня здесь — такую, какую видит швейцар...
— Скажи, что х о ч е ш ь! — насупленно требует Славиков.
И правильно: он платит, он и заказывает музыку. А я как можно шутливее возмущаюсь:
— Как я скажу хочу, если я не хочу!
— Скажи! — капризничает пьяный Славиков.
Я затравленно оглядываюсь на окна. Как сказал бы Мишка, знает кошка, чье мясо съела.
Я к Мишке хочу! А уйти не могу. Уйти — это поступок, а я существо слабое, беспоступочное.
Славиков, не дождавшись ответа, забыл, о чем это мы говорили, нетвердо задавил окурок, и мы вернулись в ресторан, к нашим друзьям.
Тут все было в дыму. Вечер подходил к концу, все опьянели и курили уже не сходя с места.
Шура смотрела нам навстречу с облегчением и с упреком: мол, ну что вы так долго!.. Видимо, ей приходилось плохо. Ректор сладко жмурился и в перерывах между затяжками назойливо улыбался, глядя на нее. Она не знала, что ей с этими улыбками делать. Оглянется по сторонам, вздохнет и робко говорит ему: «Ты поешь! Ну почему ты все куришь, куришь и ничего не ешь!» И опять оглядывается.
Славиков прилипающим языком лопочет Ректору: «А помнишь, после третьего курса... Крым... зайцами на третьей полке. Берег... горы зеленые... и я тогда понял...»
И вдруг растерянно сказал:
— Лиля! Я его очень люблю! — и кивнул на Ректора с беспомощным недоумением.
Шура сердобольно заморгала, а Ректор все так же стойко улыбался, и мне пришло в голову, что перед нами муляж улыбающегося Ректора, а сам он в это время где-то спит, свернувшись калачиком. Но тут он пошевелился и сказал:
— Товарищи! — Он прислушался к своему голосу, подбавил в тон проникновенности и повторил: — Товарищи! Выпьем за нашу встречу!
Говорящий муляж.
Они все трое схватились за свои бокалы, счастливые, что нашлось общее дело, а я с радостным выражением хамства на лице спросила Ректора:
— Скажите, вы не муляж? Знаете, делают такие из папье-маше для витрин яблоки, груши, мясо. На вид — как настоящие. А на ощупь — можно я вас потрогаю?
Славиков, пьяный пьяный, а задохнулся. Шура заморгала и отвернулась от меня. Но Ректор не обиделся, а учтиво кивнул и протянул мне руку — для ощупывания. Я потрогала руку, озадачилась, как повар, пробующий суп, и поднесла эту руку, как мосол какой-нибудь, к своему носу: понюхать. Шура предостерегающе смотрела на меня, стараясь как-нибудь взглядом натянуть вожжи и остановить меня. Куда там! Меня ее взгляд только подхлестнул. Не выпуская руки Ректора, я придвинулась к нему и вкрадчиво, как врач, попросила:
— Скажите: ма-ма!
И с ожиданием уставилась на его рот.
Ректор мягко высвободил руку, с ласковым укором улыбнулся мне и опять предложил свой тост.
Все в смятении выпили, на меня никто не глядел, а я, в возмещение своего стыда, мстительно подумала: «Шура потому и боится его, что он ей не нравится. Надо сказать, что он ей не нравится».
Славиков окончательно опьянел, чтобы не разделять ответственности за произведенный мной скандал, и рухнул лицом на стол. К счастью, это всех отвлекло: захлопотали, Шура вылила ему на голову стакан воды и вытерла своим носовым платком. Ректор рассчитывался с официанткой крупными купюрами, и я сперва подумала: слава богу, что не за Славикова счет я тут сегодня гуляла, а потом сообразила, что, пожалуй, еще больше свинства, если за счет Ректора... Хоть вынимай деньги да выкладывай за себя.
Потом Ректор побежал на улицу ловить для Славикова такси, а я искала в карманах Славикова номерок — получить его пальто. Швейцар у двери сопровождал меня неотступным взглядом.
Вывели Славикова на улицу, набросив на него пальто, упаковали в машину, Шура сказала адрес, а Ректор заранее заплатил — и опять я почувствовала себя свински.
Мы втроем вернулись в холл и сели покурить и успокоиться. Мы качали головами, сокрушаясь о бедном Левке, и рассуждали, как ему теперь лучше всего выйти из похмелья. Шура готовила отступление, бормоча что-то про своего дога Билла, которого еще надо сегодня выгулять, а в глазах у нее растерянная пропасть, запустение. Я же, чтобы загладить свою вину перед Ректором, уважительно поддакивала ему через слово.
Где-то в глубине души я собой гордилась: как-никак, был совершен Поступок, хоть и безобразный. Значит, мне доступны и решимость, и свобода.
И тут от стойки гостиничной администраторши повернулась румяная с мороза женщина с красивой кожаной сумкой и поискала глазами место, куда бы ей сесть, чтобы заполнить гостиничные бумажки.
Глава 2
Что называется, не отходя от кассы.
Погуляла — расплатись.
Вот возникло в холле олицетворенное мое возмездие, катится яблоко судьбы. Катись, катись, яблочко, по голубому блюдечку — вот уж и проклюнулось на дне блюдечка изображение: что было, что будет, чем дело кончится, чем сердце успокоится.
Мне забавно. Я веселюсь. Я всегда веселею в отчаянных положениях, как будто не жизнь идет, а мультфильм.
Мишка внушил мне, что мир устроен по Закону полной справедливости и существует как бы некая бухгалтерия, которая следит, чтобы каждому было отпущено строго по лимиту. В одном месте урвал — в другом тебе урежут. Украдешь, например, сто рублей — и тут же ногу сломаешь. И когда Ирина вошла — я услышала, как щелкнула косточка на бухгалтерских счетах: с меня вычиталось.
Так скоро!
И, главное, ничего нельзя предотвратить, как будто удав уже нацелил свой зрак.
Сломя голову побежать домой, отключить или испортить телефон, скоропостижно послать Мишку в какую-нибудь поездку — ну, например, в деревню: мол, кто-нибудь заболел — пусть отец, его не жалко сглазить (да, так и подумала!) — или напрячься и придумать что-то получше, но только бы Мишка сегодня же ночью сел в поезд — и все, и не нашла бы его в этом городе Ирина.
Все это пронеслось в голове и было отвергнуто: тщетно. Я верила в Закон. У меня уже наступил паралич неотвратимости — и я сама, своим ходом, — туда, в пасть удава. В зоопарке я наблюдала, как мышь, попискивая и упираясь, подползала к нему, к удаву, на невидимом аркане — ужас!
Я даже не упираюсь. Я знаю: приду домой и «собственноручно» скажу: «Мишка, твоя бывшая жена приехала в город, я видела ее в гостинице».
И совершится справедливость.
Она ведет взглядом по холлу.
У нее глаза — как будто в них беспрерывно отражаются огни новогодней елки. Праздничная женщина.
Мишка удочерил ее девочку и относится к этому серьезно (он ко всему относится серьезно...). Конечно же, им надо повидаться, ничего не поделаешь...
И вот споткнулась на мне. А я, жертвенный кролик, так и ждала напороться на этот сияющий зрак.
Ну что, — говорю себе, — погуляла?
Я ли не помню этого взгляда — она смотрит, как бы не притушая фар на встречный в темноте автомобиль. Невольно ищешь: что же она знает о тебе такое, что дает ей смелость парализовать этим встречным светом?
Вот она узнала меня: глаза смеются так, что, кажется, вот-вот лопнут и брызнут. Я почти приподнимаюсь — на случай, если угодно будет позвать...
А в елочных глазах пробежала целая серия огней: вопрос, нет ли здесь и Мишки; затем, после короткого анализа — уверенность, что Мишки здесь просто не может быть, и тогда — усмешка циничного понимания: мол, ну-ну, гуляем... И милостивое дозволение: ладно уж, подойди.
Я покорно поднимаюсь и иду. Думаю по пути: и как это Мишка мог быть ее мужем — он ведь грубый и неудобный, как проселочная дорога, а она — как лакированный лимузин. И потом думаю: ничего, Мишка — он все может, и то и это. Он кривоног, косолап, мешковат — однако ж, поищите другого такого Мишку, я на вас посмотрю.
А она глядит навстречу своими глянцевыми, как бы хмельными глазами и таким же голосом произносит:
— Стоит мне о ком-нибудь подумать — и вот уж мне этот человек попадается. Видимо, я — что-то вроде паука-телепата. (Удав, — думаю я, — удав...) Вчера о вас вспоминала, и едва приехала — уж мне вас приготовили прямо в гостинице.
«Да, уж приготовили», — мысленно передразниваю я и храбрюсь: «Спросит — скажу, что Мишки нет, что он уехал!» Набираю воздуху и лопочу:
— В гости в наш город?
— По заданию редакции, — с иронией поправляет она: мол, очень мне надо ехать в вашу дыру в гости. И улыбается милостивой грандессой, демократично снисходя до меня.
Так мне и надо.
Она молчит и благосклонно улыбается, похлестывая бумажками ладонь. Пауза принимает издевательский вид, но я кротко терплю. Заслуженное по Закону.
— Что-нибудь передать Мише? — мямлю я наконец.
Ирина в удивлении (вижу — в поддельном!) ведет бровью — глаза смеются, хохочут:
— Мише! Вы все еще вместе? — И тут же, как бы забыв получить ответ на свой вопрос, задает новый, озабоченный: — Вода-то горячая в этом городе есть? Я сколько помню, здесь любили ее отключать, а мне бы сейчас ничего так сильно не хотелось, как рухнуть в горячую ванну.
Но и на этот вопрос она не интересуется ответом. Она грациозно присаживается к курительному столику и начинает, наконец, заполнять гостиничную карточку.
О, она победительница, она царица.
Я успеваю все-таки глупо брякнуть насчет горячей воды, что, кажется, есть, и остаюсь топтаться совершенно неуместно, как бедная родственница, а Ирина уже строчит по памяти данные своего паспорта. Я успеваю отметить, что дата ее отъезда — через два дня, и тут на выручку мне подоспела Шура.
— С приездом вас! — вдохновенно говорит она Ирине, принимая ее за мою подругу или родню.
(Родня!..)
Ирина подняла равнодушное око, умело погасив елочный огонь, и рассеянно кивнула.
Шура как-то вдруг вся кончилась — видимо, Иринин мертвый взгляд был последней каплей этого напряженного вечера.
— Пойдем, — сломленно попросила она.
— До свидания, — аккуратно сказала я Ирине и, к своему торжеству, заметила, как блеснула в ответном взгляде тайная ревность: я бросала ее.
Шура даже с ее запасом терпения и любви не смогла больше держать себя в форме и так сказала Ректору «нас не надо провожать», что он сразу послушался. Я подумала: не забыть сказать ей, что он ей не нравится, этот неуязвимый для жизни человек.
Но сказать забыла. Мы шли домой, и я уныло мечтала: вот бы стерся этот день, вычеркнулся, как будто его и не было. Вот прийти бы домой — а Мишка уже спит, а утром началась бы обычная жизнь с обычных слов, с кофе, который он сварил бы для себя и для меня...
А Шура потерянно бормотала монолог, который я почти не слушала. Что-то вроде этого:
— Ну что же это такое, что же это такое... Все проходит, а спохватишься — и вспомнить нечего. В сотый раз закинул он невод — пришел невод с одной водою. Это где же рыба плавает? ...Ты-то, Лиля, счастливая! Не спорь, ты счастливая. Ты и злая, наверное, от жиру — бедные добрей. Живешь как за каменной стеной. Легко тебе презирать оттуда, из укрытия-то... Сытый голодного не разумеет. Ты не обижайся, я так... Я завидую. Да, а как не завидовать? У тебя Миша. Он такой один. Мужики-то теперь нос по ветру держат: не плюнуть бы против. Флюгера, а не мужики. Так и мотает их: туда-сюда. «Ах, ох, обстоятельства сильнее нас!» Тьфу! Впрочем, я-то? И я то же самое. Еще и обижаюсь: никто не любит. А сама-то я кого-нибудь полюбила? Вперед, так сказать, без гарантий? Нет, я задаром хочу. Да если бы я сейчас... — да разве бы ему не передалось?! А я хитрая, хочу, чтоб он меня первый полюбил, а я потом на готовенькое. А кто же возьмется первый — ведь мы все устали, каждому охота на другого груз переложить. И кого мы хотим перехитрить, а? Сами же в дураках и остаемся. Потому что с к о л ь к о з а э т о з а п л а т и ш ь, с т о л ь к о э т о и б у д е т с т о и т ь, а мы все переплатить боимся... И все-то у нас поэтому дешевка, и ничего-то дорогого у нас не остается...
А я свое: может, утаить ресторан от Мишки? Шура простилась со мной на углу — я почти не заметила этого.
Ничего от него не скроешь. Придется за все отвечать.
Зря только пожертвовала шампанским. Чем ближе ступеньки лестницы к нашей двери, тем невозможнее скрыть. Начнут бегать глаза. Они уже бегают. Он все поймет. И даже больше, чем было на самом деле.
А что было на самом деле?
У любого явления, говорит Мишка, есть несколько слоев. Я различаю лишь верхний — легальный. А Мишка — он насквозь, до дна...
А про Ирину — не говорить ему про Ирину, а? Но она его разыщет, она, змеюка, обязательно его разыщет, у нее достаточный предлог: поговорить о трудностях воспитания дочери...
Все-таки, может, упрятать Мишку куда-нибудь на два дня? Но куда?
Ответов не было, выхода не было, а я уже стояла перед родимой дверью.
Будь что будет — и я вошла.
Дальше было так. Я разделась в прихожей и сосредоточенно гляжусь в зеркало. А он стоит и смотрит, выжидая, как я буду объясняться. А я не объясняюсь, а жду, когда у него выйдет терпение и он сам спросит, где была. Но он все не спрашивает, а я уже разделась и дальше выстаивать перед зеркалом смешно.
Мне предстояло пройти мимо него — так прямо на него пойти и неотвратимо наткнуться на его глаза. А опустить взгляд и прошмыгнуть мимо — значит, в чем-то сознаться.
Мне становится весело от опасности, я поднимаю смеющееся лицо и огорошиваю:
— Только что я беседовала с твоей женой Ириной!
Радуюсь: смятение в рядах противника, и я, воспользовавшись замешательством, отвела его руку от стены и прошла мимо, единолично обладая подробностями. Сейчас он лопнет от любопытства, — победно думаю я. Но не тут-то было. Враг полностью взял себя в руки и, сдерживая и гнев, и любопытство, тихо спросил:
— Где ты была?
Я обескуражена. Обиженно поднимаю брови:
— Я же тебе звонила: были с Шурой в гостях у ее друга в гостинице. Там, кстати, в вестибюле и столкнулась с Ириной.
Я сказала «в гостинице», не сказала «в ресторане», тут же и подумала про себя: «Вот змея!» с восхищением или с осуждением — моим невооруженным зрением не разобрать. И тут же, не давая передышки, я принялась забалтывать его:
— Видимо, она в командировку приехала. Блестящая, конечно, женщина, я просто удивляюсь, как это тебе удалось в свое время заполучить такую, мы, кстати, с ней совершенно без враждебности беседовали, на ней, естественно, дубленка, было бы странно, если бы...
— Что вы там делали столько времени? — грозно перебил он, не разрешая себе отвлекаться от главного.
Вилять нечего.
— Ужинали... — лепечу я. — Он пригласил нас спуститься в ресторан, а Шура его боится, робеет, — тут я опять мелко хохотнула: — Я все собиралась ей сказать, что это потому, что он ей не нравится...
— И Славиков? — беспощадно нажал Мишка, морщась от очевидных моих уловок.
Пауза, крошечная.
— Да, — упавшим голосом, но храбро ответила я — с той храбростью, когда уже прижали к стенке и отступать все равно некуда.
— Ясно, — заключил Мишка.
Остальное было ему неинтересно. Он ушел на кухню как-то брезгливо, как будто ему противно в одной со мной комнате. Из трусливого уважения к его гневному чувству я устранилась в ванную переодеваться. При всем понимании, что происходит между нами что-то страшное и, может, даже непоправимое, я была невозмутима: ни огорчение, ни раскаяние не пробивались сквозь толстую стену усталости этого дня.
Когда я вернулась из ванной, Мишка сидел в комнате с кружкой чаю — он постоянно прихлебывает чай — и лицо у него было уже не брезгливое, а сосредоточенное — лицо человека, принявшего решение. Тут меня немного проняло: страшновато стало. Ведь он, Мишка, — жуткий человек, от него всего можно ожидать.
— Ну — рассказывай, — скомандовал он, и я сразу поняла: про Ирину, потому что про меня и Славикова ему уже раз и навсегда все было ясно и скучно.
Хотела было я обидеться на этот крест, который он на мне поставил, ведь ничего у меня со Славиковым ф а к т и ч е с к и не было — и я уж губы надула для обиды, но передумала: ах, что толку изображать, у Мишки взгляд вооруженный, он ведь не поверху смотрит... И я безропотно начала:
— Ну, мы сидели в холле... Втроем (подчеркнула я), потому что Славиков напился и его сразу же отправили домой на такси (тут Мишка прекратительно поморщился: неинтересно ему про Славикова!), и сидим разговариваем. Я жду: Шура наговорится — и пойдем домой. И тут Ирина и заходит, с сумкой. — Дальше я увлеклась и забыла подчинять рассказ своему умыслу (впрочем, умысел напрасен — Мишка как рентген). — Сумка такая, из тисненой кожи... Она на меня посмотрела... — Я даже улыбнулась при воспоминании, как она посмотрела. — «Но человека человек послал к анчару властным взглядом». Я, конечно, подползла.
— С кем дочь осталась, не спросила? — перебил Мишка неприязненно, пресекая мою увлеченность.
— Я? Про дочь? — удивилась я. — Но это было бы бестактно!
— Ладно, сам спрошу, — буркнул он, обрывая разговор.
На «сам спрошу» я содрогнулась: вот о н о. Вот и грянуло. За полчаса моего виляния и наивных попыток не соврать даже, а только утаить! — мы стали чужими, и я потеряла его.
Мне надоело бояться и оправдываться, и я возмущенно закричала:
— Да что уж такого случилось, в конце концов? Да в тысячах семей к такому ужину в ресторане отнеслись бы нормально и спокойно, а ты разводишь черт знает какую трагедию! Микроскоп ты, а не человек! И дался тебе этот несчастный Славиков, да что у меня с ним, роман?
— Успокойся! — с отвращением крикнул Мишка и сверкнул глазами.
Чисто молния. Я и замолкла.
Он лег спать — а мне куда деться? Не втаскивать же раскладушку. Я посидела немного, да и легла на свое место — рядом с ним. На самый краешек.
Он вздыхал в темноте и ворочался, и мне казалось: он думает о ней, о ней... А меня в его мыслях вообще нет, даже обиды на меня нет, я третья лишняя.
Но я думала об этом безучастно, я устала участвовать, и постепенно мне становилось все равно, что там у них между собой произойдет — лишь бы дали сейчас заснуть...
...Все гремит и грохочет. И вот, будто летит одна пуля — летит так, что я вижу ее траекторию: параболу вершиной к небу, хоть этого и не может быть; и эта неминучая траектория неумолимо ко мне приближается, а я, как это всегда бывает во сне, застываю в оцепенении и не могу сдвинуться с места, и пуля свистящим лучом вонзается мне в плечо — я слышу мясом вкус свинца и с отчаянием думаю: все, убита...
Я встряхиваюсь: опять этот отцовский сон. Когда в детстве я рассказала про этот сон отцу — у него глаза на лоб полезли: это было его поле боя, его рана, и долина, и возвышенность, все так и было, кроме параболы, и мысль, что все, убит, — тоже была, только дело в том, что он никогда этого не рассказывал. Он не рассказывал — а я помнила. Родилась с куском его памяти.
Такое родимое пятнышко...
Я опять заснула, и теперь было уже мое: шлепаю я спросонок босиком из дома на крыльцо, в ситцевых цветастых трусиках, сшитых мамой, сажусь на солнечное пятно на приступочке — от пятна тепло — и вдыхаю в полудреме синий дымчатый воздух утра, еще не понимая, проснулась я или нет... И земля близко к глазам, потому что росточку я еще совсем небольшого.
Глава 3
Наутро я встала по будильнику — к первой паре. Мишка не пожелал проснуться, и я ушла, не встретившись, когда так важно было встретиться, начать день друг с друга — и авось что-нибудь изменилось бы...
На остановке скрип мерзлого снега, пар от дыханий, все тревожится и спешит, и люди срываются на жалкий бег. Как я не люблю первую пару! То ли дело ехать ко второй: все давно на работе, улицы отдыхают и праздно наполняются первым солнцем. Идти в эту пору одна радость: скрип, скрип... Подъедет к остановке троллейбус, безмятежный, как отпускник, и водитель благодушно будет поджидать опоздавших. Но сегодня это будет без меня: сегодня мне к первой паре.
Вот ведь удивительно: вчера вечером жизнь моя непоправимо разрушилась, а я, однако ж, с тупым упорством ваньки-встаньки спешу на занятия. Я еду учить своих студентов математике!
Они будут смотреть на меня умными глазками и думать: математика — вот занятие, достойное вечности. Еще бы, ведь человек — хаос, и все системы, которые он вырабатывает из себя, хаотичны, и нет среди них совершенной. Ни музыка, ни живопись, ни даже математика. Но математика все же стройнее и чище остального. Она отвращается от нашего внутреннего хаоса во вне, в абсолютное.
Да, мои студенты — математики, избранники вечности. Бедные! И не подозревают, что спрятаться им от хаоса все равно не удастся. Жить все равно придется, и растеряются перед самым простым: ты да я. Так же, как все. И удивятся своему бессилию, повелители мысли. Я ведь тоже раньше думала, что у меня «все будет по-другому», не как у всех остальных беспомощных людей.
Я вдруг замечаю: за окном аудитории застывший в воздухе снегопад медленно поворачивается вокруг невидимой оси, как вселенная звезд. Что делается, значит, я уже в аудитории. Забыла, как и когда вошла. Веду занятие. Но как же мне его вести, я не могу. Мне н а д о подойти к окну и стоять там, стоять, глядя на завораживающее это кружение.
— Потребуем, — ровно говорю я, — чтобы в окрестности этой кривой решалась задача Коши́.
(Мишка сделал мне пластмассовый цанговый наконечник-мундштук для мела, чтобы я не пачкала пальцы...)
Мел стучит по доске. Я вызываю к доске Козлова, уповая на его медлительность. Я хочу постоять у окна.
Мальчики и девочки примерно сидят в аудитории для практических занятий и решают математическую задачу.
Когда я была как они, я рвалась кончить школу, и — в город, в другую жизнь, оставить эту родину, эти бедные перелески. И лишь смутно догадывалась, что буду по ним горевать, и самое грустное — некому будет сказать про них. Действительно, как про них расскажешь? Так, разве что, вздохнешь: мол, у нас там красивые места (а какие уж они красивые, — просто: родные и все). И кто-нибудь чужой, кто достанется мне, кивнет с пониманием: мол, а как же — деревня, природа...
Я же тогда и представить не могла, что достанется мне — мыслимое ли дело? — враг мой Мишка Дорохов, бросивший нашу школу в девятом классе и исчезнувший из села вслед за своей безродной матерью — эх, Мишка, Мишка! Нам ли вступать в эту борьбу самолюбий и обид — двум сиротам одной родины?
Хоть он и не родился там, а был приезжий. Он проучился со мной только восьмой и немножко девятый класс. Он был темным ребусом, не поддающимся разгадке. Теперь-то я знаю, почему они с матерью появились у нас в селе и почему потом исчезли. Мать была в юности, в войну, в концлагере. Мишка говорил, лучше ей было не оставаться живой. Он говорил, у древних китайцев было четыре оценки существования: жизнь полная, жизнь ущербная, смерть и жизнь под гнетом. Выходило, жить под гнетом хуже смерти. «А они там выбирали жить...»
Она была горожанка, но, когда освободили, в городе не смогла: боялась давки и скопления людей. И переезжала из деревни в деревню — ни кола, ни двора. Не хотела ни к чему привязываться.
Не знаю, как смог у нее родиться Мишка — ведь душа ее омертвела. Как бы то ни было — родился. Но он не был одним из нас. Непостижимое существо, и я сейчас не могу проникнуть в этот ноумен и лишь кое-как состряпала себе доступный моему пониманию образ и успокоилась, как успокаивается малый ребенок, которому объяснили, откуда он взялся. Дескать, плыло по речке бревно, а на бревне сидел он, малыш. Родители увидели с берега, папа бросился в воду и достал малыша — вот откуда он и взялся.
Я теперь пытаюсь вспомнить, почему я не полюбила его сразу, тогда еще? В кого-то ведь я влюблялась — сейчас и забыла, в кого. В каких-то смазливых мальчиков, почему же не в него — ведь он был е д и н с т в е н н ы й, неужели я не видела?
Я напрягаюсь, счищаю с памяти археологический слой позднейших наносов, я хочу вспомнить его тогдашнего. Вот, вижу: лицо, как будто опухшее — от утомления? от отвращения? от яда. Он был отравлен. Как будто его мучила аллергия ко всей решительно жизни — мешки под глазами, воспаленный взгляд — сколько раз у меня пробегал холодок по коже, когда я натыкалась на этот сквозящий, наполненный энергией ненависти взгляд. Он был очень взрослый, да ни у кого из взрослых я не видела такого лица — он глядел как из бездны — как это по-латыни: де профундис... Его боялись. Вилась, как мошкариный рой, свита рабов, надеясь вблизи него утаиться от обстрела его насмешек. Но зря — он и их доставал и язвил — и как только не сварился в своей ненависти? — кипел в ней.
И как бы я могла полюбить его? — да ведь мне пуще всех не было от него пощады.
Нет, мы не свою жизнь живем, мы родительскую доживаем, пуповина не отсыхает. Это при рождении Мишке досталась надорванная душа матери, и до сих пор он заращивает и не может зарастить. Кажется, я начинаю понимать, что он имел в виду, когда говорил: «Я удочерил Наташку с радостью — все равно мне не отважиться на собственного ребенка, мне было бы страшно за него...» И правильно, он страшный человек, де профундис, и хорошо, что мы, наконец, расстанемся, хватит! Я уже сыта этим житьем, этим страхом и постоянной подотчетностью! Шагу не ступишь без того, чтобы он не разглядывал этот шаг под микроскопом: а не примешалось ли тут какой подлинки?
А если рассмотреть его жизнь? И сложить все его поступки в один портрет? Ведь он и сам рассказывал о себе с некоторым содроганием...
Когда его мать (царство ей небесное!) снялась из нашего села в следующее, он бросил девятый класс и поехал в город в ПТУ. Вот как он развлекался в те времена. Придет в горсад, сядет на скамейку, лениво откинувшись, и охотится на «вешалок». Так он их обозначил — тех, что служили своим тряпкам преданными вешалками. У них еще у всех одинаково брезгливые мордочки: мол, боже мой, ну что за серость кругом! Итак, сидит он, в твидовом поношенном пиджаке, и скучно глядит по сторонам. Он дает «вешалке» пройти мимо, потом вскакивает, догоняет, останавливается перед ней и с деловитым восхищением разглядывает, как художник свою модель, и одержимо бормочет: «Какая удача, боже... здесь, в этой дыре!..» И как бы опомнившись на миг, бросает моляще: «Извините, ради бога, я с Мосфильма!» и снова впадает в неудержимый раж художника, отступает на шаг, придерживая ее на расстоянии вытянутых рук, и бормочет свое: «Надо же... здесь!..»
Красавица цепенела.
Наглядевшись и как будто привыкнув к своей удаче, «мосфильмовец» успокаивался и объяснял, что он помреж, заехал сюда к матери на недельку передохнуть от своей сумасшедшей работы и вдруг встречает здесь такой экземпляр, в поисках которого он с ног сбился в Москве. Откашлявшись, он извиняется за свой костюм, небрежным кивком забрасывает назад свою прямоволосую гриву и приступает к делу: «Возраст? Где учитесь, служите? (не «работаете», ни в коем случае, а именно «служите» — это действовало). Придется взять отпуск, а лучше сразу уволиться: я уверен, у вас т а м все пойдет хорошо. ...Видимо, мне придется поговорить с вашими родителями: родители, как правило, возражают... знаете, гм, такие сплетни всегда вокруг кино...»
Ну, девице гром с ясного неба. Он бегло рассказывает ей «сценарий» и «ее роль». Облокотившись о парапет набережной, он со столичной усталостью завидует этой тишине, этой благословенной провинциальной неторопливости, сетует на неудачный свой скоро распавшийся брак («актрисочка оказалась бездарна и срывала на мне свои истерические комплексы») — и вот уж раскалившаяся будущая звезда с робкой жалостью (и куда девалось презрение ко всему миру?) дотрагивается до его усталого плеча.
Он нервно вздрагивает, как бы беря себя в руки, и строго прощается, решительно предупредив, что послезавтра уже с билетами ждет ее на вокзале, уволившуюся, с вещами и прочее.
На вокзал он потом уж и не ездил. А поначалу, когда еще только отрабатывал этот спектакль, ездил, проверял. Особенно нравилось ему свести к одному столбу на вокзале сразу двух актрис. Он приходил заранее, садился в будке у знакомого сапожника и удобно наблюдал оттуда, как они по одной появлялись у назначенного места и милостиво поглядывали на бесконечно чуждую им толпу, от которой они будут скоро так далеки, что можно даже ради вечного расставания простить им эти узлы, эти их грубые чемоданы и ошалелые лица. И только друг на друга они поглядывали с ревнивой неприязнью и отворачивались в разные стороны, угадывая врага.
Мишка следил, как эти снисходительные личики становились беспокойными, потом растерянными, потом поезд уходил... И как они подбирали свои чемоданчики и притворялись приехавшими.
Знакомый сапожник неодобрительно ворчал: «С работы девок срываешь. Производство страдает...» — «Ничего, — посмеивался Мишка, — ради науки».
Ему хотелось их всех наказать — за глупость, за спесь, за то, наконец, что так нестерпимо зависел от них — до бешенства, невольное человеческое существо, душимое животными соками.
Он являлся по субботам на танцы в своем ПТУ глумливо глядеть на своих соучениц, этих серьезных девочек, не понимающих, какая сила тянет их сюда по вечерам в тесноте и темноте в обнимку с парнем под темную музыку переступать с ноги на ногу. «Видимо, любовь к танцам, а?» — подсказывал он своей свите, и свита угодливо ржала.
В перерывах музыки девочки делали непричастные к танцам лица и важно решали кучкой какие-нибудь общественные и учебные вопросы. Мишка выбирал жертву, танцевал с ней один, другой и третий танец — глядишь, она уже начинала трепетать в видах на «дружбу». Ведь все кругом «дружили». Один только Мишка ни разу не пал до этой презренной «легальной формы добрачных отношений», как он говорил: у него для этого была «слишком сильная физиология и слишком честный ум». И вот — он танцует, девушка трепещет: сейчас он «предложит ей дружбу». Наконец Мишка, держа в танце ее руку на своей по-старинному приподнятой ладони, разглядывал ее пальцы и произносил: «Люда, ты мне нравишься!» Восхищенная девочка признательно сжимает его руку и только успевает сказать: «Ты мне тоже», как он поясняет свои слова: «Мне нравится, когда девушка делает маникюр (или не делает — в зависимости от того, что он видел на ее ногтях)».
Девочки были, в общем-то, хорошие, ни одна из них даже не бросила его после этих слов посреди зала, кротко дотанцовывая с поругателем до конца музыки. Со следующего танца он начинал свой опыт с другой. Что его особенно удивляло: ни одна из них не была готова к его коварству — это значило, что униженные не предостерегали своих подруг, не спасали их — вот чего он не мог простить этим «товарищеским» девушкам. И этим оправдывал свою бесчеловечность.
А между тем ему было семнадцать лет, и по ночам его будили сны... Кто-то его надоумил: «Надо наняться в театр работником сцены: там эти ненасытные акулы-актрисы просто бросаются на свеженьких молоденьких мальчиков. Вот один осветитель рассказывал...»
Мишка тайком пошел устраиваться в театр. Его взяли пожарником. Он, презирая себя и отрекшись от себя, презренного, нарочно вертелся под ногами в отчаянном ожидании, когда хоть какая-нибудь старая «акула», проходя мимо и рассеянно взглянув, вдруг приостановится, усмехнется и подойдет к нему медленной раскачивающейся походкой.
Через две недели он уволился, возненавидев их всех до одной, этих «заезженных кляч», уставших, проходящих мимо него, как мимо стенки.
Потом было совсем плохо: он нашел-таки. И говорил: до конца дней не простит себе, потому что женщина была пьяноватая, немолодая, платье от летнего пота взялось на подоле жестяными складками, барак был под снос, а дверь она забыла запереть — и неожиданно вошел мальчик, сын, он заплакал, ему было лет семь, а когда Мишка вырвался наружу, был закат, и возле барака на скамейке какой-то мужик в майке играл на аккордеоне медленный фокстрот «Цветущий май».
Мишка старался вытравить из памяти тот день и то отвращение, но этот унылый мужик со своим «Цветущим маем» преследовал его потом, как призрак, а он-то и был тоскливее всего.
Правда, к девушкам своим в ПТУ с их общественной активностью Мишка после этого стал относиться как-то примиреннее. И даже готов был простить им наивную любовь к танцам. Вообще с этого момента он как бы поутих, обнаружив, что дело обстоит совсем не так: «все кругом плохо, а он сам хороший».
Увы, дело обстояло совсем не так.
— У него ошибка! — говорит цепкий маленький Чебада.
— Где? — я с ученическим страхом гляжу на доску: шляпа, проспала!
Чебада выходит к доске и выводит решение на дорогу. Козлов спокойно отступает: тут нет самолюбия, важна лишь истина.
Хорошие ребята, у них умные глаза. Я оглядываюсь на аудиторию — у них умные глаза, но — тихие. Правильно, зачем в математике ярость?
А я ярости хочу, я вглядываюсь в лица, мне нестерпимо захотелось, чтоб было хоть одно среди них, похожее на то, воспаленное, насмешливое, взятое ранней усталостью, — но нет среди них такого, нет моего Мишки.
Мне так обидно становится, что я пропустила несколько лет его жизни, как будто долгожданный фильм показали без меня и больше никогда не повторят. А я хотела бы присвоить всю его жизнь, ревниво присутствовать при каждом его шаге, потому что я люблю каждый его шаг — да, каждый, и все то, что я сейчас вспоминала в помощь своему отвращению, — и то все я люблю, и мне хоть впору приговаривай, как мать над своим плачущим ребенком: «Мое, мое, никому не отдам, никому...»
И каково же придется мне отдавать его теперешнего, моего, если я до сих пор неутешна о тех годах, что он прожил без меня!
Тут весь ужас этой угрозы открывается передо мной: уйдет Мишка! Я внутренне закатываюсь в какой-то душевной судороге отчаяния, мне хочется закричать, побежать куда-то, что-то делать!..
Я сжимаю ладонями лицо, бросаю студентам: «Я сию минуту» и — вон из аудитории. Сейчас я позвоню Мишке, я ему скажу: «Не ходи туда, ты забыл, это гибель!» Еще не поздно что-то предотвратить, а потом поздно будет — я-то его прощу, да он не примет моего прощения, я влетаю на кафедру, мелькнуло удивленное лицо Славикова, наверное, я кивнула ему — не помню — я подбежала к телефону.
Мне ответили в мастерской, что он уже ушел — по вызовам. И действительно, в первой половине дня у него «обслуживание по вызовам». Мне ответили равнодушно — ведь он им всем там чужой и непонятный, у него никого нет, кроме меня, а я — по ресторанам...
— Что-нибудь случилось? — выразил беспокойство Лева Славиков.
Я взглянула на него — узнать по глазам, помнит ли он вчерашний наш ресторан, его предложение, мой скандал... Нет, в глазах никакой памяти, одно только наружное беспокойство.
— Да нет, ничего не случилось, — отвечаю я.
И вчера ничего не случилось, забудем все вчерашнее и квиты.
Мы-то, Лева, с тобой забудем, хоть что забудем, да Мишка не забудет...
Я поплелась назад, в аудиторию. Когда Мишка вернулся из армии, он снял угол у одного старичка, дяди Гоши, и дядя Гоша привел его в свою мастерскую и пристроил ремонтировать пишущие машинки. Мишке и до сих пор нравится возня с этой нежной, но в то же время очевидно понятной механикой. На что-нибудь более сложное он не мог тратить силы: экономил для думанья. Все искал общий закон и целесообразный смысл вселенной. Эта работа обдумыванья жизни в нем не прекращалась никогда, поэтому труд ремонтного мастера ему как раз подходил. Во всяком случае, у него снялась проблема заработка, профессии и жилья, и он смог приняться за свое образование. Образованием он считал усвоение накопленной человечеством культуры, а культурой считал ответы на главные вопросы жизни. Он и по сей день продолжает свое образование — все там же, где и начал: в читальном зале публичной библиотеки.
Заставь сейчас моих студентов читать те книги, на которых он образовывался, они удивятся: зачем?
А лет семь назад к нему в мастерскую пришла починять свою машинку журналистка Ирина. Она была старше его, у нее был университетский диплом, изысканная профессия и маленькая дочка. Все это не помешало им пожениться, но зато стало мешать потом.
Она работала в отделе писем. Придет письмо: «Дорогая редакция, у нас на квартире жил отпускник из вашего города. Мы дали ему взаймы большую сумму денег, а он теперь не присылает. Адрес, который он нам оставил, оказался несуществующим. Помогите разыскать и пристыдите!»
Мишка усмехался: «Напиши старичкам, пусть не огорчаются, небесная бухгалтерия все учитывает. Им за эту «большую сумму денег» обязательно воздастся: ну, внук выздоровеет от какой-нибудь болезни; дочь, может, за хорошего человека замуж выйдет».
А Ирина злилась за такие дурацкие советы. «Каждое мое письмо — это официальный документ! Я за него местом отвечаю!» А Мишка презрительно отвечал, что именно так: они служат не делу, а месту. А Ирина: мол, я и так делаю больше, чем должна, и даже больше, чем могу. А Мишка: ну-ну, ты сейчас еще и подвижницу корчить из себя начнешь, а на самом деле тебе в твоей профессии просто нравится шороху наводить: этакая эффектная эманцыпэ, и никакой правде ты не служишь, а только своим тщеславным щекоткам. А Ирина, позеленев: это ты из зависти, ты плебей, ничтожество, ремонтер машинок!..
Мишка, не ходи к ней!..
Студенты мои, пока я бегала, всё уже решили.
Конечно, у них свежие мозги, я завидую им. Сейчас они с лету схватывают то, над чем через десять лет будут сидеть по полдня. А перед жизнью все равно будут беспомощны. И я ничем не могу помочь им. Я себе-то не могу помочь.
— Итак, — бодро говорю я, — у нас в запасе еще два определителя. Надо ли их считать? — Голос уверенный, наполненный — кто бы мог подумать! — Нет? А почему нет, потому что неохота? — Это я еще и шучу... — Да, правильно: другие определители ничего не добавят. Однако это надо доказать. Сделайте это дома. Очень хотелось бы, чтобы вы представили какие-то свои соображения.
«Ах, ребята, знали бы вы, что муж мой сейчас, мой милый муж, наверное, пошел в гостиницу, к своей бывшей жене. ...А я тут спокойна, и вы думаете, глядя на меня, что, кроме математики, нет на свете ничего, достойного внимания. А жена у него, ребята, красавица...»
Звонок, зашумели коридоры, и мне почему-то захотелось, чтобы кто-нибудь из студентов, проникшись чуткостью, подошел ко мне, как показывают в кино, и задушевно спросил: «Лилия Борисовна, у вас что-то случилось?» Или нет: «Лилия Борисовна, я могу вам чем-нибудь помочь?» А я подняла бы на него благодарные, полные слез глаза — как в кино, через силу улыбнулась бы и сказала: «Нет, спасибо, все в порядке!»
Ха-ха-ха! — подумала я.
Мои молодые математики воспитанно, с достоинством покидали аудиторию.
Мне приходит вдруг в голову: все бросить и бежать в гостиницу. И постучать в номер к ней. И если он еще не пришел, сесть в холле и караулить. А занятия — что ж, у студентов есть неписаный закон: ждать пятнадцать минут и расходиться. На кафедру они не пойдут.
Но нашему милому шефу, завкафедрой, все равно рано или поздно станет известно: Лилия Борисовна пропустила занятия без достаточной причины. И примется вызывать к себе Шуру, Славикова — всех подряд, и огорченно будет предостерегать их на моем примере. Правда, Шура уже однажды обрубила его на этом деликатном методе. «Говорите, пожалуйста, со мной только о моих ошибках!» — сказала она. А Левка так не посмеет, Левка универсально удобный человек.
Я сама, впрочем, тоже... Я только и могу, что, скрепившись, ждать, когда же этот милый человек — шеф — уйдет на пенсию.
Когда я вошла на кафедру, как раз об этом и рассуждали: кого поставят на место шефа — из своих или объявят конкурс на замещение? Славиков в беседе не участвовал, он сидел, углубившись в тетрадь, демонстрировал безразличие, но уши разоблачающе рдели. Хочет Лева заведовать. А как же Заполярье? — вспоминаю я и невольно усмехаюсь. — Как же квартира, которую дает ему Ректор, как же наше с ним счастье?
Шура ходит со списочком и собирает с народа деньги на банкет и на подарок шефу к юбилею.
— Ты чего смеешься? — спросила она.
— Да вспомнила, как один человек хотел на мне жениться, а потом ему предложили хорошее место, и он от меня отрекся.
— Не может быть! — расстроилась Шура.
За что Шуру люблю — так это за серьезность. Особенно когда дело касается спасти кого-нибудь от чего-нибудь — хоть от прошлогодней обиды. Она может успокоиться, только когда убедится, что и волки сыты, и овцы целы. Сыты, — говорю ей, — сыты. И целы, — говорю ей, — целы.
— Ну ладно... Слушай, ведь ты на банкет не пойдешь? (Киваю). Не пойдешь. Значит, деньги брать не буду.
Шура собирает по пятерке с носа. Эти пятерки и десятки так и торчат из ее кулака.
— Ну вот еще! Разумеется, я сдам! — Я лезу в сумочку за кошельком и вспоминаю: — Да, я же тебе весь вечер собиралась сказать: ведь он тебе не нравится, Ректор!
Шура затравленно смотрит, моргает.
Ах ты, черт, вечно я встряну — и не к месту.
Шура вздохнула шепотом:
— Ну, ладно... Все равно... Что ж теперь. — Встряхнулась: — Ну, так давай деньги-то, если дашь! А то смотри — чего сорить, если не пойдешь. А то пойдем, а? Отпросись, может, пустит Миша? Или его с собой пригласи!
Утопичность последнего варианта она и сама понимает, а все же сказала!
— Он не пойдет!
Славиков поднял глаза от своего конспекта (уши схлынули: разговор о вакансии завкафедрой кончился).
— Да, Лилия Борисовна! — вспоминает он. — Я что-то принес показать.
И тащит американский журнал, развернутый на свирепом портрете Высоцкого. При портрете статья.
Уж Славикову-то Высоцкий всегда был «до Феньки», но о покойном заговорили — и Славиков уже тут.
— Голова трещит! — попутно жалуется он.
Вышел из своего кабинета шеф.
Славиков нетерпеливо вытянул журнал из моих рук и понесся показать его шефу.
Мы с Шурой переглянулись и вышли в коридор. Тихо идем и молчим.
И обе все понимаем.
— А шефа, — говорю, — деликатнейшего нашего шефа есть основания подозревать в давних доносах.
— Не может быть! — внушительно продиктовала мне Шура. Ей хотелось уберечься от лишнего огорчения.
— Он проговорился сам. Я как-то ляпнула своим студентам, что, может быть, наиболее думающие из них со временем разочаруются в возможностях науки, как Блез Паскаль. А вездесущему шефу стало известно; он меня вызвал и в назидание и в предостережение рассказал, как у него на кафедре б ы л молодой ассистент, который заявил студентам, что математика — наука чистая, имеющая своей целью одну только истину, чего не скажешь про многие другие науки. Времена тогда, сказал шеф, были совсем не те, что сейчас, но все-таки, мол, Лилия Борисовна, я вас умоляю, контролируйте свои высказывания, ведь вы отвечаете за молодое поколение!
— А почему ты думаешь, что он... на этого ассистента... — с испугом спросила Шура.
— Из тона следовало.
— И ты не спросила?
— Как, впрямую, что ли?
— Ну а как же еще? Ты ведь у нас человек прямой!
— Ну хочешь, — печально сказала я, — специально пойду на банкет, и, когда начнут говорить тосты и восклицать о его заслугах в деле воспитания молодых, я встану и скажу: так, мол, и так: предлагаю выпить за того парня. Ну, на спор, что ли?
— Конечно, ты можешь, я знаю... — в голосе Шуры чуть не слезы обиды. — Но уж лучше давай я отдам тебе назад твою пятерку!
— Ну вот, — бормочу я. — И ты, Брут...
И стоим у окна, расстроенные, молчим, не знаем, как помириться. Рядом остановились две студентки, разложили на подоконнике тетрадь. Одна, листая, говорит другой:
«Нет, ты только посмотри, что выделывает эта функция!» — с каким-то даже восхищением, будто эта функция там кренделя выплясывала.
И обе склонили головы над тетрадкой.
Мы с Шурой переглянулись.
— Вот дуры! — шепнула Шура, преподаватель математики.
— А Мишка-то сегодня, — сказала я, качая головой, — пошел, наверное, в гости к ней...
— Да ну-у! — протянула Шура и испуганно выпучила глаза.
Глава 4
И вот я пришла домой. Пусто в доме. Мишки в это время и не должно быть, но мне чудится особенная пустота, сиротская.
Я прислушалась, воздух попробовала нюхом — не учую ли измену. И, конечно же, учуяла ее во всем: в пасмурной тишине, и в пыли на подоконнике, и в стоящей в раковине немытой молочной бутылке, наполненной белесой водой.
Я крадусь по дому и вчуиваюсь. Во что оделся, обулся, уходя? — заглянула в шкаф — нет, ушел в чем обычно. Сколько денег взял? — выдвинула ящик — да разве определишь, сколько взял, если не знаешь, сколько было. Раззява, утром надо было посчитать, уходя! Знать бы, где упасть, соломки б подстелил. И все же я пересчитываю: тридцать семь рублей с копейками. Может, взял, а может, и нет. На ресторан...
Ну и что, если на ресторан, — урезониваю себя, — что такого особенного? Ведь и я вчера была в ресторане. ...Да в том-то и дело, что есть особенное, есть, и Мишка, когда я вчера вернулась, тоже прекрасно понимал, что е с т ь. А я бы на его месте? Да и мне бы на его месте стало нестерпимо: приходит твоя кровная жена из ресторана и с простодушием ПТУ-шных девочек в пору их любви к танцам наивно недоумевает: «А что? Были в гостях... Спустились в ресторан поужинать...»
Я вспоминаю свой вчерашний лепет и плююсь, и чертыхаюсь, и морщусь от отвращения.
А он, пожалуй, еще и довообразил себе... он ведь сумасшедший.
Я упала на диван.
Вытереть бы пыль с подоконника, вымыть молочную бутылку...
Не могу.
Тут у двери робко тенькнул звонок.
Я вскочила и жадно прислушалась — звонок был незнакомый, чужой — чего мне ждать от него? О н а пришла? Нет, она бы позвонила властно, требовательно — царица. Почтальонка с прощальной телеграммой от Мишки? Что за глупое предположение, Мишка не трус, он придет сам и скажет в глаза...
Звонок не повторялся, и я поспешила к двери, а то еще уйдут, а я и так изнемогаю тут от неизвестности!
За дверью стоял отец...
Это было уж совсем неожиданно.
Я сперва растерялась, а потом спохватилась и изобразила радость. Правда, не уверена, что мне это удалось.
В руке у отца была кирзовая хозяйственная сумка. Посеревшая, древняя сумка, я узнала ее до последней черточки — она жила у нас с незапамятных времен: за хлебом с ней ходили.
Вид у отца был виноватый, но он тоже, как полагается приехавшему гостю, крякнул и затоптался в знак воодушевления.
Мы неуверенно постояли друг против друга — никто не решался первый, но и пренебречь никто не осмелился, — все-таки обнялись, скомканно, и я спрятала лицо у него за плечом, подальше от поцелуя. Мне чуть не наклоняться пришлось — такой он стал маленький.
Он поставил на пол свою кирзовую сумку, снял полушубок, оглянулся на вешалку, но решил, видимо, не срамить достойную одежду своим полушубком — свернул и укромно положил его на пол, в уголок.
— Ну что ты, вот еще! — пристыдила я, подняла полушубок с пола, повесила.
— Та, ладно... — Он махнул рукой, отвернулся в каком-то мучительном приступе застенчивости, не зная, куда деваться.
Мне тоже было неуютно. Он явился живым укором. Я уже года два не ездила к родителям — с тех пор, как у меня Мишка.
Я никогда не любила дом. Мне жаль было тратить любовь на родных. Ведь любовь, в конечном счете, — это собственная плоть, которую отрываешь от себя и даешь на съедение другому. Любовь — энергия, а энергия, по известной формуле физики, взаимопревращаема в массу. Я экономила — видимо, у меня было очень мало любви. Мне казалось, и все такие же, как я, только притворяются любящими детьми, братьями и сестрами.
Теперь-то я понимаю: я что-то вроде калеки. К счастью, не все такие, холодные и скупые, иначе мир бы давно заморозило. Есть Шура, Витька есть — мой брат...
Не пропадем.
Ну, а у меня любви па родных не хватало, особенно с тех пор, как появился Мишка и занял все свободные валентности моей скудной энергии. Я перестала совсем ездить к родителям. Вроде бы как некогда стало. А в последние годы в доме лежала умирающая, парализованная бабка Феня — и дух был тяжелый.
Мать иногда приезжала ко мне на недельку — отдохнуть от каторги и даже в одежде своей привозила этот устоявшийся, прокисший запах дома. Изводила меня жалобами и злостью: на никудышного отца, на Витьку, который навязал ей эту бабку Феню, на золовок, несчастных отцовых сестер, что ходили к ней побираться.
А отец не приезжал ни разу.
Он прошел, потирая руки с холода, прямо в валенках: привык в деревне к чистому снегу. На полу отпечатались шерстистые следы черной городской копоти. Я схватила тряпку и поскорее вытирать, пока сырые. Он всполошился, тут же, где стоял, снял свои пимы и на цыпочках понес их в прихожую, чтобы уже не наследить.
Я притворно поморщилась.
— Да ладно, пап, ладно.
Он кашлянул, указал на свою кирзовую сумку — нерешительно, как бы стесняясь того, что там:
— Я там... привез вам... Вытащи.
Я заглянула в сумку и все поняла.
Не мать собирала его в дорогу. Закрался, видно, сам в кладовку, отрубил кусок рулета, взял две закрученные спиралью колбасы — все это наспех, воровски; не завернув, упрятал в сумку, пока мать не видит. И кусок сала. Тоже не завернутый. Тайком, значит, уезжал, убегом.
Я молча вынула, упаковала в полиэтиленовые мешки, обстоятельно упихала в морозилку, давая себе время сообразить.
Села, вздохнула, набралась храбрости — подняла глаза:
— Сбежал, да? — И быстро, получив ответ в его жалком взгляде, отвернулась, чтобы скрыть досаду. Сочувствие на лице мне все равно не удастся установить, так что лучше всего отвернуться. Я с детства знала, что в артистки мне бесполезно даже мечтать.
Разумеется, я приючу отца, какой разговор!
...У нас с Мишкой однокомнатная квартира. Это ведь тоже надо учитывать, всего лишь однокомнатная.
Итак, отец ушел от матери. Развод, так сказать. Этого давно можно было ждать. И я теперь, как дочь, обязана не только дать кров своему отцу, но и вмешиваться в эту возню: что-то там выяснять, звонить, писать, может, даже ездить, мирить их... Вот забота! А кто помирит меня с Мишкой? Кто мои узлы будет распутывать?
Я ни о чем не стала расспрашивать — могла и сама представить, до подробностей. Насмотрелась в свое время, наслушалась — что там могло быть нового?
— Мама думает, наверное, что ты к сестрам ушел?
Отец пожимает плечами: не знает, что она думает.
— Ушел... Толком и сам не думал, куда идти. ...Вот, приехал. — Виновато мнется.
Я опять грешным делом вспоминаю, что здесь же, в нашем городе, живет, кроме меня, наш старший, Анатолий. У него все же трехкомнатная квартира... Есть где разместиться. Не то, что у нас тут.
И мне, конечно, стало стыдно за эту мысль, я даже старалась ее перед собой загладить: потчевала отца обедом, пододвигала тарелку поближе, старалась улыбнуться, наливала в стакан молоко.
Он, отхлебнув этого городского молока, скривился и сказал, что уж лучше чаю — и я кипятила в кружке кипятильником — чтоб скорей — и гордилась собой: вот, и мне удается доброта, и я услуживаю отцу, не скупясь на заботу.
Пора уж было Мишке прийти.
Его рабочий день давно кончился.
Я села за швейную машину и принялась шить простыни — давно уж лежал кусок полотна, неразрезанный — все мешали более нужные или более приятные дела. Теперь нет ни нужных, ни приятных дел, в самый раз шить: и переговариваться можно, и в глаза не приходится смотреть.
О чем-то мы даже беседовали — про новости деревенские: кто умер, кто женился — только я убей никого не помнила, одни имена. Думала я в это время о другом: интересно, номер одиночный или на двоих? Хорошо бы на двоих и чтобы соседка оказалась дома. Ах, где там, станет эта журналисточка — теперь уж и вовсе: столичная! — селиться не в отдельном номере! ...Ну хорошо, пусть бы тогда так: он пришел — а ее нет дома, шастает по старым знакомым — все-таки полный город знакомых, вся богема, давно ли перебралась в Москву, еще все старые дружбы действительны.
...Да что там успокаивать себя! Пришел — и она дома. И он помнит, что вчера в ресторане этой самой гостиницы я ужинала и, может, даже танцевала (он думает, танцевала) со Славиковым.
— А из сестер кто-нибудь знает, где ты? — спрашиваю я посреди отчаянных мыслей.
Вздох:
— Нет. Да чё... Узнают.
— Как же они теперь без тебя? — колко усмехаюсь я. — Пропадут.
Он вздохнул и не ответил. На больное место наступила.
У него теперь куда ни наступи — все больное место. Кругом виноват. Всю жизнь виноват. Я перебираю его «послужной список»: побирушки-сестры — раз. Парализованная бабка Феня в доме (это ведь его мать) — два. И сам: неудачник, пьяница и бабник. Я мельком взглянула: примерить к нему это прежнее — бабник. Увы, оно уже совсем не годилось: отец сильно постарел.
А попробуй тут не стать бабником на его месте! Из одной жалости станешь. Частушку тогда пели: «Девочки, война прошла, девочки, победа. Девочки, кого любить, осталося два деда!» А он-то еще в середине войны вернулся, по ранению. Гармонист, Борька...
А пятеро его сестер овдовели. Чуть что — к нему: сенокос, поправить что в хозяйстве, построить. И Борька из вины не вылезал: бабник, пьет, врет, на гармошке играет — а тут еще эти его бедные (и быстро нажившие вкус к бедности) сестры то и дело к матери:
— Нюр, ты мне сала, хоть прошлогоднего какого, кусок заверни, уж свое все вышло.
— Вот терпеть не могу, чтоб меня Нюрой звали! — скажет в сердцах мать и идет в кладовку за куском сала — прямо от себя его отрывает, а того и жди, следующая золовка подоспеет за другим куском, а то и курочку им, гусочку к Новому году, и всякий раз, упрятывая подачку в сумку, каждая тяжко вздохнет и напомнит: «Ох и счастливая ты, Нюра, с мужиком осталась. Мужик в доме, хоть какой ни на есть — это и достаток, и хозяйство, и все что хошь». Мать промолчит, сжав губы, а потом, проводив гостью, швырнет оберемок дров к печке, не наклоняясь, и, снимая фуфайку, злится: «Курочку ей! Гусочку! А мои ребятишки и сами могли бы эту курочку слопать, без ихней помощи!»
У золовок уж девки повырастали — все в матерей, слезливые да никудышные. «Нюр, у тебя если от Лили что, одежонка какая, останется, — так ты не рви на половички: моей Наташке теперь уж впору будет: так дошла, так дошла!..» Мать оскалится, засмеется: «Да твоей Наташке еще доходить да доходить надо, чтобы в Лилино платье влезть!»
Я встала из-за швейной машинки, отвернула от себя часы — чтоб не лезли в глаза. Все сроки уже прошли.
— Ты сразу ко мне, к Анатолию еще не заезжал? — спросила я как можно невиннее и тут же покраснела.
— Нет, не заезжал. Успею еще.
Сделал вид, что не заметил моего двойного умысла. Ему сейчас не до обид: уйти некуда.
К Анатолию он не хочет, я знаю.
Тут послышалось наконец: ключ в двери.
Вот и пожалуйста, один этот ключ чего стоит: ведь обычно Мишка звонит, чтобы я вышла встретить.
Я встала: броситься в прихожую, увидеть его насильно, когда он этого не хочет, — застигнуть. Но тут же и струсила много знать. Остановилась в неуверенности, потом снова села и замерла за машинкой, не шелохнусь, а отец поглядывает на меня в замешательстве: не знает, то ли выйти ему в прихожую навстречу хозяину, то ли ждать, когда он сам войдет. А я не выручаю его.
Слышно было, как раздевался, как причесывал волосы; и все что-то медлил, медлил. Совсем как я вчера... Отец уже встал, чтобы быть к его появлению наготове, стоял, переминаясь и одергивая свой пиджак, и в конце концов двинулся к двери — и тут Мишка вошел.
И я у в и д е л а.
Я думаю, отец пришелся ему как нельзя кстати: есть за кого спрятаться.
— Борис Ермолаевич! Вот это сюрприз! Надеюсь, не по несчастью?!
Отец смято помотал головой:
— Нет, не по несчастью... — и глаза аж разбежались в стороны от желания спрятаться, исчезнуть.
Мишка тряс его руку, улыбался:
— А я смотрю — шуба на вешалке, ну кому бы, думаю, быть? Всех Лилиных знакомых перебрал. Шуба и валенки!
Тут же ко мне (но не в глаза, не в глаза, а в переносицу куда-то!):
— А ты почему за машинкой? Стол почему не накрыт? А выпить у нас есть?
— Да мы поели недавно, — отмахивался отец.
Я впилась и не могу оторвать взгляда, молчу и чувствую — краснею, и вот уж надулась кровью, как насытившийся клоп, и тогда только отвела глаза, потому что смотреть на Мишку стало стыдно. Так на улице, встретив калеку, стыдишься смотреть и отводишь глаза.
Отец не ожидал от Мишки такого горячего приема, воспрянул, оживился — разрешили дышать поровну с другими, а он уж отвык. Заскреб затылок, хотел что-нибудь веселое сказать — оправдать подаренное равенство, — да ничего не подворачивалось.
А Мишка, с мороза красный, шмыгал носом, отогреваясь, и приподнято вел беседу.
— Ну, надолго к нам?
На меня не смотрел.
— Да вот... — отец неопределенно развел руками и опять вспомнил себя виноватым.
На нем были стеганые штаны. Мешковатые такие, деревенские.
— Погостите, погостите! — бодро заключил Мишка и деятельно шагнул в кухню — заняться приготовлениями: открыть, может, банку консервов, еще там чего-нибудь — лишь бы укрыться.
А растерянность просвечивала насквозь.
Я еще ниже опустила голову от позора за него.
Мишка вскоре выдохся, возбуждение встречи погасло и больше не давало ему укрытия. Наступило молчание.
Отец, жалея теперь о своей потуге дышать поровну, помрачнел и с вызовом сообщил — как бы в отместку за то, что не оправдал надежд:
— Значит, так: с матерью мы разошлись...
И взглянул на Мишку: как ему эта новость, не испугает ли.
А Мишка настолько успел уйти в себя, что на новость эту машинально кивнул, как если бы ему сказали, что погода стоит холодная. Не услышал попросту — это с ним бывает: западает, как испорченная клавиша.
— Она сказала, что не будет больше тянуть нас всех: и меня, и бабку Феню, и сестер... — продолжал отец.
Меня поразило: он сказал «бабка Феня». Значит, он уже не помнил ее своей матерью, а только бабкой Феней — как все.
Мишка очнулся, вынырнул. Стал слушать.
— ...Что у нее вши с горя завелись, — перечислял отец, делая паузы, чтобы накопить сил. — Что она не управляется и руки опускаются... Топчется, топчется, а работы не уменьшается... Что не хочет больше на меня глядеть... — тут голос дрогнул, и отец, махнув рукой, замолчал.
Молчали. Без аппетита жевали. Каждый о своем, у каждого хватало.
— Это правильно, — рассеянно подтвердил Мишка. — Вши — от горя. По Шопенгауэру — они материализуются из ничего.
— По кому? По Шпагауэру? — заинтересовался отец, чутьем бедного родственника угадав, что хозяевам не в масть его жалобы и что лучше всего подхватить предложенную Мишкой постороннюю тему.
— Был такой философ, Шопенгауэр, — пояснил Мишка.
Мишка, этот человек, который всегда был мастером спорта по заострению ситуаций, а с пиковых моментов, только в них и мог обретаться, как саламандра в огне, — и он теперь голову под крыло и прятаться за Шопенгауэра? Да что же это делается?
Отец старательно поддерживает разговор:
— А, да что философ, это вы у любого мужика деревенского спросите, он вам скажет, что вши берутся из ничего. Вот случай был с одной городской: она на базаре увидела — мужик продает гребешки — ну, вшей вычесывать, густые — и спросила, зачем такие нужны. Мужик ей объяснил, да и посоветовал взять. Она фырк: зачем, дескать, мне — гордо так. А мужик ей вдогонку кричит: «А зря не взяла, завтра пожалеешь!» Ну, назавтра по ней вши-то и поползли.
Мишка молчал.
— Накидал, когда рядом стояла, — пробормотала я.
— Может, и накидал, — смирно согласился отец, и тема погибла. А жаль, удобная была тема, могли бы на ней еще какое-то время продержаться.
Отец потемнел, вздохнул:
— Уйти-то я ушел, а бабка ведь как лежала, так и лежит... Да, неладно получается, — и отложил ложку.
Никто ему на это ничего не сказал, никто не утешил, пришлось ему своими силами приободриться и поменять настроение:
— Но ничего! Я думаю, она ее пристроит: отправит к кому-нибудь. В дом инвалидов или еще куда.
Мишка ел нехотя. Видно, что не голодный. Спустились, наверное, в ресторан — в тот самый, мой вчерашний, с пунцовым нутром. И правильно сделали. Спустились в ресторан и поужинали. Интересно: до или после? Наверное, до. А может, после. Сейчас спрошу в лоб: ты уже ел? — и никуда не денется, придется ответить. Не станет же врать — гордый.
— В дом инвалидов не так просто попасть, — сказал Мишка, рассеянно возя ложкой в супе. — Но... вы погодите. Перемелется... Погостите у нас, а там что-нибудь да изменится...
Он вздохнул, а у меня на этих словах пустота внутри образовалась, как если падать в лифте — «что-нибудь да изменится», — я как-то сразу задохнулась: уйдет...
— Если что, подыщем вам дворницкую должность, а при этой должности, кажется, и квартиру дают.
Мне понадобилось сейчас же немедленно заглянуть ему в глаза — но окликнуть его по имени не повернулся язык — так, наверное, какие-нибудь древние жрецы в нечистые дни избегали называть имя бога. Я кашлянула, но Мишка не поднял глаз, хотя я уверена: понял.
Тут зазвонил телефон. Пришлось мне встать.
Это Ольгу спрашивал ее милый. Я нехотя стукнула условным стуком по батарее и пошла открыть дверь. Наверху затопало, хлопнуло, и шлепанцы задробили по ступенькам лестницы. Я оставила дверь открытой и быстро вернулась на кухню: мне надо было караулить Мишку.
Ольга влетела, бросилась к вожделенной трубке — в пальцах закуренная сигарета, а на щеках уже готовый румянец — это пока бежала на стук, успела вспыхнуть!
Еще эти Ольгины звонки!.. Так некстати, по что делать, мы соседи.
Я разливаю по стаканам чай. Мишка зарылся в себя, как крот, и не появляется наружу. Ольга бодро вопит: «А что я тебе говорила! Слушаться надо старую мудрую женщину!»
Отец поднял брови и слегка опешил, засмотревшись на нее.
И я оглянулась вслед за ним: Ольга въелась в трубку, сигарета дымится на отлете руки. Острижена чуть не наголо, но ей идет — возносится на длинной шее такая аккуратненькая маковка с красивым чутким затылком. И мужская рубашка навыпуск с поднятым воротником — чтобы подчеркивать эту шею с ладной маковкой наверху. А ей лет уж под сорок.
— Хорошо! — кричит она в трубку и смеется. — Договорились!
Опять, наверное, в ресторан обедать договорились. «А ты сама рассуди, Лиля, если бы мы жили вместе и каждый день жрали за кухонным столом нашу общую картошку — черта ли было ему приглашать меня в ресторан, а? Конечно, есть в моей жизни и некоторые минусы: иду домой — и окна мои никогда не светятся... Но все-таки, все-таки: брак — это скучная надежность, без радости. Согласись. А у нас — неумолкаемый праздник, а?»
И гордится своей мудростью. «Нет, бросить семью — ну что ты! Семья есть семья. Пусть она у него будет, и пусть будет наш неумолкаемый праздник!»
Я уставилась в свой чай, я строю горькие планы: вот и у меня теперь будет неумолкаемый праздник. И я буду ходить в ресторан со Славиковым.
Как будто стою у открытого люка самолета — и мне прыгать вниз. И никакой другой возможности у меня впереди нет.
— Хорошо! — радуется Ольга в трубку. — Ну, пока!
И оборачивается, разгоряченная, румяная. И натыкается на унылое молчание у нас за столом.
— Ой, у вас гости! ...Здравствуйте! — кланяется она отцу. И не может сдержаться, сообщает мне: — На выставку Гордина завтра идем в Дом искусств. Слышала про выставку?
Значит, не ресторан, а выставка. Ну что ж, разнообразно красивая жизнь...
— Слышала, — буркнула я и с унынием подумала, куда положить отца спать. А думать тут было нечего: на кухне раскладушка все равно не помещается. Значит, не поговорить сегодня с Мишкой. Может, и к лучшему.
— Садитесь с нами ужинать! — сказал отец и испуганно взглянул на нас, на хозяев.
— Ой, что вы, спасибо, я не ужинаю! — замахала Ольга руками.
Я вяло поднялась проводить ее. Ольга глазами спросила в коридоре: кто это?
— Отец, — удрученно шепнула я.
— Надолго? — встревожилась Ольга.
— Похоже, да.
— Ну, старуха! С «радостью» тебя, — трагически посочувствовала Ольга.
Я покорно вздохнула, опечалив глаза. Ольгино сочувствие было приятно и облегчало мою совесть: значит, я не такое уж чудовищное исключение из рода человеческого и, может, даже лучше других: все-таки я не выгоняю отца из дома.
Я заперла за Ольгой дверь.
Мишка мыл посуду.
Я постелила отцу и попросила его помыть ноги. Он послушался. Чтобы дать ему лечь, я вышла из комнаты. Но на кухню, к Мишке, не отважилась: там было тихо...
Маясь в коридоре, я машинально сняла трубку и набрала самый наезженный номер — Шурин. Не знаю, зачем. Долго не брали трубку, и я уже хотела положить, но раздался, наконец, торопливый ответ — мужской:
— Алло! Алло! ...Уйди, Билл, уйди на место! ...Повторите ваш звонок, вас не слышно!
На «повторите» я окончательно узнала голос Ректора по характерной картавинке и положила трубку. Мне было стыдно, как будто я что-то подсмотрела или подслушала.
«Бедная Шура», — только и подумала я. Поздней ночью я спросила шепотом:
— Ну, был?
— Где? — спросил он.
Ах, как это было на него непохоже. Я промолчала, чтобы пристыдить его за это «где».
— Был, — сказал он. Вздохнул.
У меня тоскливо забилось сердце.
— ...Все нормально, — пробормотал он. — Ты не думай, все нормально.
Голос растерянный.
Научился у Шуры, — с раздражением подумала я. — Та, мироносица, тоже в опасных положениях знай твердит: «Все хорошо, все нормально...»
— «А что ж пустяк? Пустое дело: кобыла ваша околела. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», — презрительно прошептала я.
— Все нормально, — повторил он, как попугай. — Ты не беспокойся. Я тебе потом все расскажу. Не сейчас.
Отец виновато вздохнул на своей раскладушке...
За стеной, в квартире соседнего подъезда, рыдала женщина и сквозь слезы укоряла кого-то. Мужского голоса не было слышно.
Господи! — подумала я вообще.
Глава 5
Проснулась...
Темно, но громыхают трамваи. Значит, утро.
Как жить дальше?
Отец пошевелился — тоже не спит.
А может, ему вернуться, если позовет мать? Да вот то-то и оно, что не позовет. Знаю: едва скрылся — она его с облегчением забыла навсегда, как груз с плеч свалила. Чтоб и воспоминаний не держать, так они тяжелы.
Ну, а позовет — вернется?
Я представила всю их жизнь в одном только взаимном выражении их лиц, которое появляется, когда они вместе, — выражение напряженной выжидающей ненависти, как перед дракой: а ну вдарь! — нет, ты вдарь! — нет, ты! За многие годы они так уронили себя друг перед другом, настолько перешагнули в ссорах все границы, что хорошими им уже не хотелось казаться, а наоборот, каждый превратил другого в яму для своих душевных отбросов.
Тошно. Конечно, он сегодня напьется. Найдет магазин и напьется.
Чужая беда утешает. Думаешь: не со мной. Либо: не со мной одной. Да и пожалеешь бедных.
За стеной, где вчера плакала женщина, зазвонил будильник. Вот ночь-то, наверное, не спала от обиды, а только успела задремать — звонок.
А сколько таких ночей было у мамы! Я помню. Плачет всю ночь, давится в подушку, кричит на отца шепотом (чтобы нас не разбудить) и корит, потом всхлипывает уже без слез, койка вздрагивает — а он ничем не может ее успокоить, потому что действительно виноват — не оправдаешься, и изменить-то ничего не может в своей гиблой жизни и в своем пропащем характере.
За это он ее и возненавидел — за свою неискупимую вину. И научился злобно отвечать на ее упреки, и уж тогда они стали упражняться в несправедливостях, а сперва отец только молчал. Она плачет, мучается — а он молчит — и не утешает ее. Не успеет она нахлюпаться и задремать — а уж рассветает: вставать, корову доить, в стадо прогонять, и остальная круговерть работы — до самой темноты. А мне нет бы встать да подоить за нее корову — я ее мысленно пожалею и дальше сплю, мне спать слаще.
Вот и наверху будильник зазвонил: Ольга. Слышно было, как она встала — и тут же включила музыку. Вот кто молодец, вот кого не пожалеешь. Она делала под эту музыку зарядку минут двадцать, никак не меньше: прыгала и
бегала на месте, ритмично сотрясая потолок (наш стеллаж чуть подрагивал), и громко, с какими-то радостными вскриками дышала. Потом у нее зашумел душ, и от этого здесь внизу загудело в трубах, но вскоре наладилось и перестало.
Потом хлопнула дверь наверху, и Ольга заспешила по лестнице вниз. Тут отец вдруг встал с раскладушки и подкрался к окну. Я сообразила: пошел посмотреть на эту диву, на карлу эту чудну́ю, как она выпорхнет из подъезда. Значит, и он проследил весь ее утренний комплекс.
Мне стало смешно: вот ведь у него горе — а ему любопытно. Я вспомнила, как он вчера смотрел на Ольгу у телефона: видно было, что несоответствие ее возраста и вида причиняло ему какое-то неудобство, какое-то, может, даже страдание и обиду. И вот: поднялся, смотрит. Скосился вниз, как любопытный медведь.
А я тоже хороша: жизнь кувырком, а я развлекаюсь, глядя на него.
Пораженный в самое свое воображение, он отошел от окна и снова влез под одеяло.
...Они с матерью в молодости тоже собирались жить по-новому: красиво и необычно. Да жизнь как-то незаметно их победила и вогнала в колею. Мать стала бабой. Он стал мужиком. А ведь они были передовая молодежь культурной революции, родились в семнадцатом году, кончили семилетку и работали на «чистых» должностях: мать в конторе колхоза, отец — счетоводом на кирпичном заводе.
Активистами были, боролись с темнотой, невежеством и религией.
А потом все эти гармошки-частушки — и копилась, копилась отцова вина, — и до того дошло, что, когда началась война, он чуть не с облегчением, чуть не с радостью ушел: избавился. Думал: может, хоть убьют.
Это он как-то спьяну в обиде проговорился. Мол, я от матери за всю жизнь слова доброго не услыхал.
И прочее.
— Лиля... — тихо позвал он и привстал, скрипнув раскладушкой.
— Что? — вдруг Мишка опередил шепотом — чтобы, значит, не дать меня разбудить. Выходит, тоже не спал.
Веселая жизнь!
— На работу все ушли! — беспокойно прошептал отец.
— Ей к половине одиннадцатого.
Я ревниво вслушиваюсь, к а к он обо мне говорит, как он говорит «ей»? И вот: он хорошо говорит «ей», он как родной говорит «ей»! Что же это, ничего не понимаю...
— А. А чё не спишь?
— Так...
— Красота-то какая: утро, а в избе тепло, не надо вставать топить.
Мишка не ответил.
Отец вздохнул для завершенности диалога, беспокойно повозился, и снова тишина в доме.
Я вспоминаю наш дом, наш домашний дом, где надо вставать топить, нашу семью...
У крыльца лежала (и сейчас, конечно, лежит) врытая в землю булыжная плита. Я ее мыла тряпочкой. Плита за день нагревалась солнцем и хранила тепло до полуночи. Мы прибегали с речки, накупавшись до посинения, и ложились на нее греться. Теперь плиту, наверное, больше не моют. Сначала вырос Анатолий, а потом мы с Витькой.
Мама как-то спросила под хорошее настроение: «Толя, а помнишь, как отец с войны вернулся, еще ледоход на реке был? Отец еще снегиря тебе привез, свистульку такую глиняную, а?» Нет, Анатолий не помнил. Он из всего детства только и помнил, как грелся после речки на булыжной плите, да как лежал в больнице, и мама носила ему драники из картошки, — а он их лопал.
Мама даже обиделась: не помнит...
Анатолий у нас странный. Витька — тот как живое дерево, с ветками и листьями, а Анатолий — как ствол, технически обработанный под столб или мачту, по назначению: ничего лишнего! Он в институте занимался лыжами, и у него хорошо получалось. Говорил: «Нравится мне это дело: бежишь себе, легкие и сердце работают, здоровье копится». И к невесте в гости ходил: «Приду, — говорит, — родители пригласят к ужину — я ем внимательно, чтобы весь калорийный домашний продукт в мышцы усвоился. Это тренер так учил: есть и работать на лыжне надо одинаково пристально, чтобы мышцы работали не машинально, а как бы сознательно — тогда будет больше отдачи».
А мама ревновала его к этой невесте и ее городским родителям с их калорийной пищей. Строжилась: «Смотри!», а Анатолий ее успокаивал: мол, никакого баловства, спортивный режим — прежде всего. Но невеста Маша все равно забеременела, он быстренько женился, переехал к ее родителям и уже каждый день стал хорошо питаться.
Теперь они давно живут отдельно и наращивают свое благосостояние. Маша работает на мясокомбинате...
Мишка один раз с ними встретился и больше не захотел.
Вот и отец не хочет.
Я думаю, он и ко мне не поехал бы, живи Витька не в своей деревне, на соседней с родителями улице. Витька лучше нас обоих. Куда нам до Витьки! А в детстве я на него губу кривила: мужичок-лапотник, простота. Соберутся, бывало, у нас гости — я насилу терплю, особенно когда пристают с разговорами: мол, как учишься и прочее. Покраснею, набычусь и буркну что-нибудь, даже не взглянув. А Витька им был свой человек, у него не спрашивали, как учеба. Постоянно приходил, помню, дядя Коля — ох и занудливый мужик! — начнет что-нибудь рассказывать, так ему край надо вспомнить, кого как звали по имени-отчеству и с какого года рождения. Вспоминает-вспоминает, и дело с места никак не сдвигается — ну, невмоготу слушать, я аж фыркну, а Витька — ничего, смеется, подсказывает. Вот зашел за столом разговор про собак, ну и дядя Коля тут же встрял: «А вот у нас была в Коротаеве леля Васена, все ее так и звали: леля Васена — и я, и Василий Петрович, мой брат девятьсот седьмого года рождения, сейчас в Липецке живет, и Иван Петрович, и Александра Петровна, сестра моя, младше меня... на сколько же она младше? — да, на три года, потому что, когда я вернулся с фронта, она была уже замужем, а меня демобилизовали сразу же, в мае, как только победили, ну так вот: леля Васена, а мужа ее звали Григорий Ефимович, а у них была собака, дворовый пес...»
— Какого года рождения? — перебивает Витька.
— А кто его знает, дворовый, породы у него не было, не то, что сейчас собак разводят — паспорт на них, такая порода, сякая...
— Да нет — Григорий Ефимович какого года рождения? — А, Григорий Ефимович!..
Тут дядя Коля морщит лоб и загибает пальцы, усердно вычисляя. А у народа терпение давно вышло и, пользуясь тем, что Витька отвлек дядю Колю на себя, их бросили и ведут свой застольный разговор дальше — уже не про собак, а про чью-то тещу. Но тут Николай, спохватившись, догоняет упущенное внимание и выкрикивает скороговоркой, что вот этот самый пес лели Васены и Григория Ефимовича имел такую силищу, что всех собак в деревне спокойно давил! Вот так! Засим он опрокидывал свою рюмку, морщился, а Витька заливался тихим душевным смехом.
И какую он находил во всем этом радость? Тогда мне казалось, что он так охотно роднится с родней и дружит с мужиками, потому что сам он есть деревенский лапоть, и судьба его — всю жизнь прожить заодно с ними простейшим органическим существом. Так оно, в общем-то, и случилось, но теперь я не чувствую никакого превосходства над ним. Я теперь завидую: почему я не научилась так просто, так любовно, так мудро жить на свете, как Витька?
За книгами Витьку застать было невозможно, особенно летом: то на покосе с мужиками, то на полевом стане, то в мехмастерских. После школы, как я и предвидела, он никуда не поехал учиться. Мама смертельно на него обиделась: «Мы в люди не вышли, так думала, хоть дети... А они — вон...» — и плачет. Но ничего, после ей даже понравилось: сын-то дома, при ней. А Витька и без диплома теперь главный инженер. Он от рождения был механиком, и учиться ему было незачем. Послушает мотор минутку — и тут же диагноз поставит. Мол, жиклеры надо продуть в карбюраторе. Еще пацаном был — мужики шли к нему, если непонятная неисправность в мотоцикле. Глянет, засмеется: «Да у тебя ж бобина подсоединена неправильно: контакты наоборот». Со всеми мужиками на ты, как товарищ по общему делу.
И к бабке Фене ходил постоянно, еще когда она не слегла и жила одна в своей хате. У нее пахло убожеством, прокисшим чем-то, — я не могла, а Витька приходил, сидел, разговаривал — и не из какого-нибудь там долга, а из собственной надобности попроведать родного человека. Она его заставит тут же что-нибудь сделать в доме: он делает, возится — спокойно, по-мужицки, не торопясь вернуться к своим делам. Впрочем, он и не отличал — свое дело, не свое, ему это было одно и то же, лишь бы срабатывать потихоньку общую гору работы, чтобы она становилась меньше.
Потом бабка Феня стала старая, больная и совсем слегла. Это было в один из моих приездов: Витька заявил, что бабку Феню надо забрать. Вечно виноватый отец испугался, пожал плечами: мол, я что, — как Аня... А мать отвернулась к печке, помолчала, сглатывая, и обиженно сказала: «Что ж... раз надо. Я привыкла».
Поставили в кухне топчан.
Конечно, бабка Феня понимала, какая она обуза, и возненавидела мою мать за свой растущий перед ней долг. И все норовила подкусить. Мать у печки крутится день-деньской, а бабка со своей лежанки глаз несводит: не пропустить бы какого промаха. «Борщ-то не упрел еще, а ты уж его тянешь из печи!» И прочее. Бог такого не стерпел, как потом говорила мать, и бабку парализовало. Она не двигалась, но еще говорила. «Ну кто так шинкует капусту?!» — говорила. Тогда и речь у нее отнялась. И она просто глазами колола. Слух и речь пропали одновременно, она ничего не слышала.
Стало в доме пахнуть несвежим телом лежачего больного человека. Витька истопил баню, взвалил на себя бабку Феню и понес мыть. Мама не пускала, хотела сама — Витька не дал. Мама заплакала со стыда, что молодой парень понес мыть старуху. А Витька мучился, что навязал матери такой тяжелый, ненужный ей подвиг. Но что делать, ведь бабку не бросишь. Он совсем не знал, как быть. Я и подавно — и тихо радовалась, что каникулы кончатся, я уеду, и все это не будет меня касаться... Вот такой уж я человек.
А мать собрала совет родни насчет бабки Фени, позвала всех ее дочерей-«сирот».
Кухня просторная, в переднем углу широкая лавка, перед лавкой — стол. Приходили и плотно садились отцовы сестры. Тетя Лиза у печки, остальные на лавке лузгали семечки.
Витька сказал:
— В комнату надо уйти!
— А чего? — удивилась толстая тетя Катя. — Она ж ничего не слышит!
Витька дернул щекой и отвернулся от всего этого к окну.
— Ну, золовушки? — сказала мать. И посмотрела на них с насмешливой злобой.
Сперва молчали.
— Ну, вот я, к примеру, — сказала тетя Лиза и показала на себя руками, чтобы все ее увидели. — Ну, куда я с ней? — И рассердилась: — Я ее ни повернуть, ничего.
— Наташка будет ворочать, — ненавидяще подсказала мать.
— Ну, ты, Нюра, скажешь: Наташка! Ну куда моей Наташке ворочать! Хочешь, чтобы я последней девки решилась! — и сморщилась, полезла в рукав за платочком.
— Ну да, — гневно дышала мать, — одна я могу ее ворочать, одна я ничего не решусь.
— Что ты, Нюрочка, равняешь, тебе-то что-о, — смиренно вздохнула толстая тетя Катя. — У тебя и мужик в доме, и Витька вон...
— А я и мужика вам отдам! В придачу. Ну, кто? — И обвела всех аж побелевшими глазами.
Отец опустил голову, бессловесный, виноватый, уже с утра выпивший.
— Вот-вот, — торжествовала тетя Настя, — вот-вот: он от тебя за всю жизнь слова доброго не услыхал!
Все дружно обиделись за брата.
— Да и никто не слыхал, не он один, — тихонько, как бы для себя одной, проговорила толстая тетя Катя, вздохнув.
— А ничего, у вас и без доброго слова аппетит не портится, жрали с моего стола за милую душу! — тотчас отозвалась мать.
И все с облегчением забыли про бабку Феню и наперебой принялись поминать друг другу обиды, а Витька, слушая все это, решил: он убьет ее, бабку Феню, но и себя потом тоже.
Это он мне после говорил.
А бабка Феня тупо смотрела на них, как они взмахивали руками в ее сторону и зло распалялись, и я бы на ее месте постаралась как-нибудь сойти с ума, что ли, чтобы всего, этого не знать.
Все охотно переругались и быстренько разошлись, хлопая дверью.
Осталось все, как было. Я с облегчением уехала: кончились у моих студентов каникулы. И Витька, конечно, не убил ни себя, ни бабку; как-то напряжение маминого страдания само по себе ослабло, просто от утомления, — а Витька тут вскоре влюбился в учительницу Ангелину, женился и перешел жить к ней, в казенную школьную квартиру. Нет, он не улизнул, просто так получилось. А к бабке он каждый день забегал...
А вот отец на следующее лето смылся; кое-как покончил с сенокосом и подрядился церковь ремонтировать в соседнем селе. Уехал, зажмурив глаза, оставил одну мать на хозяйство, и на огород, и на бабку, и на все на свете.
С церковью этой тоже история...
Помимо того, что с глаз долой хотелось скрыться, он ведь еще и разбогатеть собрался. Так сказать, в возмещение всех жизненных неудач.
Про церковь ту он уже давно слышал, что-де собираются восстанавливать и открывать для службы. Поехал в городскую церковь, как научили знающие люди, и сказал, что хочет подрядиться на такое дело.
Спросили его, крещеный ли, верующий ли, и выдали авансу пять тысяч, на которые он должен был нанять бригаду и купить материалу и краски. Он про себя ужаснулся такому доверию под честное божеское слово, потому что даже паспорта у него не спросили. Тоже была и мысль: присвоить деньги и скрыться, и попробуй докажи, что он их брал! Но сомнение одолело: попы не дураки, и раз уж полагаются на слово верующего человека, то, значит, что-нибудь т а м такое есть... Не сдержишь слова — найдет э т а сила и воздаст...
А зачем сказал, что верующий, — пожалел он. Впрочем, иначе и не взяли бы.
Он вышел с церковного двора и от душевного смятения даже не мог сообразить, в какую сторону идти. «Положились, значит, на бога, а? — все не мог он успокоиться. — Чуть что, выходит, я перед самим богом отвечаю, а? А его нет! — храбро подумал он и со страхом прислушался к последствиям такого заявления. Последствий никаких не было. — Ну, а тогда чего ж они на него так уж полагаются-то?» — мучился он.
И полдня волновался: пять тысяч. Вот взять их себе — и все. Если неверующий, черт ли с ним за это сделается! Это если бы верующий был, так, может, и навлек бы на себя какое наказание, а раз неверующий... Вот тут и была загвоздка: он не знал, такой ли уж он неверующий. Он и жену вспомнил: в молодости была непримиримой атеисткой, а в последние годы как-то все чаще ссылается на бога. Вот ведь какая штука! — сомневался он.
Пока вопрос с этим оставался открытым, он на всякий случаи и о деле думал. Ну, бригаду соберет на месте из окрестных мужиков. Все работы ему распишет архитектор. Кирпич достанет на своем кирзаводике по старой дружбе, как-никак всю жизнь проработал. А вот пиломатериалы и краска... Ясно, что законно нигде этого не достанешь, особенно на церковь. Придется, значит, помотаться по стройкам.
Потом он вдруг понял, что есть ли тот бог или нету его, а все равно он не сопрет эти пять тысяч. И сразу от этой мысли стало ему хорошо, спокойно, и погода понравилась, и город, и он пошел легкой походкой делать свои дела.
Купола, думал он, сделаем голубые, в звездах.
Сговорился на стройке с ушлыми ребятами, и те на другой день доставили в условное место три фляги краски. Краска оказалась такой: полная фляга песку, и только сверху слой краски — хорошей краски, глубоко-голубой. Обнаружилось это еще в городе: старый дружок, к которому во двор отец свозил все добытое, взял и копнул палочкой в глубину фляги. А там песок.
Конечно, на другой день отец поехал на стройку, поискал тех двух мужиков, хотя дружок заранее сказал:
— Ага, они там сидят, тебя дожидаются.
На стройке вообще никого не оказалось: видно, работы свернули и строителей куда-нибудь перебросили.
Дружок сказал: «Погорельцам надо помогать» и повел отца в хозяйственный магазин.
Директорша, краснощекая женщина, смеялась здоровым смехом, и отец отходил помаленьку от своего горя. Она в черном сатиновом халате энергично и весело двигалась между ящиками и банками на складе, держа в руках карандаш и фактуры. Отгрузили отцу гвоздей и краски, хотя цвет уж был не тот, конечно...
С тесом он тоже прогорел. Опять же аванс мужикам выдал, потом машину нанимал перевозить кирпич и цемент — деньги и разошлись, а ехать в город просить еще ему было совестно; и так вон какую сумму выдали, да сколько по дурости потерял... К тому же чувствовал, что не доведет эту работу до конца. Ползал с мужиками по лесам у купола, стучали молотки, приходил пионерский отряд и организованно скандировал снизу: «Позор, бога нет! Позор, бога нет!» И общественность всякая ходила, возмущалась. И опять-таки отец кругом виноватый.
Кончилось тем, что когда всю сумму в пять тысяч он добросовестно извел, то сбежал потихоньку домой, без копейки денег и не сообщивши ничего своему поповскому начальству.
Теперь уже и перед попами виноватый...
Встал Мишка. Я замерла. Крадучись оделся и вышел, и пока я раздумывала, для чего он поднялся раньше времени и не выйти ли мне вслед за ним, хлопнула дверь в прихожей — ушел... Я обескураженно поднялась.
Увы, мне не удрать, как Мишке: у меня тут отец. Мне его накормить надо.
Сварила яиц. Он кряхтя поднялся, я помогла ему сложить раскладушку.
Глава 6
Да, кстати, спросила я на кафедре, нет ли случайно у кого на примете квартиры, чтоб сдавалась, или комнаты. Нет, сказали, на примете нет, но будем иметь в виду — если что — сразу скажем, а для кого, спрашивают. Да вот отец приехал, разошелся с матерью... Да, кивают головами, это у них бывает на старости лет, вот я знаю случай: прожили всю жизнь, троих детей вырастили, а потом разошлись только потому, что он вспомнил, а вспомнив, уже не мог простить, что взял ее не девушкой, вы представляете?! Ха-ха-ха! А что вы удивляетесь, это очень даже бывает у мужчин к старости — такие приступы ревности... Да тихо вы, оживились! Ну, товарищи, я вижу, это единственная тема, которой вас можно расшевелить. Да, кстати, а что местком приготовил в подарок юбиляру, не слышали?
Что им Гекуба! Повеселились и разошлись по аудиториям. Ведь не к ним отец приехал на жительство. Как известно, чужая беда утешает. А скоро я подкину им еще одно развлечение: Мишка уйдет, они узнают и будут перешептываться, мудро качая головами: «А как вы думали, чужая шуба не одежа, чужой муж не надежа».
Я отчаянно взглянула на Славикова — как за спасением.
Он удивился, изогнул брови вопросом.
Я немного подогрела свой взгляд изнутри.
Он встрепенулся и повеселел.
На следующем перерыве был в ударе, сыпал шутками, а сам укромно на меня поглядывал. Шепнул: «Ты не подождешь меня, дойдем вместе до сквера?»
А я уже пожалела о своем допустительном взгляде — но отпереться не посмела, только пожала плечами: мол, ну ладно, как хочешь... А сама к Шуре, шепчу: «Хватай меня и веди домой, а то сейчас Левка увяжется провожать».
Шура — друг, все поняла и выручила. Я на прощанье оглянулась и изобразила Славикову: сам видишь, я хотела, но не вышло...
По дороге мы посетовали с Шурой, что вот ведь жизнь — никак не получается, чтоб без вранья. И обе друг на друга не смотрели.
— Ну, как Мишка? — спросила Шура.
— Да так, ничего, — ответила я.
Доверительности не хотелось. Особенно после того, как сообща надули Славикова. И ей тоже не хотелось доверительности: она не сказала мне, что Ректор вчера был у нее — Ректор, к о т о р ы й е й н е н р а в и т с я, но отказаться от которого у нее не хватает мужества.
Мы с облегчением простились.
Пришла домой — там отец... И видно: выпил.
У меня наступила полная прострация — ничего неохота. Обеда нет, хлеб не куплен, а я не могу сдвинуться с места. Конечно, рано или поздно придется встать и приниматься за хлопоты — но не сейчас, еще не сейчас. Я лежала па диване, отвернувшись к стенке, как будто спала, а отец тихо сидел на кухне, чтобы не разбудить меня.
Наконец, я заставила себя встать. И села за стол написать матери письмо, чтобы не беспокоилась за отца. Услышав, что я встала, отец вошел в комнату и остановился у окна в своих провисших стеганых штанах. Видимо, томился от долгого молчания и одиночества, хотел поговорить. Но я к нему никакого сочувствия не питала и была неприступно занята. Он походил по комнате, робко заглянул через мое плечо, вытянув шею:
— А чё ты делаешь?
От него пахло водкой.
— Передать что-нибудь маме? — спросила я, не оглядываясь.
Он гордо отказался.
Но, уже вспомнив о ней, не мог успокоиться. Видимо, само предположение, что он мог бы ей что-нибудь передавать, приветик какой-нибудь, обидно задело его. А ведь он мог, я даже уверена: он хотел что-нибудь передать — ведь муж с женой что мука с водой: сболтать сболтаешь, а разболтать не разболтаешь. И никого, кроме нее, у отца на свете не было. Ну так именно это его к задело. Он всхорохорился, ощетинился и, припоминая что-то возмутительное, качал головой.
— Вот ведь! — не утерпел он. — Она ведь что делает? Ты только послушай, что за человек! Подарила Нинке Никитиной вазу на день рождения, а сама следит, какая ей честь будет. Приходит и спрашивает: «Нина, а где у тебя ваза, что я дарила?» А Нинка давай заикаться, мол, упала ваза и разбилась. А мать тогда ехидно так: «А я вот шла по улице, а у твоей снохи на окошке эта самая ваза-то и стоит». А Нинка: мол, это совсем другая ваза, такая же, но другая. А мать: «Не может быть другая такая же, я в городе покупала». А Нинка: «И сноха тоже в городе». Мать: «Нет, ты мою вазу передарила». Нинка: «Нет, она разбилась». Мать: «Нет, ты ее передарила». Нинка: «Нет, мол, сдалась мне твоя ваза передаривать, да я ее просто взяла и разбила, чтоб она мне глаза не мозолила, двухрублевая твоя ваза!» И вот так разругаются, мать приходит домой и два дня лежит, болеет от обиды. И я же виноват: почему не успокаиваю. А ведь ей без обиды и жить неинтересно!
— Папа, ты как выпьешь, тебя не переслушаешь, — поморщилась я. Ох и надоели они мне со своими счетами! К тому же он элементарно отвлекал меня от письма. Я холодно добавила:
— Лучше скажи, что написать маме: будешь назад возвращаться или как?
Отец от этих слов просто даже захлебнулся и дрожащим голосом говорит:
— В дворники наймусь! Дадут комнату. Домой не поеду.
Я на это ничего не сказала. Пусть как знает.
Ровно вовремя явился Мишка. Против ожидания, не задержался, но радоваться было нечему: он был чужой, замкнутый и мрачно помалкивал.
Это начался задум.
Вот как у людей бывает запой, загул — так у него задум. И может быть, это пострашнее запоя, потому что непонятнее — так и тянет холодным, жутким, потусторонним сквозняком.
Заляжет на диван и лежит дня три-четыре. И ощутимое напряжение от него исходит. Вот как, проходя под линией электропередачи, слышишь гудение в проводах — и даже не столько гудение, сколько вообще натугу, — вот так же и в комнате, где лежит или ходит в своем задуме Мишка, — гул стоит, гул — не слышный, но явственный — незнакомой энергии.
У меня такой энергии нет. Я могу напрячься, подумать над какой-нибудь математической выкладкой или над житейским вопросом, — но никогда это не захватывает меня до такой степени, чтобы я забыла посолить бульон.
Конечно, я натура слабая, колеблемая всеми ветрами жизни, — где уж мне войти в Мишкино состояние! Я оторвусь от него на день, поживу самостоятельно — всю растреплет, растеребит разговорами, улыбками, влияниями — и к вечеру мне просто необходимо подключиться к нему — восстановиться, — как подсевшему аккумулятору, подзарядиться надо. Я уже привыкла: приду домой и рассказываю ему по порядку все события дня — и только глядя на его лицо, пойму вполне значение каждого поступка — и своего, и чужого — что одобрительно, а что нет. И до того все становится ясным, что даже странно, как это я сама, без Мишки, не могла увидеть.
Но эти его задумы, когда он перестает видеть и слышать, когда смотрит на меня — а сам далеко, чужой и страшно сильный, как небожитель, — эти его задумы всегда были опаснее измены. Потому что он не брал меня с собой, как сильный бегун — слабоногого ребенка.
Куда он бежит? Что он видит там, куда мне не достать моим слабым зрением?
Я завидовала, я ревновала. Я боялась.
— Ну о чем ты там думаешь? — спрошу его жалобно, чуть он очнется, приостановив свой бег.
Молчит. Пожмет плечами.
Мне страшно: когда-нибудь ему надоест останавливаться ради меня — бросит и побежит дальше сам по себе, сильный, одинокий бегун... Ему ведь никто не нужен, у него и друзей нет, потому что никто не годится ему в друзья, — и я так же.
Шура его тоже побаивается. Начитавшись Рериха и какой-то восточной литературы, она с опаской предостерегала Мишку, чтобы был осторожнее в мыслях: не только поступки наши могут производить действие, но даже и помыслы.
потому что психическая энергия реальна и действительна. «А у тебя, — говорит, — Миша, очень сильная психическая энергия».
И головой тревожно покачает.
— Ну и что тут, скажите, мистического? — доказывает она. — По формуле E = mc2 энергия и масса взаимопревратимы, так что и психическая энергия может создавать материальные тела. И ничего антинаучного нет, если некая психическая энергия мощным импульсом взяла и состряпала всю нашу вселенную, а? «Вначале было слово».
Скажет — и суеверно оглянется на Мишку. Как бы он чего плохого не создал своей мощной психической энергией — такой уж у него болезненно-пронзительный твердый взгляд... Того и гляди...
А Мишка засмеется и ласково скажет: «Глупые вы, ученые бабы...»
Пока я маялась на кухне, изобретая ужин, подвыпивший отец пытался заговорить с Мишкой. Сообщил ему, что завтра собирается пойти поискать насчет службы дворника. И «что ты мне на это скажешь?» — такой вопрос перед Мишкой установил не без пьяной обиды и куражу.
А Мишка — мне легко представить — вроде бы и обернулся на звук голоса, и даже лоб напряг, прислушиваясь, но так до него и не дошло, что за звуковое колебание пронеслось в воздухе. Вздохнул и ничего не ответил.
Я чертыхнулась, крикнула отца к себе, на кухню. Вошел — на лице обида, и глаза тоскливо сощурены.
— Ты сейчас с ним не разговаривай. У него бывают такие... ну, задумы, что ли. Он сейчас и не слышит ничего.
— А, — отец перепугался, кивнул, но ничего не понял. — Заболел, значит.
— Вроде этого, — согласилась я и пошла в комнату переодеться, чтоб сходить за хлебом.
Мишка сидел в кресле, откинувшись, смотрел в угол — недоступный, отсутствующий. Сказать ему сейчас: «Сбегай за хлебом» — он пока вынырнет в действительность из своей глубины — уж следа от слов не останется. Расстроится и будет молчать.
Я поручила закипающую картошку отцу и еще раз предупредила, чтобы к Мишке не совался с разговорами.
А отец человек простой — он, я думаю, и представить себе не мог, как это: задуматься — и чтобы все кругом ходили на цыпочках и говорили шепотом. Другое дело, если бы человек заболел, лежал бы в беспамятстве. Или там, к примеру, пьяный, без чувств — это он очень далее мог понять, тут уж какой с человека спрос. По если трезвый и здоровый — и такое?!
Это было непонятно, и он, видимо, этому не поверил, истолковав по-своему: зять возражает против его, Бориса Ермолаевича, присутствия в доме.
Вернувшись с хлебом, я нашла его на кухне: сидел замерев и шею вытянув.
И ужинали мы вдвоем, без Мишки. Это было отцу и вовсе непонятно, а я ничего не объясняла, ела молчком. Не было у меня сил на разговоры.
Разве могла я предвидеть, чем все это для него кончится?
Знал бы, где упасть, — соломки б подстелил.
И вот я лежу ночью в постели и делаю магические опыты.
Я вспоминаю, сильно и мучительно, всю любовь, чтобы симпатически вернуть ее назад, приворожить, удержать на привязи воспоминаний — чтоб не уходила. Чтоб знала: здесь ее место.
Магия тем сильнее, чем сильнее я в с п о м н ю.
Я стараюсь вспомнить с и л ь н о.
Я смотрю на его лицо в зернистом сумраке ночи.
Мне жаль, что человек не может вместить все присущие ему свойства одновременно, а только по очереди, расставаясь с одними ради следующих, пробегая, стадия за стадией, круг своей жизни. Я всматриваюсь в его привычное лицо, пытаюсь разглядеть в нем того восьмиклассника Мишку Дорохова, моего яростного врага, клокочущего от жара внутри, но не могу, не могу разглядеть за позднейшими наслоениями. Тот Мишка не накладывается на этого, он живет отдельно, и мне надо закрыть глаза, чтобы вспомнить его.
Вот, вижу. У воспоминания, как и у сна, скупое освещение: теплится свечечка близ самой главной точки, а все остальное в сумраке, и детали неразличимы, как в темной русской избе. Не помню уже, как выглядел наш класс, сколько было окон, и на какой парте я сидела, и где стоял стол учителя — сумерки, не разобрать. Но идет урок пения. А по пению у нас был неприкаянный один мужичонка; немного играл на баяне — его и позвали в школу. Он стеснялся, что учит пению, не зная отродясь нотной грамоты. Он боялся, он старался, как мог.
«И где б ни ходил он, повсюду носил он солдатский простой котелок», — угрюмо пел хором наш восьмой класс, сидя за тесными партами.
— Нет, ну что мы такое поем! — заныла я в паузе.
— А что петь? — робко спросил баянист.
— Ну, есть же на свете какая-то настоящая музыка! — страдальчески воскликнула я.
Баянист пожал плечами и виновато понурился.
— Оперу ей спойте! — подсказал Мишка Дорохов, и весь класс оглянулся на меня с любопытством и осуждением. Среди поля слабых глаз — как протуберанец, горел ненавидящий взгляд Дорохова.
Я зажмуриваюсь: мне сейчас, при воспоминании, страшно и стыдно.
И после того — как ни проходит мимо этот Мишка Дорохов, поднимет брови и, как бы вдруг заметив меня: «О, мадам! Как жизнь в аристократических кругах?» И шествует дальше, не обратив внимания на свой вопрос. А я остаюсь, вся в пламени позора.
Мишка был прав, прав: да, была во мне эта «аристократическая» претензия. Но что же мне было делать, снедала меня тоска по д р у г о й жизни! Ведь невозможно было допустить, что до конца дней — эти куры, утки, свиньи, и таскать воду из колодца на пойло, и выходить в буран зимой, цеплять навильник сена, прищуривая глаза от сенной трухи и колючего снега, что струйками просверливал щели холодного пригона, и печальная морда коровы с влажными глазами — и ее, корову-то, дуру, жалко на этом холоде и на ветру! А разминать руками закисшие осклизлые картофелины в ведре с теплым отрубяным пойлом — да неужели на всю жизнь! — ведь по радио, по книжкам, по кино — была где-то другая, совсем другая жизнь! «Огни повсюду зажгла суббота... снежинки хороводом, и тысячи мелодий...» От этих «снежинок» я прямо дрожала, представляя себе: теплый снег в круге фонаря, и люди, смеясь, группами торопятся на свой праздник. И праздник у них совсем не такой, как здесь. Здесь что — одна простота! Побелят к пасхе дом с ультрамарином, повесят туго-глаженые занавески на окна, напекут стряпни, половички постелят свежие, и на них можно валяться в блаженной, забирающей звуки чистоте, и пахнет ванилином, сито с пуховыми пышками и таз хрустящих стружней стоят на покрывале кровати — вкусно, тихо, покойно — хорошо! Хорошо, да все не то!
Ведь есть где-то недостижимый, влекущий мир, отголосок которого — по радио — нечаянным ветром доносит в эту дальнюю деревенскую избу. Спит весь дом — и родители, и Витька, — а я лежу без сна, закрыв глаза, в кромешной тишине зимней пустынной ночи, как на дремучем океанском дне, и репродуктор над моей головой — щелочка, перископ, через который проникают сюда звуки иного, невидимого мира. По звукам я пробую догадаться, что же там, наверху, за глухой непроницаемой толщей океана, что за мир такой.
Там музыка без конца и без края, и несчастный Г. С. Желтков из предсмертного письма молитвенным речитативом: «Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь?», а утром идти в деревянную школу, а там мои одноклассники — они как рыбы живут под этой толщей и не заглядываются на след мелькнувшего света. «Физика» Перышкина, «Геометрия» Киселева, и я подскажу теорему, и подсказку примет тот, кто стоит у доски, и даже Мишка Дорохов примет, хотя тут же и усмехнется.
И вдруг — как знак, как предвестие новой, другой жизни — вышло постановление: ограничить домашние хозяйства. Я тайно ликовала: не будет больше во дворе этого удручающего визга голодных свиней. А кроме меня, всем горе: жить привыкли сыто. Но закон есть закон, и каждый, вздохнув, поискал себе утешения. Мать уныло сказала: слава богу, хоть не столько теперь чугунов ворочать с картошкой, да золовки меньше побираться станут.
Витьке мотоцикл купили на вырученные за скот деньги.
А отец сказал: будем теперь все, как эта приезжая, Дорохова, — ни кола, ни двора. И чем она только кормится — святым духом, что ли?
Мать сказала: она у соседки молоко покупает. Богатая, наверное.
И я вздрогнула: наверное, богатая... Подошел раз Дорохов на перемене и осторожно сказал:
— Завтра контрольная... — А сам следил за мной. — Давай так: ты быстренько решишь свой вариант, а потом мой. — Пауза. И без интонации: — Я десять рублей дам.
Ждал. И в глазах нечаянно промелькнуло злорадство — не удержал до времени — я заметила, но вникать было некогда, меня оглушило: десять рублей...
Десять рублей, а больше десяти копеек в кармане моего школьного фартука не водилось никогда: на два калача в буфете. А в магазине лежит запылившийся на витрине недоступный шоколад... Но не про шоколад я думала, а вообще: десять рублей! Я просто пыталась прочувствовать эту сумму как свою собственность.
— Откуда они у тебя? — подозрительно спросила я, оттягивая ответ: колебалась. Все-таки десять рублей...
— Есть, — уклончиво ответил Дорохов.
— За что же деньги-то? — Я сглотнула и украдкой скосила глаза в сторону. Никого близко не было. Я опустила ресницы.
Дорохов все увидел.
— Ты же торопиться будешь, — услужливо пояснил он вполголоса. — Работы вдвое.
И опять у него в глазах пробилось непрошеное злорадство. И опять мне некогда было остановиться на этом, я соображала: что ж... ведь учительница получает деньги за то, что знает математику? Что ж тут такого? Я знаю математику, а у Дорохова есть деньги. Простой обмен...
— Я тебе и так решу, — глухо пробормотала я почему-то охрипшим голосом.
Но Дорохов-то уже понял: купил!
Я опустила глаза: мне показалось, что он победительно усмехнулся.
Шла потом домой — в сумерках бледный снег, выпирали на дороге мерзлые кочки грязи: еще не засыпало. Это ноябрь был: контрольная за первую четверть. Я оскальзывала на кочках в холодных резиновых сапогах. Сволочь этот Дорохов: он нарочно, специально. Он всех норовит унизить, его потому и боятся, и лезут к нему в прихлебатели — думают, спасутся от насмешек. А он всех насквозь... Из его глаз дует сквозняком. Он хитрый, хитрющий, он всех умней. Плевать ему на все математики, он и так хитрющий и умный. Плевать ему, он хоть сейчас бросит школу, пойдет и станет хоть министром. Иногда кажется, что он просто придуривается девятиклассником, а на самом деле неизвестно кто. Шпион. Агент. Откуда он взялся вообще, и сколько ему лет? Ведь у него же старое лицо. И учится специально плохо, чтобы всех обдурить, а вот наскучит ему эта игра, он сбросит школьное выражение лица и пойдет прочь, посторонний, инопланетный, чужой. Он хитрый. Он специально, чтобы унизить меня. Да.
Да, но десять рублей...
— Не буду я тебе, Дорохов, решать никакую контрольную, — сказала я назавтра в школе.
А он злорадно рассмеялся, и стало ясно, что и не нужна ему была вовсе никакая контрольная. И я подумала: какой молодец Витька, надо же, какой молодец!
Это Витька сказал мне: «Ты что, озверела?! Не вздумай взять эти деньги!» Нет, он не сказал, он крикнул это шепотом, с угрозой (перегородки и доме тонкие, на дверных проемах — только занавески). Главное — он сразу, без секунды сомнения: «Ты что, озверела?!» Он не колебался. А у него ведь тоже отродясь не бывало денег. Какой, однако, молодец этот простачок-мужичок Витька! — думала я с облегчением.
Хоть и обидно было за себя: ведь молодцом оказался Витька, а не я.
И жалко было десяти рублей...
...Мишка пошевелился рядом на постели, и я испуганно встрепенулась, будто он снова уличил меня.
«Да, в школе я ненавидел тебя. А куда мне было деваться — у тебя были такие губы, такие, что казалось странно, что ты ими еще говоришь и ешь — они предназначались только для поцелуев, они так и просились в поцелуй, и как же мне было не ненавидеть тебя?» — неужели это он говорил мне?
Его усталое, серое лицо в сумраке — как на черно-белом фото: без цвета. Я позвала чуть слышным шепотом:
— Миш!..
— Что? — не сразу отозвался он, не открывая глаз. Не спал...
— А помнишь, как в девятом классе ты у меня чуть не купил контрольную? За десятку.
— Помню, — без выражения ответил он.
— Тогда это были большие деньги... Я хотела спросить, откуда они у тебя были?
— Не было, — опять без интонации ответил он. Казалось, у него сильно болит голова, и, чтобы не сотрясать се, он отвечает экономно и без интонаций.
— Не было? — удивилась я. — А если бы я согласилась?
— Мать бы дала.
— А. ...А моя бы ни за что не дала на такое дело.
Я сказала это с застенчивым смешком, как бы ожидая, что меня пожалеют за такую непонимающую мать, но Мишка промолчал, и слова мои повисли в пустоте нелепо, как оборванная взрывом лестница многоэтажного дома. И опять мороз стыда прошел по коже, как будто тот, давний Мишка, прохватил меня сквозняком своего взгляда.
О, я всегда помнила тот страшный взгляд. Какое избавление наступило, когда он бросил школу в девятом классе и уехал! Я тогда вычеркнула его немедленно: забыть, тут же забыть! — страна большая, годы идут, даст бог, больше и не встретимся.
И только его одного и помнила.
Он позвонил у двери одиннадцать лет спустя.
Эта минута некой магниевой вспышкой осветила все, что ее окружало, и в памяти, как на снимке, надолго запечатлелись все подробности.
Я тогда как раз лежала с книгой, в полной хандре, и тосковала. Мне мерещилась улочка после дождя, деревенская ночная улица — огни из окон растекаются в лужах на дороге, за домами темнота. И я как будто бы иду и чую неуловимый влажный ветер, слышу знобящую, черную, вверх уходящую тьму и даль там, на краю, где кончаются дома и начинается чужой мир. И я, лежа на диване, в самом деле почуяла тогда тот воздух — еле помнимый воздух родины, как молоко матери. (А может быть, это как-то было связано с тем, что Мишка в этот самый момент был на пути ко мне — кто знает?)
Наступила пора мне полюбить свою деревню, вспоминать ее с завистью и разочароваться в больших городах: ходишь по улицам пугливо, как в звериных джунглях — машины ревут, светофор мигает, оглядываешься во все стороны на каждом перекрестке, как будто мир еще не устоялся, грозят землетрясения, и динозавр нападет из-за угла вот этого серого дома.
И под ногами жирная копоть, и она же носится в воздухе, набиваясь в легкие, и все это можно вытерпеть, не сходя с ума, только временно, — но постоянно жить в этой среде нельзя!
В деревню бы хорошо. Хорошо было бы вообще не уезжать оттуда и никогда не хотеть иной жизни! Мирно доить на рассвете печальноглазую корову, ласково погладить ее по бурой холке и отпустить в стадо, а на закате ждать ее у калитки с посоленным куском хлеба — и она отдаст тебе, как родной, свое теплое живое молоко. И на сенокосе артелью сгребать валки сена с крутого бока холма, и толстая тетя Катя, отдуваясь, скажет: «Ох, кабы кто на тележке завозил в эту гору — можно было бы работать». И засмеяться на это, и от общего изобилия мира полюбить даже эту тетю Катю, слезливую отцовскую сестру. Витька притарахтит на мотоцикле, остановится рядом с мужиками, что озадаченно скучились у сломавшейся сенокосилки, и вмиг все исправит, и мужики будут разводить руками и хлопать Витьку по плечу. Там в июле меж холмов переминается слабый, ленивый ветер, и послушная трава стелется белесыми зализами по полю. Остановиться, прислушаться, печально и бездумно, — никакая мысль не шевельнется в голове — и брести дальше в ленивом зное наискосок по холму, нагибаясь за спелой клубникой в траву. Платье снято ради загара и обвязано вокруг бедер. А по долине проезжают на телеге мужик с бабой, и слышно в высокой тишине, как дышит и фыркает лошадь, как перекатываются по грунту ободья колес. И потом в деревне станут говорить, что по степу бродит голая баба — к чему бы это? — мабудь, к войне.
А ночью выйти прямо в окно, в мокрую сирень, и податься вдаль, в безопасную даль природы — ночами природа кроткая — листья спят, не шелохнутся — как дитя, и мокрая земля под босыми ногами — дышит...
В это время и раздался звонок у двери.
Я открыла — и там (как будто я наколдовала своим бредом), у самого краешка, у самого начала (это я сразу же поняла: у начала) стоит Мишка Дорохов.
Он стоит и печально смотрит, старый враг, свидетель моей бедной юности, здесь, на чужбине, и я, на секунду оцепенев и увидев, какой он постаревший, опечаленный, уставший, какие мы оба горькие люди, затравленно прожившие среди чужих столько лет... я, вместо того, чтобы отступить и дать ему войти, сама выпала на площадку, обняла его за шею, зарыдала горестно и безутешно у него на плече, и он осторожно держал меня в руках, терпеливо гладил ладонями вздрагивающую спину.
И весь-то вечер я то и дело, срывалась в слезы и слабо жаловалась: «Мишка, Мишка...», и мы ни о чем не вспоминали, а просто сразу, с первого мгновения стали жить в любви, в последнем каком-то печальном доверии двух изголодавшихся заточников, соединенных одним сиротством.
И говорили так, будто расстались вчера, и про свою, в разлуке проведенную, жизнь друг другу не рассказывали — она вся осталась на наших лицах, — что о ней говорить!
Так он от меня и не ушел больше. На другой день принес свой чемодан.
Постепенно мы узнали друг о друге какие-то детали той, по отдельности, жизни: что я преподаю математику, что Мишка был женат на журналистке Ирине, а еще раньше был в армии, а еще раньше... И так далее. Все это было, впрочем, совершенно второстепенно.
Поначалу я с непривычки много плакала, уткнувшись мокрым носом в его утешительную руку. Как будто натерпелась без него и оплакивала прошлое, жалея себя с горки теперешнего счастья — тоже, впрочем, печального: оттого, что оно у ж е есть, значит, ждать его больше не приходится, а наоборот, по закону перемен и течения времени впереди только гибель его.
Вот она и набежала, эта гибель — как туча на солнце, когда только что разнежился на пляже, распластавшись и закрыв глаза. И делать нечего — туча до горизонта — надо сворачивать вещички и плестись домой.
Я с отчаянным сопротивлением в с п о м и н а ю нашу счастливую жизнь, полную радости, тихой, неубегающей, как бы надежно обеспеченной.
Когда-то мне вздумалось прочитать древнеиндийский эпос — «Махабхарату», «Рамаяну». А что, любопытно. Эти простодушные индуски, восклицавшие безыскусно при первой же встрече: «Я полюбила тебя, прекрасный юноша, давай же насладимся с тобой любовью!» И другие всякие моменты... «Жалок, как женщина, лишенная своих украшений». Что-то было и непонятно. Например: цари всегда были из рода кшатриев — не самой высшей из четырех каст. А высшая — брахманы — они всё больше дикими отшельниками жили в лесах. А я полагала: уж цари-то должны быть — из высших! Мишка мне после объяснил: у высших задача повыше правления. Они в уединении сосредоточенно фиксировали в сознании ось мира — и этим созерцанием ось только и держалась — как земля на трех китах — понятно?
Понятно... Мишка тоже вроде брахмана. Подобно в пустыне кочевникам, ходящим по замкнутому кругу, он с некоей цикличностью возвращается к одним и тем же книгам. «Тимей» Платона, «Чжуан-цзы» — глава «Осенний разлив» и глава «Северное путешествие Знания», загадочные гимны Вед.
Устрашения пророков читает. Мне, говорит, надо все время к этому возвращаться, чтобы фиксироваться. А то уплывает, теряется, уходит с глаз...
Тоже, что ли, мировую ось удерживает?
А между прочим, не до шуток. Это занятие он считает своим главным.
Ремонтируя машинки. Почему машинки? Такой вопрос, естественно, у меня был.
Я, отвечает, не р е м о н т е р м а ш и н о к, я просто ремонтирую машинки. Сейчас это, завтра, может, что-то другое буду делать. Краны, может, буду чинить. Важно, чтоб дело отвечало двум требованиям: не было сомнительным (некоторые не мучаясь занимаются изготовлением оружия для убийства людей) и чтобы не закабаляло. То есть, чтобы не было так: работа господин, а Мишка у нее на побегушках.
«Вы все, впрочем, как себе там хотите, я вам не указчик. Даже тебе. Только должен тебя предостеречь — насчет твоего дела. Математика — занятие страшно ответственное. Она лежит глубоко у основания мироздания. Это ведь не просто вспомогательный аппарат описания мира».
Он много расспрашивал меня: как выглядит математика? Стройная ли она, законченная ли? Цельная ли?
Нет, она похожа на рваное косматое облако, на крабовидную туманность, рвущуюся по краям и в середине, она прерывиста, как больное сердцебиение.
Нет, он не огорчался от этого несовершенства. Он был готов к нему.
Он вообще веселый, хороший, не мрачный, нет — особенно когда день прошел в достаточном напряжении, когда он устал — вот тогда он счастлив.
А многим он кажется мизантропом. Это потому, что отвергает наше повседневное благодушие, которое не стоит нам труда — наше легкомысленное безразличие ко всем и всему.
А то, что в юности у него было — тот мрак и мрак — так откуда же еще, как не из безмерной требовательности к миру, происходят такие люди, способные быть сверхчувствилищем этого мира? Очистившие себя мыслью до сверхпроводящего состояния. Конечно, он не мог сделать подлость на мыслимом мною уровне, измену — не мог.
Это слишком примитивное падение. Оно — для нашего брата, для мелочи огородной.
На картинах, изображающих искушения святых, нигде нет женщины. Там святой Антоний или другой святой в пустыне — и окружают его всякие химеры, которые ввергают в соблазны неверия, в соблазн отказаться от истины гармоничного устройства мира. Чтобы заставить его мириться с безобразием мира, как с должным.
А я-то прежде — раз «искушение» — все искала на этих картинах бабу...
И у Мишки ищу бабу — ничего иного и предположить не умею...
А как хорошо жили мы!..
Как сладко было просыпаться по воскресеньям и не подгонять друг друга хлопотами. Мишка вставал раньше и варил себе кофе. Потом он читал за столом какого-нибудь своего Иммануила Канта, прихлебывая изредка кофе, а я лежала еще в постели, просто так валялась, наслаждаясь бесцельностью, зависанием в бытии.
Я любила — это еще с детства осталось лакомством — просыпаться медленно, то возвращаясь в сон, то выплывая опять в реальность.
Потом вставала, мы молча обменивались взглядами покоя и любви, я медленно умывалась, убирала постель, долго причесывалась перед зеркалом, потом тоже варила себе кофе и еще намазывала булку маслом, садилась с этим завтраком в комнате за маленький столик в кресло и тоже читала, приедая, или копалась в своих тетрадях. Самое дорогое было то, что, будучи вместе, мы не тревожили друг друга, как бы держа за скобками постоянным множителем уверенность, что в любой момент, как только понадобимся — получим друг друга в необходимом качестве. Ах, это обеспеченное спокойное убеждение — как оно, оказывается, было уникально! — как цветок папоротника; неустойчиво — как плазма молнии, — и как же его нужно было хранить и оберегать — как огонь последней спички.
Господи, и зачем мне был нужен это ресторан, этот Славиков — не слишком ли дорого я плачу теперь?
Мне хотелось растолкать Мишку, разбудить, закричать: «Да что же это! Что же мы делаем, опомнись!» Хотелось прижаться к нему и попросить: «Ну давай сделаем, чтобы все как раньше! Давай помиримся! Давай все забудем, пусть ничего не было, ничего не было!»
Он пошевелился и вздохнул — не спал.
Он не спал — но не было способа его окликнуть, дотронуться — такой он был далекий и чужой, как будто не лежал рядом со мной, а изображался на экране с кинопленки.
Но с безрассудной надеждой мне все хотелось прижаться к нему, ища у него укрытия и спасения — от него же самого. И снова он вздохнул — и вот: некого мне обнять, не к кому прижаться.
Как это вынести?
Но не зря говорят, что боль бывает либо терпимой, либо недолгой, — я заснула, у с т а в, и напоследок почти безразлично усмехнулась: вот будет весело — Мишка уйдет, а я останусь беременная, — все как в фальшивой драме.
Впрочем, драмы не будет. Даже если Мишка не уйдет — он никогда не хотел ребенка. «Мне было бы страшно за него...»
Ночью мне приснилось: бегу я с Шуриным Биллом в поводке по мерзлой, в каменьях, заснеженной дороге и неотрывно смотрю вниз, чтобы не споткнуться. И дорога убегает, убегает под ноги, и я едва успеваю следить за мелькающими камнями, чтобы избежать их — и некогда оглянуться по сторонам, хотя как раз там и происходит все главное — но некогда! И так вся жизнь. Я загоревала и от сожаления проснулась.
Отец похрапывал на своей раскладушке. И Мишка спал. Я воровски погладила его — чужого — тихо, чтобы не проснулся, — украла у него, у спящего. Потом вздохнула протяжно, вслух и неожиданно быстро заснула опять, и был другой сон — уже счастливый, детский: я мчалась на высокой карусели, повиснув на руках, на слабых руках. Дух захватывало: далеко внизу неслись по кругу, мелькая, верхушки деревьев, а руки едва держались, того и гляди разожмутся — и тогда падать, и смерть, по одновременно со страхом было игрательное чувство безопасности: ведь знала, что это сон, где смерть не по правде, где полный смеющийся рот счастья. И я смеялась, мчась по кругу, да так и проснулась, досмеиваясь на высоте, на крутом вираже, проснулась от помехи каких-то реальных вторжений: о т е ц, покашливая, пытался потише сложить лязгающую раскладушку; М и ш к а, угрюмый, в щели ресниц прошел поперек комнаты к двери — тесно было, неуютно в комнате от трех человек, помещенных в ней, — и я рванулась от этого всего назад, в сон, туда, где только что кружилась над летним лесом, смеясь, — но мне не удалось скрыться: уже захлопнулась волшебная дверца, я опоздала. Полежала все-таки еще, притворяясь спящей, но уже присутствовала при всей действительности. И уже вспомнила по порядку, угнетаясь все больше: с Мишкой, кажется, все кончено; отец будет жить теперь у меня; и еще одна неприятность, кажется, подоспела, и если она подтвердится, то будет хлопотно и очень больно.
Надо было вставать и идти на занятия. Но я подождала, когда Мишка подойдет меня будить: важно было, к а к он станет это делать. Теплилась бессмысленная надежда: а может, все еще ничего?
Мишка подошел и позвал, не прикасаясь: «Лиля...» И подождал, пока я открою глаза. Я открыла, и он мне в глаза мельком сообщил: «Пора», самым экономным образом, без дополнительных каких-либо оттенков. И тут же отошел.
Ну что ж.
Значит, и в самом деле пора.
Приготовила завтрак. Вообще-то мы не завтракаем, но ведь тут отец, он не привык голодом... Прочив ожидания, Мишка тоже пришел к столу — похоже, задум уже кончился, и он как будто вознамерился сделать что-нибудь хорошее — для отца. А может, и для меня? Он даже как бы воздуху набрал для оживленных слов, но на этом все и кончилось — скис, как ныряльщик, который уже размахнулся для прыжка, но чего-то ему не дохватило — и он удалился с вышки. И напрасно я ждала, что вот сейчас что-то изменится, и он посмотрит на меня по-прежнему: в с е м собою, на полном открытии заслонки.
Отец был тяжелый — после вчерашнего. Жадно глотал чай и вяло жевал кусочек сыра.
Перед уходом я задержалась у двери: ну, думаю, сейчас ка-ак спрошу: «Ну что, Михайло, переспал, что ли, с бабой-то со своей?..» — с этакой веселой грубостью. Но опомнилась: а ну как возьмет и скажет (и наверняка!) «да» — а у меня первая пара — и что же мне после этого, идти на занятия, что ли? Смешно. Уж лучше пока не знать.
Как будто все еще не знала.
Глава 7
Признаться, про отца я не думала совсем. А если и думала, то лишь постольку, поскольку это касалось Мишки.
Суббота — но Мишка дома не останется: там отец, — думала я. — Куда же он пойдет? Одно утешительно: Ирина уже уехала, значит, не к ней. Никаких друзей у Мишки нет, он одинок, как бог.
Собственно, ведь у нас с ним никого больше нет...
Он уйдет в библиотеку, а если не сможет читать, то подастся на вокзал, снимет ботинки и ляжет на скамью в зале ожидания, отвернувшись к спинке. С него станется.
У меня было по расписанию две пары. И сразу же после них я поехала в библиотеку.
Чтобы попасть в читальные залы, мне пришлось раздеваться и сдать пальто в гардероб. Я медленно обошла «наши» залы и все закоулки. Здесь у нас были свидания. Сколько раз я летела сюда после субботних занятий, мы радовались друг другу, он сдавал свои книги, и мы шли перекусить в библиотечный буфет, а потом сидели вот здесь, в креслах, и он говорил со мной под разлапистыми листами декоративного дерева... А потом мы уходили из библиотеки — в город, в кино, просто бродить. А если к моему приходу он не мог расстаться с книгой, я брала себе какой-нибудь альбом живописи и сидела рядом, разглядывая репродукции. Какая благословенная была тишина. Он дочитывал до конца, откидывался на стуле и чуть напрягался, незаметно потягиваясь. Он осторожно закрывал свою книгу и наклонялся ко мне, — светозарные облака клубились на старых картинах, и весело было глядеть, как люди и ангелы, возносясь, кишмя кишат в облаках и улыбаются, разметав без опоры ноги с пухлыми пальчиками.
«Мишка, «Битва архангела Михаила с сатаной», смотри, все клубится, светится и летит, как пыль в протяжном луче. Битва — а весело. Отчего такая покойная картина, Мишка?» — «Отчего же ей не быть покойной? Ведь битва с сатаной — не какое-нибудь единовременное дело — это непрерывная жизнь». Да. А бог сверху болеет как на футболе: кто победит. А как же, ему интересно. Ручки расплескал по сторонам и сокрушается...
Ах, Мишка, Мишка!
В библиотеке Мишки не было.
Я поехала на вокзал и обошла все скамейки в зале ожидания — предположения мои не сбылись, и тут его не оказалось.
Я с робкой надеждой направилась домой.
Дома перед включенным телевизором сидел отец, на полу стояла початая бутылка вермута — на горлышко надет стакан.
— Да, — как бы вспомнив, небрежно сообщил он, — я там у вас деньги в шкафчике взял, мне Миша разрешил. — И поскольку я промолчала, добавил, имея в виду пристыдить меня Мишкиным примером: — Вот, говорит, Борис Ермолаевич, деньги, нужно — берите, не стесняйтесь.
И с вызовом смотрит на меня.
Я говорю, поджав губы:
— Миша хозяин, раз сказал, значит, так и должно быть.
Взяла свое домашнее платье и направилась в ванную переодеться. Он вдогонку сообщил:
— Миша в библиотеку ушел!
— А что, разве я спросила, где Миша? — язвительно заметила я, не оглянувшись.
Чем хуже я себя вела по отношению к отцу, тем больше на него злилась. И, сознавая это, не хотела себя останавливать.
Вернувшись из ванной, я сухо сказала:
— Извини, телевизор придется выключить: я хочу лечь. Я не выспалась.
Он поколебался: обидеться или не заметить. А выбрал совсем что-то третье и неподходящее:
— Ты поспи, поспи. Я на улицу выйду, чтоб не мешать тебе.
Эта забота раздражала тем более, что я ее не заслужила и не собиралась заслуживать, и выглядела она издевательски. Отец, по всей видимости, и ею хотел меня усовестить и ждал, что я, пристыженная, возражу ему: мол, что ты, что ты, ты мне нисколечко не мешаешь!
Ага, сейчас...
Я резко ответила:
— Возьми ключ, чтобы не звонить!
И вот только он ушел — мне будто воздух сменили: стало легче дышать, и сонливость прошла, и энергия жить появилась. И этот гнет я буду чувствовать всегда в присутствии отца, и можно ли допустить, чтобы он жил у меня постоянно? Неужели он этого сам не видит, не понимает и собирается навечно подложить мне эту свинью?
От огорчения у меня разболелась голова, ихотелось проткнуть виски, чтобы из черепка засвистел воздух, сдавивший мозг. Я сделала холодный компресс на лоб и легла, отвлекшись взглядом и мыслями на свой детский портрет на стене. «Что уцелело в тебе от этой девочки — то я в тебе и люблю. И больше, пожалуй, ничего». И что он хотел этим сказать? Я и половины не понимаю из того, что говорит мне Мишка.
Нет, действительно, невелика будет потеря...
Незаметно боль утихла, и я уснула.
Проснулась от того, что вернулся отец. Он был такой сникший, что я даже смягчилась и стала расспрашивать его. Оказалось, старушки во дворе его разочаровали насчет дворницкой службы: все места дворников в ЖЭКе заняты.
— Ладно, пап, чего расстраиваться, все равно вернешься домой, поартачишься немного да вернешься.
И он, бедный (гонор уже поистратился), не встал в позу опровержения, а смирно вздохнул и сказал:
— Ты мне давай поручения какие-нибудь. Хоть покупал бы молоко да хлеб.
— Ладно...
— Только ты меня своди в магазин, а то я не знаю, где что.
«Водка-то, небось, уже знаешь где», — неприязненно подумала я, но вслух выдавила все то же, примирительное:
— Ладно...
И тут же мы пошли с ним в магазин.
По другой стороне улицы, понурившись, брел Мишка. Сам в себе погребенный, ходячая могила. Он не видел, куда шел, не замечал, что проходит мимо дома.
Отец было встрепенулся — окликнуть, рукой махнуть, но на всякий случай обернулся ко мне. И видит: я тоже смотрю на Мишку. Но смотрю, как зритель в кино: без связи, без возможности окликнуть.
— Гля, вон Миша идет, — пролепетал отец.
— Пусть идет, — отрезала я.
Мы свернули за угол.
— Ничего я в вашей жизни не понимаю, — с осуждением сказал отец.
— Ну, не понимаешь — что ж теперь, — сердито буркнула я.
Потом он опять дергал меня за рукав, оглядываясь назад, показывал пальцем вслед удаляющимся спинам, и невразумительно толковал про Гальку, мою школьную подружку, которая бегала ко мне списывать уроки и которую потом, классе в восьмом, родители от позора отправили в город к родне — она вроде как должна была родить.
Вслед за отцовым указательным пальцем я бессмысленно глядела в спины и наконец выделила: в выгоревшем синем пальтишке детского фасона удалялось существо — из тех, что узнаваемы за версту: иссохшие, неприкаянные, равнодушные ко всему на свете, кроме выпивки.
— Ну и что, — недовольно проворчала я, — гнаться за ней, что ли?
Отец пожал плечами и поплелся за мной дальше.
Мне бы взять на себя труд: присмотреться к нему, прислушаться, что у него на уме, в отчаявшейся его, пьяной и глупой седой голове! Обратить бы внимание, что он идет и все еще украдкой оглядывается назад — но я была так поглощена своими заботами, а отец был мне только помехой. К тому же напоминание о Гальке обдавало меня неуютным холодком (почему — я поняла много позже), и мне не хотелось стынуть на ветру этого напоминания.
Он-таки разыскал потом эту Гальку. И я оттирала одеколоном с холодильника кривую надпись: «Привет подружке Лиле. Галька», сделанную по-хулигански моим фломастером, в моей квартире, без моего ведома и (я надеюсь) скрытно от моего отца. Я, когда оттирала, свирепея сочиняла, в какой форме предъявлю отцу гневный свой счет за его гостью — да не пришлось. Но это позднее.
Мы пришли в гастроном, я велела ему стать в очередь к прилавку, а сама пошла выбить чек, а он еще пробормотал:
— Господи, вся дрянь бездомная стекается в город!
И имел в виду скорее себя, горемычного, чем Гальку. Я ничего не ответила.
Возвращались домой — ни словечка не проронили. А дома отец опять не утерпел, встрял со своим наблюдением:
— Во, а Михаила-то нет! Шел домой — а дома нет!
— А то я не вижу, — мрачно съязвила я.
— ...Ох и копоть же в городе вашем: лицо аж стягивает, сажи-то что на него налипло.
— Да уж конечно, у вас лучше.
Хорошо, что существует телевизор. Включил его и как спрятался. Суббота, передачи спасительные, хоть все подряд смотри.
Мишка пришел поздно вечером.
Пришел, ненаглядный мой, утраченный...
Я сидела в кресле и робко подняла глаза — осторожно, чтобы не спугнуть явление, пусть подольше продержится — призрак, тень, будущее мое воспоминание. А он мне улыбнулся...
Я чуть не задохнулась.
Правда, он улыбнулся немножечко, и к тому же улыбка была не отдельной для меня, а общей — мне и отцу. Но все-таки.
Он присел к нашему телевизору, но вскоре обозвал происходящее в этом ящике глупостью. Я радостно почувствовала в нем какой-то нетерпеливый умысел — это касалось нас, Мишка был с нами, а не сам по себе.
И действительно, у него был к отцу накоплен разговор. Он дождался паузы в телевизоре, выключил и, прохаживаясь по комнате — руки в карманах, — заговорил.
— У нас в армии, Борис Ермолаевич, был один парень — я все чаще про него вспоминаю в последнее время. Воришка — но очень странный: из столовой, например, выходим с обеда, а в это время накрывают для второй смены — он хвать с чужого стола кусок масла или котлету — и сожрет. Уж и били его, а ему хоть бы что — главное, котлета уже внутри, не выковырнешь, а остальное — будь что будет. Насмерть не убьют: армия не тюрьма, а всякие там осуждения перестоит навытяжку перед взводом, похлопает глазами — И как с гуся вода. Стыда у него не было совсем. Я пробовал допытаться: на чем он, такой, держится. И он мне с полным убеждением ответил: «Раз я хочу — значит, это хорошо». У него другой мерки не было, только «хочу» или «не хочу». По-своему был невинный, как младенец — он же не виноват, что ему хочется. И тут же в курилке подходит, садится к общим разговорам как ни в чем не бывало — н е п о н и м а е т. Даже кошка, говорят, знает, чье мясо съела, а этот — не знал! Твою котлету сожрет — и к тебе же подойдет сигарету стрельнуть. Искренне не понимал.
Отец, смотрю, голову опустил, лоб нахмурил. И мне почему-то не по себе. Я думаю: а к чему это Мишка многозначительно глянул на меня, когда говорил «Я все чаще про него вспоминаю в последнее время»?
— И вот я представил: он вернулся из армии и женился, — продолжает Мишка. — И что у него будет за жизнь. С одной стороны, ни от какого лишнего удовольствия отказаться ему и в голову не придет — ну, там, от выпивки, от бабы, если подвернется (я опустила голову), с другой стороны, — жена недовольна и ставит ультиматум: или я или то, остальное. А он не поймет, почему он должен выбирать что-то одно: ведь он хочет и то и другое. И чтобы не отказать себе ни в том, ни в другом, вожмет голову в плечи, глаза зажмурит, дурачком прикинется, и делай с ним что хочешь: бей, разговоры разговаривай — Васька слушает да ест...
Отец кашлянул и тихо, с обидой сказал:
— Что ты, Миша, от меня хочешь?.. Ведь я ушел от жены... Освободил.
— Вот и хорошо, Борис Ермолаевич, что вы меня поняли! — горячо подхватил Мишка и набрал полную грудь воздуха, входя в отрадную для него среду обитания: жесткую, но полную откровенность. О, уж это была его стихия: прямота. Собственно говоря, другого разговора он и не признавал — только кровавый, на полном раскрытии. — Только не думайте, что эта история касается вас одного. В каждом из нас сидит такой любитель удовольствий, и надо уметь это признать. Дальше останется только победить его. Это и будет выход. А ваше бегство — не выход. Бегством вы опять же только себе облегчения ищете. Вместо того, чтобы воспользоваться...
Отец перебил Мишку, подняв голос на октаву, и тоном бедного, но гордого человека заявил:
— Не беспокойся, Миша!.. И ты, Лиля. Не беспокойтесь. Завтра я уйду к Анатолию.
— Ну, вот, — огорчился Мишка. — Что ж вы, Борис Ермолаевич... Ведь я не к тому. Я же разобраться хотел. Даже больше для себя, чем для вас.
— Вот-вот, — все тем же дрожащим фальцетом продолжал отец, — я и говорю: не надо вам про это думать, беспокоиться, завтра я вас освобожу.
С Мишкой так нельзя. Это ж, оказывается, он, милый человек, все ходил и думал, как лучше поступить бедному старику в такой трудный момент жизни.
Я ринулась на защиту:
— Папа! Ты, похоже, допился до полного маразма, с тобой по-человечески уже невозможно говорить!
— Вот-вот, — кивает отец, прищурившись в угол, — вот завтра я и...
Я рывком встала и ушла на кухню, меня трясло.
Мишка включил телевизор. Сейчас он, как улитка, вберется в свой черный ящик — и не выковырнешь. Только-только показался — и опять туда. Не все выживают в его среде, но и он задыхается в чужой, в уклончивых, условных отношениях. Больше он не будет говорить с отцом, я его знаю.
Квартира наша затихла, только и слышалась речь политического обозревателя из телевизора. Его никто не слушал.
Ужинать Мишка не захотел.
А отец пришел поесть. «Как же, он откажется, — подумала я с неприязнью. — Когда вкусным пахнет, он не гордый».
Неприступная по-прежнему ночь с Мишкой... Так я и знала.
Утром отец собирается. Уже одевшись, в нерешительности потоптался, вздохнул — и вкрадчивым голоском:
— Лиль... ты там... у тебя ничего не осталось, я сала привозил, рулета?
Я в изнеможении простонала:
— Ой, папа... Ну куда там еще твой рулет! Да мне не жалко, ради бога, но ведь у Маши с мясокомбината только что птичьего молока не натаскано!
— Все равно, — упрямо потупился он.
Я, злясь, пошла на кухню, завернула в газету рулет и кусок сала и сунула ему сверток прямо в руки — авось довезет, не выронит.
С утра он делал вид, что заспал вчерашнюю ссору и спьяну не помнит, а к Анатолию едет просто в гости на воскресенье. Но Мишка не поддерживал его невинных утренних реплик, Мишка не согласен замазывать глаза — он лежал на диване, закрывшись книгой, и никакого участия в утреннем движении не принимал.
Как только за отцом захлопнулась дверь, я сорвалась:
— Господи! Наконец-то! Неделю уже безвыходно! Хоть бы перерыв давал, погулять выходил, а то маячит и маячит перед глазами.
— Он в четверг приехал, — глухо сказал Мишка застоявшимся от долгого молчания голосом. Кашлянул. — А сегодня воскресенье
Осудил, значит, меня... Этому Мишке не угодишь.
— Ну и тем более, — говорю, — тем более. Значит, долгим же мне век покажется!
— Он насовсем ушел.
Мишка выговаривал слова с усилием, трудясь.
— Ха! Насовсем! Я знаю отца, знаю Анатолия и знаю Машу!
Я ушла на кухню дочищать картошку к обеду. А сама, хоть и сварливо дернулась, уходя, — без ума рада: Мишка со мною заговорил! Пусть неодобрительно — но вступил в разговор со мной!
Да, отец может сейчас сослужить мне службу: на неудовольствии от него мы с Мишкой могли бы сойтись, окольно обойдя наши междоусобные препятствия.
Ах, как я устала от этого промозглого молчания и разлуки! Готова помириться, хоть заложив отца! А если Мишке угодно взять его сторону — на здоровье, пусть возражает мне — это тоже разговор!
Мы можем даже поссориться на теме отца — но при этом помириться м е ж д у с о б о й.
Дочистила картошку, поставила ее жарить и пошла к нему. Села в кресло. Приготовилась к б е с е д е. Господи, как я раньше любила беседовать с Мишкой! Даже свои какие-то мысли заводила, — чтобы был повод выслушать Мишкино значительное и полновесное суждение. Врасплох его невозможно было застать: уж обо всем у него думано.
Мне предстояло великое дело — начать. После глубочайшей разлуки. Так важно было не ошибиться в тоне, и я заговорила медленными, далеко расставленными словами, опасливо пробуя голос, как холодную воду в реке:
— Как странно. В детстве он мною распоряжался. Запрещал и разрешал. А теперь сам от меня зависит и снизу вверх заглядывает. — Я сделала паузу, не доверяя интонациям: а ну понесут, как кони, и я собьюсь с тона размышления на бабью злобность. — Что, может быть, тогда, в детстве, я была хуже или глупее, чем сейчас? Да нет, даже наоборот — лучше. А он меня не уважал. А теперь — уважает. Раньше из-за какой-нибудь невымытой посуды или забытой тряпки мне была взбучка. А теперь сносит и посуду, и тряпки, а? — Я пожала плечами, как бы в недоумении. — Это как же получается — значит, тогда я на его хлебах жила, а теперь он на моих живет, значит, «ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак»? Да?
И вдруг вижу: Мишка смотрит на меня с густой ненавистью. Смотрит и молчит: н е х о ч е т говорить со мной.
Меня этим его взглядом так ушибло, что я растеряла все слова.
Это потом, позже, я сообразила, чем же речь моя была ему так отвратительна. Правильно, отвратительна, потому что если уж не можешь быть благородным человеком, так хоть не ищи себе положительных оснований к низости.
Наверное, так, Мишка за словами всегда видел их источник, мутный ключ, который хотел притвориться питьевой водой.
Но это я после обдумала, а в тот момент я взвилась и восстала за свою правоту. На его взгляд я взволчилась, как на пощечину, — и прошипела, брызжа слюной:
— А ты-то!.. Праведник! Сам три дня как из чужой постели выполз, а туда же, осуждать!
И, вмиг опьянев от свободы распустить себе удила, крикнула:
— Ну что молчишь?
Он вздрогнул, но быстро опомнился, и в глазах его установился ровный, спокойный холод издевки.
Господи, и зачем только мы так хорошо научились читать в глазах!
Секунду я выдержала, бессмысленно занеся свой грубый вопрос, как дубину, на которую он, презирая, просто не обратил внимания, — и сорвалась, убежала в кухню в неразрешимой не то истерике, не то в обмороке.
И не помню, сколько я просидела на кухне, приходя в себя. В комнате было тихо. Я стыдливо оделась и бочком выкралась на улицу — исчезнуть куда-нибудь.
Ах, Мишка, Мишка! Улица была вся в тоскливых серых домах! А помнишь, летом мы ездили в деревню, к дяде Федору в гости... Это было в тридесятом царстве, за тридевять земель отсюда, в незапамятные времена. Мы ли ночевали в черемухе — а какой стоял август, какой звездопад! В полдень под нагретым небом Мишка сидел на завалинке, прикрыв глаза, и слушал пчелиный гул над цветами, а я, повязав голову до бровей белым платком, перебирала смородину на варенье, и уже откуда-то из дремучей памяти пробивался во мне первобытный мотив, и не размыкая губ я выводила его, как над зыбкой в доме моей прабабки, и мотив то запутывался в легком ветре и вздохе листьев, то оставался один в тишине. И тут подъехал к дому «Запорожец», и дяди Федоров зять Володька и с ним еще парень разрушили всю мою музыку и гармонию:
— Давай, ребята, кончай ерундой заниматься! Поехали, у Матюшонка именины!
Не знаю, кто такой Матюшонок, но раз именины — поехали. Долго ли мне сдернуть с головы прабабский платок да распустить косу, долго ли влезть в джинсы и стряхнуть с себя эту патриархальную дремоту. И выражение на лицо тут же наделось в тон, в стиль, как деталь к костюму: небрежный мимоскользящий взгляд, с хрипотцой смех. И прямо на этом смехе натыкаюсь на Мишкины глаза — и сразу замираю, глядишь — и подобралась, и поправила выражение лица.
Господи, ну куда я без него, вьюн бесствольный!
Вьюн, прозрачные перепонки, процеживающие на ладонь лиловый цвет. Нежный цветок, борющийся с ветром за колокол своего граммофончика, то и дело сминаемый. Ну куда я без него!
Бреду и бреду куда глаза глядят. На стадионе в хоккейной коробке маленький мальчик одиноко гоняет шайбу. Его валенки стоят у ворот и наполняются холодом.
Здесь хорошо: нет людей. Никто не видит меня.
Здесь сугробы снега.
Я оглядываюсь снова: жалобный одинокий мальчик. Один валенок у штанги ворот упал, маленький — и я кинулась бежать домой.
Бегу, и плачу, и думаю: брошусь сейчас к Мишке, скажу ему: прости меня, прости меня, прости меня... Скажу: Мишенька, да ведь у нас же родится ребенок...
Но неужели я так долго пробыла на улице? В этот день у меня то и дело отнималось чувство времени.
Врываюсь — в прихожей у телефона сидит Ольга, нога на ногу. Она совершает свой воскресный звонок.
Я в комнату — Мишки нет.
Села я в кресло и сижу.
Ольга болтала по телефону, мяукая и мурлыча, и растягивала удовольствие в кокетливом «да-а-а?», как будто щи водой разбавляла, чтобы вышло побольше. Неутомимый золотоискатель, по крупице намывающий свою радость.
«Нет худа без добра!» — мурлычет она. Грудной, подземный, подводный, волнующий, расплывчатый — фальшивый смех... Но она сама не знает, что фальшивый. Другого у ней отродясь не водилось.
Я вижу: на столике у кресла — Мишкина книга, оставленная раскрытой, где читал. В желобке разворота карандаш. (Всегда с карандашом...) И отмечен кусок, и вдоль поля подписано: «Лиле». Впрок, значит, для меня приготовил.
Я читаю отчеркнутое: «Любовь человека к человеку, может быть, самое трудное из того, что нам предназначено». Переворачиваю, смотрю, что за книга.
Ольга вытапливает из воркующих недр еще одну мудрость: «Как говорят французы, никто не знает, зачем нужна правда, зато все знают, зачем нужна ложь!»
Мне важно, к о г д а он это отчеркнул для меня — сейчас, когда я бродила по голому стадиону, или раньше, давно? Когда, с каких пор эта книга лежит здесь раскрытой? Я читаю: «Требования, которые нам предъявляет трудная работа любви, превышают наши возможности, и мы, как новички, еще не можем их исполнить. Но если мы выдержим все и примем на себя эту любовь, ее груз и испытание, не тратя сил на легкую и легкомысленную игру, которую люди придумали, чтобы уклониться от самого важного дела их жизни, — то, может быть, мы добьемся для тех, кто придет после нас, хотя бы малого облегчения и успеха...»
Ольга заглянула в комнату и, прикрыв трубку ладонью, сообщила с некоторым любопытством:
— Он с чемоданом ушел. Поехал, что ли, куда?
Поехал...
Мы, как новички, еще не можем их исполнить — требования любви. И он уехал.
Ольга кончила свой разговор, поглядела на меня, покачала головой.
— Ну ладно, — распорядилась она. — Мужики мужиками, а жизнь жизнью. Есть железное косметическое средство: берешь два махровых полотенца, одно намочишь в страшно горячей воде — и компрессом к лицу, другое — в страшно холодной, — и сразу после горячего. И так многократно. Тепловой массаж кожи, идеальное кровоснабжение, гимнастика. Помолодеешь на двадцать лет. Впрочем, гм, тебе нельзя на двадцать: ребенком станешь, тебе — на десять надо. И не ной! Вон, лица на тебе нет. Расслабься, отдохни, распустись, погуляй, — хочешь закурить? Ванну прими! К мужикам нельзя всерьез относиться, они этого не заслуживают.
Мне хочется сказать Ольге «вон», но мы новички, мы подпускаем к себе близко глупейшую и никчемнейшую жизнь, потому что требований серьезной жизни мы сами не умеем выполнять.
Я не могу крикнуть Ольге «вон».
Но зато я уже могу смотреть на нее, не отвечая, смотреть взглядом отторжения — хоть этому-то Мишка успел научить меня перед тем, как взять чемодан и уйти из этого дома прочь.
Глава 8
У Анатолия нет телефона. Но, боюсь, если б даже и был, я не вспомнила бы позвонить, узнать об отце. Он не вернулся в воскресенье, и я этого не заметила. Я забыла о нем — так, будто вообще его приезд мне приснился, а теперь я проснулась. Я чувствовала только, что дом мой пуст: в нем нет Мишки. И все. И в понедельник ушла на занятия, даже не подумав оставить для отца ключ в почтовом ящике.
И в перерыве вахтерша звонит на кафедру: мол, к Лилии Борисовне тут мужчина какой-то пришел.
Она его даже не пустила. И, дожидаясь перерыва, он грелся в тамбуре, в гонимом вентиляторами потоке горячего воздуха.
А я как услышала «мужчина», так и полетела. Думала: Мишка! Даже и дуновения мысли не появилось, что это отец. Пришел, думала, поговорить, решил объясниться. Сейчас уйду, сбегу со своей пары и — все. Плевать! — так решила я на бегу.
А там стоял отец. За ключом пришел. Помятый весь, с похмелья, дикий — недаром вахтерша не допустила.
Мне пришлось возвращаться на кафедру за ключом. Уходя, я безразлично спросила через плечо, как там Анатолий. И отец дослал мне в спину ненужное: «Да ничего...»
Неужели это он у Анатолия вчера так надрался? — рассеянно подумала я. Да не может быть, Маша бы не дала. Я представила картину «В гостях у сына Анатолия»: стол яств; безразличный, как черепаха, Анатолий сидит на диване и бессмысленно моргает; Маша с надменным лицом ходит вперевалочку вокруг стола, симметрично расставляет салаты четырех сортов.
Маша толстая, приверженная, как многие, самому надежному из удовольствий — поесть.
Потом она, поджав губы, проследила, с какой жадностью свекор выпил первую рюмку. И не заметить ее взгляда отец не мог, как бы ни старался: проявлять такт Маше тут было незачем.
Потом, если речь зашла о родительском разводе, я так и слышу Машино безоговорочное заключение: «Перебеситесь да помиритесь!» — дать деду понять, что никакого другого варианта ему здесь предложено не будет. А Анатолий сидит, жует, хлопает глазами, и решительно никакой ему разницы нет.
Бедный старик, собирался гордо уйти от меня к Анатолию... Да как его там переночевать оставили, вот что удивительно!
Отдавая ключ, я опять взглянула на отца и еще раз усомнилась, что он ночевал у Анатолия: вид у него был не только похмельный и неряшливый, но и чем-то еще жуткий, и взгляд безумный, блуждающий, как будто он ночь в аду провел и с нечистой силой спознался.
Но это впечатление я припомнила гораздо позднее, когда пришлось по порядку восстанавливать все ступеньки, по которым он уходил.
А тогда, в вестибюле, мне было некогда — не до него. У меня звонок прозвенел на следующую пару, с которой я собиралась удрать для разговора с Мишкой... И другие разные заботы были.
Потом, помню, к концу дня я позвонила домой, отец взял трубку, я спросила, не появлялся ли Мишка. Он ответил — нет. Я понимаю, я должна была сказать еще что-нибудь: ну, например, спросить, поел ли он, как дела... Но я дышала в трубку, может быть, целую минуту — а так и не повернулся язык против души говорить — и положила тихонько трубку без слов.
Собственно, что спрашивать, ел ли он, если никакой еды у меня в доме не было. Ничего, не маленький. Дорогу в магазин знает.
Узнав, что Мишка не появлялся, я потеряла всякую возможность идти домой. Шура как-то почувствовала мое состояние — она вообще как локатор, — она всех чувствует и немедленно подставляет себя подпоркой в том месте, где слабо. Пойдем, говорит, прямо сейчас в кино. Спасительная идея.
Мы смотрели какой-то заграничный фильм ужасов, из воды выскакивали бутафорские резиновые чудовища, жутко рыча, и неуклюже хватали бегущих в ужасе людей, пожирая ненужных для дальнейшего действия персонажей. Мы страшно развлекались с Шурой, а после кино зашли в кафе и поужинали. В общем, было хорошо. Здорово отвлекло меня от тягостей жизни.
Но тем не менее явилась я и домой. Было поздно. Пьяный в стельку отец спал в кухне, рухнув на пол вместе с табуреткой. Воняло водкой, две бутылки стояли на столе — одна пустая, другая — наполовину. Стакан валялся, валялись сорванные станиолевые пробки. Я брезгливо перешагнула через отца, взяла со стола распечатанное письмо, письмо от матери. Адресованное, естественно, мне.
На кухне у нас всегда было холодновато, а на полу, наверное, и подавно, но я даже не укрыла отца — пусть, думаю, скорее протрезвеет. Еще и за письмо разозлилась, что распечатал. Впрочем, у них уж так заведено: раз письмо — надо читать. Еще в школе — придет мне письмо, глядь — уж оно до меня прочитано. Ругаюсь — не понимают. Нам же, говорят, интересно!
Мать писала еще до получения моего письма. Предупредить меня хотела. Мол, дед ушел из дома, и видели, что он уехал в город, так что, наверное, к тебе подался. С одной стороны, она рада такому освобождению: «Хоть нервы отдохнут за всю жизнь», но, с другой стороны, тревожится, что дед теперь «навязался на твою голову». А бабку Феню, писала она, немедленно взял к себе Витька. А она, мама, не хотела этого, «стыд-то какой», и не может теперь никак успокоиться: во-первых, парень будет ухаживать за бабкой — где такое видано? Во-вторых, этого не выдержит жена. Он говорит: «Вот и жену на этом проверим», а «я плачу да говорю ему: какой же ты, Витька, дурак, да никто такой проверки не стерпит, хоть какая ни расхорошая жена, а только лишишься и несчастье наживешь, но он не послушался, а я теперь молю бога: пусть помрет бабка Феня, зачем людей мучить, божье наказание просто с ней». Ну, значит, теперь вот она побелит избу, все проветрит, перестирает и отдохнет в кои-то веки в чистоте и покое, а отец, писала она, пусть и близко теперь к деревне не подступается, пусть где-нибудь в городе там налаживается, «хоть, может, найдет себе какую бабку, а ты его гони, гони, нечего поважать!»
Я подумала: вот и хорошо, что он прочитал письмо.
Утром я проснулась — отца дома не было. Заглянула в шкафчик, где деньги, пересчитала — много все-таки пропил. Взяла все, что там оставалось, себе в кошелек. Жалко на пропой.
Весь этот день у меня был занят настолько, что и о Мишке почти забылось, не то что об отце.
На кафедре творился праздник предвкушения: вечером банкет по случаю шефова юбилея. Ожидание праздника — всегда лучшая его часть. Цветы принесли еще с утра, принесли и преподнесли: красные и белые гвоздики посреди зимы. Дамы светились. Некоторые нарядились заранее — те, что не успевали после занятий съездить домой переодеться. Ах, как трогательны эти «вечерние» наряды преподавательниц: это все тот же костюм неотступного делового фасона, только сшитый из панбархата. Целый день ходили и разглядывали друг друга. Ах-ах-ах!
— Ну, можешь ты пойти д л я м е н я? — умоляла Шура.
— Я уже сходила раз д л я т е б я...
— Ну и что, плохо было?
«Знала бы ты...» — подумала я.
— Пошли, а? — смотрит.
Я молчу. Шура, конечно, видит: мне хочется быть уговоренной. Да, это так. Представить только: все будут гулять — а это надо, надо иногда — взбрыкнуть, отвлечься, вон как хорошо мы вчера с Шурой в кафе поужинали! — а я в обнимку со своими принципами поплетусь в пустой голодный дом. Сердилась баба на торг, а торг про то и не ведал. Приду домой, — а там Мишки нет, а есть отец...
Шура все видит, все понимает и хочет мне помочь, но я упорно лицемерю:
— Мишка меня учил, что человек слаб и потому должен избегать соблазнов. А там будут одни соблазны: музыка, вино... Все удила распустятся.
— Вот и хорошо! Хоть расслабишься немного.
— ...Будут говорить сладкие речи про многие поколения математиков и инженеров, воспитанных юбиляром, я буду улыбаться и аплодировать, — а он всю жизнь только и делал, что трясся за свое кресло и все за него продал...
— Ах, да уже слыхали! — потеряв терпение, злится Шура.
— И хочешь, чтобы я пошла на этот банкет получать удовольствие?! — Задетая ее тоном, я еще упрямее стою на своем и даже переусердствовала: так глубоко зарылась в свою принципиальность, что, боюсь, Шуре меня оттуда уже не выручить.
Но Шура все же выручила, найдя замечательный ход: она расстроилась, обиделась и сказала:
— Ну, конечно, как всегда: все в дерьме, а ты в белом. Выходит, и я не должна идти, так? Если я честный человек, конечно... Ведь в такое положение ты меня ставишь?
Тут мне ничего не остается, как бормотать, что, пожалуй, это был перебор, что действительно это слишком категорично для того, чтобы быть правдой...
— Ну хочешь, я пойду?
А Шура, умница, не сразу выходя из обиды, ворчит, что, мол, надо быть человечной; мы все, конечно, ничтожества и подлецы, но при этом все нуждаемся в человечности и, если хочешь, в нежности — и может быть, именно этим ты сделаешь для нас больше, чем своей знаменитой непримиримостью. По пословице: в ком добра нет, в том и правды мало.
— Опять отец голодный останется, — вздохнула я, сдаваясь окончательно.
Мы обе повеселели.
— Да ты посмотри, какая прекрасная жизнь! — соблазняла Шура. — Войны нет, сама молодая, здоровая, квартира у тебя есть — квартира есть! — да многие живут и работают только ради нее, — а ты не ценишь, нет, ты совершенно не умеешь ценить своего счастья!
— Да, — соглашалась я, — да, — и начинала ценить.
— Да-а, квартира — это не баран начхал... Ведь я-таки решила ехать. Пусть хоть и на чертовом севере, и без знакомых, без мамы — но будет свой угол.
— Какой еще север? — удивилась я.
— А что, я не говорила? Впрочем, могла и не говорить. Боялась: осудишь.
— Теперь, значит, уже не боишься... — горько пробормотала я.
— Что-что?
Не расслышала — и хорошо. Зачем обсуждать очевидное. Видно, плохи мои дела...
— Ничего, продолжай.
— Ну так вот: Ректор, как ты его обзываешь, пригласил меня к себе в институт. У него есть возможность дать квартиру, а на кафедре есть вакансия ассистента.
— И заведующего, — вспомнила я.
— Нет, завкафедрой у него есть.
— Как! А Славикова он пригласил завкафедрой.
Шура посмотрела своими прекрасными глазами — у Билла своего, что ли, она научилась этому жалобному собачьему взгляду?
— Не приглашал он Славикова, — сказала она, жалея, что знает это.
— Не приглашал? А Славиков позвал меня в это Заполярье, замуж: квартира, кафедра, — развеселилась я.
— Ты согласилась? — с мрачным юмором сказала Шура.
— Нет.
— Ну вот видишь!
— Что — ну вот видишь?
— Значит, можно было приглашать.
— А вдруг бы я согласилась?
— Нет. Он же знает, что нет.
Мы грустно переглянулись: повеселились...
Но не это важно. А вот что: моя Шура едет к Ректору наложницей. А потом?
Прозвенел звонок. Мы двинулись на кафедру: взять ручки, тетради, и потом — медленно — в аудитории. Студенты любят, когда мы задерживаемся: несколько дареных минут беззаботного времени. Сидят сейчас за столами, солидно перекидываясь шутками, — и стараются не смеяться: не уронить себя — господи!
— Лиля... А если я правда решусь уехать — заберешь моего Билла? Ведь там ему холодно будет.
— Заберу, заберу... Отчего бы мне не согласиться, — я лукаво усмехнулась, — ведь ты все равно не поедешь.
— Да? — недоверчиво удивилась Шура.
И озадачилась.
Кафе было откуплено полностью, закрыто для публики «на спецобслуживание», и какие-то хмыри зло и завистливо заглядывали в обледеневшие окна. Хорошо было сидеть внутри, в освещенном тепле, в музыке, во хмелю, а им там, жаждущим снаружи, — гораздо хуже! — весело думала я, забавляясь рифмой.
Домой я не сходила, не переоделась — я боюсь своего дома.
Но это даже лучше, что я не в «вечернем», у меня выгодная позиция, все «претендуют», а я как бы «не претендую» я так просто, нехотя присутствую. Вроде, я получаюсь не такая виноватая в жажде удовольствий, как все остальные.
Еда была отличная, и уж одному этому можно было радоваться: в кои-то веки поесть серьезной пищи, раз уж случай приспел. От сытости я размякла, подобрела и ко всем кругом хорошо относилась. Улыбалась, улыбалась — щеки заболели.
Банкет кишел незнакомыми дяденьками, все крупного калибра — видать, старые однокашники шефа — профессура. Славиков беспокоился, как охотничья собака, когда хозяин опоясывается патронташем. Жидким от волнения голосом он просвещал меня:
— Ты думаешь, где делаются самые важные дела? Вот на таких банкетах.
Насильно объяснял:
— Вон тот — академик, вон тот — из министерства, почтил присутствием... А вот этот пузанок — он мне позарез нужен. Если он даст отзыв на мою диссертацию, то...
Прищурившись, он гипнотизировал этого пузанка взглядом, а я страдала от его откровенности, как от тесной обуви — так и хотелось поскорее разуться. Но я терпела. Я старалась отнестись к его деловитой возне добродушно. И к шефу тоже.
Взыскуя мира...
А не только Славиков, не только шеф — весь народ решительно нуждался в снисхождении: все подпили, разбились попарно и танцевали — смотреть на это трезвыми глазами было бесчеловечно: дамы, потея, кокетничали, грузные кавалеры раздували роковой огонь за стеклами очков — и у тех, и у других выходило плохо.
Я милосердно отвернулась, склонясь над тарелкой, хотя есть было уже некуда. Я не танцевала. Впрочем, никто и не рвался меня приглашать. Вот Шуру — наперебой. Она, как японская гейша, каждого умела осчастливить: поднимет свое восхищенное лицо и неотрывно слушает, с пониманием кивая головой. И только когда танец кончается и она садится к столу рядом со мной, видно, как она устала трудиться на увеличение общего счастья, как ей отдохнуть хочется, — но тут опять подходит какой-нибудь дяденька — и Шура, обратив к нему переполненные глаза, отдает себя на растопку, а дяденька около нее греется и оттаивает.
— Одна обезьяна горела, а другая руки грела, — неодобрительно усмехнулась я.
— Все хорошо, все прекрасно. Лишь бы всем было хорошо! — твердит Шура.
— Говорят, у кого есть собака — тот неизбежно хороший человек. Сэлинджер о себе написал: живу там-то и там-то, и у меня есть собака. И больше ничего не счел нужным добавить.
— Заведи собаку, — посоветовала Шура.
— Ты же отдаешь мне Билла! Уезжаешь на Шпицберген и отдаешь мне Билла.
— Да? — вспомнила Шура и опять озадачилась.
— Да. Уезжаешь куда-то там... в Анадырь, что ли, и отдаешь мне Билла, — кивала я головой, рассматривая свою тарелку.
Подбежал Славиков — видимо, в устройстве карьеры появилась пауза — и схватил меня станцевать, — быстренько, пока его пузанок занят кем-то другим.
С деловой торопливостью он вложил в танец все, что можно: прижал к себе, вздохнул, печально заглянул в глаза, простонал: «Ох, Лиля!..», и все время зорко оглядывался, чтобы не проворонить момент, когда пузанок останется один. Кончилось тем, что посреди танца сделал стойку на свою добычу и бросил меня — конечно, отвел сперва на место, посадил и, всячески извиняясь, метнулся ловить своего подшефного.
Принесли горячее. Все потянулись к столам и еще раз организованно выпили за дорогого шефа, изобильно лоснясь улыбками. И сам шеф лоснился.
— Шура, он тебе давал на вступительные экзамены списки «лиц, необходимо подлежащих зачислению»?
— Давал...
— И ты брала?
— А ты не брала?
Молча ели. На горячее был лангет.
— ...Наверное, без этого не обойтись, я понимаю. Но Мишка мне сказал...
— Знаешь, Мишка, конечно, умный человек! Но пусть бы сам шел и работал — а мы бы посмотрели на практике все его теории.
— О чем вы, а? — рассеянно встрял Славиков.
— Ешь, Лева, ешь, у нас так, бабская болтовня! — отогнала его Шура.
— ...Он как раз и считает, что лучше уволиться и идти уборщицей: мол, одним честным человеком будет больше — а это немало. Впрочем, говорит, как хочешь, но если ты им поставишь, списочным, я с тобой жить не буду, мне резону нет. Только, говорит, смотри, я не хочу быть одураченным.
— А тебя за язык тянули. Обязательно надо было ему рассказать!
— Ну, а после экзамена он и не спросил ничего. Так и умолчали. Понимаешь? Мы новички... Но ставила, в общем, по справедливости — так, разве что, вопросов слишком уж рискованных не задавала — и все. Да и не пятерки, а четверки... в основном.
— Лиля, но ведь это же не взяточники какие-нибудь! Это совсем другое! Их и всего-то человека два-три. Ну, родственники, может быть, дети друзей. Вот если бы ты была врач, а я привела бы к тебе свою мать: прими! — ты бы что, сказала: идите дожидайтесь в порядке общей очереди? Или: извините, ваш район обслуживает другая поликлиника, да?
— Не знаю, — устало сказала я. — Мишка бы тебе точно сказал, а я не знаю. Я домой хочу...
Шура посидела в задумчивости, покачала головой, потом встряхнулась:
— Ладно! — Достала из сумочки полиэтиленовый пакет и положила в него два лангета с оставленного всеми общего блюда. — Отцу твоему, — пояснила она. — Не пропадать же добру, за него деньги п л о ч е н ы!
Я посмотрела на нее с любовным укором — так, чтобы она поняла, какой она есть человек и как хорошо я к ней отношусь, — вздохнула и взяла пакет.
А над Славиковым я сжалилась:
— Не провожай меня, ладно?
Славиков пожал плечами и изобразил на лице печальную готовность покориться любому моему желанию, даже такому жестокому. Он довел меня до гардероба, подал пальто и неотрывно смотрел с преданной и страстной мукой. Я застегнулась, закуталась в шарф, ободряюще подмигнула. Он со всей невыразимостью любви и сожаления вымолвил: «Лиля!..» Я чмокнула его в щеку и, оглянувшись от двери, увидела, как он с поспешностью улепетывает в зал наверстывать упущенные дела. Он был невысокий полный человек, и ноги, недостаточные для широкого шага, вытягивались в струнку.
Я пожалела, что увидела.
На кого положиться, оглянуться на кого?
Говорили в старину, свет стоит на семи праведниках. Это уж точно. Должен быть хоть кто-нибудь, не изменяющий — чтобы знать: не пропадает правда, кем-то хранится.
Был Мишка, ответчик мой, твердыня... — и где он?
Дома отец спал. Опять перепившийся.
Я легла в постель и закрыла глаза — не спать, а отгородиться...
И опять я для утешения вспоминаю наше лето: те несколько дней в августе, непомерной важности несколько дней — все более возрастающей.
...Как он тогда заплакал, Мишка — над дядей Федором ли, над собой ли, над всеми нами — не знаю, но чувствую так: это было самое главное, к а к он тогда заплакал.
А я еще не хотела ехать — неудобно, мол: даже и не родственник, а просто дядя Федор, которого Мишка любит. Сомневалась, но раз Мишка сказал ехать — значит, надо, — уж он-то знает. Попросил меня халат купить для тети Даши и тапочки для дяди Федора. Подарки.
И все начиналось совсем обыкновенно. Впрочем, и после не случилось ничего особенного — внешне, но — Мишка заплакал, а кто-нибудь когда-нибудь видел, как он плачет? Может быть, это и была главная точка моей жизни. И даже без всяких значительных событий.
Дядя Федор старик. Они зимуют вдвоем с тетей Дашей в большом, опустевшем доме. А летом жизнь кипит: пчелы гудят, дядя Федор на зиму сено косит, помидоры в огороде спеют, дети, внуки и племянники один за другим едут на мед с молоком. «Интересуются, значь это, поправиться», — говорит дядя Федор не без иронии.
«Интересоваться» — это любимое слово, очень вместительное — оно и надеяться, и хотеть, и любить, добиваться... На задиристого зятя Володьку усмехнется и пригвоздит: «Интересуешься, значь это, чтоб всегда твой верх был!» Не любит зятя. Конечно, дядя Федор уже старый, изжившийся человек, и там, где волновалась любовь, теперь ровная гладь терпения и привычки, но все-таки на Мишку, я вижу, еще набирается в нем немного сдержанной радости, как в пересыхающем колодце блестит на дне влага. У них с Мишкой друг к другу серьезное, молчаливо-уважительное отношение. Как будто они понимают друг о друге самое важное. А больше ни с кем у них таких отношений нет.
Вот приехал в дом еще один летний гость. Я с любопытством наблюдаю. Поставил дорожную сумку, пожал тете Даше руку, она растерялась, поклонилась: кто его знает, как там у них в городе полагается встречать родню — обнять по-русски, по-глупому — боязно. Гость тем временем присел на корточки перед толстым и строгим внуком дяди Федора:
— Ну, где твоя мамка, а?
Внук — палец во рту — озадаченно глядя на этого дядю, на всякий случай показал куда-то вбок.
— Там? Там твоя мамка? — грозно уточнил гость. — Ух она, мамка, ушла куда-то!
И выпрямился: достаточно.
И перед дядей Федором, чтобы не подавлять его своей образованностью, тоже «приседает на корточки».
— Дядь Федь! — бодро говорит он утром, выходя во двор, где дядя Федор за верстаком строгает свои доски. — Ну-к, што, погода-то сегодня будет или как?
— А куда ж она денется — будет! — спокойно отвечает дядя Федор и, прищурив глаз, запускает взгляд повдоль стесанной кромки доски: ровно ли.
Гость подыскивает, о чем бы еще поговорить со стариком на равных, порадовать крестьянина беседой.
— Пойду-кось, в речке умоюсь, — сообщает он.
Мол, водопровод-канализация, то-сё, но наш брат — он и речки не испужается, ему и рукомойник не для ча.
— Сходи, умойся, — соглашается дядя Федор и, оставшись один, усмехается и качает головой.
А в войну, рассказывал Мишка, дядя Федор очнулся, раненый, около своей разбомбленной полуторки, и немецкие автоматчики разговаривали на своем страшном языке, стоя над ним. А тут — «пойду-кось, в речке умоюсь»...
Гляди на него, гляди и запоминай, говорил Мишка, это последнее поколение, они умрут — и мир останется без правды.
Ну, так уж и без правды, — сомневаюсь я. Но себе я не доверяю, я доверяю Мишке, уж он-то знает, еще бы: у него глаза — как два темных провала в ноумен. Пропасть.
Я ворочаюсь, сна нет, окно едва выделяется во тьме серым квадратом. Вспоминаю — вот и вся утеха. Врываются, как радиошумы, свежие впечатления сегодняшнего банкета — я их гоню, хочу чистую, без помех, картину лета... Вот: дяди Федоров двор, вечер, гость шепотком зовет нас к зятю Володьке: «Пошли, там хоть молодежь! А что тут со стариками!»
Заботится о нас.
— Нам лучше тут. Иди один, — терпеливо отвечает Мишка.
И ждет, как елку в детстве: вот кончится день, остановится карусель насущных дел, и сядем за стол с дядей Федором и тетей Дашей. Потечет нечаянная беседа.
Стол стоит в застекленной веранде, и с него никогда не убираются хлеб, соль, мед. Экономная лампочка на двадцать пять ватт тлеет красноватым светом. Угомонились мухи. Мух много, но это ничего.
Ужин: хлеб с медом и теплым еще, парным молоком, неслышно набираются и падают, как капли, попутные слова. Мишка украдкой ловит их и блаженно размягчается, изредка взглядом подталкивая меня: мол, слушай, запоминай, это последнее поколение, они умрут — и мир останется... и прочее. Мишка иногда избыточно страстный.
Тетя Даша смахнет со стола крошки, нагнется выглянуть в темное окно и задернет шторку. Скажет:
— Выпростай мне, дед, завтра маленькую кадушку: последние огурцы собрать да посолить.
И сердобольно вздохнет по городскому гостю: со второй женой развелся, все ему не те попадаются.
— А что, — удивляется дядя Федор, — разве в институтах не учат жену выбирать?
— Нет, дед, не учат, — вздыхает тетя Даша.
— Ну, дак а де ж ее выберешь так-то, не умеючи, — разводит руками дядя Федор. — Приходится, значь это, наугад.
— Дак вот же! — сокрушается тетя Даша.
Потом — спать: в тишине, в саду, под черемухой. Ночью кто-то неслышно накрывает землю хрустальным колпаком, все звуки исчезают, но чуть слышно звенит, звенит что-то — как будто звезды лучами прокалывают хрусталь. И стоит всю ночь этот тихий хрустальный звон.
А днем опять — горластый солнечный свет, гудение пчел, насущный труд, и тетя Даша занавешивает окна в комнате темными шалями — чтобы мухи проклятые повылетали наружу в светящийся проем двери.
Завтра пойдут на именины к родне, и тетя Даша заранее жалуется:
— Он как напьется — так дуреет. Ему нельзя — а попробуй скажи! В прошлом году спьяну ушел ночью в степь — назад, говорит, не вернусь. И удержи его! Я к Володьке — тот на машину, искать. Догнал. А он шарахается от фар по березняку — то туда кинется, то сюда. Насилу привез.
Мишка дрогнул и опустил голову.
Тетя Даша ушла во двор — цып-цып-цып, — зовет и сыплет сбежавшимся курам зерно.
Я снимаю с окна темную шаль — и западное солнце рикошетом от стекол соседского дома выстреливает в глаза. «Смотри!» — оборачиваюсь я позвать Мишку, но Мишки уже нет: он успел впасть в задум и молчит. Я занавешиваю окно: пусть будет темно. Я волнуюсь издали, тихо, я завидую и пробую догадаться, что такое он чувствует там, в глубине себя, отчего такая тоска. Силюсь представить: вот дядя Федор пошел, чтобы не возвращаться...
Пошел — а куда уйдешь: кругом знакомые деревни, за долгую жизнь он тут вдоль и поперек все исшоферил и истопал, и вслепую не заблудится. И опять же: сам при себе, постылый, остаешься неотлучно. То-то и невыносимо.
И вот он мечется от дерева к дереву в настигающем свете фар, и вот ведь: дожил до последней точки, дальше уже нужно пропасть, зажмурив глаза, — ан никак не пропадается, и продолжать эту точку некуда: точка. И тебя догоняют и опять водворяют, как в тюрьму, в то же бесконечное повторение дня за днем.
— Гала́свита, — бормочу.
— Что? — рассеянно переспрашивает Мишка.
— Тетя Даша говорит: гала́свита. Значит, куда глаза глядят...
Мишка мне говорит:
— Я думаю, все она понимает. Но так ей проще: «Как напьется — так дуреет». Ведь столько работы, до того ли...
Ночью в черемухе тишь да звезды, а он все мучается:
— В чем же тут дело, в чем же дело?.. Ну, был бы он подлец — тогда понятно: сам себе опостылел. Но ведь он «всю жизнь интересовался, где бревно потяжельше, чтоб, значь это, его поднять» — и не находит себе покоя в старости, — почему, Лиля?
Меня спрашивает, почему! А я готова расплакаться, как ребенок при заблудившемся взрослом. Что я могу ему ответить? — я за него держусь, как дитя за материн подол. Мне только ждать, когда он сам до всего дознается, до самого центра жизни — и потом научит меня.
Тут я вспоминаю про лангеты, и приходится встать. Выкладываю лангеты на тарелку, пишу записку: «Папа, поешь!» — на тот случай, если он встанет раньше меня. Испытываю от своей заботливости хорошее чувство. С этим чувством ложусь, и продолжается лето... Именины.
Именины. Тетя Даша давно теребит дядю Федора:
— Пойдем, дед, домой, уже хватит.
Но дядя Федор пьянешенек и «интересуется, чтоб, значь это, угостить» соседа. Сосед трезв и спесив.
— Он у нас, значь это, самый наибухгалтерейший, — уважительно поясняет дядя Федор тете Даше и сам себе поддакивает, кивая головой.
Сосед, мобилизуя все свои демократические возможности, ухмыляется, обнимает дядю Федора и проводит обманный прием:
— Ну, Федор Иванович, давайте сперва вы, а я тут же за вами.
— Э, не-е, — не поддается дядя Федор на хитрость, нетвердо грозит пальцем, и тетя Даша, махнув рукой и в сердцах сказав: «А чтоб ты сдох, дед!», уходит домой одна.
Дяде Федору наскучивает куражиться над важным соседом.
— Ну, доброго здоровьичка, Николай Степанович! — трезво произносит он, глотает свою стопку и встает, потеряв интерес.
Конечно же, по дороге домой он упал в речку.
— От же гад такой! — ругается тетя Даша, для свидетельства указывая нам на его мокрую одежду, ворча, достает из сундука сухое белье и уходит в комнату стелить ему постель.
Он сидит на ступеньке крыльца, чуть покачиваясь, взявши голову в руки, и не слушает тети Дашиных слов, погруженный в свои думы.
Мы с Мишкой — за столом на веранде. Мухи лениво гудят над миской с медом. В синем проеме раскрытой в сумерки двери виден дядя Федор. Он сидит, горестно запустив руки во взлохмаченные волосы, мокрый, пьяный и величественный.
Мишка весь в себе. Я привычно жду, когда он вернется. Свет не включаем: попрятались.
Длится, длится что-то осторожное, неуловимое, хорошее.
— Шум в голове... Шумит, шумит... — пожаловался дядя Федор в темноту.
А Мишка — понял, кивнул и печально сказал сам себе: «Знаю. Это шум смерти».
И заплакал.
И я тогда тоже заплакала, потому что больше ни у кого нет, и у меня самой очень, очень долго не было такого мужа.
А дядя Федор, не слыша наших слез, пробормотал:
— Семьдесят лет — и что?..
А я плачу, что Мишка один, и больше некому, кроме него, понять дядю Федора, и даже я, слабенькая, ему не помощница, и дядя Федор тоже один, и умрет, и кто в этом может что-нибудь понимать!
А Мишка, отвернувшись, зло вытирает глаза, и вот все сбежалось в одну тесную точку, и дальше двигаться уже никак невозможно — это как подпрыгнуть и зависнуть в воздухе — не получится; вот уж и снова на земле. И тут выходит из комнаты тетя Даша — выходит, как фары настигают, и, не вникая в момент, продолжает ругаться на прежней своей ноте: «Чтоб тебе, дед, повылазило! А вы тут около него сидите, как морковки в земле — свет бы включили!» И ничего не видит в темноте, спасительница тетя Даша.
Мишка поднял пьяного дядю Федора и повел его укладывать спать. А тетя Даша ворчит:
— Как напьется — так дуреет.
И я утерла слезы и пошла в черемуху стелить нашу постель — а что же еще остается делать: подпрыгнешь — а дальше некуда, шлепнешься назад да и идешь себе пешком. Куда деться.
Мишка приходит спать и долго вздыхает в темноте, и я дышу через раз, чтобы не мешать ему думать и дознаться до самого центра жизни.
Мишка, Мишка, Мишка... — слабо плакала я, лежа в своей пустой постели, под храп пьяного отца.
Глава 9
— А где Миша? — спрашивал похмельный отец.
— На работе, — отвечала я, и так оно и было.
Я проверяла — он действительно на работе. То есть жив, здоров, вразнос не пошел. Но, похоже, был близок к тому. Я стояла в гастрономе напротив мастерской и видела в окно, как он шел на работу. Как сказал бы ослик Иа из «Винни-пуха» — это было душераздирающее зрелище. Он был почернелый, дикий и одинокий.
Но куда вдруг повысохли все мои раскаянные слезы, все эти ночные жалобные «Мишка, Мишка...»! — я вдруг наполнилась, как сквозняком, каким-то успокоительным злорадством. Я почувствовала покой отмщения и ушла, чуть не потирая руки, чуть не приговаривая: «Так тебе и надо!»
У него были глаза — как будто голые на морозе, — и я не кинулась на спасение...
Мне, наконец, стало стыдно. Хоть поворачивай назад.
Но тотчас некая сварливая бабенка во мне восстала на свою защиту: «Да?! А чего он?!»
А чего он, действительно? Я, понимаешь ли, беременная, у меня совершенно особые привилегии на правоту. Да. И я имею право на истерику, на подозрение, а ты не виноват — так докажи! Не я тебя, а ты меня должен успокаивать и спасать. И прощать. А как же! — я женщина, и никогда, никогда мы не будем равны: у меня богоданное преимущество на правоту — я продляю твой род, и бороться тебе со мной за свою эмансипацию — не надо. Смирись, приди и сдайся на милость женщины — приди ты, а не я, понял?
Вот такие речи «она» во мне говорила, а мне было за нее немножко стыдно, но, как говорится, не хотелось связываться. Я потупила очи и промолчала в ответ ей, хотя уже точно знала, что нет ничего лучше, как вернуться, прибежать к нему, простить и просить прощения.
Но, говорят, с умом подумаем, а без ума сделаем.
Надо будет — приползет, а не надо, так...
Однако после этого утра я стала на всякий случай напрягаться в сосредоточенной любви — да, чтобы охранить его. В соответствии с Шуриным уверением в материальной силе мысли.
По тому, как я уставала от этого, ясно было, что действительно мои усилия вырабатывают некую материальную энергию.
Я окончательно уверилась в этом, когда заметила: на каждом человеке написано, сколько ему достается любви. Это открылось с такой очевидностью, что я поразилась, как раньше не замечала.
Это новое понимание было дано мне, как прибор особой видимости. Я развлекалась, испытывая его. Вот едет в автобусе чей-то любимый человек: он спокоен, безмятежен — как бы сыт. А вот женщина — она немножко растерянна, и держится настороже. И хоть она и красива, и богата — меня не проведешь! Я вижу! А вот мужик сидит — большой, укормленный. Наверное, приносит домой большую зарплату, и за это домашние хорошо и вовремя его кормят и обстирывают — а не любят. Он этого даже сам не понимает, зато понимаю я.
И тогда я спохватилась вспоминать про маму... Вспомню и мысленно подкреплю ее, поддержу на этом свете живой и здоровой...
И может быть, все мы вырастаем, как на удобрении, на материнской любви, и живы до тех пор, пока не израсходуем запас ее, накопленный в детстве.
Я подумала вдруг о своем ребенке впервые такой мыслью: «А уж не родить ли мне его?» Мысль, конечно, показалась мне безрассудной, и я ее отвергла немедленно, но время от времени она невольно пробивалась через препятствие здравого смысла и пульсировала. «Нельзя останавливать жизнь, есть тайные законы, не разуму их постигать!» И я вспоминала о своем животе, как о чем-то постороннем, отдельном от себя: там ребенок! — с уважением. Мишкин ребенок...
А может, мне все-таки поехать к Мишке — на работу или к дяде Гоше, где он, по всей вероятности, теперь живет, поехать и вернуть его. Не может быть, чтобы все так глупо, абсурдно кончилось! Уже от первого огня обиды остались одни тлеющие угольки, но и они погаснут, если их не раздувать нарочно. Все само прогорит, и настанет пора помириться.
— «Час-другой пролетит, словно птица, и настанет пора подкрепиться», — машинально декламирую я вслед своим мыслям.
Это мы идем со Славиковым по улице — гуляем. Славиков сразу подхватил:
— «Куда идем мы с Пятачком, большой-большой секрет! И не расскажем мы о том, о нет, и нет, и нет!» Любимая книжка моего сына, когда был маленький.
Да, так вот просто пошли после занятий гулять, бродить, болтать, улыбаться... Вышли на улицу как будто не преподавателями, а первокурсниками, у которых еще ничего не определено в отношениях, и оба «на выданье», и неизвестно: может быть, ОН — как раз этот, с кем сейчас вышла после занятий вдвоем погулять.
После банкета в кафе Славиков чувствует некоторые права на меня. И я его почему-то не разубеждаю...
— Рожать детей — это ужасное безрассудство, — говорю я. — Заботы, обуза, а вдруг еще и война. Да и без войны: воздух кончается, вода кончается, мы — последние жители земли. Детям, которых мы рожаем, уже ничего не достанется.
— Ну уж, скажешь — не достанется. Достанется!
«Что и говорить, возражение очень основательное!» — язвительно думаю я.
— А рожаем, чтобы задурить себя: мол, все в порядке, жизнь идет дальше. Биологический оптимизм. Ну и, конечно: держать в руках, облизывать, от одной мысли во внутренностях тепло...
— Откуда ты знаешь, у тебя же нет детей!
— Но есть воображение. ...Да и дети могут быть, — вдруг добавила я очень серьезно.
Славиков неприятно поежился:
— Лиля, мы договорились, никаких серьезных разговоров и проблем! Мы — гуляем! («Да какие уж с тобой могут быть серьезные разговоры!» — подумала я). Гу-ля-ем! «Куда идем мы с Пятачком, большой-большой секрет! И не расскажем мы о том, о нет, и нет, и...»
Навстречу шел Мишка.
Он увидел нас раньше, и когда я его заметила, на лице у него уже читалось полное и грозное проникновение в ситуацию. Уж что-что, а это он умел — проникнуть. Он надвигался неуклонно, напористо, и я внутренне заметалась: сбежать, скрыться, сквозь землю провалиться, — но ведь не провалишься, о тогда я с храбростью труса принялась мысленно отбиваться и даже нападать: да кто он такой? Какое он право имеет танком переть навстречу и взгляда не отворачивать? Кто он такой, чтобы я боялась его?
Но этот боевитый задор не помогал, я чувствовала Мишкино право убить нас здесь обоих, потому что прогулка эта со Славиковым во всей ее невинности подлее, подлее того, что сделал Мишка (если только он сделал...).
И вот он неотвратимо наступает, а мы со Славиковым, как пойманные — покорно ему навстречу, еще даже не зная, что с нами сделают, но бесправные и готовые к любому наказанию. И я под ручку со Славиковым. Хотя рука моя сразу же ослабла, и, чувствую: рука Славикова тоже вмиг раскисла, и он чуть было не опустил ее в локте, — но мы оба удержались на каких-то остатках гордости.
Растет, надвигаясь, ледокол; с упором смотрит на меня — Славикова нет для него.
Не замедляя шага, схватил меня за локоть, грубо, по-хозяйски швырнул, разворачивая назад. И я не вырвалась.
Пройдя несколько шагов, он что-то вдруг перерешил, бросил меня и быстро вернулся за Славиковым. А тот как шел, так и продолжал свой путь, медленно, враскачку, задумчиво, как бы даже не заметив, что меня оторвало этим встречным ураганом.
Мишка нагнал его, развернул к себе за плечо, схватил за грудки, встряхнул, притянул, но тут же с омерзением отшвырнул от себя. Славиков только и успел лихорадочно всполохнуться, чтобы оторвать от себя Мишку, но уже оказался на свободе, и руки трепыхнулись в воздухе впустую, отмахиваясь, а Мишка уже шел назад, ко мне. Я сжалась от страха и стыда, и только опустила глаза, чтобы не видеть Славикова жалким и не предать его.
— Ну и сволочь же ты... — прошептала я.
— Ничего, стерпите... — дрожащим от ярости голосом сказал Мишка.
Мы шли молча, сопя, ненавидя, но постепенно приходило понимание, что это никакая не ненависть, а строптивость, и что мы только из куражу сейчас зло сопим, чтобы фасон выдержать, а на самом деле близость уже случилась, на самом деле мы вместе идем, вдвоем, и сейчас нам лучше всего отправиться домой и яростно, зло, плача, может быть, обнимать друг друга.
А дома-то отец...
А может быть, он куда-нибудь ушел? — переглянулись мы с одной мыслью. И ускорили шаг.
Так и оказалось.
Мы вломились в свою квартиру. Мы и слова не успели сказать друг другу, как очутились в постели. Мы были как сомнамбулы и плохо соображали.
Но тотчас же привел в сознание скрежет ключа в замочной скважине.
Ах ты, черт! Ну конечно же: мы открыли квартиру Мишкиным ключом, а мой-то, который на двоих с отцом, остался в почтовом ящике...
Мишка чертыхнулся, засмеялся и кинулся в ванную, а я натянула на голову одеяло и бормотала проклятия, прикидывая, успел ли Мишка спрятаться в ванной до того, как входная дверь открылась.
Отец заглянул в комнату. Я не посмела высунуться из-под одеяла. Одежда моя и Мишкина, начиная от пальто и ботинок, валялась на полу по всей комнате.
Отец, громко топая и кашляя, ретировался на кухню и затих там, давая нам возможность привести себя в порядок.
Но квартира, вспугнутая им, замерла, не доверяя, как гусеница, задеревеневшая на травинке. Я не выползла из-под одеяла, Мишка сидел в ванной, не имея там чем прикрыться.
Отец чуть подождал, а потом, притворившись полным дураком, бодро крикнул из кухни, что, пожалуй, он сходит за хлебом, а то в хлебнице хоть и есть еще, но только белый, а черного-то совсем нет, а вдруг за ужином захочется и черного, а?
Мне стыдно было даже голос подать, я про себя мученически воскликнула: «Ой, да сходи ты, сходи!»
Хлопнула дверь — так, чтобы ее хорошенько услышали.
Мишка вылез из ванной. Засмеялся разоблаченным, но верным союзником, а мне было так стыдно, что я только бессильно простонала, сжав челюсти, и отвернулась к стене.
Хотелось зажмуриться и вырвать с корнем, как больной зуб, только что пережитую минуту. (Когда я была маленькая — я так и думала: зажмуриться посильнее — и забудешь что-нибудь плохое бесследно, как тряпкой с доски сотрешь.)
— Ну-ну... — сказал Мишка и тихо погладил, поцеловал, прикоснулся, как теплое дуновение. — Ведь мы с тобой муж и жена, что ты, как школьница... — И добавил с разбойной интонацией: — Ну, теперь-то у нас есть верных полчаса!
Через полчаса отец не вернулся, хотя уже и мог бы: постель убрана, мы с Мишкой одетые, хоть и щеки свекольного цвета. Мне хотелось сразу же уйти из дома, чтобы избежать встречи с отцом, и, проболтавшись с Мишкой где-нибудь в кино, вернуться домой поздно ночью, когда все уже быльем порастет, а отец, по обыкновению пьяный и все забывший, будет спать, валяясь на полу.
Но Мишка зашел на кухню выпить воды и встревоженно позвал меня.
На холодильнике лежал мой фломастер и красовалась развязная надпись: «Привет подружке Лиле. Галька».
Все я сразу поняла, не ясно осталось только одно: ведь отец сейчас заходил на кухню. Либо он был уже пьян настолько, что не заметил этой надписи и не стер, либо заметил, но оставил со всей полнотой мстительного вызова: мол, нате вам!
Или у него уже просто распались мозги, как трухлявый гриб — от алкоголя.
Я покраснела, я разгневалась, я, пробормотав какое-то проклятие, побежала в ванную, взяла тряпку, одеколон — давай оттирать надпись.
Я не могла ничего объяснить Мишке — а он ждал объяснений. Наконец спросил:
— Так что это?
— Не знаю, — буркнула я. — Придет — спросим...
Я тогда еще не понимала, почему не хочу говорить Мишке, я это поняла позже и благодаря случаю — но об этом потом, а в ту минуту, еще не зная почему, я соврала.
Впрочем, как Мишке соврешь? Он, конечно, увидел, что я все про эту надпись знаю. И он бы заставил меня открыть этот колодец и доискался бы до дна, и объяснил мне, п о ч е м у я стыжусь и хочу скрыть — но спас телефон. Он зазвонил. Я посмотрела на Мишку: может быть, он подойдет? Мишка отпасовал мой взгляд: во-первых, занят: думает; во-вторых, он тут давно не живет, звонить ему никто не может...
Руки у меня пахли одеколоном. И трубка пропахнет...
— Ольгин милый, наверное, — равнодушно сказала я и кончиками пальцев взяла трубку — Алло?
Слышу:
— Лиля? — вполголоса, Славиков. — Ты жива, все в порядке? Если да, то скажи: «Здравствуйте».
А я уж и забыла про него, хотя всего час какой-нибудь назад Мишка тряс его посреди улицы.
— Здравствуйте, — послушно повторила я.
— Ну вот, — одобрил Славиков. — А я за тебя испугался. Ну и дикарь же он у тебя, я удивляюсь, зачем тебе все это нужно! Ради чего ты терпишь? Ну, об этом мы еще поговорим. Сейчас скажи мне: «Вы ошиблись номером!» Ну?
— Вы ошиблись номером, — парализованно выговорила я.
— Вот молодец, — похвалил Славиков, тихонько засмеялся и повесил трубку.
Мишка смотрел в пол и молчал. Я забормотала:
— Может быть, мы поужинаем? Вот у меня тут вчерашняя лапша — вбить в нее яйца, сделать запеканку... — и бестолково хваталась то за кастрюлю, то за сковородку.
Нарезала хлеба. Хлеба было полно, и я вспомнила про отца: «И придумал же: за хлебом! Идиот».
Мишка молчал. Я сосредоточенно возилась у плиты. С каждой минутой молчания пропасть все безнадежнее углублялась, и все труднее было ее перешагнуть.
«Ну и пусть», — расстроилась я. И немного позже: «А он ведь и вправду дикарь», — так подумала с неприязнью и неотплаченной обидой.
Это чувство неотплаченной обиды, появившись, тотчас начало расти, как на дрожжах, в возмещение моей вины. Опять та сварливая бабенка во мне уперла руки в боки, сощурила глаза и возмутилась: сам изменил, сам же меня и бросил, ни слова не сказав, а я осталась беременная — кстати, ведь даже не спросит, как у меня дела, какие новости, как я себя чувствую — а туда же распоряжаться, людей посреди улицы расшвыривать — да кто он такой? Ишь!
Мрачное, нехорошее чувство к Мишке заполнило меня и вытеснило все, что было бесспорным час назад. А он молчал и почему-то не вмешивался, как будто оробел перед неизвестным оружием и ждал в сторонке, как оно выстрелит.
Вначале, когда мы только прибежали домой, без слов примиренные, было ясно, что это — возвращение. А теперь вдруг все изменилось — как, когда только успело? — изменилось назад, как будто фигуры вернулись в предыдущую позицию, а все произошедшее здесь сегодня потеряло значение, став просто слабым местным отступлением, ничего не изменившим в положении фронтов.
Я подумала: «Хорошо, что не успела предложить: пойдем к дяде Гоше, заберем твой чемодан».
Конечно же, он сказал, что есть не хочет.
Ну, и я тоже не хочу.
Я прошла в комнату и села в кресло. Я молчала с учтивой миной, как хозяйка, которая ждет, когда же гость сообразит, что уже пора уходить. Наконец мое насмешливое выжидание стало демонстративным, а Мишка все не мог взять власть в свои руки, как будто устал или заболел. Он в каком-то заторможенном состоянии слонялся по комнате и вдруг не к месту пробормотал, что надо бы поставить внутренний запор на дверь.
Я на это рассмеялась с веселой, добродушной даже издевкой:
— Это зачем? Чтобы я топталась под дверью и не могла попасть в дом, когда тебе это надо? — Я, сама не знаю как, взяла циничный такой тон: мол, мы с тобой товарищи, мы друг друга предали, но не в претензии друг к другу и ко всякому последующему предательству сможем отнестись с таким же пониманием, с веселым ироничным пониманием.
Вот этот тон и добил Мишку.
Я будто знала, куда и как бить. Будто нарочно.
Он тяжело оделся в прихожей, настолько подкошенный, что насилу проговорил: «Я пошел», — и голосом не оставил мне никакой возможности что-нибудь изменить. Впрочем, я и не собиралась менять. «Катись колбаской!» — подумала я, отвернувшись с равнодушием раньше, чем он вышел.
Дверь закрылась, я заревела, завыла в несчастье своей гордости.
Ненавидела Мишку.
Славикова ненавидела.
Отца и пововсе.
И себя, конечно.
Отплакавшись, я неприкаянно побрела по пустому дому и обнаружила письмо — в прихожей — от матери, опять распечатанное и прочитанное отцом.
Мать писала, что здоровье плохое, совсем разболелась, а тут еще душу изводит, что бабка Феня лежит у Вити, мучает людей. Вот такую обузу она взвалила на младшенького своего. «И никакой даже радости нет, что наконец-то в тишине да в чистоте живу. А этот клоп присосался к вам, ему-то что: ни бабки Фени теперь, ни работы никакой — живет, наверное, и в ус не дует. Еще и пьет, конечно: деньги все, что были дома, с собой прихватил. Я иной раз доведу себя, все злюсь и места себе не нахожу: взять бы его, как нашкодившего котенка — да носом, носом, вот пусть бы забрал свою бабку Феню да отделился, дом бы продали и купили две маленькие хатенки: в одну я, а в другую он со своей бабкой, — так нет, он ловко устроился, сбежал и поплевывает. Надоел ведь, наверное, вам пьянчуга проклятый, а, Лиля? Гоните-ка вы его в шею!»
Я с ужасом вспомнила про Гальку.
Ночевала я одна, в странно растерянном доме.
На улице ударил мороз, я вставала закрыть форточку, замерзнув под одеялом.
Глава 10
Думала, утром на кафедре будет стыдно взглянуть на Славикова — а оказалось, ничего. Даже более того: вчерашнее нас как будто объединило против нашего унизителя.
Славиков посмотрел на меня с состраданием: мол, бедная, сколько тебе приходится терпеть от того изверга! И мне самой, послушно его взгляду, стало жалко себя. Я села за стол, опустив голову, всем своим видом призывая его подойти, утешить меня, пожалеть. Он понял, чутко вытянул шею и поднялся из-за стола. Проходя мимо меня, дотронулся до плеча, стиснул: мол, крепись, не пропадем. Я благодарно коснулась щекой его руки. Потом подняла глаза, и мы улыбнулись друг другу: товарищество униженных и оскорбленных.
Расписание занятий в этот день было такое, что больше мы не увиделись: у меня на одну пару больше и в другом корпусе. И хотя заранее не договаривались, меня обидно задело, что Левка не дождался, ушел в такой трудный для меня день.
Почему-то я рассчитывала на другое.
И вот прихожу домой — никого. И впредь никого ждать не приходится. Отец, сумасшедший старый кобель, где-то пьет с моей бедной подружкой, а Мишка... Мишка больше не вернется.
Ну и радоваться надо! — уговариваю я себя. — Сделаю аборт, буду жить себе одна припеваючи.
В комнате, конечно, беспорядок. Запутались нитки какие-то в ковре, по углам, где не хожено, пухлая пыль — все подробно высвечено издевательским закатным солнцем. И моя оброненная длинная волосина на ворсе ковра дыбится горбом, как шагающая гусеница, и сияет, пронзенная светом насквозь.
Остригусь, — придумала я.
Вынула шпильки, выпустила на грудь свою экзотическую косу, этот уникальный анахронизм, постояла перед зеркалом и твердо решила: остригусь. В знак прощания. В знак траура, может быть.
Я поискала в себе глубокого, трагического чувства, какое полагалось к одиночеству, и не нашла. Только лениво шевелились скучные, муторные волны уныния.
Мне стало страшно: я гибну. Я старею, и чувства мои износились и распались, как у стариков. Бабка Феня из всей своей жизни затвердила лишь две-три истории и без конца их рассказывала, умиляясь и топя глаза в морщинках. Всю остальную жизнь она за трудами пропустила и не запомнила — как и не было ее.
Неужели и мне теперь бесчувственно жить вслед заботам, которые тащат куда-то в слепую тьму, однообразно повторяясь: зима — лето, зима — лето... И жить лень, и умирать неприятно.
И не будет больше никогда свежего, острого — детского: цветы в палисаднике, и я, маленькая и толстая, сижу в них, срываю нежный лепесток — и он дрожит, дрожит — не то сам живой, не то от жары, не то от света, который просачивается сквозь его нежную кожицу на ладонь цветною тенью... Или стоять на огороде и босыми ногами слышать прохладную утоптанную дорожку среди цветущих картофельных кустов, и вдыхать пчелиный воздух, загустевший от цветения... Вспомнишь — и сладкой слюной возобновляется на языке тот привкус неизвестного будущего, который один и делает детство счастливым, как будто детективный роман только раскрыт, и все еще впереди, в захватывающем «потом».
А теперь что — теперь убийца уже известен.
Мне хотелось, как ненаевшейся, припомнить еще что-нибудь из детства — горячее, пахучее, как оладушек, — и не нашлось чего. Значит, так оно и есть: становлюсь понемногу бабкой Феней. Пропустила жизнь, как нерадивый ученик уроки.
Я судорожно хватила воздуха и заспешила наверстывать жизнь — ничего, ничего, вот сейчас вымою пол, наряжусь и пойду по городу. И начну все заново, и догоню то, что прозевала. И встречу какого-нибудь, например, замечательного мужчину, полюблю его насмерть (думаю так, а самой смешно: после Мишки — мужчина? — все они славиковы, огородная мелочь, десятками выпалывать...) — и все-таки: полюблю насмерть — и как будто написали для меня новый детектив, испекли новый пирог, еще неразрезанный — и начинка мне еще неизвестна.
Я помыла пол, я прошлась лезгинкой по комнате, я оделась и вышла из дома. Вот и могу пойти, куда захочу. И никто не спросит отчета. И могу вернуться хоть к утру.
Ну, вышла... А куда, собственно, пойти?
Плохо зимой в городе. Со злобным звуком оскальзывают сапоги на буграх сдавленного снега.
В кино? В кино.
Билетов не было.
Я дошла до концертного зала. Там толпились интеллигенты у входа, спрашивали лишние билеты. Я тоже постояла минут пять, ничего ни у кого не спрашивая. Нет, я не надеялась на лишний билетик, так просто стояла, потому что трудно было уйти сразу.
Из первого попавшегося автомата позвонила Шуре: мол, не прийти ли тебе сейчас ко мне в гости, я квартиру вымыла (бодрым таким завлекающим голосом) и торт сейчас куплю.
Шура огорчилась: не получится сейчас прийти, потому что у них с мамой сейчас тоже как раз гости, хотя Билл с удовольствием бы прогулялся, он еще не выгуляный сегодня вечером, и «не собираешься ли ты, случайно, сегодня побегать?»
— Не знаю еще, — сказала я, — может быть.
Хотела было плюнуть на приличия и жалко попроситься к Шуре домой, к ее маме и к ее гостям, каким-нибудь добрым старушкам, но остановилась: нарушу старушкам все чаепитие.
Как специально. Все против меня. Как будто бог ветхозаветный, посылавший на неправый народ войны, засухи, мор и голод, чтобы, значит, народ одумался, — ополчился теперь против меня. Мол, неправа ты, Лиля, одумайся.
И все-таки я зашла в гастроном и купила торт. Притащилась с ним домой. Не выкладывая на тарелку, вырезала из круга сектор и безвкусно съела, запивая холодным молоком. Бр-р... мерзость какая. Я поглядела и увидела со стороны: стоит на столе в коробке торт со щербиной вырезанного куска, крошки рассыпаны по столу, и грязный стакан из-под холодного молока с налипшими на стенки комочками белых сгустков.
И тогда я кинулась к телефону с последним отчаяньем и набрала номер Льва Славикова. Думала, скажу сейчас: приезжай — и все. Приезжай хоть ты.
И будь что будет.
Ну, разумеется, если трубку возьмет не жена. ...А хоть бы и жена — скажу: мне Славикова! Потребую.
Трубку снял он.
— Здравствуй! — моляще произнесла я, уверенная, что больше ничего не понадобится говорить. «Ну вот, — было в этом з д р а в с т в у й, — ты хотел — и вот пожалуйста. Я, наконец, звоню. Я, наконец, жду тебя. Ты счастлив?» И он, все это услышав, закричит: «Я сейчас, сию минуту!», бросит трубку и помчится хватать такси.
Но ничего такого не вышло. Он нейтральным (для жены) голосом ответил: «Здравствуй» и ждал дальнейших сообщений. Растерявшись, я пролепетала:
— Что ты делаешь? Телевизор, наверное, смотришь?
Подумав, он ответил:
— Да.
Видимо, никакой телевизор он не смотрел, но посчитал, что так ответить дешевле всего. Я сказала:
— Я, собственно, просто так... Нашло. До свидания.
— До свидания, — ровно и вежливо ответил он.
Ну, после этого я себя выключила, чтобы не зашкалило от всяких там мыслей. Выключила, взяла книгу — выбрала рассказы Чехова: они занимали, но никогда не трогали меня, это сейчас и требовалось — и устроила себе комфорт: легла на диван, насыпав в блюдце кедровых орехов. И читала, лежа на животе и щелкая орехи. Книга прислонена к спинке дивана под уютным кругом света, тут же пустое блюдце сплевывать скорлупу. Замечательно!
Вскоре позвонила Шура, заботливо спросила:
— Ну, как ты? Может, прийти? Гостей мы уже проводили.
Я растрогалась, но теперь мне уже было хорошо, не смертельно.
— Приходи, — говорю, — торт будем есть.
— Нет, голос у тебя уже отогретый, я тогда поведу Билла гулять.
— Слушай, а не кажется тебе, что Славиков толстеет?
— Славиков? Да он у ж е толстый! — убежденно сказала Шура.
«Ну вот и приговорили», — подумала я, и даже жалко стало бедного Леву.
— Ну, как Билл? — спрашиваю.
— Передает тебе привет! — ответила Шура.
— Скажи ему, что завтра побежим! — пообещала я.
— Скажу! — нежно ответила Шура.
«Глупости-то какие, — растроганно усмехнулась я про себя. — Какие глупости».
Этот дымчатый дог Билл, избалованный красавец цвета сажи, разведенной в молоке, — что с ним творилось, когда я прибегала в тренировочной форме! Он бесился от восторга в ожидании пробежки и не знал, как ему выразить любовь и благодарность. Это страшно подкупало. Я просто плавилась от Билловой любви, она вполовину могла заменить человеческую, такую неверную, непрочную, ненадежную...
Захлопнула я Чехова, убрала орехи и стала натягивать спортивный костюм.
А ну вас всех, думаю, пойду к Биллу, перехвачу его на прогулке — и мы с ним пустимся бежать по улицам, заражаясь друг от друга восторгом, силой и счастьем. Собачьим счастьем.
У самого моего дома на остановке трамвай перегородил мне путь через рельсы. Он только что подошел, сцепленный из двух вагонов, и я остановилась: набраться воздуха и подождать свободной дороги. На остановке никого не было. Открылись двери, из первого вагона с трудом выбралась пьяная старуха. За ней следом выкарабкивался ее пьяный замызганный дед. Я опять подумала об отце: неужели прибился к Гальке? Да нет, не может быть, уехал домой...
Старуха, отойдя, поджидала деда. Я с интересом смотрела. Приятно смотреть со стороны на разрушение. На смерть — из безопасности.
Старик выполз из двери и остановился отдохнуть, привалившись спиной к трамваю. Больше никто не вышел. Двери закрылись, и трамвай тихонько тронулся с места. Пьяный дед скользил спиной по его движущемуся гладкому боку. Сейчас доскользит до сцепки и провалится в щель между вагонами — и следующим вагоном его перережет. Пьяная бабка бессмысленно глядит на предназначенного к перерезанию деда. Я стою в трех шагах и не двигаюсь. На остановке темно: в городе экономия электроэнергии, и трамвайщица, наверное, не видит. Дед пьяный и не понимает. Я успевала еще прыгнуть и отодрать его от скользящего бока вагона, но я оцепенела и жду, как будет деда перерезать.
Трамвай остановился.
Старуха, качаясь, подошла к деду и оттащила его от вагона, равнодушно ругаясь жуткими словами.
Трамвай ушел.
Я перешагнула было рельсы, чтобы бежать к Биллу, но вдруг поняла, почему я скрыла от Мишки источник надписи на холодильнике. А поняв, к Биллу бежать было уже нельзя.
Я вернулась домой.
«Требования, которые нам предъявляет трудная работа любви, превышают наши возможности, и мы, как новички, еще не можем их исполнить».
Мишка ушел, потому что я новичок. Он устал со мной без толку возиться.
Деда бы сейчас перерезало... А Гальку тогда, в школе, в восьмом классе, подружку, тоже на моих глазах переехало, и мне повезло близко насладиться зрелищем...
Я читала какой-то американский рассказ про фотографа, который мечтал заработать на сенсационном снимке. Он установил свою камеру на крыше небоскреба и изо дня в день дежурил там, поджидая самоубийцу, который бросится вниз, — чтобы заснять его в падении. Он дождался, ему повезло. Он получил и деньги, и бездну удовольствия.
Галька жила по соседству, она прибегала ко мне списывать уроки, а вечером мы ходили в кино. В восьмом классе она перестала заходить за мной, а однажды я увидела, как она прошмыгнула перед самым сеансом в дверь кинопроекторной, на которой было написано: «Посторонним вход воспрещен». На другой день я приперла ее к стенке. Детское сердце не выносит тяжести тайны, оно ищет доверенного или, на худой конец, разоблачителя. И Галька с облегчением, с хвастливой гордостью п о с в я щ е н н о й и с замирающим счастливым ужасом выдала мне свою смертную тайну.
У меня захватило дух, но не от зависти, которую Галька как бы заранее предполагала, а от сладкого свидетельства чужой гибели. Сама я находилась в полной безопасности и безответственности — ведь гибель получалась не трагическая, а добровольная... Ведь на мое жуткое «Ой! Ты с ума сошла!» она только рассмеялась, унесла взгляд поверх моей головы куда-то в тайную даль и в глазах имела непобедимое знание.
Можно было загородить ей дорогу, со слезами не пускать ее больше в эту дверь, куда посторонним вход воспрещен, а я наоборот норовила припоздать к сеансу, чтобы подсмотреть, как приоткроет дверь этот приезжий киномеханик с чубом набекрень, с опьяняющим, утомительным взглядом зеленых глаз, и Галька прошмыгнет туда...
И ее лукаво-горделивый шепот: «Он мне дверь откроет через минутку после начала сеанса, я туда проскользну и запру за собой. И никто-то нас не видит и не слышит, аппарат стрекочет, и сами-то мы друг друга не видим и не слышим, и поэтому вроде бы как ничего и нет. ...Он мне на прощанье и шепнет на ухо: «Приходи еще». А чего, вроде бы, шептать: хоть кричи, никто не услышит. А вот именно шепнуть!..»
И еще одно: Галька не знала, как его зовут, и мы обе чувствовали, что именно так и н а д о!
Я выжидала: грянет гром — не над моей головой. Я хотела скандала, я хотела трагедии, и чтобы мне незаметным зрителем следить из темноты зала. Гром грянул, Галька ходила опухшая и заплаканная, деревня шумела: скандал! школьница! Киномеханик смотался из деревни в неизвестном направлении, но Галька его все равно не выдала. Ее отправили в город к родне, мать со страху месяца два не выпускала меня из дому, а потом все забыли, и я быстренько забыла и продолжала жить свою аккуратную безопасную жизнь.
И надо же было судьбе или кому там еще выпихнуть на меня эту Гальку теперь — с ее глумливой надписью на холодильнике, с их вопиющей связью с моим отцом — эту горемычную Гальку, — и я действительно не могла сознаться Мишке — потому что даже я, новичок, чувствовала, всегда подспудно чувствовала, что я виновата в Галькиной гибели, и мне бы лучше никогда в жизни ее больше не встречать.
Но Мишка все равно понял. Он вот что понял: что я новичок.
Глава 11
Следующий день у меня был пустой, без занятий, и это хуже всего. Я придумала себе какие-то дела, завела стирку, перебрала все вещи в шкафу. И с надеждой смотрела на телефон: вот сейчас он зазвонит — и что-нибудь начнет происходить.
Гибла я без Мишки.
На каждый звонок бросалась, как голодный воробей на крошку хлеба. «Нет, это квартира!» — отвечала я и бросала трубку, не дослушав «извините».
Но хотя бы Славиков-то должен был позвонить, объясниться за вчерашний наш телефонный разговор!
Собралась отнести в химчистку осеннее пальто и передумала: я уйду — а вдруг в это время кто-нибудь позвонит.
Вот до чего дошло.
Потом позвонила Анатолиева жена Маша, с родственной заботой спросила, не надо ли мяса. Она иногда совершала такие поступки. А я не отказывалась: гордость гордостью, но на базаре вдвое дороже и хуже, и там очередь, — короче, я считала, щепетильность мне не по карману. От Мишки легко было скрыть: он не замечал, что ест, и не интересовался, откуда берется.
Поступок скрыть можно — да, но возможность этого поступка остается на лице несмываемым следом. То ли в выражении лица, то ли в голосе, в жестах — но улика есть, особенно такому проницателю, как Мишка, — ему факт не важен, ему достаточно склонности.
— Ну когда приедешь забрать мясо? — повторила Маша.
— ...Не надо. Мне не надо мяса, Маша!
— Хозяин барин, — с холодком ответила она.
Я спросила, очень осторожно, бывает ли у них отец. Маша ответила, что был как-то раз, в воскресенье, посидел час и ушел.
Вот, значит, как. Значит, тогда за ключом ко мне он приходил уже от т о й.
— А что, он разве еще здесь? — равнодушно поинтересовалась Маша.
— Да вот исчез...
— Ну так я и говорила — перебесятся и помирятся. Уехал домой, — скучно объяснила она.
Впрочем, и в самом деле, чего волноваться? Отец не маленький. Пусть живет, как хочет.
Потом звонил Ольгин милый. Я даже обрадовалась: сейчас стукну по батарее, прибежит Ольга, и ее высказывания развлекут меня. У нее на любой случай жизни найдется два-три среднепотребительских афоризма. Что называется, житейская мудрость — все-таки она утешает, созданная в очередях и на кухне. У нее есть одно дорогое свойство: всегда выходит так, что мы правы, а виноваты — о н и.
Ольга разговаривала с милым.
Милый искал с ней ссоры, а она дипломатично от ссоры увертывалась. Принужденно смеясь, она отводила какой-то его довод:
— А ты знаешь, человека всегда что-нибудь должно губить, иначе ему не приходится бороться, и жизнеспособность пропадает!..
Положив трубку, она еще некоторое время стояла у телефона и не оборачивалась. Я испугалась: уж не плачет ли.
— Хочешь торта? — сказала я с жалостью.
Она обернулась:
— Ты с ума сошла! Торт женщине в моем возрасте! — И, чуть потянувшись, провела ладонями по своим девичьим бокам. — Ты думаешь, это просто так дается? Ничего просто так не дается, за все втридорога заплатишь! — мудро изрекла она.
Разумеется, никаких следов расстройства на лице не было. Это меня и рассердило: черт возьми, серьезная идет жизнь или мы все только «приставляемся»?
— Как же не дается? Ты вон как хорошо приспособилась: с любви только сливки снимаешь. Чужой муж. Хлопоты, болезни — не на тебе. У тебя только неумолкаемый праздник. Моя невестка на мясокомбинате работает, питается исключительно вырезкой. А потроха — остальным. Так и ты.
Я говорила, сознательно нарушая границу соседских отношений. Такие неосторожные и злые слова может простить только родной человек, уверенный в любви.
Я взглянула: что будет? — но Ольга не обиделась. Она и со мной на ссору не пойдет: ей мой телефон нужен. Так что я могу сколько угодно отводить душу...
— Ты считаешь? — с улыбкой удивилась она. — Может быть... Только ведь вы, законные жены, не согласитесь со мной поменяться. Вам нужен крепостной мужик, чтоб за вами документально закреплен был. Куплен раз и навсегда в вечное пользование. И потрохами готовы питаться, еще и спасибо говорите. А я, между прочим, живу без гарантийного документа! — Ольга старалась говорить шутливо, без малейшей обиды. — И вырезку свою отрабатываю каждый раз заново, как пролетарий без частной собственности. Дай спички!
Она вынула из кармана рубашки сигареты. Я подала спички.
— Давай, еще пожалуйся мне на свою несчастную судьбу!.. — мрачно брюзжала я. И рассердилась: — Не кури, меня тошнит!
— Хм, с чего это вдруг? — неуязвимо улыбалась Ольга. И эта ее неуязвимость и ускользаемость выводили меня из себя. Так и хотелось ее чем-нибудь зацепить: чтоб ей стало больно или хоть как-то о щ у т и м о.
— А с того, что я беременная! — сказала я с вызовом.
— Ну и дура, — невозмутимо заключила Ольга.
— Конечно, дура. И слава богу. Потому что если все будут такие умные, как ты, жизнь остановится. — Я дерганно ходила по комнате и сжимала ладони, вообразив Ольгу виновницей всех моих бед.
— Ну и зачем тебе это надо? — рассудительно сказала она. — А где, кстати, счастливый отец? Что ли, еще не приехал?
— А счастливый отец меня бросил! — гордо и торжественно заявила я, как бы обвиняя их огулом — и Ольгу, и счастливого отца, и всю остальную сволочь.
— А-а... — Ольга погасила сигарету и притихла. — Устроить тебе врача?
— Я рожать буду! — драматически выкрикнула я, желая окончательно добить невозмутимую Ольгу.
Но тут же прикусила язык. Что я говорю! — еще придется из самолюбия сдерживать слово, а это в мои расчеты не входило.
— Ну, а он-то знает?
— Нет. — Я присмирела.
— М-да... — вздохнула Ольга, и лицо ее стало как бы без грима, настоящим.
— Что же ты закручинилась? — усмехнулась я. — Тебе ли за меня горевать? За нас, законных-то жен... Кстати, ты можешь на этом нажиться. Разыщи Мишку, и будет тебе новенький неумолкаемый праздник, старый-то износился, похоже? Как говорится, кому война, а кому и мать родна.
А у Ольги даже после этого уцелело настоящее лицо. Она промолчала и тихо ушла.
Славиков так и не позвонил.
Я вычеркнула его из списков.
Надо было брать себя в руки и жить дальше.
По вечерам я бегала с Биллом в надежде, что моя беременность вытряхнется. Шура робко советовала:
— Может, все-таки родила бы, а?
Я даже не отвечала на это.
Ну, говорит Шура, тогда так: нужно лечь на спину в темноте, расслабиться, и все силы, какие есть, вложить в ненависть к плоду. И он этого не выдержит. Но если не получится, то не дай бог тебе сохранить такого ребенка. Это будет подранок.
И подробно объясняла мне какие-то гималайские приемы отторжения ребенка при помощи психической энергии.
У меня, однако, ничего не вышло: ни сосредоточиться, ни возненавидеть мой плод.
Оставалось только бегать. Впрочем, и это я делала без особого рвения. То и дело сама себя ловила на том, что бегу о с т о р о ж н о. Что это? — На всякий случай? Этого я в себе не понимала.
На перекрестках я придерживала Билла, чтобы не угодил под машину, и озиралась, труся через дорогу. Улицы почти не освещались.
В темноте из-за дерева выступила с зазывающей улыбкой пьяная бабенка и лукаво проговорила:
— Мальчик с собачкой, а мальчик с собачкой, как тебя зовут? — И для пущего соблазна она наклонилась поправить чулок, подчеркивая свою женскую природу.
Я еще пробежала какое-то расстояние по инерции, не уразумев, что мальчик — это я, но меня что-то остановило в лице этой женщины. Даже в темноте видно было: лицо тлело, раскаленное алкоголем, как сгоревшая головешка, и недолго уж осталось ему дотлевать. Но не это меня задержало.
Я оглянулась и окончательно поняла: Галька! Я растерялась, и обрадовалась (нашелся след отца), и испугалась (тоже: нашелся след отца). И подошла вплотную.
Билл с достоинством ждал.
— Галька, да ведь я не мальчик, я Лиля. Вышла на мальчиков охотиться, а куда моего отца девала?
— Ой, Лилька! — Она издала что-то похожее на хлюпанье гнилой воды в кадушке — это был ее смех. — Да мне и мальчики, и старики годятся! Все замену ищу своему киномеханику, такого же умельца подыскиваю, — с отталкивающей доверительностью прохрипела она, и голос был хромой и не держал интонации.
— Где отец?! — настойчиво спросила я и с ужасом поняла, что забирать его сейчас из Галькиного ада — все равно что из госпиталя получать калеку.
— Ну, где... — протяжно завела Галька. — А я знаю, где? Был и нет.
— Как нет?! Неделю назад, когда ты была у меня дома, он пришел к тебе и остался. Где он теперь?
Галька бессмысленно пялилась на меня.
— Ну, ты еще написала на холодильнике «привет подружке Лиле»?
Она опять захлюпала своим неровным смехом:
— Лиль, а помнишь, мы с тобой в первый класс вместе пошли. А? У тебя еще были новые туфли, и ты все время наклонялась с них пальцами пыль стереть...
Она была пьяная, мысли рвались, и про отца она уже упустила.
Я кинулась прочь, запятнанная каким-то тлетворным ужасом. И Галька не удивилась моему внезапному бегству, а равнодушно отвернулась и побрела своей дорогой.
Дома я по телефону дала телеграмму матери, чтоб сообщила, как там отец, уехавший неделю назад.
И никак не могла успокоиться от гадливости: Галька и мой отец; и еще то, что она приняла меня за мальчика и поманила, заголив худые коленки. Так мне и надо! Она преследует меня, призрак, упрек мой, отмщение. Бог мне ее не простит...
Я трясла головой, чтобы забыть, меня тошнило. Я едва успела добежать до ванны — вырвало.
Начинается, — тоскливо подумала я и назначила себе завтра же пойти к врачу и взять направление в больницу: покончить с этим.
Тут позвонил Мишка. Тяжелым, надсадившимся голосом спросил, как дела. Я мрачно ответила спасибо, все в порядке. И положила трубку.
Вернулась в ванную, прополоскала рот, умылась и, не утирая лица, заревела дурой, сев на край ванны. Из автомата ведь звонил, и как теперь этот звонок воротишь!..
Глава 12
Рассеянная докторша без разговоров выписала мне направление. А я-то приготовилась выслушивать долгие уговоры и предостережения.
Видимо, я уже старая.
Либо сменилась демографическая политика. И то верно, вон сколько народу развелось, не протолкнуться, — думала я, торопясь на автобус.
На остановке уже стоял мой автобус, но я не могла перебежать к нему улицу: шли машины. Вот досада! Стою в десяти шагах от автобуса, он сейчас уйдет, а следующий, как водится, будет минут через двадцать — и я опоздаю, а у меня назначена встреча с академиком, — я везу ему на отзыв труды нашей кафедры.
Нервничая, я заметила краем глаза неподалеку от себя девочку лет десяти: она среди торопливых людей выделялась неподвижностью — никуда не шла и, замерзнув, тряслась.
Автобус ушел, а машины все текли не переставая по улице. Я с досадой посмотрела на часы. Нехорошо: академик!.. Оглянулась на девочку. Мороз подгонял людей, мгла висела в воздухе, а девочка стояла, как будто некуда было ей пойти. Я рассмотрела: грязные колготки на тоненьких ножках — простые, не шерстяные. Только увидела я эти колготки — сразу замерзла. Из-под пальтишка висел отпоровшийся подол школьного платья, а на голове коробился линялый байковый шарфик. И мне стало страшно — но не от тощенькой этой одежды — лицо! Заплаканное или замерзшее и оттого опухшее, оно выражало привычное равнодушие.
А все же главное было то, что я опаздываю к академику. А девочка — что ж, девочка сбежала из пьяного дома и теперь скитается. Конечно, горькое дело, но чем тут помочь? Ну, предположим, подойду, расспрошу: откуда, почему стоит здесь, замерзши до последней крайности, а не зайдет погреться хотя бы в магазин. Проявлю участие. А дальше что? Отвести ее к матери-забулдыге в нетопленую хибарку? — к академику опоздаю. Да и не пойдет она домой. И на вопросы отвечать не станет: она уже отлично понимает, что в таких вопросах не столько участия, сколько жадного любопытства к чужой беде. Привяжется этакая тетя со своим участием...
Я смотрю в даль улицы, не идет ли автобус. Автобуса не видно.
В стороне от девочки стоят двое мужчин и что-то с сомнением обсуждают — видимо, дорогу, потому что доносится: «Дом Советов... Свердлова».
Я подумала: может, девочка с ними? Да нет же, ни один из них не подходит ей в отцы — у обоих вид сытых завхозов, а у девочки из-под коробящегося шарфика торчит клок недавно и неровно отросших волос, как бывает после стрижки наголо. Тиф, что ли? — глупо мелькнула мысль. Разве тиф сейчас бывает?
Машины уже прошли, дорога пуста и можно переходить к остановке. Но автобус покажется еще не скоро, а девочке холодно: она стоит, втянув плечи, экономит тепло. Большие холодные рукавицы и войлочные сапожки, должно быть, простыли насквозь. Мне бы сейчас расстегнуть шубу да спрятать девочку у своего живота, у тепла, обнять и угреть, — но как то будет выглядеть посреди общего спокойствия? — вокруг спешат озабоченные люди, переходят улицу, грамотно оглядываясь сперва влево, потом вправо; скользят взгляды, ни на чем не останавливаясь. Ни бомбежки, ни опасности — и вдруг мой спасательский порыв? Да сама девочка напугалась бы.
А может, мужики все-таки при ней? Один из них остановил прохожего и уточняет дорогу, а мерзлая девочка ждет.
Но нет же, — убеждаюсь я, еще раз присмотревшись: — они ей чужие, не оглядываются на нее, и она от них ничего не ждет. Тоскливо прищуренные девочкины глаза — вообще мимо людей.
И вот я уже почти пошла к ней...
И тут мужички-завхозы, видимо, что-то решили наконец, определились с дорогой и двинулись через сквер. И девочка потрусила следом за ними. Один из завхозов, вспомнив о ней, запоздало оглянулся, кивнул неохотно и как бы с гадливостью: мол, пошли. Но она уже и так шла, шагала, отрывисто семеня, вжав холодные плечи, а я, обернувшись, смотрела, как она идет колючей своей маленькой походкой, почти негнущимися ногами, а мужики впереди разговаривают между собой, и теперь стало видно, что вообще-то они эту девочку чувствуют при себе, но не с опекой чувствуют, а с досадой, как обузу, и один еще раз оглянулся, чтобы убедиться: идет, не потерялась, да и куда она денется!
Побегу сейчас, догоню, отберу, закричу, как смеют они так не жалеть этого чужого, казенно порученного им ребенка — видимо, повезли в детдом сдавать, а в деревне померла ее мать-одиночка.
Но пока я наполнялась решимостью, подошел автобус, и если я пропущу и этот — все, конец, ведь а к а д е м и к же, время у него д о р о г о е, а я тут гоняюсь по улицам за завхозами, спасая сирот.
Да и замерзшая эта тоскливая девочка уже скрылась за спинами горожан в морозной мгле, и когда автобус наш уже поехал, вот тогда только решимость моя дошла до полного убеждения, и тут бы закричать, остановить автобус, выскочить, побежать, отнять!
Но лица у пассажиров такие сонно-спокойные, мой крик наделал бы переполоху в битком набитом автобусе — и все до единого обернулись бы ко мне, да и где уж теперь догонять — мы отъехали далеко.
Бросила девочку, бросила! — чуть не заплакала я.
Но ничего...
Академик оказался занят чем-то более интересным, чем я, и вместо себя прислал секретаршу — секретарша забрала у меня папку и спросила, не надо ли передать что-нибудь ему на словах.
Встреча с секретаршей заняла полторы минуты.
Вернулась в город, зашла в магазин за едой. Стояла в очереди перед кассой, входили новые покупатели, одинаково озирались, одинаково искали на входе корзинку для продуктов, и выражение лиц было у всех одинаковое. И у меня такое же. Мы были все на одно лицо.
Дома опять вспомнила о девочке... Заревела в голос: зачем бросила ее!
Потом звонила: в детдом («У нас только до трех лет детки поступают»), в детскую комнату милиции («Нет, сегодня никого не приводили, позвоните в милицию: бывает, туда привозят детей, когда не знают, куда их определить»), в милицию. Нет, не было, нет, не поступала.
Но хоть досыта наревелась.
Успокаиваясь, думала: может, и к лучшему. Ну, взяла бы девочку к себе — а вдруг она уже безнадежно порочная, стала бы красть, другие тайно-гадкие штучки... Я подозревала бы, не доверяла, не любила... Может быть, укоряла бы за неблагодарность. А она за одну только необходимость быть благодарной возненавидела бы меня.
А может, и правы равнодушные люди? Пусть уж лучше в детдоме: там хоть и не достается отдельной любви каждому ребенку, зато никому не обидно, и все не из милости сыты, а по праву.
И вдруг я поняла, что рожу, обязательно нужно родить этого моего нечаянного потомка, пусть побольше будет на свете людей, любимых матерями... Я достала из сумки бумажку — направление в больницу — и разорвала в клочки, чтобы сделать решение бесповоротным.
В тот же вечер зазвонил телефон — и мать из деревни, с почты растерянно говорила: «Да как же это... Где же его теперь искать? Витя уж поехал к тебе. На розыски...»
Голос был слабый, перепуганный.
Ночью я проснулась и поняла, что я бездомная. Потому что дом — это где тебя любят и безутешно ждут. А я, бездомная Лилия, лежу одна зимой в своей квартирке, и никто во всем мире сейчас не думает обо мне, не любит и не ждет — на много верст кругом, — и только виднеются в окне заснеженные крыши чужих домов, в которых я никого не знаю.
Ясно стало, что отца искать живого не придется, не было ему резону оставаться живым. Я завыла.
Вот и пришло мне время вспомнить об отце. Спохватилась шапки, когда голову сняли...
Однако в раскаянии я не пускала себя далеко, за болевой порог вины — мне бережно надо было с собой обходиться: ради поселившегося по мне ребенка.
Им я и утешалась: представлю себе малюсенького младенца, как он во сне раззявит свой беззубый рот и улыбается, беззвучно улыбается чему-то там, клоп такой!.. Говорят: это ангелы его смешат.
А отец гордился моей толстой косой...
Шура сказала: «Это потому, что вы все его забыли», — и заплакала, будто обвинили ее, а не она.
Отца лыжники в лесу нашли, замерзшего. Когда мы спохватились, он был еще в морге.
Я поехала в тот лес. И прошла по утрамбованным лыжням до того самого лога. Отец приехал сюда к ночи. Как потом оказалось, Мишка в тот вечер тоже ехал в этом автобусе и видел отца — жизнь закручена ловким сценаристом, и ничего случайного в ней не происходит. Наказать следовало нас обоих — и меня, и Мишку.
— Борис Ермолаевич! — сказал Мишка, сев рядом с ним. — Куда это вы?
Мишка не знал, что отец больше не живет у меня.
А отец не знал, что Мишка больше не живет у меня.
Они оба ничего друг про друга не знали. И отец, обернувшись и узнав Мишку, прищурил свои загнанные глаза и с вызовом гордой обиды ответил:
— Я — к Анатолию!
Мол, не думайте, что если выжили меня, так мне уж и деваться некуда. Ах, бедный отец, он не знал, что Мишка тоже ушел из дома часом позже его...
А Мишка не понял всего значения этого надменного ответа. Вникать ему было некогда, он спешил сообщить:
— Я нашел вам место дворника, как раз сегодня. Хорошо, что встретил, а то собирался завтра звонить.
Отец молчал.
Мишке надо было уже выходить, он наспех объяснил, куда следует явиться.
Отец пробормотал что-то вроде «Ничего... Я у Анатолия... Не нужно ничего...», но Мишка еще раз настойчиво повторил адрес. И только когда вышел, а автобус ушел дальше, Мишка сообразил, что Борис Ермолаевич заблудился, что этим автобусом ему не доехать до Анатолия, и это было досадно, потому что время позднее, и трудно будет Борису Ермолаевичу теперь правильно сориентироваться.
Когда нашли отца, из кармана его полушубка выглядывала плюшка за двадцать две копейки, надкушенная, и Мишка тоже эту плюшку запомнил.
В ту ночь сильно окреп мороз, и, может быть, я вставала закрыть форточку, замерзнув под одеялом.
Но должны же были мы почувствовать его смерть! Или она пришла неслышно, и он не послал того прощального импульса страха, от которого затосковало бы кровное сердце? Говорят, когда замерзают, то просто сладко засыпают, неслышно отходя... Какой тут импульс? А может быть, и послал, да все спали, не обратили внимания. А если и проснулись от непонятной тревоги, то каждый эту тревогу объяснил по-своему. Я представляю: проснулась мама — крапчатый сумрак в окне, скоро утро, вставать, заносить уголь да топить печь... борщ ставить... Ох!
А бабка Феня, может, и прислушалась тайно к какому-то голосу — но она уже забыла чувствовать себя человеком.
И сына забыла.
Я проехала отцовский путь на автобусе, я прошла по лесу до лога, в котором его нашли лыжники.
В лесу все было исчеркано вдоль и поперек лыжнями и дорожками. И как тут было заблудиться? — сперва подумала я, а потом, чем дальше в лес, — поняла, что именно потому и можно заблудиться, что лыжни путаются и пересекаются, как в лабиринте. И все-таки лес домашний, нестрашный, и вечер тогда стоял теплый — я так думаю, у отца не было мысли о самоубийстве. Мысль эта разрушительная, ужасная, а отец человек слабый, он бы не вынес ее. Скорее всего, произошло это нечаянно, само собой; скорее всего, он не запятнал сознания мыслью о самоубийстве, и ему удалось бестревожно заснуть под деревом. Ведь зачем-то он покупал себе эту плюшку...
Наверное, небо ночью очистилось, звезды обнажились к морозу и сияли, но он, я думаю, не посмотрел в небо и не взмолился богу, отцу своему, в страхе остаться одному в такой час. И про свою прошедшую жизнь не вспоминал, а то выходило бы, что он перед смертью как бы соборуется. Я знала своего отца — он как я, нет, он еще трусливее меня, он спрятал голову под крыло и просто заснул, надкусив плюшку и прожевав застывший кусочек... А остальное запихал обратно в карман: впрок.
А еще дня за три перед тем Мишка видел его темным вечером у гастронома: он привязывался к какой-то пьяной шлюшке. Та досадливо отмахнулась: «Уйди, дед!» и отвернулась, кого-то деловито высматривая среди прохожих. Дед стоял, обескураженный, не уходил, и тогда она оглянулась, попросила: «Уйди, дед, не путайся под ногами» и засмеялась искаженным, больным смехом.
Я, слушая, опустила лоб на ладонь. Мне нельзя было смотреть на Мишку: не было сил сознаться ему, кто была эта самая женщина... наша с ним одноклассница, преданная мною, оставленная на погибель подружка Галька.
Мишка тогда остановился у стены гастронома, слившись с темнотой, и колебался: то ли подойти и забрать отца, увести его от этого позора, то ли, может, наоборот, он только ввергнет старика в страшный стыд, обнаружив себя при этакой сцене, — и лучше пощадить его бедную гордость и удалиться незаметно.
Но тут старик сам побрел прочь, махнув рукой, и тогда Мишка решил кровь из носу устроить этого неприкаянного человека, и три дня энергично занимался этим: нашел подставное лицо, кого можно было оформить дворником и прописать в дворницкой квартире, где сможет жить несчастный этот растоптанный дед.
Мишка все устроил и в тот же вечер встретил отца в автобусе. И был, кстати, немножко задет, что отец нисколько не оценил его усилий...
Я вернулась из последнего отцовского леса и вяло брела домой. Люди спешили по улице, набивались в транспорт, на остановке нетерпеливо вытягивали шеи: не идет ли их автобус. Проходили, скользя, мимо витрины гастронома и, освещенные синюшным люминесцентным светом, опять казались мне все на одно лицо: приобретатели.
Две дамочки просеменили мимо меня, борясь со скользкой дорогой. Одна с прононсом страдала: «Ах, я кусала локти, я буквально кусала локти, прямо из-под носа!..»
Две старушки — одна другой — с негодованием: «А у них ведь как: они сразу пишут пятьдесят-шестьдесят процентов износа!..»
«Из-под носа — износа», — рифмую я их страсти, возвращаясь домой из леса, где замерз мой бедный отец. Дома меня ждет Витька.
Он много хлопотал, он оформил все бумаги и организовал все необходимое для перевозки отца домой, в деревню. Я возненавидела его: такой он хороший.
Что особенно досадило мне: оказывается, бабка Феня начала там поправляться — у Витьки и его Ангелины. Я это понимаю: у них ясные лица, и около них всем становится хорошо без всякой видимой причины. Покой скапливался вокруг них, густел и стоял облаком, как запах меда на пасеке. Я знала эту безмятежную Ангелину.
— Любовью, значит, лечите? — ехидствовала я.
— Уважением, — отшучивался Витька.
— Необъяснимый случай медицины, — злилась я. — Пиши диссертацию. Нет, лучше собирай убогих по миру и исцеляй. Прославишься. Пойдут паломники. Всех облюбишь, всех обнадежишь, всех излечишь. Прослывешь святым... Так хорошо живешь, что ли, со своей Ангелиной? — спросила я недоверчиво.
— Да, — просто ответил он.
— Генерируете вокруг себя мощное поле любви, около вас можно снимать до трех урожаев пшеницы в год? — продолжала я глумиться, не в силах вытерпеть Витькиной простоты сердечной. — И тропические плоды вблизи вас могут вызревать в условиях Сибири. Посадите в кадку апельсиновое дерево. И лимонное.
— Ты чего бесишься-то? — спокойно спросил Витька.
— Видимо, отцу нашему надо было у тебя жить: помолодел бы только. А около меня, вишь, чего. Видимо, я не любовь, а ядовитую эманацию излучаю.
У меня начиналась истерика.
— Что такое эманация? — спросил Витька с детским любопытством.
Я крикнула:
— Уезжай-ка ты домой, я видеть тебя не могу, такой ты у нас расхороший! — и у меня выступили злые слезы.
— Да завтра же вместе поедем, чего ты?.. — испугался он. И со вздохом добавил: — Ну хочешь, я за Михаилом схожу?
— Нет! — у меня аж голос зазвенел, так я натянула это «нет».
Похоже, я начинала сходить с ума.
Витька позвонил Шуре, она прибежала, но я притворилась уснувшей, и они с Витькой тихо разговаривали на кухне.
Глава 13
Приехали на похороны — мать смирно спросила: «Миша-то где?» — я не ответила, не было охоты объяснять. Она виновато опустила глаза и не переспросила: Еще долго ей во всем будут мниться укоры...
Бабку Феню привезли от Витьки на прежнюю ее лежанку — чтоб простилась с гробом сына. Она оставалась равнодушной.
Тетя Лиза от имени всех сестер ездила в районную прокуратуру, чтобы подать на нас в суд — на жену и детей, доведших человека до смерти. Ей ответили, что юридически никто не виноват. Да как же не виноват, добивалась тетя Лиза, разве от хорошей жизни пошел бы человек в лес замерзать?
Тетя Лиза была права: нас надо было судить и посадить в тюрьму.
Сестры шли за гробом гордой кучкой, ни одна из них не подошла к матери.
Солидарные же мамины подруги, жены пьяниц, утешали ее такими словами: «Хоть бы они все, окаянные, перемерзли да перетопли со своей водки! Господи, прости!»
Экспертиза показала, что отец был пьян, когда замерз.
Кладбище располагалось на горке, на виду всей деревни, и я издалека заметила, как торопился по дороге Мишка. Я отвернулась от могилы и пошла одна ему навстречу. Мы сошлись у кладбищенских ворот. Он смотрел с осторожным вопросом, боясь за мое состояние. Он был как побитый. «Откуда узнал?» — спросила я. Он ответил: «Шура сказала».
Конечно, Шура, кто же еще.
На поминки мы не могли идти. Мы оставили мать на ее подруг — пусть празднуют эту тризну, как свою победу.
Все понимающий Витька окликнул нас и дал ключ от своего дома.
Мы истопили там печку.
— Миша, в чем смысл жизни? — спросила я.
Он ответил:
— Чтобы в том месте, где находишься ты, свет не проваливался во тьму, а чтоб была ему опора.
Я сказала:
— Когда я с могилок увидела тебя, то было в первый момент такое чувство, будто я долго плыла по морю на обломке — и вдруг земля. Да... Но в следующий момент я сообразила, что это ты, что никакая ты не земля и что, пожалуй, при первом же шаге провалишься. И нет смысла выбираться: все равно на этой почве ничего не растет, гибель, и уж лучше проплыть мимо да потонуть сразу, чем цепляться за тебя.
Мишка молчал, потом сказал:
— Вот родится ребенок — обоих нас вытащит.
Значит, Шура и это сказала.
Нашли у Ангелины на полках кофе и турку. Мы очень устали от несчастливой жизни, мы наголодались и не могли расточительствовать: я подбирала каждую кроху бытия, впиваясь в нее жадно и пристально. Я, как жрица, исполняла — преисполняла — весь ритуал хождения по комнате, весь ритуал поворота головы; медленный, подробнейше переживаемый ритуал насыпания кофе в турку, и кипячения воды, и помешивания ложечкой.
Хватит жить вполуха и вполглаза, хватит небрежно перелистывать дни, как книгу, пустив толщу листов стрекотать из-под пальца! Время потекло медленно и строго, оделяя все мелочи глубоким смыслом.
Мишка тоже проникся, но целомудренно опустил голову, как недостойный.
Потом пришли Витя с Ангелиной. Все переменилось. Наш полет тихо кончился, зазвучали голоса — земное явление.
Ангелина похвалила нас за печку, которую мы затопили. Я разлила кофе в четыре чашки, мы скомканно его сглотнули. Ах, кофе — дело тайное, его надобно пить в одиночку.
Ангелина что-то ровно и безмятежно говорила, я же не понимала — слух мой был прозрачен для ее слов. Я вся была прозрачная от пережитой минуты проникновения духа, как поляризованный кристалл. Мишка пристально смотрел на меня — тоже прозрачными глазами. В таком состоянии мы никак не годились в компанию Ангелине.
И вот — схоронили, вернулись, живем дальше. Я успешно преодолеваю день за днем, не то чтобы простив, а как бы з а б ы в себе все. Есть такая спасительная возможность у памяти.
Я преподаю, бывает и радость, бывают и высокие приступы нежности, и то, что возникает иногда в молчании, в музыке и побеждает все незначительное.
Много всего умещается в жизни. Хватает, чтобы обойтись без обдумывания произошедшего — ну, произошло и произошло, время глагола прошедшее — и я жила бы д а л ь ш е, в п е р е д — с прежней детской уверенностью, что все именно там, впереди — пока лбом не упрешься в стенку... Я жила бы так, если бы не Мишка.
Только глядя на него, я иногда в сомнении остановлюсь и призадумаюсь, — ведь он, беспрестанно мучаясь загадкой жизни, не может перешагнуть и идти дальше, пока не сковырнет тот пень, о который споткнулся.
Вдруг скажет:
— Ведь мы сами не догадываемся, как страшно зависим от того, к а к жили наши родители. У нас вовсе не отдельная жизнь, это только кажется.
Или:
— Никогда мне все равно не долезть до той точки, до Шуриной точки сознания, — никакими трудами, а она без всякого труда, она просто там родилась.
К Шуре его неодолимо тянет зависть. Он как будто хочет разгадать ее секрет и перенять ее загадочное умение всех любить и чувствовать. Но ему никогда этому не научиться: слишком тяжек его внутренний гул, ему трудно отвлечься от него, чтобы услышать кого-нибудь другого. Он старается — но ему трудно.
Ни с кем у него нет таких серьезных отношений, как с Шурой. Впрочем, других отношений он и не признает. То, что называется «несветский человек».
С Ольгой вообще не разговаривает. Не может. Не знает языка.
Между тем Ольге больше никто не звонит... Да...
Ну, а у нас с Мишкой все утряслось — можно даже сказать, восстановилось. Как поют, «мы друг друга ни о чем с тобой не спросим»... Только не повторять легкомысленных шагов. И все. И тогда ни с какой стороны можно не ждать больше подвоха.
Но однажды ночью вдруг проснулась, почувствовав близко от себя темный гул его неистребимого задума...
— Не спишь, — упрекнула я, как в измене.
Он помедлил.
— Лиля, ведь я тебя обманул, — тяжко вымолвил он.
— Ничего ты меня не обманул, не выдумывай! — набросилась я.
Не хочу! — только-только все утихло, пересидеть бы в тишине, в глубине, отдохнуть, а он все баламутит воду, правды домогается!
Я обняла его и закрыла ладонью рот. К черту его правду, я хочу тихо и благополучно жить!
Он переждал, рука моя расслабилась. Он высвободился.
— Есть такой анекдот. Двое пьяных — еще по стакану и: «Ты меня видишь? Нет? И я тебя нет. Вот и замаскировались». ...Так же и мы. Страшно одному. Прижмешься ночью к другому в темноте — и вроде как спасся. Спрятался — и не найдут.
Я молчала, обреченно замерев, как будто меня настигли и сейчас будут расстреливать.
— Или вот ночью, в глухом месте убийца всадит тебе нож в живот, а ты в жалобном страхе его же, убийцу, и обнимешь, и повиснешь у него на шее — потому что хоть к кому-нибудь надо прижаться, как к матери в детстве — а кругом ночь, и никого рядом, кроме убийцы...
— Откуда ты знаешь?! — прошептала я.
Он вздохнул.
— Любовь — это иллюзия, — говорил он дальше. Как бы вслух вглядывался в свое ощущение. Оно плохо разглядывалось: как сквозь сумерки, поэтому он медленно говорил, по капле. — Это иллюзия спасения от страха. Слабость. И я слаб. А как окрепну — буду один. Я всегда, с детства с самого знал это, я презирал всегда... Конечно, физиология, куда ее денешь... Продолжение рода. — И вдруг воскликнул: — И какое я право имею продолжать род, если я до сих пор не знаю, зачем? Я, как наши родители, такой же точно слепой кутенок и точно так же ничего не понимаю, хотя всю жизнь только и делаю, что напрягаюсь понять! Иногда кажется: ну все, уже знаю. А потом опять: нет. ...Родится ребенок, у меня же спросит: зачем жить? — а я не знаю. Толстой вон тоже: в «Исповеди» — уж совсем было прояснил для себя смысл жизни, а все равно в конце концов поднялся среди ночи и подался гала́свита, куда глаза глядят, — все от той же неразрешимости, от той же тоски и неизвестности, в какой родился. Понимаешь, какая штука? А дядя Федор, ты вспомни, он ведь жизнь прожил — ни в каком месте не сподличал — что же он в степь-то бросается сгинуть, пропасть и больше не знать ничего? Почему? А я? — изо всех сил стараюсь жить по правде, по высшему счету — а что выходит? Выходит, и злодей столько бед не наворотит, сколько я наворотил со своим высшим счетом... Один Борис Ермолаевич чего стоит. ...Понимаешь, Лиля, какая штука...
Мишка затих.
Я молчала в темноте, было мне тоскливо, но упрека или обиды я не чувствовала. В чем тут упрекать? Я сказала:
— А я знала. Знала. Я поняла: однажды ночью проснулась, смотрю — я одна, бездомная. Страшно мне стало — я давай скорее снова спать. А ведь то и было верное ощущение. То и была правда.
— Ты не бойся, — попросил Мишка. — Это, в общем-то, не так страшно. ...Выходит, когда я радовался про ребенка — я врал. Хотя ведь не врал, вроде бы не врал. А на самом деле не надо никакого ребенка. У дяди Федора их пятеро было. ...Живешь в такой уютной скорлупе, как цыпленок в яйце, а потом вдруг ненароком выглянешь... Как будто ангел-хранитель недоглядел, отпахнул спасительное свое крыло, что загораживало тебя от страшной этой господней пустоты черной... И вот будто скорлупа у теплого уютного яйца проклюнулась и ты высунулся наружу — а там черный холодный мрак, в котором тебе не к кому прилепиться... Окунешься когда в эту тьму, вдруг откроется тебе последняя невозможность постижения, донесется какой-то смутный звук, эхо какое-то, призрак истины — а ничего не сможешь разглядеть. Вот в чем дело: последняя недостижимость истины. Мелькнет, вожмешь голову в страхе — и назад, в привычную скорлупу-обманку, и прячешься в ней дальше. Но все равно я когда-нибудь выйду туда насовсем и не вернусь больше в эту охранительную скорлупу, и брошу тебя — ты пойми, Лиля, брошу тебя! И с этим ничего не поделаешь, не плачь. Не плачь... И я знаю, туда есть выход, только я еще не научился. Не плачь... А может быть, этот выход — смерть...
Я почему-то успокоилась совершенно. Я покивала головой в темноте, я все приняла. Более того, все это, что он мне сказал, я как-то уже знала или предчувствовала — ничего нового для меня не открылось. Мне от века это было известно.
Я спокойно сказала:
— А я все-таки рожу.
— Как хочешь, милая, как хочешь, — тихо сказал Мишка и бережно поцеловал меня в лоб — меня, своего земного друга, с которым худо-бедно столько прошли в одной связке и уже одним этим сроднились, несмотря на последнее сознание, что каждый все-таки одинок, одинок, и умрет один.
И опять же: мы заснули, потому что куда же вырвешься за эти рамки жизни, за эту теплую скорлупу — только и можешь, что знать: есть где-то там, где-то там... А сам ведь никуда не денешься, ешь каждый день, и спишь, и как ни говори, а вот рядом с тобой твоя женщина, и, может быть, никогда у тебя не хватит сил оторваться от нее, так и останешься, прилепившись, как жеребенок к матке, и будешь бежать, бежать, телепаться вслед за ее телегой, туда, куда правит вожжами хозяин — неведомо куда, ему одному известно...
Я прохожу между рядами в своей маленькой аудитории, я останавливаюсь около своего любимца — тихого умненького Чебады, я указываю пальцем в его тетрадь и в чем-то поправляю его, а в это время во мне, как в мешке, толкнется и досадливо заворочается маленькое, неизвестное мне дитя, и пнет — даже больно, впору охнуть, но я не охаю, а продолжаю что-то с умным выражением лица говорить, делая вид, что я не упаковка для новенькой непостижимой жизни, а что-то самостоятельное и важное, что-то сродни мужчинам по уму и развитию.
И дома я слушаю Мишку, моего мужа, моего властелина, и расширяю глаза, замерев и дивясь его громадной энергии сознания. Я жду: он откроет мне сермяжную правду, он поведет меня, он научит.
Но где-то втайне — не умом, а чем-то совсем другим — может быть, утробой, может быть, тем сокровенным местом, где плавает в темноте созданный мною человек, — я догадываюсь, что истина — это я и есть, и Мишка, нечаянно заглянув мне в глаза, осекается на полуслове, и в лице его мелькает растерянность.