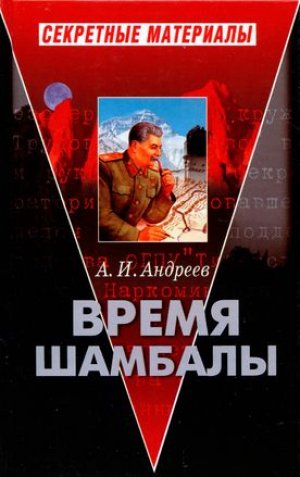
Часть I
Жизнь и искания ученого и эзотерика А. В. Барченко
Знающим тайну «Дюнхор»
Великое дает возможность созерцать мир
и жизнь из Центра в бесконечность глазом Будды.
А. Барченко
Пролог
Счастливая страна Шамбала и ее искатели
Вспоминаю, как много лет назад — весной 1983 г. — я, в то время вольнослушатель факультета Урало-Алтайских языков Индианского университета в Блумингтоне, заглянул однажды в кабинет профессора Тубтена Жигме Норбу (старший брат нынешнего Далай-ламы), чтобы расспросить его о Шамбале — действительно ли в древности существовала такая страна и если да, то где. Мои вопросы, как кажется, сильно смутили известного тибетского ученого, и он довольно туманно ответил мне что-то вроде того, что Шамбала не имеет отношения к нашему миру, ибо это реальность иного порядка. Такой ответ меня мало удовлетворил, поскольку я уже знал о поисках этой загадочной страны Рерихами в Центральной Азии в 1920-е годы и о том, что Л. Н. Гумилев и Б. И. Кузнецов в конце 1960-х «локализовали» ее на карте древнего мира. Вскоре после встречи с Норбу в мои руки попала только что опубликованная книга американского тибетолога Эдвина Бернбаума «Путь в Шамбалу»[1], в которой в довольно увлекательной форме рассказывалось как о самом мифе о Шамбале, так и о поисках страны-фантома ее многочисленными искателями на Востоке и на Западе, в том числе предпринятых в начале 1970-х самим автором. В этой книге я нашел различные толкования и земные «адреса» Шамбалы — если, конечно же, считать, что в основе мифа лежат какие-то вполне конкретные историко-географические реалии и много другой полезной информации. Тем не менее это не приблизило меня, как наверное и других читателей книги Бернбаума, к разгадке тайны древнего сказания, ввиду невозможности однозначного ответа на вопрос: что-же такое Шамбала и где ее искать…
В переводе с санскрита слово shambhala означает «место покоя, безмятежного существования», иначе — «счастливая земля». Основным источником наших сведений о такой земле являются книги священного буддийского канона, Ганжура. Расположенная на севере мифического материка Джамбудвипа, который современные ученые обычно ассоциируют с Индийским субконтинентом, Шамбала окружена цепью высочайших гор и потому недоступна для людей остального мира. В Шамбале царят мир и благоденствие. Ее жители добродетельны и разумны; им не ведомы болезни, голод и вообще какие-либо страдания. Большинство из них становятся совершенными существами (буддами) еще при жизни благодаря изучению и практике тантрического буддизма. Одним словом, Шамбала, в том виде, в каком эту страну изображает древнее буддийское предание, — прообраз земного рая, земли обетованной.
Буддийская традиция прочно связывает Шамбалу с учением о Калачакре (санскр. kälacakra) — Колесе Времени. Это некое сокровенное знание, обладание которым позволяет достичь просветленного состояния будды в течение одной жизни, высший Гносис, доступный лишь посвященным. Считается, что Будда Шакьямуни через год после достижения просветления, или нирваны, преподал сокровенное учение царю Шамбалы Сучандре внутри ступы Дханьякатака, находящейся на юге Индии. Вернувшись на родину, в Шамбалу, Сучандра стал проповедовать это учение, а также написал пространный комментарий к нему. Много столетий спустя учение о Калачакре вернулось из Шамбалы в Индию, где получило широкое распространение среди буддийских монахов. Произошло это на рубеже X и XI веков н. э. Из Индии учение затем было перенесено странствующим пандитом (учителем) Соманатхой в Снежную страну — Тибет. Соманатхе также приписывается введение в Тибете в 1027 г. лунно-солнечно-юпитерного календаря — 60-летнего цикла, изложенного в Калачакре. Впоследствии, между XI и XIV веками, тибетские ламы под руководством индийских проповедников осуществили перевод основных текстов Калачакры с санскритского на тибетский язык.
В Тибете Калачакра-тантра, или Дуйнхор (dus 'khor), становится особенно популярной среди монахов секты «гелуг» (добродетельной), основанной в XIV веке знаменитым ученым и реформатором буддизма Цзонкхапой. В то же время большой интерес к системе Калачакра начинают проявлять Панчен-ламы, в результате чего монастырь Таши-лхумпо в южном Тибете (в провинции Цзян), являющийся их резиденцией, превращается в один из главных центров Учения. В лице Панчен-лам (считающихся воплощением будды Амитабхи — создателя и владыки рая Сукхавати, куда попадают все уверовавшие в него) Калачакра приобретает совершенно особых покровителей. Согласно древнему буддийскому пророчеству, в конце Кали-юги, или Железного века на земле, когда учение Будды придет в упадок, 25-й кулика-царь Шамбалы Рудра Чакри (по-тибетски Ригден Джапо), воплотившись в одном из Панчен-лам, начнет войну против варваров — последователей религии Лало (явный намек на мусульманских гонителей буддизма). В результате великой битвы, которая произойдет на берегах реки Шрита (Сита) в Индии, полчища Лало будут разбиты и на земле вновь воцарится счастливый Золотой век — Крита-юга.
Калачакра, с точки зрения современной тибетологии, — это одна из важнейших и сложнейших систем буддийской тантры, принадлежащая к классу Аннутара-йога. Само слово «тантра» имеет два значения: в широком смысле это название одного из направлений буддизма — Ваджраяна, или Колесница Грома, в котором первостепенное значение придается психофизическим (йогическим) практикам; в узком техническом смысле «тантра» означает базовый текст Ваджраяны, наставление, вложенное его автором в уста Будды. Аннутара-йога-тантра — это тантра наивысшей йоги. Считается, что практикующий ее достигает высшего состояния сознания — «просветления» (санскр. bodhi) и становится буддой в наикратчайший период времени — уже в этой жизни.
Калачакра-тантра традиционно подразделяется на «внешнюю», «внутреннюю» и «альтернативную», или «трансцендентную». Их различие тибетский ученый Геше Джампа Тинлей характеризует таким образом:
«Во внешней Калачакра-тантре (далее KT — А. А.) содержится подробное объяснение внешнего мира, поскольку он тесно связан с миром внутренним. Круговорот галактик, движение планет и тому подобные вещи описываются именно во внешней KT. Тибетская астрология также берет начало во внешней KT. <…> Во внутренней KT содержится знание о внутреннем мире — внутренних каналах, энергиях и т. д., — изложенное для того, чтобы мы могли использовать это знание для духовной практики. Но основное содержание KT, необходимое для духовной практики, развернуто в альтернативной KT, которая является главной по отношению к внешней и внутренней KT, — последние служат как бы информационной базой для высшей KT»[2].
Описание страны Шамбалы, сведения о ее истории, правителях (так наз. «кулика-царях») и пророчество о грядущей великой Шамбалинской войне — все это описано в текстах внешней KT. Здесь же содержатся и разнообразные сведения о физических науках и различных технических устройствах, например, рассказывается о способах изготовления катапульт и других видов оружия, которые будут использоваться воинами Ригден-Джапо в битве с силами зла. Но основной акцент внешняя KT, как отмечает американский исследователь Э. Бернбаум, делает на времени и астрологии, а также на математике, необходимой для различных хронологических и астрологических исчислений. «В движении звезд и планет практикующий внешнюю Калачакру пытается обнаружить циклические проявления сил, управляющих нашей жизнью»[3].
Сведения о Шамбале проникли в Европу на исходе Средних веков, благодаря рассказам путешественников по азиатскому Востоку. Первыми о загадочной стране поведали португальские миссионеры-иезуиты Эстебан Качелла и Жоао Кабрал. В 1628 г., пытаясь пройти из Бутана в Катай (Cathay), т. е. Китай, о котором в то время имелись очень скудные сведения, они узнали о существовании неведомой им страны — «Ксембала» (Xembala). Бутанский правитель сообщил им, что это очень известная страна и что она граничит с другим государством под названием Согпо. Из такого ответа Качелла заключил, что Ксембала это и есть Катай, поскольку сообщенные ему сведения — огромные размеры Ксембалы и ее соседство с владениями монголов («Согпо») — соответствовали тому, как Катай-Китай изображался на географических картах. После этого Качелла предпринял путешествие в Ксембалу и ему удалось добраться до города Шигадзе во владениях Панчен-ламы (т. е. в Тибете). Сюда в начале 1629 г. из Бутана прибыл и его спутник Ж. Кабрал. Путешественники, однако, довольно быстро сообразили, что попали не в Катай, а в страну, которая на европейских картах того времени именовалась Большой Татарией.
Другой европейский путешественник — венгр А. Чёма де Кёреши, побывавший в Бутане и Тибете в начале XIX века, дополнил сведения португальских монахов. В небольшой статье, опубликованной им в 1833 г. в журнале Азиатского Общества Бенгалии, Кёреши, в частности, сообщает, что Шамбала — это «мифическая страна, расположенная на севере» и что ее столицей является Калапа — «прекрасный город, резиденция многих прославленных царей Шамбалы». Называя Шамбалу «мифической страной», Ч. де Кёреши тем не менее указывает относительно точные, ее географические координаты — «между 45 и 50 градусами северной широты, за рекой Сита или Яксарт»[4].
Эти сообщения о Шамбале долгое время оставались достоянием лишь географов и востоковедов — т. е. очень узкого круга ученых. И только на рубеже XIX–XX веков, благодаря, главным образом, теософскому учению Е. П. Блаватской, тибетский миф о «Счастливой земле» становится известным широкой публике. Пытаясь доказать, что на заре человеческой цивилизации наука и религия были неразделимы, составляя некую единую эзотерическую доктрину — «первоначальное откровение, данное человечеству», — Е. П. Блаватская обратилась к истокам мировых религий — древнейшим мистериальным культам и учениям, сохранившим, по ее мнению, остатки этой неразделенности. В своем капитальном труде «Тайная доктрина» Е. П. Блаватская (со ссылкой на публикации Чёма де Кёреши и сообщения немецких путешественников по Тибету братьев Шлагинтвейт) упоминает о Шамбале и о священной книге «Дус-Кьи-Хорло» (Цикл Времени). Содержащаяся в этой книге система тибетского мистицизма, по утверждению Блаватской, столь же древняя, как и человек, практиковалась в Индии и Тибете задолго до того, как Европа стала континентом (!), хотя первые сведения о ней появились только 9 или 10 веков тому назад. «В глуши Транс-Гималаев — слишком общо называемых Тибетом — в наиболее недоступных местах пустынь и гор до сегодняшнего дня живет Эзотерический „Благой Закон“ — „Печать Сердца“ — во всей своей первоначальной чистоте»[5]. Здесь надо отметить, что Шамбала для Блаватской и ее последователей — это уже не «мифическая страна» Дэджунг (тиб. bde 'byung) — «Источник счастья», но некое реально существующее братство или община посвященных йогов — адептов эзотерического учения, которых она называет «махатмами». Таких мистических братств, хранящих остатки древней Универсальной науки, на земле, по убеждению Е. П. Блаватской, существует немало, однако они не имеют никакого отношения к так называемым «цивилизованным странам». Более того, местонахождение их должно оставаться тайной для остального мира — до тех пор, пока «человечество в массе своей не очнется от духовной летаргии и не раскроет свои слепые очи навстречу ослепительному свету Истины»[6].
Тогда же, в конце XIX века, путешественники — исследователи Центральной Азии Н. М. Пржевальский, В. И. Poборовский, М. В. Певцов, Г. Е. Грум-Гржимайло, П. К. Козлов и др. — столкнулись с еще одной удивительной легендой — о Беловодском царстве или Беловодье, стране справедливости и истинного благочестия. Находясь в 1877 г. на берегах «блуждающего» озера Лобнор, севернее реки Тарим в Западном Китае, или Синьцзяне, Н. М. Пржевальский записал рассказ местных жителей о том, как в эти места в конце 1850-х — начале 1860-х пришла партия русских алтайских староверов числом более сотни человек. Староверы разыскивали Беловодскую «землю обетованную». Большая часть пришельцев, не удовлетворившись условиями жизни на новом месте, двинулась затем дальше на юг, за хребет Алтынтаг, где и устроила свое поселение. Но и те и другие в конце концов вернулись на родину, на Алтай. Рассказ об этом хождении искателей Беловодья, записанный со слов одного из его участников А. Е. Зырянова, вместе с приложенной к нему маршрутной картой всего путешествия, был впоследствии опубликован А. Н. Белослюдовым в Записках Русского Географического Общества[7].
Беловодье — еще одна загадка центрально-азиатской истории. Современный исследователь К. В. Чистов, правда, считает, что это «не определенное географическое название, а поэтический образ вольной земли, образное воплощение мечты о ней»[8]. Поэтому не случайно эту «счастливую крестьянскую страну» русские староверы искали на огромном пространстве — от Алтая до Японии и Тихоокеанских островов и от Монголии до Индии и Афганистана. Во второй половине XVIII века название Беловодье носили два поселения в Бухтарминской и Уймонской долинах юго-восточного Алтая. Сюда не доходила власть «начальства» и попов — гонителей староверов, не принявших церковной реформы патриарха Никона. Эта «нейтральная земля» между Российской и Китайской империями была включена в 1791 г. в состав России. Именно тогда, как утверждает Чистов, и возникла легенда о Беловодье. Ее бытование тесным образом связано с деятельностью секты «бегунов», или странников, которая является крайне левым ответвлением старообрядчества.
Первые сведения о поисках староверами заповедной страны относятся к 1825–1826 гг., а во второй половине XIX столетия (1850–1880 гг.) хождения в Беловодье приобретают массовый характер. Для нас, однако, наибольший интерес представляют сообщения о центральноазиатских маршрутах искателей Беловодья (Монголия Западный Китай — Тибет), — именно там, в самом сердце Азии, по-видимому, и произошла контаминация двух легенд — христианской о Беловодье и буддийской о Шамбале. Схожесть христианского и буддийского мифов впоследствии послужила поводом некоторым авторам говорить об их едином «корне». Крайне любопытен также другой факт — побывавшие в Индии и Тибете искатели Беловодья принесли оттуда в Россию какие-то элементы восточных учений (может быть, даже буддийской тантры), которые впоследствии были ассимилированы некоторыми русскими мистическими сектами старообрядческого толка.
В начале XX века среди европейских оккультистов получил распространение еще один центральноазиатский миф — о подземной стране Агарти (или Агарта). В 1911 г. почитатели недавно умершего французского мистика маркиза А. Сент-Ив д'Альвейдра (Alexandre Saint-Yves d'Alveydre) опубликовали в Париже его сочинение под громким названием «Миссия Индии в Европе» (Mission de l'Inde en Europe). (Фактически это было второе издание книги; первое, появившееся в 1886 г., автор собственноручно уничтожил, сохранив лишь один экземпляр.) В этом произведении Сент-Ив д'Альвейдр в довольно претенциозной манере поведал читателям о таинственной подземной стране, скрывающейся где-то в недрах Гималаев — об Агарте (Agarttha). Страна эта имеет «синархическую» форму правления, и ее население достигает 20 миллионов человек (!). Здесь надо пояснить: согласно учению Сент-Ива, существует два типа организации человеческих сообществ: анархический, господствующий на земле в течение последних 5 тысяч лет, и предшествовавший ему синархический. Сущность синархического строя (синархия по-гречески означает «совластие») состоит в троичной «социальной» иерархии власти: жречество, посвященные миряне, главы семейств (отцы и матери). Такая система управления социумом является воплощением высшего Божественного Промысла, залогом социальной гармонии и справедливости, так как полностью соответствует тройственной природе человека — интеллектуальной, моральной и физической. (В книге об Агарте Сент-Ив называет «синархический закон» одновременно теократическим и демократическим.) Именно синархической была созданная около 9 тысяч лет тому назад легендарным Рамом (героем древнеиндийского эпоса «Рамаяна») гигантская Универсальная Империя Овна (Empire Universel du Belier), с которой начинается неизвестная науке сакральная история человечества. В этой империи Агарта выполняла роль одного из религиозных центров, или «университетов», где хранился высший гносис и совершались инициатические обряды. Однако приблизительно за 3 тысячи лет до н. э., вследствие раскольнической деятельности принца Иршу, отвергшего божественные Принципы, начался распад рамидской империи. На земле постепенно воцарилась Анархия. Поэтому агартийцы и «ушли под землю».
Характеризуя «социально устроенное» — синархическое — государство Агарты, Сент-Ив всячески стремился подчеркнуть его отличие от государств анархического типа. Агарта не знает насилия, ей неведомы такие пороки современного общества, как бедность, здесь не бывает нищих, проституции, пьянства, антагонизма верхов и низов, деления людей на касты и так далее. Управляемая «вождями величайшей духовной силы», она есть «центр посвященных», хранящий в своих недрах «летописи человечества за все время эволюции на земле в течение 556 веков». Города Агарты, по утверждению Сент-Ива, «размещены чаще всего в подземных постройках» и потому невидимы людьми. Там, в чреве земли, надежно упрятаны от взоров и посягательства профанов богатейшие библиотеки агартийцев, содержащие в себе «полное собрание всех искусств и всех древних наук». Там же в подземных кельях «бесчисленный народ двиджасов» (т. е. дважды рожденных) занят изучением всех священных языков, в том числе «универсального языка» Ватан. «Физиологический состав Планеты и Космоса раскрыт ими до самых мельчайших подробностей, <…> все ими исследовано, от огненных недр земного шара до подземных рек газа и вод, сладких и соленых, и даже до живых существ, находящихся в этих газах, в этом пламени и в этих водах». То, что верховные правители подземной страны «безжалостно» скрыли от наземной цивилизации свой «религиозный Университет», Сент-Ив объясняет стремлением не допустить, чтобы высокоразвитая наука Агарты стала «орудием борьбы против человечества Антихристу и Анархии подобно тому, как это сделали наши науки»[9].
Столь необыкновенные сведения о скрытой гималайской «стране посвященных» Агарте, Сент-Ив д'Альвейдр почерпнул в основном у своих восточных учителей. Французский историк П. Невиль называет имя некоего «афганского принца» Харджи Шарифа, по внушению которого якобы и была написана книга об Агарте[10]. Любопытно, что Сент-Ив был не только первым западным оккультистом, кто создал «конспирологическую модель Истории» (говоря словами А. Дугина), но и приложил немало усилий, чтобы воплотить свои идеалы в жизнь, неоднократно обращался с различными воззваниями к «анархическим» правителям, в том числе к французскому премьеру Ж. Клемансо и императору Александру III, и создал во Франции организацию с целью пропаганды принципов «социального государства» — Синархии. Организация эта отвергала западный либерализм и капитализм и призывала к возврату к традиционным культурным ценностям.
«Свидетельство» Сент Ива д'Альвейдра об Агарте кажется совершеннейшей утопией, ибо трудно вообразить себе невидимое существование 20-ти миллионной материальной суперцивилизации, будь то подземной, подводной или островной, с многочисленными библиотеками, лабораториями, обсерваториями и пр. Пытаясь устранить это противоречие, один из современных интерпретаторов Сент-Ива Серж Ютен обращается к новомодной ныне концепции «параллельного мира», обитатели которого якобы проникают в наш мир с помощью совершенных летательных аппаратов и получают таким образом возможность влиять на ход земных событий[11]. Но такое объяснение одного неизвестного явления с помощью другого, еще менее известного, едва ли можно считать удовлетворительным.
Как бы то ни было, идеи французского мистика оставили заметный след в истории европейского эзотеризма. Особенно привлекательными они оказались для немецких оккультистов, будущих мифотворцев Третьего Рейха, которые, как известно, использовали легенды об Агарти и Шамбале для создания своей собственной конспирологической парадигмы мировой истории. Ее смысл можно свести к следующему: 3 или 4 тысячи лет тому назад в районе нынешней пустыни Гоби обитал народ, обладавший высокоразвитой культурой. Эта культура погибла в результате какой-то катастрофы, и именно тогда древняя гобийская страна и превратилась в пустыню. Оставшиеся в живых мигрировали частично в Северную Европу, частично на Кавказ. Народ, вышедший из Земли Гоби, представлял собой «коренную расу» (Grundrasse) человечества — арийскую расу. Руководители погибшей культуры — великие мудрецы, духовные сыны «иного мира», поселились после катастрофы на огромном высокогорье, «под Гималаями». Там они разделились на две группы: одни пошли «Путем правой руки» (Weg rechter Hand), другие «Путем левой руки» (Weg linker Hand). Центром первых стал Агарти — «неведомый Град, Обитель созерцания, Храм удалившихся от мира»; центром вторых — Шамбала — «Град могущества и власти», повелевающий стихиями и многочисленными народами[12]. (Грезивший о мировом господстве Гитлер, естественно, стремился вступить в контакт с вождями Шамбалы, а не Агарти.)
Идейные нити от Сент-Ива д'Альвейдра тянутся, однако, не только в кайзеровскую и затем нацистскую Германию, но и в Россию — как царскую, так и советскую. Русские оккультисты проявляли большой интерес к идеям французского мыслителя-эзотерика и, насколько можно судить, поддерживали с ним связь через его русскую жену графиню М. В. Келлер и ее сына графа Александра Келлера. Благодаря их усилиям в 1915 г. в Петербурге был опубликован русский перевод «Миссии Индии». С учением о Синархии, как кажется, имели возможность познакомиться в годы эмиграции в западной Европе и лидеры русской левой социал-демократии. А. Дугин высказывает любопытное предположение — о заимствовании большевиками у Сент-Ива термина «Советы» (le Conseil), входящего в название трех высших институтов власти в Империи Рама[13]. (Уже в наше время другой его ключевой термин — «Социальное Государство» (l'Etat Social) — неожиданно появился в новой конституции Российской Федерации (ст. 7), хотя в этом случае, конечно же, едва ли можно говорить о каком-либо сознательном заимствовании.) После Октябрьской революции главным проводником идей Сент-Ива в России — в Петрограде и Москве — выступил литератор и ученый-эзотерик А. В. Барченко, один из главных героев этой книги.
Для Барченко, познакомившегося с учением Сент-Ива д'Альвейдра еще в начале XX века, в пору юности, Агарта, Беловодье и Шамбала являлись понятиями одного порядка — свидетельством существования где-то в дебрях высокогорной Азии, «на стыке Афганистана, Индии и Тибета», тайных эзотерических братств, бережно хранящих секреты универсальной «синтетической науки» древних. Эту науку Барченко называл тибетским словом «Дюнхор» и считал, что овладение ею поможет человечеству разрешить острейшие социальные и экономические проблемы, порожденные кризисом современной (техногенной) цивилизации, в частности овладеть неизвестными дотоле источниками мощных психических и космических энергий, и выйти на новый эволюционный виток. Поисками следов исчезнувшей «доисторической культуры» ученый интенсивно занимался в 1920-е годы на Кольском полуострове (в Русской Лапландии), на Алтае и в Крыму; в те же годы он также пытался дважды организовать научные экспедиции в Тибет и Афганистан с помощью советского правительства с целью установления контактов с тайными братствами Шамбалы-Агарти.
О Барченко, его трагической судьбе и удивительных поисках стало известно сравнительно недавно. В 1991 г. в Москве вышел в свет однотомник его литературных произведений с многозначительным названием «Из мрака», снабженный обширным биографическим очерком, написанным сыном писателя и ученого С. А. Барченко. За этим сборником последовал целый ряд статей в журналах и газетах, посвященных главным образом научным и оккультным аспектам деятельности Барченко. Надо сказать, что эпоха «бурных 1920-х и 1930-х», несмотря на огромное количество публикаций об этом периоде, появившихся в России и за рубежом в последнее десятилетие, все еще продолжает хранить немало неразгаданных тайн. Речь в данном случае идет не о секретах советской внутренней и внешней политики, а о малоизвестных и вовсе неизвестных нам научных поисках и открытиях ученых, впоследствии оказавшихся в Гулаге. Так, во время ареста Барченко в 1937 г. были конфискованы и канули бесследно в недрах НКВД все его научные труды, в том числе большая монография по нейроэнергетике, над которой он — руководитель одной из лабораторий Всесоюзного Института Экспериментальной Медицины — трудился много лет.
Не меньшей тайной окутана и деятельность в те же 1920–1930-е годы и самого известного из русских искателей Шамбалы — художника и мыслителя Николая Рериха. Лишь недавно мы узнали о «Великом плане» Рериха, предполагавшим создание в центре азиатского материка — при содействии советского правительства — большого монголо-сибирского государства, «Новой Страны»[14]. Эта страна должна была стать оплотом обновленного буддо-коммунистического миропорядка в Азии, местом пришествия Будущего Будды, иначе говоря, материализовавшейся на земле Северной «Красной Шамбалой». Как показали исследования В. А. Росова, Н. К. Рерих во время поездки в Москву летом 1926 г. вел интенсивные переговоры с Г. В. Чичериным, А. В. Луначарским и другими большевистскими вождями с целью заручиться их поддержкой для реализации своего грандиозного, хотя и откровенно утопичного, плана, сродни социальным утопиям Томмазо Кампанеллы и Томаса Мора. В то же время Рерих пытался побудить большевиков принять «высокое покровительство Гималайских Учителей — Махатм» с целью привлечения миллионов буддистов Азии к мировому коммунистическому движению и осуществления в мировых масштабах идеалов Коммуны, или Общины (термин Н. К. Рериха)[15].
Еще более невероятной для читателей этой книги покажется затея самого Барченко, пытавшегося в середине 1920-х — практически одновременно с Рерихом — передать тайны учения Калачакры-Дюнхор («Древней Науки») группе старых большевиков в Москве посредством чтения лекций, организованных начальником Спецотдела при ОГПУ Г. И. Бокием. Эти опыты по «скрещиванию» буддизма с ленинизмом оказались, увы, бесплодными. Да иначе, наверное, и быть не могло, ибо мощное дерево ленинизма не «переносило» инородных прививок. А десятилетие спустя советские идеологи громогласно объявили учение Шамбалы «орудием японского фашизма».
Н. К. Рерих, как и А. В. Барченко, ничуть не сомневался в реальности существования земной Шамбалы, полагая, что вступившие в контакт с ним и его женой восточные учителя Мория и Кутхуми как раз и являются «представителями Гималайского Братства». Вообще Шамбала для Рериха — это прежде всего великий символ Грядущего, «знак нового Времени», «новой эры могучих энергий и возможностей». Учение же Шамбалы (т. е. Калачакра) — «высокая йога овладения высшими силами, скрытыми в человеке, и соединение этой мощи с космическими энергиями»[16]. Такое учение, позволяющее человеку через синхронизацию или, лучше сказать, гармонизацию внутренних и внешних энергий осуществить свое высшее, космическое предназначение, Н. К. Рерих назвал Агни-йогой (Огненной йогой). Во время своего Тибетского путешествия, задуманного как религиозное посольство Западных буддистов к главе буддистов Востока — Далай-ламе (с целью объединения тех и других), Рерих то и дело мысленно уносится в направлении Шамбалы, которой отводит совершенно конкретное место на карте — северо-западную часть Тибетского нагорья (по-тибетски «Чантанг»). Едва перевалив хребет Поющей Раковины — Думбуре, Рерих тут же указывает своим спутникам, что поблизости начинается «запретная область» Гималайского Братства, «неведомая европейцами». Доступ на эту заповедную территорию, охраняемую самой природой (посредством ядовитых испарений многочисленных гейзеров и вулканов, разбросанных вдоль ее границ) закрыт для непосвященных, а вернее «незваных», ибо придти в Шамбалу без приглашения — «зова» ее владык — невозможно. В дневнике одного из спутников Рериха, Н. В. Кардашевского, мы находим довольно реалистичное, на первый взгляд, описание Шамбалы:
«За обедом Н. К. Р. говорит о месте нахождения Шамбалы — прекрасной, закрытой со всех сторон долине с субтропической растительностью, окруженной холодными и дикими пустынями, тянущимися на сотни квадратных миль и перерезанными неприступными горными системами. Приблизительно в таких же условиях находится и „Национальный парк“ Североамериканских штатов. После красивой Аризоны поезд пробегает неприглядную печальную пустыню с жалкой растительностью и чахлыми кустами. Наконец, последняя остановка, и нигде ничего особенного. Через несколько сот шагов от станции — балюстрада. Подойдите, взгляните вниз, и перед вами в глубине обрыва долина, и в ней — вся красота, вся роскошь залитого солнцем южного пейзажа»[17].
Однако в самом конце путешествия Рерих, под впечатлением от зрелища полного упадка буддизма в Тибете и в то же время глубоко оскорбленный поведением тибетских властей, не пропустивших его посольский караван в Лхасу, резко меняет свое мнение. Шамбала, как он теперь заявляет, не имеет ничего общего с Тибетом — этой «музейной редкостью невежества». В эссе «Шамбала Сияющая», написанном в Дарджилинге в 1928 г., мыслитель-мистик хотя и связывает по-прежнему понятие Шамбалы с существованием тайных горных обителей (называемых тибетцами словом «баюл»), тем не менее помещает эти обители (иначе ашрамы Махатм) в области высокогорных Гималаев, где процветает буддизм — в Бутане, Сиккиме и Непале, то есть за пределами собственно Тибета[18]. Исчезновение же Махатм из расположенных на юге Снежной страны владений Панчен-ламы (антипода Далай-ламы и истинного «духовного вождя» Тибета) Н. К. Рерих объяснил в своем трактате «Shambhala» так: наблюдая упадок буддийской веры — часть всеобщей деградации человечества в Железный век, Учителя, известные в этих местах под именем Азаров и Кутхумпа, стали покидать свои ашрамы и удаляться в самые недоступные уголки бескрайней горной страны. Для большей убедительности Рерих привел слова одного странствующего тибетского монаха:
«Многим из нас в жизни доводилось встречать Азаров и Кутхумпа и снежных людей, которые им служат. Только недавно Азары перестали появляться в городах. Они все собрались в горах. Очень высокие, с длинными бородами, они внешне напоминают индусов…
Кутхумпа теперь больше не видно. Раньше они совершенно открыто появлялись в области Цанг у Манасаровара, когда паломники ходили к священной горе Кайласа. Даже снежных людей теперь редко увидишь. Обычный человек, в своем невежестве, ошибочно принимает их за призраки. Есть глубокие причины, почему именно теперь Великие не появляются так открыто. Мой старый учитель много рассказывал мне о мудрости Азаров. Мы знаем несколько мест, где жили эти Великие, но в настоящее время эти места опустели. Какая-то глубокая причина, великая тайна!»[19]
Идеи Блаватской, Рериха и других эзотеристов-визионеров довольно неожиданно получили дополнительный стимул после публикации осенью 1933 г. (когда к власти в Германии только что пришли фашисты) романа-утопии английского писателя Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт»[20]. В этом произведении Хилтон необычайно увлекательно и, главное, правдоподобно изобразил расположенный в одной из труднодоступных горных долин — где-то в западном Тибете — буддийский монастырь-«ламасерию» Шангри-ла, населенный представителями различных народов, в том числе и европейцами. Благодаря каким-то тайным знаниям и особым практикам, эти люди сумели подчинить себе ход времени, замедлив его течение. Они живут замкнутой общиной — мирно и счастливо, погрузившись в занятия науками и искусством, не ведая тревог и забот, терзающих остальное человечество. Роман Хилтона в короткое время приобрел большую популярность на западе, многократно переиздавался и даже был экранизирован (в 1937-м г.) американским. режиссером Фрэнком Капра. С легкой руки Хилтона слово Shangri-La прочно вошло в английский язык в значении «воображаемый земной рай, убежище от тревог современной цивилизации»[21]. Такое название присваивают обычно роскошным отелям, ресторанам, горным курортам и прочим «райским уголкам» на земле, а президент Ф. Д. Рузвельт даже назвал так свою летнюю резиденцию в горах Мэриленда (впоследствии переименована в Кэмп Дэвид).
Возможно ли существование в наше время где-нибудь в недоступной горной долине Трансгималаев — Тибета или другой точке земного шара подобного эзотерического братства, хранящего какие-то неведомые остальному человечеству знания? Едва ли. Во всяком случае можно сильно сомневаться, что такое братство существует на тщательно контролируемой Китаем территории Тибетского Автономного Района. И потому нынешние эзотерики все чаще говорят о Шамбале невидимой, скрытой то ли в подземных пещерах, то ли в «параллельном мире», то ли на другой планете. В то же время ученые — прежде всего востоковеды-тибетологи — продолжают поиск страны, послужившей прообразом мифической Шамбалы. На сегодняшний день существует несколько гипотез относительно возможного местоположения буддийского «парадиза» на картах древнего мира. Так, ряд ученых (Б. Лауфер, П. Пеллио, Д. Ньюман) связывают Шамбалу с процветавшими в VII–X веках нашей эры буддийскими городами-государствами Таримского бассейна в Восточном (Китайском) Туркестане, где некогда пролегал Великий Шелковый путь[22]. Другой регион поисков — обширная территория между Ираном и западной Индией. Согласно гипотезе отечественного тибетолога Б. И. Кузнецова, Шамбала — это древний Иран эпохи Ахеменидов (VI–IV в. до н. э.). К такому неожиданному выводу ученый пришел в результате расшифровки древней географической карты из тибетско-шаншунского словаря 1842 г. Термин Шамбала, как утверждает Кузнецов, использовался индийцами для названия Ирана и может быть переведен как «держатели мира (блага)»[23]. Из Ирана же индийцы заимствовали и зурванитское учение о Бесконечном Времени — Зерван Акарана, которое затем было положено в основу буддийской системы Калачакра. Зурванизм — возникшая в рамках ортодоксального зороастризма ересь — исповедовался, главным образом, Сасанидскими царями (III–VII в. н. э.). Зурваниты считали, что только Время — бесконечное, вечное и никем не сотворенное — является источником всего сущего. М. Бойс предполагает, что такое учение было создано западными иранскими магами под влиянием древней вавилонской традиции, согласно которой история делится на большие временные циклы и внутри каждого из них все события периодически повторяются[24].
Современный английский путешественник-исследователь Чарльз Аллен помещает Шамбалу в крайне-западном уголке Тибета, вблизи священной горы Кайлас, там, где возникла первая тибетская цивилизация и вместе с ней загадочная религия левосторонней свастики — бон. Именно в этих местах сложилась бонская легенда о райской земле Олмо-лунрин, которую индийцы позднее окрестили Шамбалой. Что касается учения о Калачакре, то оно, как полагает Аллен, происходит из древней Гандхары (территория, охватывающая северный Пакистан и восточный Афганистан). Входившая в VI в. до н. э. в состав государства Ахеменидов Гандхара позднее (в I–III в. н. э.) составила ядро могущественной Кушанской Империи, границы которой простирались от берегов Аральского моря до Индийского океана и Восточного Туркестана. Одна из областей Гандхары — Уддияна, которую обычно отождествляют с живописной долиной Сват (Уддияна в переводе с санскрита означает сад), расположенной среди южных отрогов Гиндукуша на севере Пакистана, считается колыбелью тантрического буддизма. Посетивший эту долину в 629 г. китайский паломник Сю-ань Цзан с удивлением обнаружил там остатки почти полутора тысяч (!) различных буддийских памятников (монастыри, ступы) и поселений, что свидетельствовало о сказочном расцвете буддизма в Уддияне в предшествующую эпоху (II–V в.). Можно представить себе, пишет Аллен, каким райским уголком должна была казаться эта долина обитавшим в ней буддистским монахам. После завоевания Гандхары белыми гуннами Калачакра-тантра переместилась в «бонский регион» западных Гималаев и крайне-западный Тибет. Здесь учение нашло временное пристанище в стране Шан-шун — родине бона. Однако начавшиеся затем гонения на бон правителей буддийского королевства Гуге побудили адептов Калачакры бежать еще дальше на юг, за Гималаи, где они обосновались в буддийском монастыре Наланда — первейшем центре учености древней Индии. Оттуда KT (в XI в.) снова вернулась в Тибет, однако уже в сильно ревизованном учеными монахами виде с целью привести ее в соответствие с ортодоксальной буддийской традицией того времени. История о потерянной или сокрытой райской земле Шамбале, содержащаяся в текстах Калачакры, утверждает Аллен, представляет собой по сути контаминацию трех легенд — об Уддияне, Олмо-лунрин и Шан-шуне[25]. Версия английского ученого, умело увязывающего древние буддийские и бонские предания с реальными историческими фактами и рисующего весьма достоверную картину «странствий» Калачакра-тантры по странам Центральной Азии и ее постепенной трансформации, безусловно интересна, при этом особенно любопытно то, что Аллен локализует Шамбалу именно там, где ее обычно помещает эзотерическая наука, — в западной части Тибета.
Еще один «адрес» легендарной Шамбалы — северо-западная часть Индии. Именно здесь, по мнению итальянской исследовательницы Джакомеллы Орофино, находились колонии карматов — последователей одного из двух основных течений исмаилизма, сыгравших первостепенную роль в формировании буддийской тантры (в том числе Калачакра-тантры)[26].
Что касается самих тибетских лам, то они придерживаются самых разных точек зрения: одни считают, что Шамбала находится (поныне!) в Тибете или же в горной системе Куньлуня, возвышающейся над Тибетским плато, другие — в соседнем Синьцзяне (Западном Китае), однако большинство из них, как пишет Э. Бернбаум, верит, что Шамбала расположена в гораздо более северных широтах — в Сибири или в каком-то другом месте России или даже в Арктике (!)[27]. Это курьезное на первый взгляд утверждение, впрочем, не совсем лишено смысла, особенно если связать его с ведущимися в настоящее время довольно интенсивными поисками другой легендарной «Страны блаженных» — Гипербореи-Арктиды. Так, некоторые российские ученые ассоциируют Рипейские (Гиперборейские) горы, за которыми, по представлениям скифов и древних греков, находилась эта страна, а вместе с ними и священные горы индо-иранской мифологии Меру и Хару, с Уральскими горами или с возвышенностью Северные Увалы на северо-востоке европейской части России — главным водоразделом северных и южных морей на Русской равнине[28].
В последние годы немалую сенсацию вызвали интервью и публикации уфимского хирурга-офтальмолога Э. Р. Мулдашева, в которых он рассказывает о своих открытиях, сделанных в ходе нескольких экспедиций в район Гималаев — Тибета в конце 1990-х. Так, Э. Р. Мулдашев утверждает, что обнаружил вблизи священного Кайласа огромный комплекс ступенчатых пирамид и различных монументов (каменные «зеркала» и «статуи») искусственного происхождения?[29]. Все эти памятники, по мнению ученого, принадлежат легендарному «Городу Богов», сведения о котором якобы содержатся в тибетских текстах бонской традиции и в эзотерической (в основном теософской) литературе. Чтобы попасть в эти заповедные места, Э. Р. Мулдашеву и его спутникам пришлось заручиться содействием непальских и тибетских лам, ибо территория, на которой расположен Кайлас, представляет собой «зону действия тантрических сил», закрытую для непосвященных.
Шамбала и Агарти, согласно Э. Р. Мулдашеву, — это существующая уже много тысячелетий под землей (?!) техногенная цивилизация, созданная нашими предками, лемурийцами (представителями 3-й «расы»), «на базе древних знаний»[30]. Локализована она преимущественно в районе Гималаев — Тибета, но, возможно, и в других местах планеты (например, в Египте). Населяют эту подземную страну люди «предыдущих цивилизаций» (третьей и четвертой) — гиганты лемурийцы и атланты, пережившие глобальную геологическую катастрофу (всемирный потоп или даже несколько потопов) и ряд других разрушительных катаклизмов. Там же под землей — в пещерах и пирамидах — располагается и «генофонд человечества» — застывшие («законсервированные») в каменно-неподвижном состоянии глубокого транса «сомати» (искаженное санскритское «samadhi»), иначе нирваны, практически бессмертные «лучшие люди» трех последних человеческих «рас» — лемурийцы, атланты и арийцы (нынешнее человечество). Этот генофонд, полагает Э. Р. Мулдашев, может быть востребован в случае новой глобальной катастрофы, которая, по-видимому, неизбежна, поскольку полный цикл земной цивилизации, согласно древним учениям, предполагает семикратную смену рас. Лемурийцы — наиболее продвинутый духовно тип homo sapiens; они в совершенстве владеют психическими энергиями («энергиями тонкого мира»), а также способны к дематериализации и материализации своего тела — именно за счет этого феномена лемурийцы и смогли уйти под землю и организовать там параллельную цивилизацию. В то же время они обладают исключительно высокоразвитыми технологиями — аппаратами и машинами, «созданными на иных научных принципах», примером чему могут служить особенно часто наблюдаемые людьми в последнее столетие совершенные летательные аппараты, так называемые «летающие тарелки».
Оставляя в стороне весьма экстравагантную теорию антропогенеза Э. Р. Мулдашева, заимствованную в основном у Блаватской и Штайнера, хотелось бы сказать несколько слов о его собственных открытиях — о «Стране Пирамид» и «сомати-пещерах». Надо признать, что район Кайласа — озера Манасаровар, являющийся одним из самых высокогорных участков Тибетского плато, действительно поражает воображение своим сказочным, почти неземным ландшафтом. Побывавшие в этих местах путешественники отмечают прежде всего геометрическую правильность форм горных образований, первое место среди которых, несомненно, занимает сам Кайлас, представляющий собой правильную четырехгранную пирамиду. Странствовавший по западному Тибету в 1930-е гг. немецкий буддолог и буддист Эрнст Лотар Гоффман (лама Анагарика Говинда) необычайно живо описал этот зачарованный горный мир в книге «Путь белых облаков». Вот, например, какое зрелище открылось западному буддисту-паломнику на подступах к Кайласу в Долине Амитабхи: «Вступая в узкую долину на западном склоне Кайласы (места, посвященного Амитабхе, цвет которого красный), он (паломник) оказывается в красном скалистом каньоне, структура которого напоминает архитектурные сооружения. Он будто окружен стенами гигантских храмов, украшенных высокими колоннами, карнизами, и уступами скал, а высоко надо всем этим сверкает ледяной купол Кайласы»[31]. Гоффман говорит также о завораживающей атмосфере «духовной мощи и безмятежного покоя», царящей в этом бесплодном, давным-давно оставленном людьми краю. Тибетская «страна каньонов» простирается на несколько сотен миль, и здесь до сих пор можно найти следы, напоминающие о ее великом прошлом, о королевстве Гуге и легендарной стране Шаншун, — руины буддийских монастырей, ступы-чортены и множество пещер-ритод, вырытых в скалах монахами-отшельниками. Однако, при всей поразительной «архитектурности» горных формаций, у нас нет никаких серьезных оснований считать их искусственными, рукотворными, как это делает Мулдашев. По мнению советского географа Б. В. Юсова, например, подобные формы рельефа (наблюдаемые на всем участке бассейна реки Сатледж, берущей начало вблизи Кайласа) типичны для высоких внутриконтинентальных пустынь: «… отдельно стоящие блоки, высокие башни и мощные колонны, бесконечное количество похожих на трещины земной коры ущелий; кое-где глыбы упали, усыпав дно ущелья или каньона обломками. Все это создает картину огромного, разрушенного временем фантастического мертвого города»[32]. К тому же, использованный Э. Р. Мулдашевым способ «опознания пирамид» — компьютерное оконтуривание гор «слепым методом» — на наш взгляд, не является достаточно убедительным. (Аналогичным образом, наверное, можно обнаружить немало каменных «конструкций» и в Колорадских каньонах.)
Еще более фантастической представляется теория доктора Э. Р. Мулдашева о «генофонде человечества», законсервированном в гималайских «сомати-пещерах»[33]. (С буддийской точки зрения, сама идея консервации чего-либо на земле совершенно абсурдна.) Дело в том, что ученый рассказывает об этих пещерах исключительно со слов своих непальских и индийских информаторов, ибо его собственная попытка проникнуть вглубь подземного мира закончилась неудачей. Допущенный в одну из пещер, пройдя первый из внутренних залов, спрятанный за массивной железной (?!) дверью, он натолкнулся затем на невидимую преграду — мощный психоэнергетический барьер, сознательно «наведенный», как полагает Э. Р. Мулдашев, «сомати-людьми». Таким образом, подземная Шамбала-Агарти, как и следовало ожидать, оказалась недоступной для незваного гостя «мира сего».
Какой бы смысл, однако, ни вкладывали в понятие Шамбалы ее современные западные интерпретаторы и искатели, следует помнить, что существование мифической Счастливой страны ограничено во времени. Согласно буддийской хронологии, содержащейся в текстах Калачакра-тантры, в 1928 г. (год окончания Тибетской экспедиции Рериха) на престол Шамбалы взошел 21-й кулика-царь Анируддха (тиб. Ma-gag-pa). Его правление закончится в 2028 г. Затем Шамбалой будут править поочередно еще 4 царя — по сто лет каждый. В 2425 г. — в год Воды-овцы — по истечении 97 лет правления последнего, 25-го кулика-царя произойдет великая битва между силами добра и зла. После чего на земле наступит эра торжества Учения Будды — Дхармы. Однако она будет длиться не вечно, но строго определенное время — 1800 лет, как гласит предание. А затем новый поворот неумолимого Колеса Времени положит конец этому золотому веку, и вместе с ним кончится и история Шамбалы.
В заключение я хотел бы поблагодарить всех тех, кто помог мне в сборе материалов для этой книги: прежде всего А. Г. и О. А. Кондиайн, предоставивших в мое распоряжение свой семейный архив, Беатрис Викер, Марину Бозек и Ива-Фреда Буассе за присланные мне сведения и публикации об идейном учителе А. В. Барченко Александре Сент-Иве д'Альвейдре, московского журналиста и исследователя Олега Шишкина, указавшего мне на ряд интересных документов о Барченко в Государственном архиве РФ в Москве и предоставившего для публикации обнаруженную им там лекцию А. В. Барченко «Таро», С. А. Барченко, благодаря которому я смог ознакомиться с протоколом допроса Г. И. Бокия в архиве УФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области, В. А. Росова за сведения о Центрально-азиатской экспедиции Н. К. Рериха, а также В. С. Дмитриева за компьютерное сканирование фотографий и другого иллюстративного материала.
1. Начало пути
Александр Васильевич Барченко родился в городе Ельце в 1881 г. Его отец Василий Ксенофонтович Барченко был нотариусом окружного суда. Мать происходила «из духовной семьи». Благодаря ее влиянию мальчик воспитывался в религиозном духе — по словам самого А. В. Барченко уже в юношеском возрасте он отличался «склонностью к мистике и ко всему таинственному». Довольно рано родители отправили сына в Петербург, где он поступил в классическую гимназию, которую окончил, по-видимому, в 1898 г., если предположить, что учиться его отдали в 9-летнем возрасте, как это обычно бывало в дореволюционной России. (Поясним: курс обучения в классических гимназиях был 8-летним и 7-классным, при этом последний класс учащиеся проходили за 2 года.) После этого Барченко попытался получить высшее образование — в течение двух с половиной лет, опять же по его словам, он слушал лекции на медицинском факультете, сперва в Казанском, а затем в Юрьевском (Дерптском) университетах. Из-за нехватки средств, однако, занятия медициной ему пришлось оставить и поступить на государственную службу, «по Министерству финансов». Здесь, однако, у нас возникает серьезная проблема с хронологией, ибо А. В. Барченко утверждал впоследствии, что в 1905 г. («в годы революции») он пребывал в стенах Юрьевского университета. Но если это так, то нам придется признать, что юноша поступил в университет не сразу после окончания гимназии, а по прошествии нескольких лет, или же, что он учился в названных выше университетах не два с половиной года, а более длительный срок.
Карьера чиновника, очевидно, мало прельщала юного А. В. Барченко, и потому вскоре он оставляет службу. Следующий отрезок жизни Барченко связан с мучительными поисками своего места под солнцем. Из его краткого автобиографического наброска, сохранившегося в архивах, мы узнаем, что приблизительно в 1905–1909 годах ему довелось немало постранствовать по свету — с целью заработка и в то же время, очевидно, из желания посмотреть мир. «В качестве туриста, рабочего и матроса» Барченко объехал, по его собственным словам, «большую часть России и некоторые места за границей»[34]. Одной из таких стран, как вспоминала впоследствии Э. М. Кондиайн (жена будущего ближайшего друга и сподвижника Барченко), была сказочная Индия, будоражившая в то время воображение многих молодых людей на Западе. Вернувшись в Петербург, обогащенный опытом и впечатлениями Барченко пробует свои силы на журналистско-литературном поприще. К этому же «периоду исканий» относится и начало его увлечения эзотерическими науками — в этой связи А. В. Барченко особо упоминал о своей встрече с профессором римского права в Юрьевском университете A.C. Кривцовым, от которого впервые и услышал о Шамбале:
«Кривцов рассказал мне, что, будучи в Париже и общаясь там с известным мистиком-оккультистом Сент-Ив д'Альвейдром, он познакомился с какими-то индусами; эти индусы говорили, что в северо-западном Тибете в доисторические времена существовал очаг величайшей культуры, которой был известен особый, синтетический метод, представляющий собой высшую степень универсального знания, что положения европейской мистики и оккультизма, в том числе и масонства, представляют искаженные перепевы и отголоски древней науки. Рассказ Кривцова явился первым толчком, направившим мое мышление на путь исканий, наполнявших в дальнейшем всю мою жизнь. Предполагая возможность сохранения в той или иной форме остатков этой доисторической науки, я занялся изучением древней истории, культур, мистических учений и постепенно с головой ушел в мистику»[35].
Именно в это время — примерно в 1909–1911 — Барченко пробует заниматься «рукогаданием» — хиромантией. Начитавшись различных пособий, он уезжает в Боровичи (городок в Новгородской губернии), где с разрешения местной полиции начинает давать «консультации» всем желающим узнать свою судьбу. Здесь мы прервем наш рассказ, чтобы чуть ближе познакомить читателя с той атмосферой, в которой протекали эзотерические искания Барченко.
2. Храм Шамбалы в Петербурге
Начало XX века по праву называют «Серебряным веком» русской культуры. Этот период характеризуется также необычайно широким распространением в России новых религиозно-философских воззрений. Именно в начале XX столетия в России стремительно набирает силы теософское движение, все более привлекавшее к себе тех, кого не удовлетворяла позитивистская материалистическая наука, равно как и религиозная ортодоксия. В конце 1908 г. в Северной столице — Санкт-Перербурге, с разрешения городских властей, учреждается Российское Теософическое Общество. Главной его целью, согласно уставу, должно было стать «служение идее всемирного братства и научное изучение всех религий, а также исследование природы и скрытых сил человека»[36]. Помимо теософии и, несколько позднее, ее разновидности антропософии, распространение получают и другие оккультные течения: спиритуализм, спиритизм, медиумизм. Петербург — «холодный головной центр» Империи — все более погружался в мир иррационального. Эту обстановку «религиозно-мистического брожения» в столице — всего через несколько месяцев после опубликования Октябрьского Манифеста — корреспондент популярного оккультистского журнала «Ребус» охарактеризовал такими словами:
«… Весь Петербург охвачен необычайно сильным мистическим движением, и в настоящее время там образовался уже целый водоворот маленьких религий, культов и сект. Движение охватывает собою как верхние слои общества, так и нижние. В верхних слоях мы находим теософско-буддийское течение. Любители теософии соединяются вместе и уже начинают обсуждать вопрос об устройстве буддийской ламасерии (общежития) и теософско-буддийской моленной-храма. С другой стороны, наблюдается возникновение сильного интереса к масонству и возникают вновь заглохшие было формы религиозных движений прошлого столетия»[37].
Любопытно, что это сообщение появилось на страницах «Ребуса» за два дня до того, как Николай II принял в частной аудиенции в Зимнем дворце прибывшего в Петербург инкогнито посланника 13-го Далай-ламы Тубдена Чжамцо, российско-подданного бурята Агвана Доржиева[38]. На этой встрече Доржиев обсуждал с царем, главным образом, тибетские дела — весьма щекотливый для российской дипломатии вопрос о помощи Далай-ламе, бежавшему из Тибета летом 1904 г. от вторгнувшихся в страну англичан. В то же время Доржиев просил монарха позволить петербургским буддистам устроить в городе небольшую молельню для удовлетворения своих духовных нужд. Оба вопроса, однако, остались нерешенными. Лишь три года спустя, после нового ходатайства Доржиева, подкрепленного личным обращением к царю Далай-ламы, Николай II согласился удовлетворить «просьбу» тибетского первосвященника (на самом деле инспирированную самим Доржиевым), разрешив постройку буддийской молельни-«ламасерии». Рассказывают, что царь якобы даже заявил Доржиеву на встрече весной 1909 г., что «буддисты в России могут чувствовать себя как под крылом могучего орла»[39]. Это обещание воодушевило небольшую буддийскую колонию в Петербурге, во главе которой находился все тот же Агван Доржиев, окончательно переселившийся на невские берега осенью 1905 г. Ее костяк составляли осевшие в столице буряты и калмыки. К буддистам причисляла себя и горстка этнических русских — это были в основном представители петербургского «высшего света», неожиданно увлекшиеся буддийским учением. Многие из них пришли к буддизму через теософию, которая, как известно, имеет сильную буддийскую закваску и потому нередко рассматривается как своего рода «необуддизм». По мере того как ширилось теософское движение, неуклонно росло и число теософо-буддистов, или необуддистов. Здесь необходимо отметить, что буддийское учение в основном привлекало тех, кто стремился к нравственному совершенствованию и искал идеалы вне укоренившейся в западном обществе крайне эгоцентричной системы моральных ценностей. Ответ на свои запросы эти люди находили в раннем «этическом» буддизме Хинаяны, или Малой Колесницы, т. е. индийской разновидности вероучения, получившего в то время наибольшую известность на Западе. Основу Хинаяны составляет учение Будды о Четырех истинах и Среднем пути, при этом особый акцент делается на достижении человеком трансперсонального состояния «нирваны» — понятие, крайне интриговавшее в ту пору западных интеллектуалов. Сложнейшие психологические концепции и философско-религиозная проблематика более позднего буддизма Большой Колесницы, или Махаяны, представленные множеством различных (главным образом, тибетских) школ, равно как и его ритуальная практика, были по сути дела неведомы в ту пору европейской, в том числе и русской, буддийствующей публике. Не удивительно поэтому, что Агван Доржиев во время своей поездки в Париж летом 1898 г. устроил в помещении Музея Восточных искусств (Музей Гимэ) показательное богослужение для французских буддистов. На этой необычной службе присутствовали в основном представители столичного бомонда, дипломаты и политики, включая будущего премьера Жоржа Клемансо, а также несколько русских. Среди последних оказался поэт Иннокентий Анненский, передавший впоследствии свои переживания в стихотворении «Буддийская месса в Париже».
В конце XIX века в Париже, Лондоне и некоторых других европейских столицах уже существовали небольшие буддийские «общины», объединявшие тех, кто принял новомодную альтруистическую веру Будды. В Париже, между прочим, было немало и «русских буддистов» — так, нам известно о некой А. В. Гольштейн, которая познакомила поэта М. А. Волошина с Агваном Доржиевым осенью 1902 г. во время нового визита посланца Далай-ламы в Париж. Под влиянием этой встречи Волошин восторженно писал в Петербург: «Теперь — Лама. Кто Вам сказал, что он без языка? Я с ним очень много беседовал, через переводчика, конечно. Он мне много сказал такого об нирване, что сильно перевернуло многие мои мысли. От него я, например, узнал, что в буддизме всякая пропаганда идеи считается преступлением как насилие над личностью. Какая моральная высота сравнительно с христианством: религией пропаганды и насилия!»[40]. Этой встрече с буддийским священником Волошин придавал большое значение, поскольку она позволила ему «прикоснуться к буддизму в его первоисточниках». «Это было моей первой религиозной ступенью», отмечал он позднее в одной из автобиографий[41].
Таким образом, в Петербурге в начале XX столетия встретились два буддийских потока: один шел с Запада — из Парижа и Лондона, этих главных теософских центров Европы, и представлял собой ранний, «этический» буддизм Индии, воспринятый преимущественно европейской интеллектуальной средой — назовем его «интеллектуальным буддизмом»; другой — с Востока, от бурятов и калмыков, исповедовавших ламаизм, или Северный буддизм Тибета и Монголии, возникший в более позднюю эпоху. Оба эти потока на недолгое время — до 1917 г. — соединились под сводами петербургского буддийского храма, построенного Доржиевым не только для своих единоверцев, бурятов и калмыков, но и для русских «интеллектуальных» теософо-буддистов[42]. Именно на последних намекал корреспондент «Виленского вестника», писавший в середине 1909 — вскоре после начала строительных работ в Старой деревне: «Сооружаемый буддийский храм, кроме целей чисто религиозного культа, преследует, между прочим, и цели создания специального центра, вокруг которого смогут группироваться все интересующиеся буддизмом в Петербурге»[43]. Еще более откровенно высказывался о строительстве буддийского храма и. о. вице-директора Департамента полиции Н. П. Харламов в докладной записке министру внутренних дел П. А. Столыпину:
«Организаторы постройки буддийской молельни в С.-Петербурге имеют намерение вербовать себе адептов из среды С.-Петербургского высшего общества, в достаточной степени, по мнению местных главарей буддизма, зараженного „англоманией“, а следовательно, и склонного к буддизму, т. к., по словам буддистов, их миссионеры в последнее время имели наибольший успех среди англичан. С этой целью предполагается образовать в С.-Петербурге буддийские общины наподобие Лондонских и устроить больших размеров здание дацана, в котором бы совершалось торжественное служение с соблюдением всего ритуала Индийских буддийских храмов»[44].
Затеяв постройку «экзотического» буддийского храма в столице Российской Империи, ее инициатор и руководитель Агван Доржиев по сути дела преследовал две цели — политическую и религиозную: во-первых, способствовать русско-тибетскому сближению и, во-вторых, «продвинуть» буддийское учение (Дхарму) на Запад, туда, где традиционно господствовала христианская церковь. И это ему отчасти удалось. Сохранились фотографии, запечатлевшие петербургскую «буддийскую колонию» начала 1910-х, на которых можно видеть русских «великосветских» буддистов, стоящих бок о бок с простыми бурятами и калмыками на ступенях еще не достроенного Храма Будды в Старой деревне.
Постройка храма, или, правильнее сказать, дацана (монастыря), долгая и трудная, благополучно завершилась в 1915 г., в самый разгар мировой войны. По его освящении, состоявшимся 10 августа, храм получил название «Источник Святого Учения Будды Всесострадающего». Посетившие Старую деревню по этому случаю корреспонденты петербургских газет были немало удивлены, увидев вместо ожидаемой ими скромной молельни для местных бурят и калмыков величественное, импозантного вида сооружений — «буддийскую пагоду». Внешняя форма здания с мощными, несколько наклоненными внутрь стенами, отделанными красно-фиолетовым финским гранитом, напоминала неприступную крепость. Внутрь храма вели три массивные деревянные двери, скрывавшиеся в глубине изящно орнаментированного портала с колоннами. Капители колонн и верхний фриз основного объема здания украшали позолоченные щиты с эмблемой-монограммой Калачакры, представляющей собой причудливое соединение 10 мистических санскритских слогов. Это — формула «Десяти могуществ» (Намчувангдан), выражающая глубинную связь макро- и микрокосма, вселенной и человека, поскольку каждый из знаков-слогов имеет два смысла — космический и человеческий. По преданию, символ «Десяти могуществ» был изображен на воротах знаменитого буддийского монастыря Наланда, одного из первейших центров учености в древней Индии.
Над храмом в его задней части возвышалась выложенная из красного кирпича башня (так называемый «гонкан»), ориентированная строго на север, туда, где, по представлению буддистов, находится блаженная земля Шамбалы (Шамбалын орон), в которой ныне пребывает Будда Шакьямуни. В этой башне помещался особый алтарь с изображением гения-хранителя храма — богини Лхамо. Основной же алтарь с почти трехметровой статуей Большого Будды, изваянной из алебастра забайкальскими мастерами, находился в главном молитвенном зале — в первом этаже башни по оси здания. Не менее сильное впечатление на посетителей производили и интерьеры храма, создававшие особую мистическую атмосферу. Прежде всего поражало отсутствие окон — свет в основное помещение храма (нижний зал) проникал сверху, прямо с неба, через остекленную часть крыши и потолка (световой фонарь), и падал на восьмилепестковый лотос, выложенный цветными плитками в полу и воспроизводивший символические очертания Шамбалы; чуть ниже лотоса, у самых дверей, из тех же плиток была составлена свастика — древний арийский (индо-буддийский) символ счастья. Завораживало и богатое убранство молитвенного зала — густая позолота и яркие цвета красок, загадочные восточные иероглифы, унизывающие собой барельефы колонн, идущих вдоль храма, но особенно — писанные на ткани буддийские иконы — «тангка», среди которых имелось и изображение Блистающей Шамбалы.
Прообразом для петербургского дацана послужил классический тибетский «цогчен-дуган» — монастырский соборный храм. По желанию Доржиева, однако, архитекторы Г. В. Барановский и Р. А. Берзен придали петербургскому храму вполне современный европейский облик в стиле модного Северного модерна, чтобы сделать его привлекательным в глазах западных буддистов. Особенно тщательной была отделка интерьеров, которой в 1914–1915 гг. руководил Николай Рерих. Так, например, по эскизам Рериха были выполнены цветные витражи плафона и «светового фонаря» (сохранились до наших дней), на которых изображены традиционные буддийские символы — «Восемь счастливых знаков». Основой для эскизов послужили, очевидно, рисунки бурятских художников, которые западный мастер затем искусно стилизовал в духе модерна. По признанию самого Н. К. Рериха, именно во время строительства храма он впервые услышал о Чанг Шамбале (Северной Шамбале) от «одного очень ученого бурятского ламы»[45]. Возможно, это намек на Агвана Доржиева. В то же время собеседником Рериха вполне мог быть и бурят Гэлэг-Чжамцо, высокоученый лама, автор трудов по буддийской астрономии и математике.
Расчеты Доржиева сделать дацан центром буддизма в Петербурге вполне оправдались: уже первое богослужение в храме, состоявшееся по случаю празднования трехсотлетия Дома Романовых 21 февраля 1913, собрало практически всю буддийскую колонию города, включая русских «необуддистов». Кто были эти люди, которых право-радикальная пресса того времени саркастически именовала «идолопоклонниками» и «богоискателями»? Корреспондент «Нового времени» обнаружил среди присутствующих «кн. Дондукову, несколько офицеров во главе с полковником ген-штаба И. и двух воспитанников училища правоведения»[46]. «Княгиня Дондукова» — это Ксения Александровна Тундутова, дочь русского генерала А. М. Бригера, бывшая замужем за калмыцким князем («нойоном») из Малых Дербет, блестящим гвардейским офицером Данзаном (Дмитрием) Тундутовым[47]. Салон красавицы-княгини К. А. Тундутовой являлся центром петербургских «необуддистов» в 1910-е годы (тогда как центром столичных теософов был салон А. А. Каменской, основательницы РТО и редактора-издателя «Вестника теософии»).
Кроме князей Тундутовых, у Доржиева в Петербурге был еще один влиятельный покровитель — «лицо, занимающее довольно высокий служебный пост», как писала одна из газет. «Благодаря сочувствию, высказанному к идеям буддийской религии этим лицом, а также благодаря усиленным хлопотам его, петербургской буддийской колонии удалось получить разрешение на сооружение в С.-Петербурге первого буддийского храма»[48]. Речь, по-видимому, идет о князе Эспере Эсперовиче Ухтомском. Ученый (большой знаток ламаизма), дипломат, предприниматель, редактор-издатель «С.-Петербургских ведомостей», наконец, коллекционер произведений буддийского искусства, князь Ухтомский был довольно колоритной фигурой для своего времени. Являясь сторонником активной русской политики в Тибете, он немало способствовал осуществлению политических планов Доржиева. Именно Ухтомский, благодаря своей близости ко двору, помог «тибетскому посланнику» получить аудиенцию у царя в 1898 г. и ввел его в петербургское высшее общество. И если политики поначалу восприняли Доржиева весьма сдержанно и холодно, ибо просимая им помощь Тибету грозила России серьезными дипломатическими осложнениями с Англией, то совсем иным было отношение к нему великосветской публики, особенно тех, кто в своих религиозно-нравственных исканиях пришел к принятию учения Будды. Эти люди видели в Доржиеве не закулисного дипломата и политика, но прежде всего высокое духовное лицо, стоящее близко к Далай-ламе, одного из Учителей мистического Тибета.
3. Доктор Черный
Волна увлечения теософией и буддизмом, охватившая молодых петербуржцев в 1910-е гг., едва ли могла миновать А. В. Барченко, хотя нам и ничего не известно о его связях с теософами или буддистами в эти годы. Мы знаем только то, что, вернувшись в Петербург после своих странствий по миру, А. В. Барченко целиком отдался литературному творчеству — с увлечением пишет он очерки, рассказы и повести, которые начиная с 1911 г. довольно регулярно появляются в петербургских журналах — таких как «Мир приключений», «Природа и люди», «Жизнь для всех», «Русский паломник» и др. Сюжеты произведений Барченко по большей части навеяны его путешествиями или взяты из, истории. При этом содержание некоторых его рассказов (таких как «Вавилонская башня», «Рогатый вор», «Поселок Нэчур», «Услуга метиса» и др.)[49] определенно включает описание тех мест, которые ему довелось посетить: Северная Америка, Канада, Калифорния. Можно предположить, что Барченко, как и герой его рассказа «Мертвый мститель»[50], плавал на товарно-пассажирском пароходе, совершавшем рейсы между Старым и Новым Светом. В тот же период путешественник, по-видимому, побывал также и в двух основных буддийских регионах России — в Забайкалье и Калмыцких степях (как о том свидетельствуют рассказы «Пожар в тайге» и «На Каспии»)[51]. Но Барченко не только исколесил земные просторы — сушу и море; он, если верно наше предположение, опускался под воду (повесть «Петербургские водолазы»[52]) и даже поднимался в воздух (рассказы «На Блерио» и «Хозяева воздуха»[53]). И это в то время, когда русская авиация делала свои первые шаги!
Литературно-журналистский опыт Барченко оказался весьма успешным. Уже в 1914 г. в одном из столичных издательств был опубликован сборник его рассказов «Волны жизни», иллюстрированный, кстати, самим автором. Тогда же журнал «Мир приключений» поместил на своих страницах два больших романа талантливого беллетриста, связанных единой сюжетной канвой, — «Доктор Черный» и «Из мрака» (1913, кн. 1–5 и 1914, кн. 1–5). Оба эти произведения представляют для нас немалый интерес, поскольку изобилуют автобиографическими реминисценциями и в большой степени отражают теософско-буддийское мировоззрение Барченко, вполне сформировавшееся к тому времени.
Действие в романах происходит отчасти в России, отчасти за ее пределами — в Индии (в Бенаресе и Дели) и где-то в Гималаях или даже за Гималаями, т. е. в Тибете. Их главный герой, Александр Николаевич Черный, доктор медицины, приват-доцент физико-математического факультета Петербургского университета, известный на западе под именем профессора Нуара. Он — серьезный ученый и вместе с тем эзотерик, член теософского общества, «брат величайшего на земле посвящения», младший из «махатм». Доктор Черный весьма далеко продвинулся по стезе познания тайн природы, однако не следует думать, что он почерпнул свои необыкновенные знания исключительно из теософии. Напротив, он — поборник самой строгой, но не ортодоксальной науки. Он прекрасно знаком с самыми последними достижениями европейской научной мысли, которые, по его мнению, лишь возвращают человека к тайным знаниям прошлых цивилизаций. Долгих 11 лет он провел в Тибете, наглухо замурованный в горной келье. В результате этой суровой йогической аскезы ему открылись многие тайны мироздания. Но доктор Черный — не оторванный от жизни идеалист-созерцатель, а реалист и практик, использующий свои удивительные способности и знания на благо людей. Например, он знает противоядие от укуса кобры, о котором еще не известно западной медицине, и спасает от верной смерти одного из героев романа, своего соотечественника студента Беляева. По его распоряжению больного для лечения переносят в маленький горный монастырь, расположенный на границе Индии и Тибета. Монастырь этот устроен прямо в скале и принадлежит «братству Желтых колпаков» Желюг — т. е. монахам «желтошапочной» школы Гелуг, наиболее распространенной в Тибете. Там в крошечных кельях находятся добровольно замурованные «посвященные самых низких степеней» и имеющие высшие степени посвящения, «избравшие созерцательный путь совершенствования». Первые находятся в заточении от 6 недель до трех лет, вторые не покидают своих келий до самой смерти. Всем этим порядком руководят те, «кого никто не видал, но которые существуют и… живут не особенно далеко отсюда»[54], — очевидный намек на Гималайское братство «махатм». Черный, как и Барченко, убежден, что на земле в глубочайшей древности господствовала великая цивилизация — «красная раса». Но она одряхлела и выродилась, в соответствии с законом циклического развития человеческого общества. Живущие ныне мулаты, метисы и египетские феллахи — это ее «выродившиеся потомки»[55]. О катастрофе, стершей с лица земли эту цивилизацию, свидетельствуют многие древние памятники:
«Лучшая иллюстрация… Легенда о чудовищном потопе живет на Яве, на Алеутских островах точно так же, как в Индии, Палестине и Вавилоне. В древнейшей Америке Ной выступает в лице Кокс-Кокса. Маорийцы тихоокеанских архипелагов рядом с легендой о потопе воспроизводят в точности, почти слово в слово, миф о Прометее в легенде о птице Оовеа. Платон открыто называет Атлантиду, погибшую под волнами океана в геологическом перевороте. Он точно устанавливает географическое положение материка, описывает города, постройки, культ, образ правления. В именах атлантских „царей“ под обычным для древности шифром — эпонимами, мы знакомимся с историей культуры атлантов, узнаем, что древнейший Египет был колонией атлантов. И наши ученые, антропологи Топинар и Пеше, без всякой задней мысли удостоверяют, что красные потомки древнейших египтян — феллахи, несмотря на попытки слияния со стороны позднейших завоевателей, до сих пор тот же чистый тип, что на древнейших памятниках»[56].
О том, что Атлантида — не утопия, свидетельствуют, по мнению Черного, поразительные исследования доктора Пленджена в дебрях Юкатана. Этот ученый убедительно показал, что космогония и история древнейших обитателей Юкатана «лишь повторение „легендарного периода“ египетской истории, периода до таинственного законодателя Менеса».
Мы — нынешнее человечество — представители новой после-потопной цивилизации — «5-й расы», которая должна уступить 6-й расе, а за ней грядет 7-я, последняя. В этом утверждении Черного нетрудно увидеть отголосок теософской теории 7 рас, с которой А. В. Барченко, очевидно, был хорошо знаком. Герой Барченко сообщает также читателю о совершенных познаниях предшествующей, т. е. до-потопной цивилизации: «Человечество… переживало в древности ступень развития, перед которой меркнут завоевания современной науки. И если это так, то где же искать памятники этого развития, как не у древнейших народов, всегда сторонившихся ревниво от сношений с народившимся новым, молодым человечеством»[57]. Эти высшие знания доисторического общества, дает понять нам доктор Черный, по сю пору сохраняются одной из «философских» школ Тибета. Однако для большинства европейцев они не доступны.
Восхищаясь Индией Духа, доктор Черный вместе с тем не закрывает глаза на мрачные стороны современной индийской жизни. Он — противник кастовой системы и тех, кто стоит на ее защите, — ортодоксального брахманства. В то же время Черный решительно порывает с теософским обществом, поскольку находит недопустимым его стремление «окружить тайной ключи, раскрывающие науке новые горизонты». Подобные взгляды, по-видимому, отражают позицию самого А. В. Барченко. В пользу такого предположения говорит и то, что именно Черный излагает учение о расах и «доисторической культуре» — хранительнице ключей совершенного знания. И действительно, при внимательном прочтении романов нельзя не заметить определенного сходства в характере, мировоззрении и даже судьбе Барченко и Черного, что наводит на мысль о том, что загадочный доктор есть alter ego его автора. В то же время, возможно, прав и С. А. Барченко, считающий, что прототипом Черного послужил известный эзотерик П. Д. Успенский. А. В. Барченко, как он полагает, мог посещать лекции Успенского по теософии, с которыми тот выступал в Тенишевском зале в Петербурге в 1910–1912 гг. Но учеником П. Д. Успенского А. В. Барченко так и не стал, хотя и посещал какое-то время его лекции.
Романы Барченко написаны в реалистической манере, в них нет ничего мистического — если только не считать мистическими откровения доктора Черного по поводу «семи рас» и «древней науки». Однако, при всей наукообразности рассуждений доктора, многие его утверждения весьма спорны, а ссылки на западные авторитеты при ближайшем рассмотрении оказываются не слишком убедительными. Яркий пример тому — упоминание об исследованиях Огюстуса Плонжона (Планджена). В свое время этот французский ученый-самоучка, горячий энтузиаст идеи родства цивилизаций Америки и древнего Египта, наделал немало шума своими открытиями на полуострове Юкатан, где в течение трех десятилетий вместе с женой Алисой Плонжон изучал развалины городов майя. Результаты его поисков, однако, не получили признания ученых, и за Плонжоном прочно закрепилась репутация «фантазера и фальсификатора». Чрезмерное увлечение своими более чем оригинальными теориями привело к тому, что Плонжон нередко терял чувство реальности и принимал или же выдавал желаемое за действительное. Некоторые его утверждения кажутся совершенно нелепыми, как, например, то, что Иисус произнес свои предсмертные слова на майясском языке (!?). Плонжон, между прочим, был убежден, что индейцы майя обладали не только высокоразвитой наукой, но и техникой. Как рассказывает Р. Уокоп, Плонжон, обнаружив однажды, что оконную перемычку древнего здания пересекает какая-то линия и рядом с ней выбиты зигзагообразные желобки, тут же заключил, что у древних майя был электрический телеграф (!)[58]. Впрочем, А. В. Барченко едва ли был знаком с публикациями Плонжона или полемикой вокруг его «открытий» в западной прессе, и потому, скорее всего, ничуть не сомневался в истинности теорий французского археолога.
К несомненным достоинствам романов Барченко следует отнести и ту поразительную достоверность, с которой автор живописует Индию. Один из его героев восклицает: «Вы увидите совсем новую жизнь! Будете сталкиваться с племенами, история и происхождение которых до сих пор остаются для науки загадкой. Вы увидите своими глазами настоящих факиров. За одно это можно отдать десять лет жизни!»[59]. Другое дело Тибет, который Барченко упоминает лишь в связи с горной обителью отшельников, куда случайно попадают его герои. Сведения о тибетских пещерных схимниках, как удалось выяснить, он почерпнул у двух авторов — американца В. В. Рокхиля и англичанина О. Уоддэля[60]. Именно в книге Уоддэля мы находим прототип горного монастыря, описанного Барченко. Английский путешественник называет и сроки «заточения» аскетов в своих кельях: 6 месяцев или 3 года, три месяца и три дня — для 1-й и 2-й степени святости и «пожизненное замуравливание» для принявших обет на третью, высшую степень[61]. У Уоддэля А. В. Барченко заимствует и такую трогательную подробность, как просунутая сквозь узкое «окошко» в скале дрожащая рука отшельника «в перчатке», ищущая миску с едой. Рокхиль и Уоддель, между прочим, не обошли молчанием и вопрос о тибетских «махатмах», о которых в то время много говорили на Западе, в связи с учением Е. П. Блаватской. И Рокхиль и Уоддель высказывались по этому поводу довольно скептически. Так, Уоддэль приводит мнение тибетского Регента («Кардинала»), утверждавшего якобы, что ничего не знает о существовании «махатм». Не слышал он также, «чтобы какие-нибудь тайны старого мира сохранились в Тибете: ламы интересуются только миром Будды и не придают никакой цены древней истории»[62]. На основании этого утверждения Уоддэль делает собственный вывод: «Я с сожалением должен сказать, что люди, которые воображают, будто бы в этой сказочной стране, Тибете, переставшей быть неведомой, еще хранятся тайны начала ранней цивилизации мира, предшествовавшей образованию Древнего Египта и Ассирии и почившей вместе с Атлантидой в Западном Океане, должны отрешиться почти от всякой надежды на это»[63]. С таким выводом, однако, едва ли согласились бы А. В. Барченко и его герой доктор Черный.
4. Тайны лучистой энергии
Наряду с литературными занятиями А. В. Барченко в 1910–1911 гг. делал и первые самостоятельные шаги в науке. Круг его интересов был необычайно широк и охватывал по сути все стороны естествознания как совокупности наук о Природе — материи, человеке, вселенной. Есть, однако, одна тема, которой А. В. Барченко уделял особо пристальное внимание, — это природная «энергетика» — разнообразные виды «лучистой энергии», имеющие первостепенное значение для жизни человека. Свое понимание «энергетической проблемы» Барченко обстоятельно изложил в очерке «Душа Природы», опубликованном в 1911 г. Начинался он с рассказа о роли солнечного светила — источника жизни на Земле, а возможно, также и на других планетах, например, на Марсе. Далее Барченко сообщал своим читателям о присутствии растительности на Красной планете, о выпадении и таянии там снегов и, конечно же, о загадочных марсианских каналах. Все это позволяло ему высказать предположение, что на Марсе обитают «существа, по разуму не только не уступающие людям, но, вероятно, далеко их превосходящие»[64]. Столь же уверенно говорил он и о существовании эфира — «тончайшей, наполняющей вселенную среде». «Ученые пришли к заключению, что вся вселенная наполнена веществом, настолько тонким, что оно свободно проникает в промежутки между малейшими составными частицами всех видимых предметов, свободно проникая насквозь небесные тела со всем, что на них находится». При помощи этой среды солнце сообщает планетам «запасы жизненных сил, которых оно является очагом». (Понятие «эфира», не вызывавшее возражений во времена Барченко, было затем отвергнуто Эйнштейном, но в конце XX столетия оно вновь вернулось к нам в концепции космического вакуума, наполненного виртуальными энергиями огромнейших, еще не познанных человеком мощностей.) В то же время процессы, идущие в недрах Солнца — «этой ослепительной Душе природы, — чудовищные взрывы и вихри, тотчас отражаются на электромагнитном состоянии земли. Стрелки магнитных приборов мечутся, как безумные, вспыхивают северные сияния… Доходит до того, что телеграфы отказываются работать и трамваи двигаться… Кто знает, — восклицает далее Барченко, — не установит ли когда-нибудь наука связи между такими колебаниями (напряжения солнечной деятельности) и крупными событиями общественной жизни?»[65].
Примечательно, что слова эти были сказаны начинающим ученым задолго до того, как A. Л. Чижевский создал свое учение о влиянии солнечной активности на земную биосферу.
В статье Барченко рассматривались и другие виды «лучистой энергии» — свет, звук, теплота, электричество. Но особенно подробно он останавливается на двух новых видах «лучистой энергии», совсем недавно обнаруженных наукой, — радиоактивном излучении и загадочных «N-лучах». Открытие в 1898 г. супругами Кюри радия — первого радиоактивного элемента — имело огромное научное значение. О возможностях практического применения лучей радия в биологии, медицине и сельском хозяйстве в то время много говорили и писали. Разумеется, Барченко также не мог обойти молчанием столь животрепещущей темы. «Взоры ученого мира обращены в данную минуту на радий. Вычислили, что способности работы, скопленной в щепотке радия, достаточно для того, чтобы товарный поезд в сорок вагонов обежал вокруг земли больше 4 раз, для чего нужно сжечь по крайней мере 170 тысяч пудов каменного угля. Но сумей-ка запустить такой поезд радием вместо угля…» Использование энергии радия (радиоактивности) глубоко волнует Барченко, хотя для него этот вопрос является лишь частью более крупной проблемы — «как уловить и подчинить себе разсеянную всюду в пространстве энергию» — ибо разгадка этой тайны сможет «открыть человечеству рай на земле»[66].
Немалое место в статье отводилось и рассказу об открытых французом Блондло (Blondlot) «N-лучах» как особой разновидности психофизической энергии, излучаемой человеческим мозгом. Исследования французских ученых Шарпантье и Андрэ показали, что практически любая мозговая деятельность человека сопровождается обильным излучение «N». Загадочные «мозговые лучи» — энергия «пси», как бы мы сказали сегодня, — заинтересовали Барченко прежде всего потому, что они, как оказалось, имеют непосредственное отношение к проблеме передачи мысли на расстояние. Изучением этого явления в начале 1900-х активно занимались ученые как на Западе, так и в России (среди последних следует в первую очередь назвать В. М. Бехтерева, И. Р. Тарханова, Н. Г. Котика и А. А. Певницкого). Правда, им не удалось придти к каким-либо однозначным выводам. Так, Н. Г. Котик считал возможной передачу мыслей непосредственно от одного человека к другому при помощи лучей Блондло, в то время как В. М. Бехтерев относился к существованию N-лучей довольно скептически, тем более, что проведенные в его лаборатории М. П. Никитиным опыты над лучами дали отрицательные результаты[67]. Хорошо знакомый с работами западных и отечественных психологов Барченко в 1910 г. ставит собственные эксперименты, несколько усовершенствовав «способ исследования», как он отмечает в своей статье, и добивается «весьма интересных результатов»[68]. При этом, однако, он дает понять читателю, что было бы неверным считать N-лучи «исключительным двигателем мысли» — «смотреть на „N“, как на самые мысли, нельзя, но нельзя также отрицать их тесной связи с последними»[69].
В конце статьи, размышляя над важностью открытий в области «лучистой энергии», которые дают науке «средство добиться разгадки здесь, на земле, из чего и как произошел мир», А. В. Барченко неожиданно возвращается к вдохновляющей его идее о том, что древнему миру, возможно, были известны многие тайны природы, еще не познанные современным человеком. «Существует предание, что человечество уже переживало сотни тысяч лет назад степень культуры не ниже нашей. Остатки этой культуры передаются из поколения в поколение тайными обществами. Алхимия — химия угасшей культуры»[70].
В последующие годы появились новые статьи А. В. Барченко, продолжившие обсуждение наиболее волнующих его тем: «Загадки жизни», «Передача мыслей на расстоянии», «Гипноз животных». «В различных популярно-научных столичных и провинциальных изданиях я все время работал как популяризатор по вопросам естествознания, преимущественно биологии», — напишет он впоследствии в автобиографическом наброске, сохранившемся в одном из петербургских архивов[71]. Барченко к этому времени уже был женат (жену звали Наталья) и имел сына, и, чтобы прокормить семью, ему приходилось много трудиться — писать художественные вещи, а также популярные очерки и статьи — не только научного характера, но и «на злобу дня» — на спортивные и бытовые темы. Одновременно А. В. Барченко усиленно занимался самообразованием — много читал по самым разным дисциплинам в поисках ответа на те вопросы, которые ставил перед читателями в своих научно-популярных статьях.
5. Г. И. Гурджиев о «скрытом знании»
Мы уже говорили о возможном знакомстве А. В. Барченко с учением П. Д. Успенского, которое, по мнению С. А. Барченко, оказало влияние на его творчество и мировоззрение в период работы над первыми романами. В 1912 г. в Петербурге появился еще один эзотерик, чье имя впоследствии приобрело широкую известность в России и на Западе, — Георгий Иванович Гурджиев (1877–1949)[72]. Три года спустя вокруг Г. И. Гурджиева начал складываться кружок его петроградских учеников, среди которых оказался и П. Д. Успенский, порвавший к тому моменту по идейным соображениям с Российским Теософским Обществом (история эта чем-то напоминает разрыв «доктора Черного» с теософами). Г. И. Гурджиев, как известно, в юности много странствовал по Востоку в поисках истинного знания — бывал в Турции, Персии, Афганистане, Индии и, если верить его рассказам, даже в Тибете. В книге «Встречи с замечательными людьми» Г. И. Гурджиев рассказывает о своих контактах с членами суфийского братства «Сармун» в одном из тайных монастырей Кафиристана (северо-восточный Афганистан)[73]. Здесь надо сказать, что, согласно учению Г. И. Гурджиева, «Учителя мудрости» (khwajagan или «ходжи») составляют ядро, или «внутренний круг человечества»; все остальные люди принадлежат к «внешнему кругу». Назначение Учителей — быть источником «новых и мощных идей, которые в конечном счете должны изменить ход человеческого мышления», а также служить «генераторами энергий высокого уровня». Вообще Г. И. Гурджиев имел свое собственное объяснение природы энергетического взаимодействия человека с космосом. Роль человека, считал он, состоит в том, чтобы быть «аппаратом для трансформации энергии — некоторые виды энергий, порождаемые человеком, необходимы для космических целей; те, кто понимают, как порождаются эти энергии, — истинно исполняют цель человеческой жизни»[74]. Но и Барченко, как мы уже видели, проявлял большой интерес к проблеме взаимодействия космических и земных энергий, включая в число последних психоэнергетические эманации человека.
К моменту появления Г. И. Гурджиева в Петербурге его эзотерическая Система, основанная на древней суфийской традиции, уже приобрела законченный вид. В 1915–1916 гг. Г. И. Гурджиев напряженно работал с учениками, которым пытался передать свое учение о Четвертом Пути. Не мог ли среди них находиться и А. В. Барченко?
В книге «В поисках чудесного» П. Д. Успенский рассказывает такую историю:
«Однажды в мое отсутствие к Гурджиеву явился некий „оккультист“-шарлатан, игравший известную роль в спиритических кругах Петербурга; позднее, при большевиках, он стал „профессором“. Он начал разговор с того, что много слышал о Гурджиеве, о его занятиях, и пришел с ним познакомиться.
Гурджиев, как он сам мне рассказывал, играл роль настоящего торговца коврами. С сильнейшим кавказским акцентом, на ломаном русском языке, он принялся уверять „оккультиста“, что тот ошибся, что он только продает ковры, — и немедленно начал развертывать их перед посетителем.
„Оккультист“ ушел, убежденный, что стал жертвой мистификации своих друзей.
„Было очевидно, что у мерзавца нет ни гроша, — прибавил Гурджиев, — иначе я выжал бы из него деньги за пару ковров“»[75].
Незадачливого героя этой полуанекдотичной истории, пересказанной П. Д. Успенским со слов Г. И. Гурджиева, вполне можно принять за А. В. Барченко, который, как мы знаем, действительно увлекался оккультизмом в эти годы и действительно именовал себя «профессором» при большевиках. То, что он стал жертвой розыгрыша эксцентричного Г. И. Гурджиева, не должно удивлять нас. Последний нередко подвергал своих учеников различного рода «проверкам» и «испытаниям»; к тому же, занятия в его кружке стоили немалых средств, поскольку Гурджиев считал, что знание не может даваться даром. Так что стать его учеником было совсем не просто.
У Г. И. Гурджиева, между прочим, имелась довольно оригинальная теория по поводу кажущейся недоступности — «скрытости» — истинного («объективного», по его терминологии) знания древних. Такое знание, говорил он, вовсе не является скрытым. В то же время знание вообще не может быть общим достоянием. Объяснял он это таким образом. Знание по своей природе материально, а это значит, что его количество в данном месте и в данное время строго ограничено. Как количество песка в пустыне или воды в море. Воспринятое в большом количестве одним человеком или небольшой группой людей, знание даст прекрасные результаты. Если же попытаться распределить знание понемногу между всеми-людьми, то пользы от этого не будет никакой, или даже может выйти вред. Все дело в том, что небольшое количество знания не сможет изменить ни жизни людей, ни их понимания мира. Поэтому предпочтительней, чтобы знание находилось в руках немногих и в большом количестве. При этом следует иметь в виду, что подавляющее большинство людей вообще не желает никакого знания и даже отказывается от той его крохотной части, которая приходится на их долю в общем распределении для нужд повседневной жизни. Это особенно очевидно в периоды мировых катаклизмов — «массового безумия», сопровождающего войны и революции, когда люди полностью теряют рассудок и превращаются в «автоматы». С другой стороны, никто ни от кого в действительности не утаивает знания. Проблема состоит в том, что приобретение или передача истинного знания требует большого труда и усилий как со стороны дающего, так и со стороны принимающего. Те, кто владеет знанием, стремятся передать его как можно большему числу людей, чтобы облегчить им доступ к Истине. Однако знание нельзя навязать силой тем, кто его не хочет получить или отвергает. «Желающий обрести знание должен сам сделать начальные усилия, чтобы найти его источник, придти к нему, пользуясь помощью и указаниями, которые даются всем, но которые люди, как правило, не хотят видеть и не замечают. Знание не может придти к людям без усилия с их стороны. <…> Человек обретает знание только с помощью тех, кто им обладает, — это необходимо понять с самого начала. Нужно учиться у того, кто знает»[76].
6. Смутное время
Осенью 1914 г., после того как Германия объявила войну России, Барченко оказался в рядах действующей армии. Правда, не надолго. Уже в 1915 г. после тяжелого ранения он возвращается в Петербург. Вновь берется за перо — пережитое на поле брани подсказывает ему сюжеты «военных рассказов», которые один за другим появляются в журнале «Мир приключений». В то же время литератор-ученый увлеченно собирает материалы, относящиеся к естественно-научным знаниям древних, и на их основе составляет законченный курс «Истории древнейшего естествознания». Этот курс он затем читает в физическом институте Соляного городка. Выступает также с публичными лекциями в Тенишевском зале, в которых проводит сравнение между достижениями «древней науки» и знаниями современного общества.
Февральскую демократическую революцию Барченко встретил, по-видимому, с тем же энтузиазмом, что и большая часть прогрессивной русской интеллигенции. Однако большевистский Октябрьский переворот с его «массовым безумием» вызвал у него неприятие. «Октябрьскую революцию я встретил враждебно, воспринимая только внешнее проявление толпы, смешивавшее в моем понимании люмпен-пролетариат с пролетариатом и создававшее у меня представление о „животной распущенности“ рабочих, матросов и красногвардейцев. Это создавало стремление скрыться, спрятаться от революции» — такими словами А. В. Барченко впоследствии охарактеризовал свое первоначальное отношение к главному событию XX века[77]. Подобные настроения в полной мере отразил на своих страницах еженедельник «Вестник труда» (издание кооперативного товарищества духовных писателей «Соборный разум»), с которым А. В. Барченко тесно сотрудничал в 1918 г. Причина трагедии, разыгравшейся в России, по мнению издателей еженедельника, состояла в том, что революция отвергла христианство с его духовными ценностями, предав забвению учение Христа. «Вместо социалистического земного рая мы видим шабаш Сатаны: озверение людей, голод, всюду свистит коса смерти. И понятны делаются вопли о безрадостной жизни, о нестерпимой ее тяготе. Тяжело. Страшно. Кошмарно», — писал в одном из номеров «Вестника труда» священник А. И. Введенский. Но «как же это могло случиться», спрашивает он затем. «Как светлое солнце русской революции стало палящим огнем, который жжет и губит сейчас страну?» И тут же дает ответ, ясный любому христианину: «Не было с нами Солнца правды — Христа!»[78].
Первый шок от октябрьских событий, испытанный A. B. Барченко, однако, вскоре прошел, и он начал рассматривать революцию в более позитивном свете, как «некоторую возможность для осуществления христианских идеалов», в противоположность «идеалам классовой борьбы и диктатуры пролетариата». Эту свою позицию А. В. Барченко определяет как «христианский пацифизм», заключающий в себе идеи «невмешательства в политическую борьбу и разрешения социальных вопросов индивидуальной нравственной переделкой себя». «Свои взгляды в этот период я проводил, читая лекции, и в часто печатавшихся мной литературных произведениях религиозно-мистического характера»[79]. Одним из таких произведений был опубликованный в первом номере «Вестника труда» рассказ «Частное дело», название которого прямо указывало на большевистский декрет об отделении церкви от государства, определивший новый статус религии в Советской России («Религия — частное дело каждого»).
В очерке «К свету» А. В. Барченко пытался перекинуть мостик из прошлого в будущее, возвращаясь к своей излюбленной теме: «Завоевания современного естествознания, открытие целого мира — невидимого, но бесспорно существующего, — мира всепроникающей лучистой энергии, открытие анабиоза, уединения чувствительности, явлений ультралетаргии ставят современность лицом к лицу с головокружительной догадкой: не скрыты ли под иносказаниями древнейших религиозно-философских школ действительные достижения, к которым наша наука еще лишь на пути?»[80].
В конце 1917 — начале 1918 г. Барченко часто посещал различные эзотерические кружки, продолжавшие регулярно собираться в Петрограде несмотря на хаос революционного времени. А. В. Барченко называет три таких кружка: известной теософки и мартинистки Ю. Н. Данзас, доктора Д. В. Бобровского (двоюродного брата «черносотенца Маркова 2-го») и общество «Сфинкс». Их посетители, уединившись за плотно закрытыми дверьми, горячо обсуждали, однако, не только отвлеченные религиозно-философские вопросы, но и куда более актуальные политические темы. В целом в кружках царила резко антибольшевистская атмосфера. (Квартира Бобровского на Владимирском проспекте, по словам А. В. Барченко, представляла собой «конспиративную квартиру белогвардейцев» — здесь от большевиков в 1918 г. скрывались Марков 2-й, а также ряд террористов, в том числе Борис Савинков.)[81] У доктора Бобровского ученый несколько раз читал доклады «философско-мистического содержания». А в «Сфинксе» А. В. Барченко пришлось однажды вступить в острую полемику с критиками Октябрьской революции, однако его «христианско-пацифистское выступление» не встретило понимания у присутствующих и он покинул собрание. Посещение кружков, впрочем, давало А. В. Барченко возможность пропагандировать свои взгляды — теорию о «Древней науке» — и привлекать к себе единомышленников. Так, он легко сошелся с известным в Петрограде психографологом К. К. Владимировым. Следователям НКВД об обстоятельствах этого знакомства А. В. Барченко впоследствии рассказывал так: «С Владимировым я познакомился в 1918 году, когда он пришел ко мне с профессором Карсавиным»[82]. (Речь, вероятно, идет о Л. П. Карсавине — знаменитом философе, богослове и историке-медиевисте, но это предполагает, что Барченко и Карсавин уже знали друг друга.) Здесь, однако, мы сделаем еще одно отступление от нашего рассказа, чтобы представить читателю нового героя — К. К. Владимирова, человека, который в дальнейшем сыграет немаловажную роль в судьбе А. В. Барченко.
7. К. К. Владимиров — графолог, оккультист и чекист
Константин Константинович Владимиров родился в 1883 г. в Пернове (совр. Пярну), старинном эстонском городке на берегу Балтийского моря. О его родителях практически ничего не известно — сам же К. К. Владимиров указывал в анкетах, что происходит из мещанской семьи. В 1900 г., по окончании перновской гимназии, К. К. Владимиров неожиданно срывается с места и уезжает в Петербург. По всей видимости, это было бегство провинциального юноши-идеалиста в большой столичный город, манивший своими возможностями и соблазнами, что весьма напоминает гончаровскую «Обыкновенную историю». Довольно быстро — очевидно, по чьей-то протекции — Константин устроился на службу, в контору наждачно-проволочного завода Н. Н. Струка, что на Выборгской стороне. Подобно А. В. Барченко, попытался получить медицинское образование, но, как и А. В. Барченко, внезапно оставил занятия. Единственное место в Петербурге в то время, где К. К. Владимиров мог изучать медицину, — это Военно-медицинская Академия. Известно, однако, что администрация BMA обрушила суровые кары на революционно настроенное студенчество в связи с событиями 1905 г. (учащихся либо отчисляли, либо переводили в другие университеты, например, Казанский, где, как мы знаем, приблизительно в те же годы учился А. В. Барченко). К. К. Владимиров же, между прочим, в одной из поздних анкет сообщал о своем революционном прошлом — что в 1900 г. он вступил в социал-демократическую партию, а в 1904 г. перешел во фракцию большевиков. Таким образом, вполне можно предположить, что в 1904–1905 гг. он учился в Военно-Медицинской Академии и был затем исключен из нее, как и многие его сотоварищи. Впрочем, это всего лишь предположение.
В целом же, о раннем периоде петербургской жизни К. К. Владимирова мы знаем очень мало. Известно лишь, что в 1904 г. он женился, а десять лет спустя у него и его жены Юлии Антоновны было уже четверо детей (что, вероятно, и спасло К. К. Владимирова от мобилизации в 1914 г.). После рождения в 1912 г. третьего ребенка К. К. Владимиров, который до этого перебивался, как кажется, случайными заработками (хотя вел довольно беззаботный образ жизни), вынужден был пойти на службу. До революции он сменил несколько мест: служил в конторе Путиловской верфи, в Русском электрическом обществе «Динамо» и в акционерном обществе «Пулемет» (с начала 1917 г. и до самой осени). Конторская работа, однообразная и рутинная, несомненно тяготила его, человека, как мы увидим вскоре, творческого и ищущего. В юности, еще до приезда в Петербург, К. К. Владимиров пробовал заниматься живописью и писал стихи. Поэзией увлекался он и в более зрелом возрасте. (В личном архиве К. К. Владимирова в Российской Национальной Библиотеке сохранилось несколько его поэтических опусов, подписанных именем Стано, свидетельствующих, впрочем, не столько о таланте автора, сколько о его утонченной натуре и увлечении буддизмом.) И все же Владимиров обладал несомненным талантом, к тому же достаточно редким — талантом графолога.
Здесь надо сказать, что графология стала известна в России лишь в самом конце XIX века. Пропагандистом и популяризатором этой науки (которая в то время еще относилась к разряду эзотерических) выступил И. Ф: Моргенстиэрн (Моргенштерн), долгие годы обучавшийся графологии на Западе (в Германии и Франции) у таких ее адептов, как Ж. Мишон, А. Варинар, Г. Буссе и др. Собственно родоначальником графологии считается аббат Мишон, который в 1871 г. основал в Париже Графологическое общество и стал издавать журнал «Графология» (La Graphologie). Вернувшись в Россию, Моргенстиэрн начал производить с конца 1890-х свои собственные опыты, принесшие ему известность. А в 1903 г. в Петербурге был опубликован его большой труд под названием «Психографология, или Наука об определении внутреннего мира человека по почерку», включавший в себя более 2000 автографов выдающихся людей древности и нашего времени с их портретами. Осенью того же года Моргенстиэрн приступил к изданию в Петербурге «Журнала психографологии», который знакомил читателей с основами новой науки — законами «графизма» — и предлагал им в виде иллюстраций образцы его графологической экспертизы — психологические характеристики («портреты») видных деятелей XVII–XX веков (русских царей и прочих знаменитостей, в том числе С. Ю. Витте, А. Н. Куропаткина, Э. Э. Ухтомского), составленные на основе изучения их почерков. В 1903 г. увидело свет и еще одно пособие по графологии, принадлежавшее заезжему оккультисту графу Чеславу фон Чинскому (Чеслав фон Чинский. Графология. Краткое руководство для определения по почерку духовного мира человека — нравственных его качеств, наклонностей и умственного склада). Несколько позднее в С.-Петербурге возникают общества — Графологическое (1909) и Психографологическое (1910), основанные соответственно А. К. фон Раабеном и И. Ф. Моргенстиэрном.
К. К. Владимиров, очевидно, приложил немало усилий, чтобы овладеть наукой «почерковедения», позволяющей проникнуть в тайники человеческой души: штудировал всевозможные пособия и брал уроки у наиболее авторитетных петербургских графологов, включая самого Моргенстиэрна. Приблизительно в 1909 г. К. К. Владимиров начал производить самостоятельные психографологические экспертизы в Петербурге и добился при этом немалых успехов. Вот как отозвался о его работе некто В. Церер:
«Если когда-нибудь были пророки в области графологии, то бесспорно к ним нужно причислить г. Владимирова, ибо то, что я слышал от него, никто из ныне существующих графологов не скажет. Поразительно верное понимание и суждение об индивидуальных и интеллектуальных сторонах личности по неизвестному почерку дают мне право преклоняться перед графологией и считать себя в числе ревностных почитателей гения г. Владимирова»[83].
Но К. К. Владимиров не только составлял «психологические портреты», но и пытался по почерку предсказывать будущее (что, строго говоря, выходит за рамки графологии). «… Все ему открыто, он видит в почерке, как в зеркале, все прошедшее, настоящее и будущее. Он маг…» — восхищенно свидетельствовал о таланте К. К. Владимирова другой его клиент[84]. (Поразительное совпадение: К. К. Владимиров и А. В. Барченко практически в одно и то же время занимались гаданием — один по почерку, другой по руке.) Впрочем, далеко не все «экспертизы» новоиспеченного графолога были столь блестящими. Случались и неудачи и даже курьезы. Так, один из клиентов Владимирова-прорицателя сетует, но не на предсказанную ему в будущем тюрьму, с чем вроде бы он согласен, а на то, что К. К. Владиморов не «разглядел» в его почерке, что ему уже доводилось сидеть в тюрьме в прошлом!
Помимо графологии, К. К. Владимиров увлекался и другими оккультными науками. Спектр его эзотерических интересов был необычайно широк: астрология, каббала, Таро, розенкрейцерство, йога, герметизм, телепатия, магия. Неожиданный переход от революционных идей к оккультизму может кому-то показаться парадоксальным, но таких идейных «перебежчиков», как К. К. Владимиров, было немало среди представителей русской интеллигенции, переживших крах революции 1905 г. Впрочем, те же самые люди десятилетие спустя смогут легко совершить и обратный переход — от оккультизма к революции.
Увлечение К. К. Владимирова оккультизмом, как и у многих его современников, очевидно, началось с интереса к загадочным «психическим феноменам» — телепатии, гипнозу, ясновидению и особенно к спиритизму (медиумизму). Из писем его корреспондентов мы узнаем, что уже в 1907 г. ему нередко доводилось участвовать в спиритических сеансах на квартирах своих знакомых, а в конце года К. К. Владимиров даже обратился к президенту кружка менталистов и издателю журнала «Ментализм» И. Бутовскому с предложением о сотрудничестве «на идейной почве». Себя он скромно охарактеризовал как «человека, сведущего в некоторых областях оккультизма»[85]. В следующем году К. К. Владимиров начал посещать С.-Петербургское Психическое общество (собиралось по четвергам в доме 23 по Садовой ул.), а еще через год завязал отношения с Теософским Обществом. Председательница РТО А. А. Каменская, возможно, уже наслышанная о графологических способностях К. К. Владимирова, лично пригласила его бывать у себя[86]. Впрочем, об участии К. К. Владимирова в работе РТО ничего определенного сказать нельзя. В то же время он, несомненно, проявлял большой интерес к теософии, что подтверждается наличием в его личном архиве значительного количества материалов теософского содержания.
Оккультное мировоззрение К. К. Владимирова, по-видимому, окончательно сформировавшееся в начале 1910-х, представляло собой весьма характерную для того времени смесь западных и восточных учений — теософии, буддизма и каббализма. Некоторый свет на credo К. К. Владимирова проливают письма некой В. Ф. Штейн, относящиеся к 1912–1913 гг.[87] Переписка между молодыми людьми завязалась на книжной почве: К. К. Владимиров, имевший прекрасную библиотеку, вероятно, доставшуюся ему от родителей жены, посылает своей новой знакомой в Сестрорецк, где она отдыхает на даче, ряд книг, в основном оккультного содержания, которые должны помочь ей преодолеть духовный кризис. В письмах Штейн упоминается «Древняя мудрость» и «L'Avenir Imminant» Анни Безант, «Четвертое измерение» П. Д. Успенского, «Учение и ритуал высшей магии» Э. Леви, «Оккультизм» К. Брандлера-Прахта, «Сверхсознание и пути к его достижению» М. В. Лодыженского, «Раджа-йога» Вивекананды и другие книги, которыми в ту пору зачитывались русские оккультисты. Все эти сочинения она старательно штудировала, регулярно сообщая в Петербург Стано, невольно взявшего на себя роль ее духовного наставника, свои мысли о прочитанном. В этих посланиях нередко можно встретить реплики на те или иные суждения Владимирова и цитаты из его собственных писем. Так, К. К. Владиморов излагает своей подопечной учения Будды и Шопенгауэра, ссылается на Ницше и других западных и восточных мыслителей, демонстрируя тем самым незаурядную эрудицию. (Правда, иногда кажется, что Стано нарочито щеголяет своими знаниями, чтобы произвести впечатление на молодую и, очевидно, симпатизирующую ему женщину.) В одном из писем Вера Штейн просит своего друга объяснить смысл непонятного ей термина «дважды рожденный», которым он называет себя, что, по-видимому, имеет отношение к принятому Владимировым посвящению в орден мартинистов, или розенкрейцеров. Известно, что в предвоенные годы в России особенно активно велась пропаганда мартинизма. Главными проводниками этого оккультного учения были уже упоминавшийся нами Чеслав фон Чинский — Генеральный делегат мартинистского ордена в России (с конца 1910) и Г. О. Мёбес — Генеральный инспектор петербургского отделения ордена (с того же времени). И тот и другой, между прочим, являлись также известными графологами (Мёбес, например, в 1912 г. возглавил Графологическое общество в Петербурге). Таким образом, К. К. Владимиров легко мог сблизиться как с Чинским, так и с Мёбесом на почве общего увлечения графологией, а отсюда лишь один шаг до вступления в орден, тем более, что оба эти оккультиста изо всех сил стремились к насаждению мартинизма в России.
Другая возможность — вступление в розенкрейцерскую ложу. В книге А. И. Немировского и В. И. Уколовой об удивительном поэте-импровизаторе и ученом Б. М. Зубакине упоминается некто «поэт Владимиров», имевший эзотерическое имя «Ро», как один из участников созданной Зубакиным в Петербурге (около 1912 г.) масонской ложи[88]. Не следует ли в таком случае отождествить розенкрейцера Владимирова с К. К. Владимировым? Правда, о зубакинском друге говорится, что он был выпускником 12-й петербургской гимназии, хотя эти сведения могут быть ошибочными.
Вера Штейн сообщает нам еще один весьма любопытный факт: в конце 1912 г. К. К. Владимиров собирался отправиться в Индию, но его поездка неожиданно расстроилась. («Стано, неужели это Вы?», — читаем мы в ее письме. — «Как я Вам обрадовалась. А я думала, что Вы уже в Индии. Ведь Вы должны были туда поехать».)[89]
Осенью 1913 К. К. Владимиров, узнав о предполагаемом издании в Петербурге нового эзотерического журнала «Из мрака к свету» и о том, что его зачинатель С. В. Пирамидов ищет сотрудников, тут же обращается с нему с письмом. В своем ответе К. К. Владимирову Пирамидов писал:
«Мне особенно приятно, что на мой призыв откликнулись такие адепты сокровенных наук, как Вы. <…> От всего сердца, с глубокой благодарностью принимаю Ваше желание сотрудничать в возрождающемся журнале. <…> Я состою в непосредственном сношении с Парижем и в переписке с такими светилами западно-европейского эзотеризма, как г. Буржа, Арнюльфи, гр. де Роша д'Еглен. В программу мою входит постепенное ознакомление читателя с тайнами оккультного мира. Зная, что Вы доктор, я хочу просить Вас: не откажетесь ли Вы взять на себя заведывание III отделом, т. е. руководить мною по вопросам медицины?»[90].
Владимиров, однако, не отважился взять на себя такую ответственность, хотя и согласился безвозмездно проводить для читателей журнала анализ почерка и составлять «краткие данные гороскопа».
Журнал Пирамидова (с подзаголовком: «Литературно-мистический и научно-философский журнал сокровенных знаний») начал выходить в 1914 г. Просуществовал он, правда, недолго. В том же году его издатель-редактор отправился на фронт, где вскоре и погиб. Владимиров смог опубликовать в журнале лишь введение из своего оригинального исследования по графологии[91]. Обещанное читателям продолжение, в котором должны были излагаться «основы происхождения законов графизма» древних письмен, так и не увидело свет. Еще одна известная нам публикация К. К. Владимирова — это короткая заметка «Что такое графология?», появившаяся в 1916 г. в журнале «Дамский мир». В ней К. К. Владимиров попытался привлечь внимание прекрасного пола не столько к изучаемой им науке, сколько к своей собственной персоне:
«Почерк — это фотография душевных волнений, это кинематографическая лента всех переживаний в известный срок.
Изучив почерки всех национальностей, я впервые являюсь пионером в области изследования индивидуальных и интеллектуальных особенностей почерка. <…> Для моей графологии нет тайны. Только по одному почерку я могу констатировать, в каком состоянии субъект писал письмо, его темперамент, температуру, болезни и физиологические страдания. Точно так же (ни разу не видя писавшего), по одному только его почерку, я могу описать его национальность, пол, характер, талант, способности, нравственные устои и облик, недостатки, привычки, анормалии и дефекты физической натуры, рост, походку, лета, цвет волос, глаз, кожи и т. п., акцент, голос, интонацию, жестикуляцию, мимику, любимые фразы, слова, напитки, пищу, одежду, употребляемые данным субъектом…»[92]
Приведенная цитата, несомненно, свидетельствует об одном из двух — либо о полной гениальности Владимирова-графолога, либо о его величайшем самомнении. (Второе, как мы увидим далее, гораздо ближе к истине.)
В результате многолетних занятий графологией Владимирову к середине 1910-х удалось собрать довольно приличную коллекцию автографов. Кто только ни обращался к нему: одни — из желания лучше узнать свое «я» и заглянуть в будущее, другие — чтобы одолжить ту или иную редкую книгу из его библиотеки. Круг петербургских знакомых К. К. был необычайно широк и включал в себя немало представителей литературно-художественного мира. Начинающий поэт Сергей Есенин, например, в своем письме благодарит Владимирова за верное охарактеризование его творчества — «в период моего духовного преломления»[93]. А вот записка от A. Н. Бенуа:
«Дорогой Константин Константинович, Простите, что так задержал Ваши книги — уж очень тяжело расставаться с ними. И примите мою самую глубокую душевную благодарность за предоставленную мне возможность — почерпать из таких источников! Очень хотел бы повидать Вас — и боюсь отнять у Вас драгоценное время.
Искренне уважающий Вас, А. Бенуа»[94].
В 1915 г. у Владимирова появляются планы издания «на западный манер» — возможно, по образцу И. Ф. Моргенштерна — своей уникальной «литературной картотеки» — составленных им психографологических «портретов» деятелей русской литературы и искусства начала XX века. (Здесь необходимо отметить, что «портреты» эти создавались им не только на основе анализа почерка, но и с использованием-фотографий, поскольку фотография, по мнению Моргенстиэрна, является главной помощницей почерковеда.) Этим планам, однако, не суждено было осуществиться, скорее всего потому, что Владимиров не смог изыскать необходимые средства для издания своего труда.
В следующем году К. К. пытается организовать, совместно с М. П. Мурашевым, издание газеты, по-видимому, литературно-художественного содержания. Но и это начинание из-за отсутствия средств кончается ничем. В одном из писем Мурашева к Владимирову этого времени обсуждается и другая идея — учредить издательское товарищество. В его состав предполагалось ввести А. Блока, С. Есенина, А. Ремизова, А. Липецкого, М. Мурашева, а также художников — «Рериха и затем кого он наметит»[95]. Судя по письму Мурашева, впрочем, трудно сказать, имел ли он или Владимиров какие-либо личные контакты с Н. К. Рерихом.
Революционные события осени 1917-го застали К. К., старшего счетовода конторы инженера С. Ф. Островского, далеко от столицы, под Кандалакшей, где велось строительство Мурманской железной дороги. Его настроения этого времени хорошо передают несколько коротеньких весточек, отправленных жене в Петроград. Вот одно из посланий К. К., написанное нетвердой рукой в товарном вагоне на полустанке Полярный круг всего за месяц до Октябрьского восстания: «… Ужас пустыни, холод, ветер, дождь, а сегодня выпал снег. Еле раздобыли печь, сложили ее, набрали дрова и затопили. Сплю на нарах»[96].
В январе 1918 Владимиров вернулся в Петроград в связи с закрытием конторы Островского. До начала августа проработал в ликвидационной комиссии, затем недолгое время заведовал библиотекой и, по совместительству, финансами в Новодеревенском совдепе (К. К. проживал с семьей на окраине города, в Новой деревне). А в начале октября довольно неожиданно пошел работать в ЧК, «на Гороховую».
Что привело Владимирова в это страшное учреждение в самые страшные дни Революции, вскоре после объявления большевиками «красного террора»? Уже в первых числах сентября 18-го «Петроградская правда» сообщила о расстреле «в ответ на белый террор» 512 человек — контрреволюционеров и белогвардейцев, и затем в газете стали регулярно публиковаться списки арестованных ЧК заложников[97]. Что побудило интеллигентного и мягкого человека, — «доброго Константина Константиновича», как обращаются к нему его корреспонденты, оставить скромную работу библиотекаря и поступить на должность следователя «Чрезвычайки»? Ответить на этот вопрос не легко. Возможно, Владимирова попросту соблазнила перспектива получать постоянный продовольственный паек — ведь на руках у него была большая семья. Как бы то ни было, в мае 1918 он повторно вступил в большевистскую партию — то ли из идейных соображений, вспомнив о революционных идеалах своей юности, то ли по расчету. Впрочем, в «органах» К. К. продержался недолго. О своей неудавшейся карьере чекиста десять лет спустя он рассказывал своему более удачливому коллеге-следователю так:
«Там (в ПЧК — А. А.) занимал должность следователя в контр-революционном отделе. Начальник отдела был тов. Антипов, нынешний Наркомпочтель (речь идет о Н. К. Антипове — А. А.). Работал на Гороховой, 2 до февраля 1919. С Гороховой 2 меня уволили. Точно причин моего увольнения я не знаю. После Гороховой я поступил в Украинское Центральное Агентство по распространению печати. Там занимал-должность зав. петроградской конторы. Прослужил там до осени 19 г. В июле месяце 19-го я ездил в Киев по делам ликвидации агентства и вернулся в Петроград в сентябре 1919 и вновь поступил в ЧК на Гороховую, 2, где занимал должность полит, уполномоченного. Прослужил там до конца 1920 г. и был уволен из-за личной неприязни тов. Комарова (Н. П. Комарова — А. А.), тогдашнего председателя ЧК»[98].
О характере работы Владимирова в ПЧК в отделе борьбы с контрреволюцией мы знаем мало. Имеются сведения, например, что он вел некоторое время дело А. А. Вырубовой, фрейлины и любимой наперсницы императрицы Александры Федоровны. Вырубова, как известно, несколько раз арестовывалась после Февральской революции, то как «германская шпионка», то как «контрреволюционерка», и даже как «большевичка», и провела долгое время в заключении, в том числе и в Петропавловской крепости вместе с бывшими членами Временного правительства. Большевики после прихода к власти также не оставили Вырубову в покое: впервые ее арестовали 7 октября, с Гороховой отправили в Выборгскую тюрьму, а оттуда снова привезли на Гороховую.
«Не зная, в чем меня обвиняют, — вспоминала впоследствии Вырубова, — жила с часу на час в постоянном страхе, как и все, впрочем. <…> Окна выходили на грязный двор, где ночь и день шумели автомобили. Ночью „кипела деятельность“, то и дело привозили арестованных и с автомобилей выгружали сундуки и ящики с отобранными вещами во время обысков: тут была одежда, белье, серебро, драгоценности, — казалось мы находились в стане разбойников! Как-то раз нас всех послали на работу связывать пачками бумаги и книги из архива бывшего градоначальства; мы связывали пыльные бумаги на полу и были рады этому развлечению. Часто ночью, когда усталые мы засыпали, нас будил электрический свет и солдаты вызывали кого-нибудь из женщин: испуганная, она вставала, собирая свой скарб, — одни возвращались, другие исчезали… и никто не знал, что каждого ожидает»[99].
О первом своем допросе у следователя Вырубова ничего не рассказывает. Однако ей запомнился допрос, на который ее вызвали 11 ноября, когда она вновь оказалась на Гороховой.
«Допрашивали двое, один из них еврей; назвался он Владимировым. Около часу кричали они на меня с ужасной злобой, уверяя, что я состою в немецкой организации, что у меня какие-то замыслы против чека, что я опасная контрреволюционерка и что меня непременно расстреляют, как и всех „буржуев“, так как политика большевиков — „уничтожение“ интеллигенции и т. д. Я старалась не терять самообладания, видя, что предо мною душевно больные. Но вдруг после того, как они в течение часа вдоволь накричались, они стали мягче и начали допрос о царе, Распутине и т. д. Я заявила им, что настолько измучена, что не в состоянии больше говорить. Тут они стали извиняться, что „долго держали“. Вернувшись, я упала на грязную кровать; допрос продолжался три часа»[100].
А затем — всего через час — произошло чудо. В камеру зашел солдат и крикнул: «Танеева! С вещами на свободу!». Подобная счастливая развязка наводит на мысль, что рвение следователей было показным, как неотъемлемая часть чекистского ритуала, призванного устрашить врагов революции, показать им всесилие новой власти.
Мы знаем и еще об одном уголовном деле, которое вел Владимиров в 1918–1919 гг. Это дело о двух английских офицерах, Гарольде Рейнере и Джефри Гарри Тернере, обвинявшихся «в заговоре и в покушении» на М. С. Урицкого — председателя ПЧК между мартом и августом 1918. Эти офицеры как «враги РСФСР» были приговорены к расстрелу 26 января 1919-го. Впрочем, Тернеру удалось избежать большевистского возмездия: в начале марта он умер от тифа в тюремной больнице[101].
Много лет спустя (в 1927-м) Владимиров будет утверждать на допросе, что дело английских шпионов попало к нему в руки «совершенно случайно». Большевики арестовали Тернера и Рейнера при попытке перейти через советско-финскую границу и затем доставили на Гороховую. «(Я) вел это дело примерно недели две и настаивал на применении к перебежчикам ВМН. Закончить это дело мне не удалось. Я уволился из ЧК, и дело было передано в Президиум»[102]. Однако затем произошло невероятное: «дело Тернера — Рейнера» неожиданно пропало из ЧК, что, по мнению допрашивавшего Владимирова следователя, косвенно уличало его в причастности к пропаже. И для таких подозрений действительно имелись некоторые основания. Незадолго до того, как Владимиров уволился (или был уволен) из «органов» в начале 1919-го, к нему на Гороховую пришла супруга Тернера, эстонка Фрида Лесман, чтобы узнать о судьбе мужа. Позднее они опять — «случайно» — встретились на улице, разговорились и, как кажется, понравились друг другу. Владимиров стал бывать у Лесман на ее квартире на Миллионной, где часто собиралась артистическая публика. Роман бывшего чекиста с женой английского «шпиона» продолжался несколько месяцев, пока в апреле 1919-го Фрида Лесман не сбежала в Финляндию. Знакомство с Лесман, однако, не прошло для К. К. бесследно — в 1927-го, в период обострения советско-английских отношений, он сам, по иронии судьбы, оказался на скамье подсудимых с клеймом английского «шпиона», пособника Тернера и Лесман!
Подводя итоги недолгой службы Владимирова «на Гороховой», следует сказать, что он все-таки не был типичным чекистом эпохи Красного террора. Очевидное отсутствие классового чутья и интеллигентность не позволили К. К. прижиться в этом учреждении, стоявшем на страже завоеваний победившего пролетариата. В архиве Владимирова сохранилось несколько писем этого периода, авторы которых обращаются к нему с просьбами о помощи. Так, член правления Толстовского общества и помощник хранителя музея Л. Н. Толстого в Москве В. Ф. Булгаков просит «доброго» К. К. посодействовать в освобождении Г. Ф. Флеера, арестованною ЧК[103]. А Василий Иванович Немирович-Данченко, писатель и масон (брат знаменитого основателя МХАТа Владимира Ивановича Немировича-Данченко), обращается к нему с просьбой о выдаче охранной грамоты для своей коллекции оружия, на случай возможного обыска[104]. Вполне возможно, что Владимирову при его природном добросердечии за время работы в ПЧК и доводилось помогать людям и даже спасать кого-то от смерти, но тот же Владимиров, как мы уже знаем, легко мог подвести человека и под расстрельную статью.
Есть, однако, одно загадочное обстоятельство, связанное с Владимировым, которое нуждается в объяснении. Каким образом в его личный архив попали многочисленные материалы, относящиеся к деятельности РТО — автографы (!) рукописей А. А Каменской («Альбы»), С. В. Герье и других теософов? Известно, что Каменская вместе с членами Совета РГО Ц. Л. Гельмбольдт и В. Н. Пушкиной бежала в Финляндию летом 1921 — наиболее простой способ эмиграции в то время. Можно предположить, что накануне побега председательница Теософического общества передала какую-то часть своего архива на хранение К. К. Но можно предположить и другое: архив Каменской был конфискован чекистами при обыске ее квартиры, отправлен на Гороховую и там благополучно перекочевал в руки Владимирова, который, возможно, даже вел дело «Альбы». Таким образом, возможно, к Владимирову и попали черновики статей, конспекты лекций и записные книжки главной российской теософки. Подобное объяснение кажется нам более вероятным, тем более, что Владимиров не принадлежал к ближайшему окружению Каменской и потому едва ли мог рассчитывать на столь большое доверие с ее стороны.
Итак, пути Владимирова и Барченко пересеклись в 18-м. К. К. начал захаживать на квартиру к своему новому знакомому, один или с кем-нибудь из друзей, проявлял интерес к исследованиями А. В. в области Древней науки — вероятно, вполне искренне, если вспомнить о его собственных оккультных исканиях в недалеком прошлом. Довольно неожиданно — где-то в 1919 — Барченко вызвали в ЧК: кто-то донес о его «контрреволюционных высказываниях». На Гороховой А. В. допрашивали два следователя, которые вели себя как-то странно, совсем не по-чекистски: говорили, что не верят доносу, чрезвычайно интересовались его работой и даже просили разрешения бывать у него. Это были эстонцы Эдуард Морицевич Отто и Александр Юрьевич Рикс, товарищи Владимирова по службе. (Для справки: Э. М. Отто (р. 1884), член РКПб с 1906; работал в ПЧК с февраля 1918 по декабрь 1922. А. Ю. Рикс (р. 1889), член РКПб с 1905; в ПЧК — с июня 1918 по февраль 1923. Известно, что оба следователя вели поначалу дело поэта-террориста Леонида Каннегисера, убийцы М. С. Урицкого, но были затем отстранены от расследования Н. К. Антиповым за «антисемитские настроения» и уволены из ЧК: оба считали, что убийство Урицкого — дело рук сионистов и бундовцев. В 1919, однако, Отто и Рикса снова приняли на службу в ЧК[105]. Кроме того, Отто, наряду с Викманом и Владимировым, упоминались Вырубовой в числе следователей, допрашивавших ее на Гороховой осенью 18-го[106]).
8. С красными моряками в Шамбалу
В 1918 г. судьба свела Барченко еще с одним интересным человеком, который вскоре стал его верным помощником и другом. Это ученый-астроном Александр Александрович Кондиайн (Кондиайни). Родился он в Петербурге в 1889 г. Окончил филологическую гимназию и затем физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета по специальности астрофизика (приблизительно в 1911 г.). В дальнейшем в течение более 10 лет активно сотрудничал с Русским Обществом Любителей Мироведения (РОЛМ), членом которого стал еще в студенческую пору. Общество с таким названием возникло в 1909 г. с целью объединения любителей естественных и физико-математических наук, оказания им содействия, а также распространения естественно-научных знаний в широких слоях населения. Возглавил Общество его знаменитый народоволец и социокосмист Н. А. Морозов (1854–1946), автор популярных книг «История возникновения Апокалипсиса» (1907) и «В поисках философского камня» (1909). С самого начала своей деятельности Общество уделяло преимущественное внимание астрономическим исследованиям, и потому его костяк составляли в основном астрономы — профессионалы и любители. Уже в 1910 г. после передачи обществу «Мироведения» университетом большого 175 мм. телескопа-рефрактора Мерца А. А. Кондиайн активно помогал М. Я. Мошонкину в установке его в обсерватории Тенишевского училища (Моховая, 35), а затем в качестве астронома-наблюдателя вместе с М. Я. Мошонкиным и С. Г. Натансоном начал проводить регулярные наблюдения и фотографировать различные небесные объекты. Здесь надо сказать, что фотография увлекала молодого ученого в не меньшей степени, чем астрономия, — особенно цветная фотография (хроматография), которая в то время делала свои первые шаги. Для фотографирования светил Кондиайн и заведующий обсерваторией М. Я. Мошонкин изготовили серию цветных светофильтров, охватывающих полный спектр.
Первые серьезные работы в обсерватории начались осенью 1911 г. с наблюдения и фотографирования через светофильтры яркой кометы, только что открытой американцем В. Бруксом. Полученные снимки в количестве 22 штук были обработаны А. А. Кондиайном и результаты работ доложены на общем собрании мироведов 15 ноября. Сообщение ученого вызвало большой интерес, о чем свидетельствует публикация его доклада в журнале Общества[107]. В начале 1912 г. А. А. Кондиайна утвердили в должности астронома-наблюдателя сроком еще на два года. Отметим, кстати, что работа астрономической секции мироведов проходила под непосредственным руководством известного ученого, сотрудника Пулковской Обсерватории Г. А. Тихова. Тогда же Александр Александрович Кондиайн был избран членом Совета POЛМ и введен в состав редакционной коллегии журнала Общества («Известия POЛM»). Атакже назначен секретарем только что созданной фотографической секции.
В годы мировой войны А. А. Кондиайну пришлось прервать свои исследования. Большой телескоп и другие инструменты были перенесены в здание Петроградской Биологической лаборатории (Английский пр., 32), где началось строительство новой обсерватории Общества. Насколько можно судить по публикациям в «Известиях POЛM», в 1915–1918 гг. А. А. Кондиайн занимался в основном наблюдениями атмосферных явлений (солнечные «гало», зодиакальный свет и т. д.) и изучением погоды в Петербурге и его северных окрестностях, а также в Финляндии. В тот же период ученый работал некоторое время на метеорологической станции в Севастополе и, вероятно, где-то еще. В 1915 г. он опубликовал несколько популярных статей в журнале «Природа и люди» (в этом же журнале в 1910-е гг., как мы помним, печатался и А. В. Барченко). В целом, однако, остается неясным вопрос, чем А. А. Кондиайн зарабатывал себе на жизнь после окончания университета, поскольку общество «Мироведение» являлось сугубо общественной организацией. После революции основанная П. Ф. Лесгафтом Биологическая лаборатория была преобразована в Естественно-научный институт его имени, который возглавил все тот же Н. А. Морозов, и тогда же (в 1918 г.) РОЛМ объединилось с астрономическим отделением института. Новая обсерватория Общества открылась лишь в 1921 г., но о возобновлении А. А. Кондиайном работы в ней нам ничего не известно. В то же время мы знаем, что в начале 1920-х А. А. Кондиайн некоторое время работал в институте им. Лесгафта и одновременно в недавно созданном Оптическом институте[108].
Дополнительным штрихом к портрету А. А. Кондиайна могут служить сведения о его незаурядных лингвистических способностях и феноменальной памяти. По рассказу сына ученого О. А. Кондиайна, А. А. Кондиайн владел многими языками, в том числе и таким экзотическим, как санскрит. Значит ли это, что ученый-астроном занимался изучением индийской философии — штудировал книги Макса Мюллера, Вивекананды и Рамачараки, модных в то время в России и на Западе авторов, и, быть может, даже мечтал, подобно К. К. Владимирову, совершить путешествие в Индию? Интересно, что в 1914 г. на одном из общих заседаний мироведов выступил некто Б. Ф. Эйсурович — участник и руководитель научной экспедиции студентов бехтеревского Психоневрологического института в Индию и Цейлон. Докладчик рассказал, как с 400 рублями в кармане, но с огромным запасом молодой энергии и страстной жаждой знаний экспедиции удалось в течение 6 месяцев осмотреть почти весь Восток![109] Не менее любопытен и тот факт, что общество «Мироведения», очевидно под влиянием Н. А. Морозова, принадлежавшего, между прочим, к масонскому ордену «Великий Восток Франции» (ложа «Полярная звезда» в Петербурге), проявляло большой интерес к мифам и литературным памятникам древности, в которых сохранились ценные астрономические «указания» — в частности и к священным книгам, таким как Библия и Талмуд. Вот названия некоторых докладов, прочитанных в обществе на тему палеоастрономии: «Когда возникла Каббала» (Л. Филлипов, 1913), «Астральная основа христианского эзотеризма первых веков» (Д. О. Святский, 1914), «Зеленый луч в Древнем Египте» (А. А. Чикин, 1918), «Созвездия в Ветхом Завете» (Г. А. Тихов, 1918), «Зодиак в Ветхом и Новом Завете» (Д. О. Святский, 1918), «Астрономия и мифология» (Н. А. Морозов, 1920). Еще одна тема, живо интересовавшая мироведов, — телепатическая передача мыслей. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что годы, проведенные в тесном общении с мироведами, не только способствовали становлению А. А. Кондиайна как ученого, но и сыграли важную роль в его духовном формировании, и, возможно, именно в эту пору зародился его интерес к эзотерическим знаниям древних цивилизаций.
После революции А. А. Кондиайн наряду с другими членами РОЛМ часто выступал с научно-популярными лекциями в помещении Тенишевского училища в Соляном городке и других местах Петербурга. Именно в Соляном городке в 1918 г. (или начале 1919 г.) он и познакомился с А. В. Барченко. Тогда же на одной из лекций, прочитанных в обществе «Новый Человек» (особняк М. К. Покотиловой, Каменноостровский пр., 48), А. А. Кондиайн встретился и со своей будущей женой, студенткой ВХУТЕМАС Элеанорой Максимилиановной Месмахер, дочерью знаменитого петербургского архитектора М. Е. Месмахера. Элеанора Максимилиановна впоследствии вспоминала, что лекция А. А. Кондиайна называлась «Земля как живой организм» и что в тот же день она познакомилась и с А. В. Барченко, который выступал с рассказом о Древней науке. Целью общества «Новый Человек», возникшего еще до революции, было распространение идей, направленных на «преобразование духовной и физической природы человека», в соответствии с новыми течениями философской и научной мысли. Кроме устройства публичных лекций, общество занималось также издательской деятельностью — печатало книги западных и русских авторов на такие темы, как космическое сознание, четвертое измерение, индийская йога, реформа системы питания человека и т. п.
Горячо пропагандируемая А. В. Барченко теория о существовании на земле в древнейшую эпоху цивилизации, обладавшей высочайшим уровнем научных знаний, необычайно увлекла А. А. Кондиайна. Именно на почве общего интереса к таинственной Древней науке между ними завязались теплые дружеские отношения, а затем и научное сотрудничество, о котором мы расскажем подробнее в одной из последующих глав. Позднее А. В. Барченко даст своему другу шутливое прозвище Тамиил — так древние евреи называли падшего ангела, научившего людей астрономии, — которое станет его вторым, «эзотерическим» именем. А. А. Кондиайн вводит А. В. Барченко в круг мироведов, знакомит со своими коллегами — H. A. Морозовым и др. 17 января 1920 г. А. В. Барченко прочитал в Обществе научный доклад об Атлантиде. Гипотеза о затонувшем в Атлантическом океане в доисторические времена огромном острове или даже континенте уже давно и широко дискутировалась в России не только теософами и оккультистами, но и весьма серьезными учеными. Достаточно сказать, что в 1924 г. в том же обществе «Мироведения» некто Г. Н. Фредерикс выступил с еще одним докладом на эту тему, который назывался «Атлантида и Ноев потоп». Что касается выступления А. В. Барченко, то «Журнал РОЛМ» отозвался на него следующими словами:
«В этом докладе, иллюстрированном многочисленными диапозитивами, диаграммами и рисунками, докладчик осветил вопрос о древнем мифе об Атлантиде с объективных точек зрения — географической, геологической, антропологической, этнографической. Из приводимых докладчиком доказательств, отчасти косвенных, могущих быть повергнутыми критике, отчасти же более обоснованных с точки зрения науки, он приходил к заключению, что этот миф, указания на который имеются и в памятниках древней письменности, в священном писании, у авторов греческих, римских и др., имеет под собой более или менее твердую почву достоверности»[110].
Лекция А. В. Барченко затянулась допоздна, и потому собравшиеся пригласили докладчика «пожаловать в день следующего собрания, когда могли бы состояться прения по докладу». А несколько месяцев спустя (17 апреля) А. В. Барченко выступил перед мироведами с новым докладом «Антропогения мистических теорий», в котором «осветил вопрос об этих теориях, мифах, структуре религий, происхождении их с точки зрения древней и современной науки»[111]. И это выступление А. В. Барченко, по отзыву «Известий РОЛМ», затянулось до полуночи, «вызвав напряженное внимание аудитории». И опять — демонстрация многочисленных диапозитивов, изготовителем которых, как и в первом случае, очевидно, был А. А. Кондиайн.
Известно также, что в 1919–1920 гг. А. В. Барченко прочитал цикл лекций об особенно увлекавших его в ту пору учении Каббалы и картах Таро (Тарот) — последние эзотерическая традиция рассматривает как «синтез и квинтэссенцию Древнего Знания» (текст одной из таких лекций, обнаруженный в Главнауке, публикуется в Приложении 1).
Приблизительно в это же время, под влиянием недавно прочитанной книги об Агарте Сент-Ива д'Альвейдра, А. В. Барченко неожиданно загорелся идеей отправиться в Центральную Азию — в Монголию и Тибет.
«В период 1920–1923 гг. в Петрограде я добыл книгу Сент-Ив де Альвейдра, о которой мне рассказывал Кривцов. В этой книге Сент-Ив де Альвейдр писал о существовании центра древней науки, называемого Агартой, и указывал его местоположение на стыке границ Индии и Тибета, Афганистана»[112].
Д'Альвейдровский трактат-откровение «Миссия Индии в Европе» был впервые опубликован в Париже в 1886 г., но известно, что автор тогда же уничтожил весь тираж книги, за исключением одного экземпляра. В 1910 г. — уже после его смерти — ассоциация «Друзей Сент-Ива» во главе с Папюсом осуществила переиздание этого труда. В русском переводе интригующее «свидетельство» об Агарте появилось в 1915 г. по инициативе питерских почитателей французского эзотерика. Книга была опубликована крошечным тиражом в издательстве «Новый Человек» А. А. Суворина. К счастью, экземпляр этого редкого издания имелся у К. К. Владимирова, и, по-видимому, именно он и одолжил его для чтения А. В. Барченко.
О местонахождении Агарты в книге французского мистика, между прочим, говорилось весьма туманно — только то, что подземная страна находится «в некоторых областях Гималаев». А. В. Барченко же, в отличие от Сент-Ива, называл два совершенно конкретных центра «доисторической культуры» в пределах Тибетского нагорья. Это, во-первых, расположенная на северо-западе горной страны Шамбала, которую он, очевидно, отождествлял с Агартой, и, во-вторых, «область Саджа»[113]. Последний топоним является искаженной формой «Сакья» — так называется древний монастырь одноименной школы монахов-«красношапочников», находящийся на юге Тибета, во владениях Панчен-ламы. В записках Э. М. Месмахер говорится, между прочим, что именно А. А. Кондиайн — Тамиил — и определил географические координаты Шамбалы, равно как и других центров древнейшей цивилизации, путем расчерчивания поверхности глобуса по некой «Универсальной схеме» (более подробно о ней мы расскажем в отдельной главе).
К разработке планов экспедиции в Шамбалу-Агарту А. В. Барченко приступил весной 1920 г. Следы его проекта — наметки путешествия в Монголию и Тибет — удалось обнаружить в архиве МИД (АВПРФ), в документах чичеринского Наркоминдела. Примечательно, что экспедиция именуется в них «научно-пропагандистской» с целью «исследования Центральной Азии и установления связи с населяющими ее племенами»[114]. Это позволяет говорить о том, что А. В. Барченко, по-видимому, пытался заручиться поддержкой советского дипломатического ведомства для осуществления своих намерений.
Состав участников экспедиции намечался таким: два основных члена и шесть человек «прислуги», или конвоя. Среди тех, кто изъявил желание принять участие в путешествии, называются моряки-балтийцы, большевики И. Я. Гринёв и С. С. Белаш, чему, впрочем, не следует удивляться. В послеоктябрьский период А. В. Барченко выступал на кораблях Балтфлота с лекциями, в которых рассказывал о существовании в прошлом на земле Золотого века, о первобытном коммунистическом обществе и о Шамбале, сохраняющей по сю пору необыкновенные знания древних. Погибшую доисторическую культуру он характеризовал как некую Великую Всемирную Федерацию Народов, что, разумеется, не могло не импонировать его слушателям, имевшим весьма смутные представления о древнейшей истории человечества. (Любопытная параллель: в 1917 г., почти сразу же после Октябрьского переворота, перед балтийскими моряками и красноармейцами с лекциями выступал и известный писатель и мистик Иероним Ясинский, который, между прочим, был коротко знаком с К. К. Владимировым. И. Ясинский говорил в основном о грядущем коммунизме, при этом, по его собственным словам, он рассматривал большевизм «в свете ницшианской философии»[115]). Результатом лекций А. В. Барченко, очевидно, и стало обращение в Наркоминдел в 1920 г. моряков Гринева и Белаша. А. В. Барченко едва ли возражал против таких спутников, поскольку был искренне убежден, что отыскать «пути в Шамбалу» могут лишь «люди, свободные от привязанности к вещам, собственности, личного обогащения, свободные от эгоизма, т. е. достигшие высокого нравственного совершенства»[116]. Красные моряки вполне отвечали этому критерию, если только считать непривязанность к собственности — ввиду ее полного отсутствия — показателем высокой морали. Кроме них, в документах упоминается также некто Г. Б. Борисов, возможно, сотрудник НКИД (не путать с С. С. Борисовым, главой советской миссии в Тибете в 1923–1925 гг.). Присутствие в экспедиционном отряде представителя Наркоминдела было обусловлено тем, что советское правительство уже давно подумывало о восстановлении отношений с Тибетом, прерванных незадолго до начала войны. В 1918 и 1919 гг. в НКИД дважды рассматривались проекты экспедиций в Тибет — научной, под руководством востоковедов Ф. И. Щербатского и Б. В. Владимирцова, и военно-политической, предложенной калмыцкими революционерами А. Ч. Чапчаевым и А. М. Амур-Сананом. Однако от обоих проектов пришлось отказаться, главным образом, оттого, что гражданская война отрезала Центр от Восточной Сибири и Забайкалья, откуда обычно начинался путь в глубь Азиатского континента[117].
Как и в случае с экспедицией Щербатского — Владимирцова, А. В. Барченко намечались два основных маршрута: короткий Кяхта — Урга — Юм-бейсэ — Анси — Цайдам — Нагчу — Лхаса, и длинный: Кяхта — Урга — Алашань — Синин — оз. Кукунор — Тибетское нагорье — Нагчу — Лхаса[118]. Оба они представляли собой хорошо известные бурятским и монгольским паломникам и торговцам караванные пути, связывавшие Россию (Забайкалье), Монголию и Тибет. Примечательно, что конечным пунктом обоих маршрутов являлась столица Страны снегов — священная Лхаса, где находилась резиденция Далай-ламы. Затраты на все путешествие оценивались по смете в 79 тысяч рублей (вероятно, золотых). Отправиться в путь А. В. Барченко, по всей видимости, собирался осенью 1920 года. В случае следования кратчайшим маршрутом он должен был бы добраться до Лхасы за 30–35 дней, как указывалось в проекте — срок совершенно нереальный; в лучшем случае, расстояние между Ургой и Лхасой можно было преодолеть за три месяца. (Доржиев однажды совершил такое путешествие за 72 дня — абсолютно рекордный для своего времени срок!)
Путешествие А. В. Барченко в Тибет, однако, не состоялось. Что помешало ему — отсутствие ли средств у НКИД, гражданская война (вторжение «Белого» барона Унгерна на территорию Монголии осенью 1920 г.) или какие-либо другие причины? Если первые два предположения вполне могли бы удовлетворить нас, то о «других причинах» необходимо сказать особо. Дело в том, что летом 1920 г. руководство НКИД вернулось к проекту Тибетской экспедиции Щербатского. Примечательно, что эта экспедиция, поначалу замышлявшаяся как чисто научная, постепенно трансформировалась в научно-политическо-пропагандистскую. Так, Щербатской после одной из бесед с заместителем Чичерина Л. М. Караханом сообщал в Петроград своему ученому коллеге академику С. Ф. Ольденбургу: «Что касается Тибета, то они (очевидно, намек на верхушку НКИД — А. А.) больше всего желали бы устроить в Лхасе радиостанцию, и он просил моего совета»[119]. Идея большевиков состояла в том, что экспедиция доставит Далай-ламе небольшую радиостанцию в качестве подарка советского правительства, что помогло бы наладить радиосвязь между Москвой и Лхасой через Кабул. Щербатской, довольно тесно сотрудничавший с НКИДом в ту пору, однако, отговорился от участия в такой необычной экспедиции и в конце 1920-го отправился с научно-дипломатической миссией в противоположную сторону — в Западную Европу. В результате Наркоминдел решил самостоятельно организовать экспедицию в Тибет, заручившись активным содействием Дальневосточного Секретариата Коминтерна и лично уже знакомого нам Агвана Доржиева. В этом контексте проект А. В. Барченко, по-видимому, перестал представлять какой-либо интерес для Москвы, и поэтому Чичерин и Карахан, в чьих руках в то время находились все нити тибетской интриги, спокойно положили его под сукно.
К экспедиционным планам А. В. Барченко, помимо А. А. Кондиайна, возможно, был причастен и К. К. Владимиров. В конце мая он — в то время политуполномоченный ПЧК — зачем-то экстренно выезжает в Москву. Об этой поездке мы узнаем из письма его новой пассии Софьи Зарх: «Как съездил в Москву? Где теперь работаешь? Не получил ли новое назначение?»[120]. Не означает ли это, что К. К. Владимиров лично отвозил проект А. В. Барченко в Наркоминдел, но в таком случае за «экспедицией в Шамбалу» первоначально стоял не НКИД, а ВЧК! Аргументом в пользу такого предположения может служить тот факт, что ровно через пять лет история эта удивительным образом повторится при самом непосредственном участии ОГПУ и К. К. Владимирова.
9. Лапландия — страна сказок и колдунов
В середине того же 1920-го А. В. Барченко закончил одногодичный курс петроградской Педагогической Академии. Его дипломная работа была посвящена одной из наиболее загадочных проблем психологии и, по воспоминанию Э. М. Месмахер, называлась «Сон, спячка, угнетение»[121]. К этому же периоду относятся и сведения о начале сотрудничества А. В. Барченко с Институтом изучения мозга и психической деятельности, организованном двумя годами ранее В. М. Бехтеревым. Внимание В. М. Бехтерева, занимавшегося в это время вместе с дрессировщиком В. Л. Дуровым опытами мысленного внушения дрессированным собакам, и его коллег по институту В. П. Кашкадамова, А. К. Борсука, Л. Л. Васильева и др., несомненно, привлекли парапсихологические исследования А. В. Барченко, равно как и его изыскания в области «Древней науки». Так, мы знаем о докладе, прочитанном А. В. Барченко в этом учреждении, под названием: «Дух древних учений в поле зрения современного естествознания», который затем был рекомендован к напечатанию в трудах института[122]. В том же году А. В. Барченко также пригласили прочитать еще несколько ученых докладов, однако он по какой-то неведомой причине от выступлений и от публикации своего оригинального исследования отказался[123].
Почвой для сближения А. В. Барченко с названными выше учеными наряду с парапсихологией служила также восточная (индо-тибетская) медицина, особенно привлекавшая к себе в эти годы западных исследователей. Василий Павлович Кашкадамов (1863–1941), известный врач-гигиенист, в 1899–1900 гг. находился в командировке в Индии, где изучал чуму и способы борьбы с ней, перенимал опыт индийских врачей. По возвращении в Россию Кашкадамов прочитал доклад «Об индусской фармации» и опубликовал «Краткий очерк индусской медицины» (СПб., 1902). Леонид Леонидович Васильев (1891–1965), физиолог-рефлексолог и парапсихолог, увлекался в молодости теософией, выписывал издания Теософского общества в Лондоне, что, по-видимому, и подтолкнуло его к изучению таинственных «психических феноменов». Не меньший интерес Л. Л. Васильева вызывала и тибетская медицина, получившая распространение в Петербурге в начале 1900-х благодаря успешной практике тибетского врача П. А. Бадмаева. Имеются сведения, что незадолго до революции Л. Л. Васильев вместе со своим камердинером совершил путешествие в Тибет, присоединившись к каравану буддийских паломников[124]. Впоследствии он рассказывал об одной довольно необычной водной процедуре, которую ему однажды довелось наблюдать в этой стране: тибетские монахи ходят или стоят неподвижно в проточной воде горного ручья, одновременно вращая установленные там же молитвенные барабаны. (Процедура эта, как кажется, носила скорее профилактический, чем лечебный характер.) Какое-то время пытливый путешественник провел в уединении в пещере, занимаясь созерцательной практикой, что поразительным образом напоминает некоторые страницы «Доктора Черного». (Не означает ли это, что роман А. В. Барченко вдохновил Л. Л. Васильева на его восточное путешествие?!) Ученый продолжил изучение тибетской медицины в 1920–1930 гг. под руководством Н. Н. Бадмаева, племянника П. А. Бадмаева.
30 января 1921 г. Институт мозга, вероятно, по инициативе своего руководителя В. М. Бехтерева, командировал А. В. Барченко на побережье Ледовитого океана в Мурман и в Лапландию «для обследования явления под названием мерячение». Мерячение (эмиряченье) — это психическое заболевание, нечто среднее между припадком истерии и шаманским трансом. Особенно часто оно наблюдалось в то время среди коренного населения Крайнего Севера и Сибири (якутов, юкагиров, ламутов, айносов, забайкальских бурят), а также у малайцев, называющих его «прыгучкой» (юмпинг, джампинг), что позволило Н. А. Виташевскому говорить о мерячении как о «первобытном психоневрозе». Вот как описывает типичный припадок («мэнэрик») у женщины-якугки один из исследователей С. И. Мицкевич: «Сознание делается спутанным, появляются устрашающие галлюцинации: больная видит черта, страшного человека или что-нибудь подобное; начинает кричать, петь, ритмично биться головой об стену или мотать ею из стороны в сторону, рвать на себе волосы»[125]. Мэнэрик может продолжаться от одного-двух часов до целого дня или ночи и повторяться в течение нескольких дней. Якуты обычно объясняют припадки порчей или вселением в тело злого духа («мэнэрика») и потому говорят в таких случаях: «бес мучает». По сообщению С. И. Мицкевича, про «мэнэряков» ходят среди населения разные рассказы, например, что «они могут себя прокалывать насквозь ножами и это не оставляет следов, могут плавать, не умея плавать в обычном состоянии, петь на незнакомом языке, предсказывать будущее» и т. д.[126]. Одержимый «духом» во многом подобен шаману и обладает силой и способностями шамана, что, по мнению ученых, роднит мерячение и шаманство. Различие между ними состоит лишь в том, что «мэнэрик» вселяется в больного против его воли, а шаман вызывает «духа» по своей воле и может повелевать им. Интересно, что среди русских крестьян, особенно среди мистических сектантов, встречалось похожее заболевание, которое в народе обычно называли кликушеством. Русские ученые, в том числе В. М. Бехтерев, обратили на него внимание еще в конце XIX века[127]. Появлявшиеся время от времени публикации о «странной болезни», возможно, были известны и А. В. Барченко. Во всяком случае он без колебания принял столь заманчивое предложение В. М. Бехтерева, тем более что оно давало возможность ему и его близким покинуть на время голодный Петроград.
А. В. Барченко выехал в Мурман ранней весной 1921 г. в сопровождении жены Натальи и двух своих наиболее преданных учениц, повсюду следовавших за ним, — Юлии Вонифатьевны Струтинской, исполнявшей функции его личного секретаря, и Лидии Николаевны Шишеловой-Марковой. Последняя была дочерью известного думского деятеля, лидера крайне правых Н. Е. Маркова (Маркова 2-го), с которым А. В. Барченко, как мы помним, несколько раз встречался в 1918 г. Познакомился с ней А. В. Барченко, вероятно, в кружке Д. В. Бобровского, родственника Маркова. Л. Н. Маркова не пожелала последовать за отцом в эмиграцию в 1918 г. и, чтобы облегчить себе существование в большевистской России, заключила фиктивный брак со студентом-восточником Ю. В. Шишеловым, что позволило ей изменить фамилию. В Мурман — наблюдать полное солнечное затмение — отправились в начале апреля 1921 г. и А. А. Кондиайн вместе с Э. М. Месмахер, ставшей к тому времени его женой, в составе небольшой экспедиции РОЛМ, которой руководил М. Я. Мошонкин. Добирались астрономы-энтузиасты до Мурмана с приключениями: в пути их поезд потерпел крушение, при этом от всего состава на рельсах остались только два последних вагона. К счастью, никто из ученых не пострадал, поскольку теплушка, в которой они ехали, находилась в самом хвосте состава, хотя инструменты получили небольшие повреждения. Затмение наблюдали в мурманском порту 8 апреля. По окончании работ участники экспедиции прочитали несколько популярных лекций для местного населения.
В Мурмане Кондиайны несколько раз встречались с А. В. Барченко и его большой «семьей». Жили они, как вспоминала впоследствии Э. М. Кондиайн, в бревенчатом бараке, стоявшем посреди непролазной тины, у самого моря. Запомнилась курьезная подробность, в бараке было множество клопов, однако А. В. Барченко их не убивал, а только выбрасывал в окошко, уверяя, что они его не кусают. И все три женщины поступали таким же образом[128]. Занимался А. В. Барченко в это время лечением умиравшего от туберкулеза молодого парня, от которого отказались врачи. Лечил его по собственному методу — заставлял принимать солнечные ванны на открытом воздухе, когда еще было довольно морозно. Удивительно, но подобные процедуры действительно оказались целительными — больной вскоре встал на ноги и смог самостоятельно поехать в Крым для продолжения лечения. В другой раз Кондиайны застали своего друга в большом сарае с увлечением читающим какую-то лекцию группе матросов. После недолгого пребывания в Мурмане чета Кондиайнов вернулась вместе с экспедицией в Петроград.
А. В. Барченко пробыл на Севере безвыездно около двух лет. Работал на биостанции в Мурмане — изучал морские водоросли с целью их использования в качестве корма для крупного и мелкого рогатого скота. Вел работы по извлечению агар-агара из красных водорослей. Выступал с лекциями, в которых горячо пропагандировал употребление в пищу человеком морской капусты, обладающей ценными питательными и лечебными свойствами. Кроме этого, занимался краеведческой работой в должности заведующего Мурманским морским институтом краеведения — изучал прошлое края, быт и верования его коренных жителей — лопарей. Это служило частью подготовки к уже давно задуманной им экспедиции в глубь Кольского полуострова. Экспедиция эта, снаряженная по инициативе Мурманского Губэкосо (Губернского экономического совещания), началась в августе 1922 г. Участие в ней вместе с ученым приняли и три его спутницы, а также специально приехавшие из Петрограда А. А. Кондиайн и репортер Семенов. (Э. М. Кондиайн на этот раз не смогла последовать за мужем, потому что на руках у нее находился новорожденный — сын Олег, появившийся на свет осенью 1921 г.)
Основной задачей экспедиции было обследование района прилегающего к Ловозерскому погосту, населенному лопарями, или саамами. Здесь находился центр русской Лапландии, почти не исследованный учеными. Отметим попутно, что русский Север давно уже привлекал к себе внимание А. В. Барченко. В романе «Из мрака», появившемся накануне войны, он пересказал древнее предание о племени чудь, ушедшем под землю, когда чухонцы завладели его территорией. С тех пор чудь подземная «живет невидимо», а перед бедой или несчастьем выходит на землю и появляется в пещерах — «печорах» — на границе Олонецкой губернии и Финляндии[129]. О чуди А. В. Барченко услышал вновь, по пути к Ловозеру, от молодой лопарской «колдуньи» — шаманки Анны Васильевны. «Давным-давно лопари воевали чудь. Победили и прогнали. Чудь ушла под землю, а два их начальника ускакали на конях. Кони перепрыгнули через Сейд-озеро и ударились в скалы, и остались там на скалах навеки. Лопари их называют „Старики“». С этой шаманкой связана удивительная история, происшедшая в самом начале путешествия.
«Когда к вечеру они (члены экспедиции — А. А.) добрались до чума Анны Васильевны, у А. В. сделался тяжелый сердечный приступ. Анна Васильевна взялась его вылечить. Он лежал на земле. Она встала у него в ногах, покрылась с ним длинным полотенцем, что-то шептала, делала какие-то манипуляции кинжалом. Затем резким движением направила кинжал на сердце А. В. А. В. почувствовал страшную боль в сердце. У него было ощущение, что он умирает, но он не умер, а заснул. Проспал всю ночь, а наутро встал бодрый, взвалил свой двухпудовый рюкзак и продолжил путь»[130]. В дальнейшем (по утверждению Э. М. Кондиайн) сердечные приступы у А. В. Барченко больше не повторялись.
Чудесное излечение А. В. Барченко произвело на всех огромное впечатление. Надо сказать, что о лопарях или саамах, в то время имелись довольно скудные сведения по причине их крайне обособленного существования. Происхождение лопарского народа, с незапамятных времен обитающего в этом суровом приполярном краю, теряется во мраке столетий или даже тысячелетий. Уже в самом начале экспедиции, во время перехода к Ловозеру, ее участники натолкнулись в тайге на довольно странный памятник — массивный прямоугольный гранитный камень. Всех поразила правильная форма камня, а компас показал к тому же, что он ориентирован по странам света. В дальнейшем А. В. Барченко и А. А. Кондиайну удалось установить, что хотя лопари поголовно исповедуют православную веру и необычайно ревностно исполняют все церковные обряды, в то же время они втайне поклоняются богу Солнца и приносят бескровные жертвы каменным глыбам-менгирам, по-лопарски «сейдам».
Переправившись на парусной лодке через Ловозеро, экспедиция двинулась дальше в направлении близлежащего Сейд-озера, почитавшегося священным. К нему вела прорубленная в таежной чаще прямая просека, поросшая мхом и мелким кустарником. В верхней точке просеки, откуда открывался вид одновременно на Ловозеро и Сейд-озеро, лежал еще один прямоугольный камень.
«С этого места виден по одну сторону в Ловозере остров — Роговой остров, на который одни только лопарские колдуны могли ступить. Там лежали оленьи рога. Если колдун пошевелит рога, поднимется буря на озере. По другую сторону виден противоположный крутой скалистый берег Сейд-озера, но на этих скалах довольно ясно видна огромная, с Исаакиевский собор, фигура. Контуры ее темные, как бы выбиты в камне. Фигура в позе „падмаасана“. На фотографии, сделанной с этого берега, ее можно было без труда различить».
Фигура на скале, напомнившая А. А. Кондиайну индусского йога, это и есть «Старики» (или «Старик», по другой версии) из лопарского предания. Впрочем, современный исследователь В. Н. Демин разглядел в ней нечто другое — человека с крестообразно распростертыми руками.
Участники экспедиции заночевали на берегу Сейд-озера в одном из лопарских чумов. Наутро решили подплыть к обрыву скалы, чтобы лучше рассмотреть загадочную фигуру, но лопари наотрез отказались дать лодку. Всего у Сейд-озера путешественники провели около недели. За это время они подружились с лопарями, и те показали им один из подземных ходов. Однако проникнуть в подземелье также не удалось, поскольку вход в него, выложенный опять-таки загадочными прямоугольными камнями, оказался основательно заваленным землей. Экспедиция обнаружила в окрестностях «святого озера» и несколько других памятников лопарской древности, в том числе заинтриговавшую всех каменную «пирамиду».
В семейном архиве Кондиайнов чудом сохранилось несколько страничек из «Астрономического дневника» А. А. Кондиайна с рассказом об одном дне экспедиции, который заслуживает того, чтобы мы привели его здесь:
«10/IX. „Старики“. На белом, как бы расчищенном фоне, напоминающем расчищенное место на скале, в Мотовской губе выделяется гигантская фигура, напоминающая темными своими контурами человека. Мотовская губа поразительно, грандиозно красива. Надо себе представить узкий коридор версты 2–3 шириной, ограниченный справа и слева гигантскими отвесными скалами, до 1 версты высотой. Перешеек между этими горами, которым оканчивается губа, порос чудесным лесом, елью — роскошной, стройной, высокой до 5–6 саженей, густой, типа таежной ели. Кругом горы. Осень разукрасила склоны вперемежку с лиственницами пятнами серо-зеленого цвета, яркими кущами берез, осин, ольхи; вдали сказочным амфитеатром раскинулись ущелья, среди которых находится Сейд-озеро. В одном из ущелий мы увидели загадочную вещь: рядом со скитами, там и сям пятнами лежащими на склонах ущелья, виднелась желтовато-белая колонна вроде гигантской свечи, а рядом с ней кубический камень. На другой стороне горы с севера виднеется гигантская пещера, сажень 200, а рядом нечто вроде замурованного склепа.
Солнце освещало яркую картину северной осени. На берегу стояли 2 вежи, в которых живут лопари, выселяющиеся на промысел с погоста. Их всего, как на Ловозере, так и на Сейд-озере, ок. 15 человек. Нас, как всегда, радушно приняли, угостили сухой и вареной рыбой. После еды завязался интересный разговор. По всем признакам мы попали в самую живую среду седой жизни. Лопари вполне дети природы. Дивно соединяют в себе христианскую веру и поверья старины. Слышанные нами легенды среди них живут яркой жизнью. „Старика“ они боятся и почитают.
Об оленьих рогах боятся и говорить. Женщинам нельзя даже выходить на остров — не любят рога. Вообще же они боятся выдавать свои тайны и говорят с большой неохотой о своих святынях, отговариваясь незнанием. Тут живет старая колдунья, жена колдуна, умершего лет 15 назад, брат которого, до сих пор еще глубокий старик, поет и шаманствует на Умб-озере. Об умершем старике Данилове говорят с почтением и страхом, что он мог лечить болезни, насылать порчу, отпускать погоду, но сам он однажды взял задаток у „шведов“ (вернее чуди) за оленей, надул покупателей, т. е. оказался, по-видимому, более сильным колдуном, наслав на них сумасшествие.
Нынешние лопари имеют несколько другой тип. Один из них имеет немного черты ацтеков, другой — монгол. Женщины — с выдающимися скулами, слегка приплюснутым носом и широко расставленными глазами. Дети мало отличаются от русского типа. Живут здешние лопари много беднее ундинских. Много их обижают, и русские и ижемцы. Почти все они неграмотные. Мягкость характера, честность, гостеприимство, чисто детская душа — вот что отличает лопарей.
Вечером после краткого отдыха пошел на Сейд-озеро. К сожалению, мы пришли туда уже после захода солнца. Гигантские ущелья были закрыты синей мглой. Очертания „Старика“ выделяются на белом фоне горы. К озеру через тайболу ведет роскошная тропа. Везде широкая проезжая дорога, кажется даже, что она мощеная. В конце дороги находится небольшое возвышение. Все говорит о том, что в глубокой древности роща эта была заповедной и возвышение в конце дороги служило как бы алтарем-жертвенником перед „Стариком“.
Погода менялась, ветер усилился, облака собирались. Надо было ожидать бури. Часов в 11 я вернулся на берег. Шум ветра и порогов реки сливались в общем шуме среди надвигающейся темной ночи. Луна поднималась над озером. Горы оделись чарующей дикой ночью. Подходя к веже, я испугал нашу хозяйку. Она приняла меня за „Старика“ и испустила ужасный вопль и остановилась как вкопанная.
Насилу ее успокоил. Поужинав, мы обычным порядком залегли спать. Роскошное северное сияние освещало горы, соперничая с луной».
На обратном пути А. В. Барченко и его спутники попытались вновь совершить экскурсию на «запретный» Роговый остров в Ловозере — первая попытка была сделана ими в самом начале путешествия, — однако и на этот раз потерпели неудачу. Едва они отплыли от берега, как небо неожиданно затянули черные тучи. Налетел ураган, который мгновенно сломал мачту и едва не перевернул лодку. В конце концов путешественников прибило к крошечному, совершенно голому островку, где они, дрожа от холода, и заночевали. А утром уже на веслах кое-как дотащились до Ловозерска. Роговой остров действительно оказался «заколдованным»!
Участники Лапландской экспедиции вернулись в Петроград глубокой осенью 1922 г. 29 ноября А. А. Кондиайн выступил на заседании географической секции общества «Мироведения» с докладом о результатах своей поездки, который назывался «В стране сказок и колдунов». В нем он рассказал о сделанных экспедицией удивительных находках, свидетельствующих, по его мнению, о том, что местные жители-лопари происходят «от какой-то более древней культурной расы». Продемонстрированные им фотографии и диапозитивы произвели на собравшихся большое впечатление. А через некоторое время в петроградских газетах появилось сенсационное интервью с руководителем экспедиции и изображения загадочных памятников древнелапландской культуры. «Проф. Барченко открыл остатки древнейших культур, относящихся к периоду, древнейшему, чем эпоха зарождения египетской цивилизации», — сообщила читателям «Красная газета» 19 февраля 1923. О своих находках сам первооткрыватель рассказывал так:
«До сих пор лопари русской Лапландии чтут остатки доисторических религиозных центров и памятников, уцелевших в недоступных для проникновения культуры уголках края. Например, в полутораста верстах от железной дороги и верстах в 50 от Ловозерского погоста экспедиции удалось обнаружить остатки одного из таких религиозных центров — священное озеро Сейд — озеро с остатками колоссальных священных изображений, доисторическими просеками в девственной тайболе (чаще), с полуобвалившимися подземными ходами-траншеями, защищавшими подступы к священному озеру. Местные лопари крайне недружелюбно относятся к попыткам более тщательно обследовать интересные памятники. Отказали экспедиции в лодке, предостерегали, что приближение к изваяниям повлечет всевозможные несчастия на наши и их головы»[131].
Рассказ А. В. Барченко заканчивался утверждением со ссылкой на мнение «ряда авторитетных этнографов и антропологов», что лопари являются «старейшими предками народностей, покинувших впоследствии северные широты». При этом он отмечал, что «в последнее время упрочивается теория, согласно которой, лопари, параллельно с карликовыми племенами всех частей света, представляются древнейшими прародителями ныне значительно более высокорослой белой расы».
Всеобщий интерес к открытиям, сделанным Лапландской экспедицией, был настолько велик, что 18 апреля по просьбе мироведов А. А. Кондиайну пришлось повторить свой доклад. В завязавшейся затем среди ученых бурной дискуссии участие принял и приглашенный обществом А. В. Барченко. Его доводы и красноречие, однако, не смогли переубедить скептиков. Итог обсуждения был суммирован секретарем географической секции В. Шибаевым в таких словах: «Продолжительный обмен мнениями, выступление начальника отряда А. В. Барченко и ряд диапозитивов с посещенных мест не рассеяли сложившееся у многих присутствующих мнение о малой объективности докладчика при описании им своих наблюдений и открытий, т. к. представленные фотографии дают возможность делать весьма противоположные выводы»[132].
Летом 1923 г. один из сомневающихся, некто Арнольд Колбановский, разыскав проводника Барченко Михаила Распутина, организовал собственную экспедицию в Ловозеро-Сейдозерский район, дабы воочию убедиться в существовании памятников древнейшей цивилизации. Вместе с А. Колбановским в заповедные лопарские места отправилась и группа «объективных наблюдателей» — председатель Ловозерского волисполкома, его секретарь и волостной милиционер. Первым делом А. Колбановский попытался добраться до «заколдованного» Рогового острова, где якобы можно было увидеть «тени истуканов». Вечером 3 июля отряд отважных и, главное, несуеверных путешественников, несмотря на колдовские чары, переплыл через Ловозеро и высадился на Роговом острове. Полуторачасовое обследование его территории, однако, не дало никаких результатов. «На острове — поваленные бурями деревья, дико, никаких истуканов нет — тучи комаров. Пытались отыскать заколдованные оленьи рога, которые издавна — по легендам лопарским — потопили наступавших шведов. Эти рога насылают „погоду“ на всех, кто пытается приблизиться к острову с недобрыми намерениями (а также с целью обследования), особенно на женщин»[133]. В отчете о поездке ничего не говорится о том, удалось ли А. Колбановскому найти эти реликвии.
На другой день, вернее, ночью — очевидно, чтобы не привлекать к себе внимания — отряд двинулся к соседнему Сейдозеру. Обследовали загадочную «статую» «Старика» — выяснилось, что это «не что иное как выветренные темные прослойки в отвесной скале, издали напоминающие своей формой подобие человеческой фигуры». Такой же иллюзией оказалась на поверку и фигура «повара» на одной из вершин Сейдозерских скал. Но оставалась еще каменная «пирамида», служившая одним из главных аргументов в пользу существования древней цивилизации. К этому «чудесному памятнику старины», видному издали, с южного берега Мотки — Губы, А. Колбановский, следуя за М. Распутиным, и отправился. И вновь неудача: «Подошли вплотную. Глазам представилось обыкновенное каменное вздутие на горной вершине».
Выводы А. Колбановского, развенчавшие все открытия А. В. Барченко, были опубликованы сразу же после окончания экспедиции мурманской «Полярной правдой» («Акт о следах так наз. „древней цивилизации в Лапландии“»). При этом редакция газеты в своем комментарии довольно язвительно охарактеризовала сообщения А. В. Барченко и его «группы» как «галлюцинации, занесенные под видом новой Атлантиды в умы легковерных граждан гор. Петрограда»[134] — очевидный намек на обсуждение мироведами результатов Лапландской экспедиции. Поэтому, публикуя отчет о повторном выступлении А. А. Кондиайна, редакционная коллегия «Журнала РОЛМ» сочла необходимым снабдить его подробным примечанием, в котором содержалась ссылка на итоги обследования А. Колбановского и, что еще более важно, отмечалось, что побывавшая в этих местах экспедиция А. Е. Ферсмана также «не нашла в них ничего археологического»[135]. Все это лишь укрепило позиции оппонентов А. В. Барченко среди питерских ученых.
Следы какой древней «Северной цивилизации» были обнаружены А. В. Барченко в глуши Ловозерских тундр? Ответ на этот вопрос в 1920-е годы не мог дать никто, и лишь в наше время ученый-энтузиаст В. Н. Демин, повторивший в 1997 г. маршрут Лапландской экспедиции, с уверенностью утверждает: Кольский полуостров — это легендарная Гиперборея, «колыбель и прародина человеческой цивилизации»[136]. Демину и его спутникам удалось вновь увидеть те загадочные — рукотворные, по внешнему виду, — памятники, которые более 70 лет тому назад так поразили А. В. Барченко и А. А. Кондиайна: мощеную дорогу-просеку среди чахлой арктической тайболы, ведущую к священному Сейд-озеру, площадку с каменным алтарем в конце нее для совершения какого-то ритуала, гигантское изображение-петроглиф на отвесной скале на противоположной стороне озера. В то же время участники этой новой экспедиции сделали и несколько собственных открытий. Например, они обнаружили некое сооружение, весьма напоминающее остатки древней обсерватории. Но насколько справедливы выводы современных ученых? Не принимают ли они, подобно исследователю Юкатана О. Плонжону, желаемое за действительное? Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу В. Н. Демина, потребуются новые интенсивные исследования комплексного характера с привлечением самых разных специалистов — геологов, археологов, гидрографов, спелеологов и др. И такие исследования действительно ведутся и уже приносят некоторые плоды[137]. Для самого же А. В. Барченко Лапландская культура являлась одним из очагов высокоразвитой древней цивилизации, наравне с Шамбалой-Агартой. Согласно запискам Э. М. Кондиайн, местонахождение этого очага было также определено — «вычислено» — на глобусе А. А. Кондиайном при помощи «Универсальной схемы».
Интересно, что в опубликованной в 1999 г. книге «Загадки Русского Севера» В. Н. Демин попытался связать открытую им Гиперборею-Арктиду с мифической Северной Шамбалой. Впрочем, приводимые им аргументы в пользу такой гипотезы (лингвистические, литературо- и религиоведческие аналогии) не всегда убедительны. В то же время ученый предложил новую концепцию Шамбалы как некой «духовной реальности», существующей в нашем материальном мире. Шамбала, считает он, «может представлять некоторую информационно-энергетическую структуру, сопряженную с историей и предысторией человеческого общества и вместе с тем существующую независимо от него. Каждый человек в принципе способен пробудить в себе и развить способности, позволяющие уловить позывы Мировой Шамбалы — разлитого повсюду информационно-энергетического „моря“»[138]. Развивая далее эту идею, В. Н. Демин говорит об определенных точках на планете, «геологически приспособленных к приему информации, — поступающей из биосферы Земли, а также ближнего и дальнего Космоса». Эти точки — «сакральные центры концентрации Универсального знания», и в этом смысле можно говорить о существовании множества земных «шамбал». Находятся они, однако, не на поверхности земли, а в ее недрах — в горах, ущельях, пещерах, подземных пустотах, провалах (в том числе и заполненных водой) и т. д. Из этих-то энергоинформационных источников, по мнению В. Н. Демина, и черпали свои знания пророки и духовидцы всех времен и народов, включая создателей мировых религий, а также Н. К. и Е. И. Рерихов[139].
В начале 1923 г., по возвращении из Мурмана, А. В. Барченко выступил в Институте мозга с докладом, в котором представил результаты своих наблюдений над явлением «мерячения». Его сообщение вызвало большой интерес, как о том свидетельствует «Удостоверение», выданное А. В. Барченко институтом[140]. Вскоре после этого В. М. Бехтерев пригласил А. В. Барченко принять участие в работе созданной им годом ранее при институте Комиссии мысленного внушения во главе с А. К. Борсуком и Л. Л. Васильевым. В своих воспоминаниях Л. Л. Васильев сообщает поразительный факт — о сотрудничестве с комиссией ряда петроградских оккультистов:
«Главная особенность этой комиссии состояла в том, что в ее состав входили как представители от науки, так и адепты оккультизма — спириты (Нилов, Лобода, врач Яблонский), теософы (Лихов, он же комендант здания института, в квартире которого комиссия и собиралась), реже бывали еще и другие оккультисты (Погорельский, тоже врач, Антоновский, биолог и журналист Барченко), писатель-нововременец Н. А. Энгельгардт и др.»[141].
Однако, как мы знаем, А. В. Барченко был не только, а вернее, не столько оккультистом, сколько ученым-исследователем, пытливым и самобытным. Подтверждением этому может служить тот факт, что в октябре 1923 г. специальная комиссия Главнауки (Главного управления научными, музейными и научно-художественными учреждениями Академического центра Наркомпроса РСФСР), при участии ее заведующего, старого большевика-каторжанина Ф. Н. Петрова, и физика А. К. Тимирязева, заслушав несколько докладов А. В. Барченко на тему о «древнейшей восточной натурфилософии» (т. е. о «Древней науке»), признала его исследования «вполне серьезными и ценными не только в научном, но и в политическом отношении». В результате было принято решение: «углубить и поддержать исследования тов. Барченко путем немедленного предоставления ему из кредитов Главнауки средств на организацию биофизической лаборатории и подготовки доложенного Барченко материала к изданию»[142]. Таким образом, вполне можно утверждать, что исследования петроградского ученого-оккультиста получили к этому времени не только известность, но и определенное признание официальной советской науки.
В это же время (конец 1923 г.) в жизни А. В. Барченко произошло еще одно счастливое событие — он вторично женился на одной из своих юных учениц и поклонниц Ольге. При этом А. В. Барченко не порвал отношений со своей первой женой Натальей, которая продолжала оставаться его помощницей и добрым другом.
10. Единое Трудовое Братство
Наряду с научно-эзотерическими исканиями, в центре внимания А. В. Барченко постоянно находились и проблемы нравственного самосовершенствования, ибо, по его представлению, высочайшие достижения «Древней науки» доступны лишь высоконравственному человеку. В этом смысле большое значение имело событие, происшедшее в 1923 г. Вернувшись из Лапландии, А. В. Барченко окончательно решил, что настало время для объединения учеников и единомышленников в некое эзотерическое братство — то, что ОГПУ впоследствии назовет «масонской организацией». Так в Петрограде появилось объединение адептов «Древней науки» — Единое Трудовое Братство (далее ЕТБ). Моделью для него послужило Единое Трудовое Содружество Г. И. Гурджиева, о котором А. В. Барченко услышал впервые от С. П. Шандаровского, одного из его бывших членов. Цель ЕТБ состояла в «изучении философии, истории мистики и нравственном усовершенствовании». «Проповедь непротивления, христианского смирения, помощь человеку в нужде, не входя в обсуждение причин нужды, овладение одним из ремесел, работа в направлении морального саморазвития и воспитание созерцательного метода мышления — в этом я видел ближайшие функции ЕТБ, ориентирующегося на мистический центр Шамбалу и призванного вооружить опытом „Древней Науки“ современное общество», впоследствии «признается» следователю Барченко[143]. Один из наиболее авторитетных питерских оккультистов, Генеральный секретарь Автономного Русского Масонства Б. В. Астромов, в своих показаниях весной 1926 г. упомянул «кружок доктора Барченко» среди известных ему «оккультных организаций» в Петрограде и тем самым косвенно подтвердил факт его существования. (Сын А. А. Кондиайна О. А. Кондиайн, однако, считает, что ЕТБ в действительности не существовало и является выдумкой сотрудников НКВД. Во всяком случае он не помнит, чтобы его мать Элеонора Максимилиановна когда-либо упоминала братство Барченко.) О руководителе кружка Б. В. Астромов сообщил, что «в свое время он бывал в обществе „Сфинкс“ и пытался с ним соединиться, но безуспешно». Назвал имена ближайших сподвижников А. В. Барченко — П. С. Шандаровского и А. А. Кондиайна. При этом отметил, что «среди оккультистов Барченко не пользуется хорошей репутацией», и в качестве примера сослался на распространение А. В. Барченко среди учеников рукописи, выдаваемой за свою, хотя она в действительности «есть не что иное, как плохой перевод с французского одной из книжек Элифаса Леви»[144].
Элифас Леви — настоящее имя Констан, аббат Альфонс-Луи (1810–1875) — знаменитый французский оккультист (каббалист), получивший при жизни прозвище «короля магов». В России начала века наибольшей известностью пользовались две его книги, переведенные с французского: «Тайны магии» (Варшава, 1909) и «Учение и ритуал высшей магии» (том 1: «Учение». СПб., 1910). Из других сочинений Элифаса Леви, не переведенных на русский, следует упомянуть Philosophie occulte, 1re serie (Paris, 1862) и 2em serie (Paris, 1865), а также Le Grand Arcane, ou l'Occultisme devoile (Paris, 1898). Возможно, перевод одной из этих книг А. В. Барченко и распространял среди своих учеников.
О том, что представляло собой идеологически и организационно Единое Трудовое Братство, позволяют судить составленные А. В. Барченко морально-этический кодекс («Правила жизни») и устав ЕТБ. Из этих двух документов сохранился лишь первый, который заслуживает того, чтобы мы процитировали его целиком:
ПРАВИЛА ЖИЗНИ
1. Размышляя о Боге, помни, что понятие Бог можно выразить в числе — единицей, в геометрии — точкой. Геометрическая точка не имеет измерения, но, излучая энергию, она обнимает вселенную. Пружина обладает наибольшей мощью, будучи скрученной до совмещения с точкой.
2. Цель не оправдывает средства.
3. Не имей собственности ни в вещах, ни в супруге, ни в людях.
4. Ноша в пути изнуряет, а что тяжелее золота?
5. Неси свою ношу в гору на собственных плечах.
6. Давай, не удручая просящего.
7. Давай всегда сам в собственные руки.
8. Считай себя должником того, кому ты имел возможность оказать помощь.
9. Воровство — не только присвоение вещей, не принадлежащих тебе, но и хранение лишнего, не нужного тебе.
10. Не проходи мимо женщины с ребенком на руках без вопроса, не нуждается ли она в необходимом.
11. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой.
12. При встрече с бедняком, с лицом, стоящим ниже тебя, голову обнажай первый; от богача, от лица, стоящего выше тебя, ожидай привета.
13. Не сопротивляйся злу насилием.
14. В личной защите не применяй иного оружия, кроме личного примера.
15. Смерти не бойся, но бойся оставить тело раньше чем то, что им управляет, окрепнув, не возмужало.
16. Самоубийство расценивается как дезертирство.
17. Убийство допустимо только в том случае, если это единственная возможность спасти большое число жизней.
18. Стремись вперед, чтобы подать руку отставшему.
19. Споткнувшись, не изнемогай, а шагай тверже.
20. Вникай в то, что тебе доверяют, чтобы совесть не угнетала тебя после.
21. Нет презренного ремесла, если из рук выходит то, что не вредит живому.
22. При встрече с воином, не кичись белизной своих рук.
23. Размышляя о том, какую специальность избрать сыну твоему, помни: посрамивший мудрецов ходил по земле плотником.
24. Помни, что ложь, грязнящая душу человека, душу ребенка делает калекой.
25. Отходя ко сну, дели поступки свои на 2 (положительные и отрицательные) и на 7 (планетных категорий: солнце, меркурий, венера, земля или луна, марс, юпитер, сатурн).
26. Никогда не прячься от солнца.
27. Два врача исцеляют — солнце и воздух.
28. Солнце — отец, Земля — мать; она родила тебе сестер и братьев там, где ты на ней обитаешь.
29. К супругу своему относись бережно, как к драгоценному сосуду — ты пьешь из него наслаждение.
30. Если супруг твой подойдет к пропасти, пусть заглянет в нее и измерит ее глубину, но пусть рука твоя будет тверда, чтобы вовремя удержать его от падения.
31. Из тины болот тянутся лилии, они белы.
32. Законам страны, в которой живешь, — подчиняйся. С властью трудящихся — сотрудничай.
33. Семья — кирпич, из которого строится здание государства.
34. Говорящему: «Один в поле не воин» — возражай: «Голос одного бодрствующего будит тысячу спящих».
35. Слабость — предмет не уважения, а искоренения.
36. Не отдавай себя в жертву одержимым шимнусами (злые духи), сытому, спящему сердцем.
37. Если ты озлословил человека, которому ты оказал помощь, то лучше бы ты его обокрал, ибо ты украл у него самое дорогое — доброе имя.
38. Не строй себе счастье за счет несчастья других[145].
О структуре ЕТБ мы знаем, главным образом, из показаний самого А. В. Барченко. Во главе организации находился Совет, состоявший из трех человек — Барченко, Кондиайна и Шандаровского. Все члены братства подразделялись на две степени — братьев и учеников. Для достижения степени брата требовалось выполнение ряда условий: «отказ от собственности, нравственное усовершенствование и достижение внутренней собранности и гармоничности»[146]. А. В. Барченко, впрочем, считал, что сам он до столь высокого уровня еще не поднялся. Никакой обрядности в братстве не существовало, в том числе и ритуалов посвящения. В то же время у ЕТБ имелась своя оригинальная символика. Символом брата служила «красная роза с лепестком белой лилии и крестом», означавшая «полную гармоничность». Знак Розы и Креста, по словам А. В. Барченко, он заимствовал у розенкрейцеров, а лилию — из позднесредневековых трактатов «Мадафана» («Золотой век восстановления») и «Универсальная сила музыки» Атанасиуса Кирхера[147]. Символ ученика — «шестигранная фигура со знаком ритма, окрашенная в черные и белые цвета» (также взятая у Кирхера). Смысл этого символа состоял в том, что ученик должен следить «за ритмичностью своих поступков». По уставу эти знаки следовало носить «на перстне, розетке или булавке, а также иметь на окне своего жилища» — «для отыскания других посвященных в знание „древней науки“». Кроме этого, Барченко имел личную печать, «составленную из символических знаков Солнца, Луны, Чаши и шестиугольника»[148].
Кто входил в созданное А. В. Барченко братство? Ответить на этот вопрос не просто, поскольку в следственных протоколах приводятся различные списки членов ЕТБ. Сам А. В. Барченко во время одного из допросов назвал следующие фамилии: Нилус (сотрудник Академии Наук), Алтухов (физик), Э. М. Кондиайн, Л. Н. Маркова-Шишелова, Ю. В. Струтинская, В. П. Королев, Ю. В. Шишелов (в то время оба обучались на монгольском отделении Петроградского Института Живых Восточных Языков), Николай Троньон («сов. служащий»), С. П. Шандаровский[149]. Любопытно, что в этом списке нет ни жены Барченко Наталии, ни A. А. Кондиайна, ни его знакомых из ПЧК — К. К. Владимирова, А. Ю. Рикса, Э. М. Отто, к которым в 1923 г. присоединился еще один чекист — Федор Карлович Шварц (Лейсмер-Шварц). (Не включая эту четверку в число членов ЕТБ, А. В. Барченко тем не менее называл их «покровителями братства», хорошо осведомленными о его деятельности.)[150] Впрочем, к началу 1924 г. ни один из названных «покровителей» уже не служил в ЧК. А. А. Кондиайн в своих показаниях добавляет к этому списку еще несколько фамилий: А. К. Борсук, В. П. Кашкадамов, Л. Л. Васильев, Н. В. Лопач, М. Г. Лазарева, К. И. Поварнин (психолог), Н. Д. Никитин (писатель, один из «Серапионовых братьев»), а также «лично завербованных» им самим B. И. Песецкого (из общества «Мироведения», работавшего в начале 1920-х библиотекарем Оптического института) и ботаника П. Е. Васильковского [151].
Но можно ли действительно считать всех этих людей членами ЕТБ? Едва ли, ибо следователи, несомненно, стремились расширить «масонскую организацию» А. В. Барченко путем включения в нее как можно большего числа лиц. Анализ следственных материалов позволяет выявить ближайшее окружение А. В. Барченко — его друзей и единомышленников, которые, по-видимому, и составляли костяк братства. Это П. С. Шандаровский, А. А. и Э. М. Кондиайны, Ю. В. Струтинская, Л. Н. Шишелова-Маркова, Ю. В. Шишелов, В. Н. Королев, а также обе его жены — Наталья и Ольга. Что касается названных выше деятелей науки, то известно, что после возвращения из экспедиции А. В. Барченко довольно тесно общался со многими учеными, прежде всего с сотрудниками бехтеревского Института мозга, такими как сам академик В. М. Бехтерев, В. П. Кашкадамов, А. Л. Борсук и др. Это обстоятельство, однако, не является достаточным основанием, чтобы причислять всех их к Единому Трудовому Братству. В то же время показания А. А. Кондиайна свидетельствуют о том, что А. В. Барченко действительно пытался привлечь некоторых ученых к своему кружку. Личность и идеи А. В. Барченко, несомненно, импонировали многим его коллегам, которых, наверное, правильнее было бы назвать «сочувствующими», нежели фактическими членами братства. Э. М. Кондиайн вспоминает в своих записках: «Александр Васильевич как лампа мотыльков притягивал самых интересных людей. Многие профессора (Бехтерев, Кашкадамов, Капица и др.) очень интересовались достижениями Древней науки. Часто собирались они у него, где он проводил интереснейшие беседы»[152].
В конце лета (или осенью) 1923 г. А. В. Барченко неожиданно поселился в монашеском общежитии при буддийском храме в Старой Деревне. (С конца 1922 по 1936 гг. храм вместе с прилегающими к нему постройками являлся резиденцией Тибетской и Монгольской миссий, учрежденных А. Доржиевым под эгидой НКИД.) Проживание бок о бок с ламами — членами «желтошапочного» братства Гелуг, несомненно, обогатило А. В. Барченко ценным духовным опытом и, возможно, послужило дополнительным стимулом к созданию ЕТБ. В то же время благодаря ламам А. В. Барченко смог непосредственно познакомиться с основами универсальной буддийской науки Дуйнхор.
По иронии судьбы, неформальное и, следовательно, нигде не зарегистрированное «трудовое братство» А. В. Барченко возникло в тот самый год, когда в Петрограде навсегда прекратило свое существование Российское Теософическое Общество, именовавшееся «Всемирным Братством». На обстоятельствах его ликвидации хотелось бы остановиться чуть подробнее, поскольку они дают представление о методах борьбы большевиков с идеологическими оппонентами.
Итак, РТО было взято на учет властями в числе других общественных организаций, впервые 9 декабря 1919 г., когда оно и получило свое новое название[153]. О какой-либо активной деятельности питерских теософов в послереволюционные годы, разумеется, едва ли можно говорить. Первый конфликт Общества с новым режимом произошел в январе 1921 г., когда Петрочека попыталась выселить Всемирное Братство из его штаб-квартиры, фактически принадлежавшей А. А. Каменской (кв. 24 по ул. Марата 66/22). Довольно неожиданно в защиту РТО тогда выступила Главнаука в лице своего петроградского уполномоченного, либерально настроенного М. П. Кристи. 15 февраля 1921 г. М. П. Кристи выдал Обществу удостоверение, гласившее, что оно зарегистрировано в числе «ученых обществ», подведомственных Петроградскому Акцентру[154]. В результате власти были вынуждены оставить РТО в покое — по крайней мере на время. Однако уже осенью 1921 г. — вскоре после отъезда А. А. Каменской — отдел недвижимого имущества Совета Петрогубкомхоза начал еще более настойчиво добиваться выселения РТО на том основании, что оно «в течение двух лет не проявляет никакой деятельности, оставляет занимаемое мебелью и книгами помещение абсолютно без всякого присмотра и не принимает мер к поддержанию его в порядочном и благоустроенном виде»[155]. В этой ситуации, пытаясь реанимировать Общество, его новое правление приняло решение об устройстве в начале декабря «открытого собрания», при этом планировалось, что один из членов РТО, А. В. Королькова, выступит на нем с докладом о сущности теософии. Однако для проведения такого «мероприятия» требовалась санкция властей — лекционного подотдела Губоно. Чиновники же этого учреждения на просьбу теософов ответили отказом, мотивируя свое решение «необходимостью борьбы с религиозными предрассудками». Таким образом, губкомхозовцы одержали важную победу и в январе 1922 г. РТО пришлось перебраться на другую квартиру (3-я Рождественская, 7, кв. 12).
Столь же неуспешными оказались и попытки перерегистрации общества в соответствии с новым советским законодательством в 1922 г. Камнем преткновения на этот раз стал устав РТО, вызвавший серьезные возражения Губполитпросвета (одной из структур Губоно), опять-таки по идеологическим соображениям. В отзыве этого учреждения от 27 декабря 1922 г., в частности, говорилось: «Губполитпросвет, ознакомившись с уставом Т. О. (и на основании общего знакомства с его предшествующей деятельностью), высказывается за отклонение его регистрации, т. к. его работа находится в полном противоречии с идеями, положенными в основу политпросвет. работы»[156]. А вскоре после этого — всего лишь через месяц с небольшим (9 февраля 1923 г.) — местная администрация приняла решение о закрытии «Всемирного Братства»[157].
11. Учителя
«Встречи с замечательными людьми» (Meetings with remarkable men) — так Г. И. Гурджиев озаглавил книгу своих воспоминаний, в которой рассказывает о людях, оказавших на него наибольшее влияние в годы духовного становления, по сути таких же, как и он, «искателях Истины». Подобные встречи были, конечно же, и у нашего героя. В 1923–1924 гг. судьба свела А. В. Барченко с несколькими «замечательными людьми», общение с которыми значительно расширило его представления о традиции эзотерических знаний и обогатило рядом свежих идей. Это были прежде всего бывший ученик Г. И. Гурджиева, уже упоминавшийся ранее П. С. Шандаровский, монгол Хаян (Хиян) Хирва и тибетец Нага Навен — «восточные ученые», как их называет сам А. В. Барченко, и, наконец, странник-юродивый из Юрьевца Михаил Круглов. О них и пойдет речь в этой главе.
Петр Сергеевич Шандаровский (р. 1887) был хорошо известен до революции в оккультистских кругах Северной столицы. Сын военного сановника — его отец С. П. Шандаровский занимал в начале 1900-х пост уездного воинского начальника в Могилевской губернии, — он окончил юридический факультет Петербургского университета. В предреволюционные годы служил по Военному ведомству (был кодировщиком в кодировальном отделе), однако свое истинное призвание видел в занятиях наукой и искусством. После революции П. С. Шандаровский читал лекции и работал художником-оформителем. (Во время ареста в 1927 г. на вопрос следователя о профессии он ответил: «художник — научный работник».) Предметом научных интересов П. С. Шандаровского являлась идеография, точнее, международное идеографическое письмо. Со своими исследованиями в этой области П. С. Шандаровский, по собственному признанию, познакомил А. В. Луначарского, который затем направил его в Музейный отдел Наркомпроса. Там П. С. Шандаровскому посоветовали обратиться к кому-нибудь из специалистов Эрмитажа, что он и сделал[158].
С П. С. Шандаровским А. В. Барченко познакомился совершенно случайно — хотя бывают ли такого рода встречи случайными? — зимой 1922–1923 гг. Э. М. Кондиайн в своих записках рассказывает об этом так:
«Однажды зимой Ал. Вас. стоял перед витриной магазина и рассматривал узор на выставленном восточном ковре, где имелись элементы Универсальной Схемы. Рядом стоит какой-то гражданин, уже не молодой, худощавый и тоже рассматривает этот ковер. А. В. обращается к нему: „Это Вам что-нибудь говорит?“ А тот рисует ногой на снегу какую-то геометрическую фигуру и спрашивает: „А это Вам что-нибудь говорит?“ А. В. ботинком на снегу тоже изображает какую-то фигуру… Так, обменявшись чертежами, они пошли вместе.
Шандаровский просидел с Ал. Вас. в комнате всю ночь. Наташа (жена Барченко) им только изредка чай приносила. Они сидели почти молча, но за ночь целую кипу бумаги цифрами исписали. Иногда из комнаты выскакивал Ал. Вас., взволнованный, восторженный. Снимал пенсне, ворошил волосы, протирал покрасневшие глаза и издавал восторженные восклицания»[159].
Важность этой встречи, по словам Э. М. Кондиайн, состояла в том, что П. С. Шандаровский познакомил А. В. Барченко с «числовым механизмом» Древней Науки. В дальнейшем между ними установились тесные отношения. П. С. Шандаровский часто заходил к А. В. Барченко, а после того, как последний поселился в ламском общежитии при буддийском храме, он стал регулярно навещать его там. (Сам Петр Сергеевич также имел немало знакомых среди лам.) Во время одной из встреч с А. В. Барченко П. С. Шандаровский поведал ему о том, что его учитель Г. И. Гурджиев, к тому времени уже выехавший из России вместе с группой учеников, обладал «некоторыми знаниями древней науки», полученными в Кафиристане. А также рассказал о создании Г. И. Гурджиевым перед самой революцией «Единого Трудового Содружества», объединявшего его последователей в Москве, Петрограде и Тифлисе (речь, по-видимому, идет о гурджиевском «Институте гармоничного развития человека»). От П. С. Шандаровского же А. В. Барченко узнал о других учениках Г. И. Гурджиева, оставшихся в России, — С. Д. Меркурове (его двоюродном племяннике, известном скульпторе), Шишкове и Жукове. Все они проживали в Москве, и впоследствии А. В. Барченко постарается установить с ними контакт.
Не менее важным было и знакомство А. В. Барченко с восточными учителями — представителями «Великого Братства Азии»; некоторые из них, по его словам, «лично побывали в Шамбале». Именно они и стали для него главным источником сведений о тантрической системе «Дуйнхор» (Калачакра-тантре). Особенно часто на допросах А. В. Барченко упоминал два имени: тибетца Нага Навена (Навана) и монгола Хаян Хирвы. Нага Навен являлся наместником Западного Тибета (провинция Нгари). В Россию приехал в 1923 г., как кажется, по собственной инициативе (а следовательно, втайне от Лхасы) для ведения переговоров с советским правительством. И это по сути все, что мы знаем о нем.
«Нага Навен осведомил меня, что он прибыл для личного свидания с представителями советского правительства, чтобы добиться сближения Западного Тибета с СССР. Он сказал, что Далай-лама все больше сближается в Восточном Тибете с англичанами, а население и ламство Западного Тибета против союза с англичанами, что вследствие этого ламство массами эмигрирует во Внутреннюю Монголию и далее в Улан-Батор, что духовный глава Тибета Панчен-Богдо также обнаруживает оппозицию Далай-ламе и что в связи с этим создаются исключительные возможности для установления самых тесных отношений, как политических, так и культурных, между СССР и Западным Тибетом, через Южную Монголию.
Нага Навен указал, что политическую сторону этого вопроса он надеется осветить советскому правительству и Коминтерну через Чичерина. Далее Нага Навен сообщил мне ряд сведений о Шамбале как о хранилище опыта доисторической культуры и центре „Великого Братства Азии“, объединявшего теснейшим образом связанные между собой мистические течения Азии»[160].
Несмотря на глубокую озабоченность Москвы политической активностью Великобритании в Азии, в особенности ее экспансией в отношении Тибета, советские вожди не могли приветствовать сепаратизма Нага Навена, предпочитая в этой ситуации более решительное воздействие на колеблющегося Далай-ламу. С этой целью в августе 1923 г. Политбюро, по предложению Г. В. Чичерина, решило отправить в Лхасу секретную дипломатическую миссию во главе с бывшим коминтерновцем (незадолго до того перешедшим в восточный отдел НКИД) С. С. Борисовым, который должен был предложить Далай-ламе советскую помощь в различных областях (прежде всего в военной)[161]. Таким образом, в то время как А. В. Барченко мирно беседовал с тибетским сановником в дацанском общежитии на окраине Петрограда, в Москве полным ходом шла подготовка к отправке в Тибет, под видом буддийских паломников, группы советских эмиссаров, состоявшей в основном из лиц бурятско-калмыцкого происхождения. Поэтому Г. В. Чичерин благоразумно уклонился от встречи с Нага Навеном, и последний спустя некоторое время выехал из России. А. А. Кондиайн об этом тибетце рассказывал следующее:
«В 1923–25 гг. в Ленинграде в здании Тибетской миссии (в Новой Деревне) проживал представитель центра Шамбала — некто Нага-Наван. Барченко имел с ним регулярные встречи в Тибетской миссии и у меня на квартире (Малая Посадская, 9/2, кв. 49). Нага-Наван предпринял ряд поездок по Союзу и в 1925 г. уехал в Китай — выехал работать в китайскую армию в качестве инспектора по заданию Центра»[162].
Еще одним «эмиссаром Шамбалы» в России являлся Хаян-Хирва — личность довольно темная. Член ЦК МНРП, он занимал в Монголии в то время весьма ответственный пост начальника Государственной Внутренней Охраны (монгольский аналог ГПУ). По словам А. В. Барченко, Хаян-Хирва, узнав от дацанских лам о том, что он «разрабатывает систему Дюнхор», явился на квартиру Кондиайнов в Петрограде (где А. В. Барченко проживал со своей семьей). О себе заявил, что хотя сам не является авторитетом в этой системе, но имеет о ней конкретное представление. Впоследствии он неоднократно встречался с Барченко в Москве и там же связался с Нага Навеном[163], что недвусмысленно говорит о том, что монгольский чекист проявлял определенный интерес к обоим.
В общежитии при буддийском храме летом 1923 г. проживало немало и других лиц, гораздо более сведущих в науке Дюнхор, чем Нага Навен и Хаян Хирва. Например, уже известный нам Хамбо Агван Доржиев, глава Тибетской миссии в СССР, и его заместители бурятский лама Бадма-Намжил Очиров и калмыкский «гелонг», в прошлом личный секретарь Далай-ламы, Лувсан Шараб Тепкин (Тебкин). Оба они обучались в Лхасе около 12 лет и имели высшую ученую степень «лхарамба», так же, как и сам Доржиев. В Россию Очиров и Тепкин вернулись осенью 1922 г. вместе с «разведывательной экспедицией» Василия Хомутникова (отправленной Наркоминделом совместно с Коминтерном в Тибет годом ранее для восстановления отношений с этой страной) и были затем зачислены Доржиевым в штат сотрудников Тибетской миссии. Лувсан Тепкин, между прочим, будет избран в 1925 г. Шажин-ламой — главой буддийской церкви Калмыкии, фактически последним перед ее разгромом в начале 1930-х[164].
А. В. Барченко, впрочем, на допросе в 1937-м, говоря о своем проживании в «ламаистском дацане» в Ленинграде, назвал имена лишь двух лам, с которыми он завязал «непосредственные отношения», — Агвана Доржиева и некоего Джигмата Доржи. Речь, по-видимому, идет о ламе Ацагатского дацана, буряте Джигме Доржи Бардуеве, также получившем высшее богословское образование в Лхасе. Этот лама вскоре снова отправился в Тибет, на этот раз в составе секретной советской экспедиции в качестве переводчика и связного С. С. Борисова.
Встреча А. В. Барченко с еще одним учителем, костромским крестьянином Михаилом Кругловым, произошла чуть позднее, весной 1924-м. Круглов вместе с несколькими членами одной из сект «искателей Беловодья» пришел пешком в Москву, где и познакомился с Барченко, по-видимому, совершенно случайно в одной из ночлежек. (А. В. Барченко во время поездок в столицу обыкновенно останавливался не в гостиницах, а в ночлежных домах, поскольку там можно было встретить очень интересных людей.) В письме бурятскому ученому Гомбожабу Цыбикову А. В. Барченко рассказывал об этой встрече так:
«Эти люди значительно старше меня по возрасту и, насколько я могу оценить, более меня компетентны в самой универсальной науке и в оценке современного международного положения. Выйдя из Костромских лесов в форме простых юродивых (нищих), якобы безвредных помешанных, они проникли в Москву и отыскали меня, служившего тогда (в 1923–24 гг.) в качестве научного сотрудника Главнауки.
Посланный от этих людей под видом сумасшедшего произносил на площадях проповеди, которых никто не понимал, и привлекал внимание людей странным костюмом и идеограммами, которые он с собой носил»[165].
Михаила Круглова, как рассказывает далее А. В. Барченко, несколько раз арестовывали — «сажали в ГПУ, в сумасшедшие дома». Однако, убедившись, что его «безумие» вполне безвредно, отпускали на свободу. В этом же письме Г. Ц. Цыбикову А. В. Барченко часто использует две из кругловских идеограмм. В одной из них легко угадывается написанное искаженным тибетским курсивом слово «дуйнхор», за которым следует мистический треугольник с точкой посредине. Другая идеограмма соответствует по смыслу слову «Шамбала». (Отметим попутно, что загадочные идеограммы М. Круглова, по-видимому, и послужили предметом специального идеографического исследования С. П. Шандаровского.)
Круглов затем несколько раз приезжал к А. В. Барченко в Ленинград. Вот как вспоминала об этом Э. М. Кондиайн:
«Явился к нам как-то пешком из Костромской обл[асти] мужик, Круглов Михаил Трофимыч. Неизвестно как он прослышал про Ал. Вас-а. Принес он целую кучу совершенно необычных изделий из дерева, обклеенных цветной бумагой, разными геом[етрическими] фигурами, знаками и надписями. Там была шестигранная корона, которую Михаил Трофимович надевал, в руку брал скипетр и всякие другие атрибуты, был у него и небольшой гробик.
Говорил он скороговоркой стихами, которые тут же слагал. Он жил у нас раза два недели по две и был совершенно нормальный. Бывал он в Москве в психиатрической б[ольни]це. Своим бормотанием и дерзкими выходками перед врачами и аудиторией студентов, где его демонстрировали как умалишенного, он очень ловко имитировал больного. А был он самый нормальный человек, только что говорил часто стихами. Один древний старик в Костроме научил его изготовлять эти свои изделия, а быть может, он их у него похитил. Вид у вещей был старый. И велел-де ему старец носить эти вещи и показывать людям и всегда ходить пешком.
В психиатрическую б[ольни]цу он приходил, как на постоялый двор. Его там всегда охотно принимали.
Его стихи я, к сожалению, забыла.
В памяти сохранились лишь две забавные строчки:
Реет знамя трудовое
над советскою страною
и
Все мы тут померим
и все мы тут поверим»[166].
Учителем М. Круглова Э. М. Кондиайн называет известного костромского старца Никитина. О его смерти в 1925 г., между прочим, сообщил Н. К. Рерих в книге о своем большом центральноазиатском путешествии («Сердце Азии»): «Совсем недавно в Костроме умер старый монах, который, как оказывается, давно ходил в Индию, на Гималаи. Среди его имущества была найдена рукопись со многими указаниями об учении махатм. Это показывало, что монах был знаком с этими, обычно охраняемыми в тайне вопросами»[167].
12. Коммуна на улице Красных Зорь
В конце 1923 г. — после создания ЕТБ — А. В. Барченко поселился на квартире у Кондиайнов в доме на углу улицы Красных Зорь (Каменоостровский проспект) и Малой Пасадской (дом 9/2). Это здание, построенное архитектором М. С. Лялевичем в стиле неоренессанса, находилось прямо напротив увеселительного сада «Аквариум», на месте которого вскоре возникнет киностудия «Ленфильм». Вместе с А. В. Барченко здесь разместилась и его «большая семья» — жены Наталья и Ольга, а также ученицы Юля Струтинская и Лида Шишелова-Маркова. В той же квартире со счастливым номером 49 нашли временный приют еще два человека: Ф. Е. Месмахер — двоюродный брат Э. М. Кондиайн, возвратившийся в 1923 г. из Бухары, где воевал с басмачами, а затем занимал какой-то ответственный пост в большевистском правительстве, и осенью 1924 г. подруга Э. М. Кондиайн Татьяна Александровна Спендиарова, дочь известного композитора А. А. Спендиарова, в будущем поэтесса и переводчица. (В доме Спендиаровых в Судаке Э. М. останавливалась летом 24-го и тогда же подружилась с дочерью композитора Татьяной.) Таким образом, в конце 1924 г. в трехкомнатной квартире Кондиайнов проживало десять человек, включая их малолетнего сына Олега.
В этой добровольной «коммуналке», ставшей штаб-квартирой ЕТБ, происходило много интересного. Сюда, чтобы встретиться с А. В. Барченко, приходили именитые ученые, такие как В. М. Бехтерев и В. П. Кашкадамов, его восточные «учителя» Хаян-Хирва и Нага Навен, патронировавшие братство бывшие чекисты (или «чекушники», как их иронично называла Э. М. Кондиайн) с К. К. Владимировым во главе, учащаяся молодежь и множество другого народа. Так, однажды в квартире появилась балерина-любительница, удивившая всех своими «планетными танцами». Облачившись в легкую тунику на греческий манер, босиком, она стала изображать «планетные знаки». Особенно выразительно танцовщица представила солнце, скрестив над головой руки и растопырив веером пальцы.
Жили обитатели этой необычной квартиры — адепты Древней науки — в каком-то своем особом мире — «прекрасном и яростном», где невероятное прошлое сталкивалось и переплеталось с еще более невероятным настоящим, охваченные единым порывом, ощущением ритмов совершенной космической гармонии, с верой в счастливое светлое будущее. Их жизнь с внешней стороны была предельно аскетична. Всю дорогую мебель, доставшуюся Э. М. Кондиайн по наследству от родителей, она отдала своим теткам. Кондиайны оставили себе только чертежный стол М. Г. Месмахера, несколько стульев, две железные кровати из людской и пианино. Однако кровати и два венских стула вскоре отнесли на толкучку и стали спать прямо на полу на матрацах. А затем, когда потребовались деньги на поездку в Крым, чтобы подлечить больную ногу Э. М. Кондиайн, продали и пианино. Когда у Кондиайнов поселился А. В. Барченко, он смастерил деревянные лавки, полки и столик для работы. Себе с женой А. В. Барченко сколотил топчан. Остальные спали на полу на войлоках. Впрочем, подобный аскетизм был вполне в духе времени и потому никого особенно не тяготил.
Единственной собственностью А. В. Барченко, по воспоминанию Э. М. Кондиайн, были книги, готовальня и пишущая машинка, на которой Юля Струтинская печатала его научные труды. «Ходил он в старом полушубке, туго подпоясанном ремнем, старой офицерской фуражке без кокарды, и в хороших хромовых сапогах, всегда идеально начищенных». Обручальные кольца — свое собственное и жены Ольги — А. В. Барченко «отдал в ночлежку на покупку гостинцев для ребят на елку». Вообще А. В. Барченко часто заглядывал в городские ночлежки — каждый год беспризорным детям «устраивал елку с гостинцем». Э. М. Кондиайн рассказывала, что ее муж и А. В. Барченко постоянно приводили с улицы беспризорников и оставляли на какое-то время у себя, в квартире-коммуне. Потом питерских гаврошей устраивали в детдом или в интернат.
«Мы жили одной семьей или, вернее, коммуной. У нас все было общее. Мы, женщины, дежурили по хозяйству по очереди по неделе. За столом часто разбирали поведение того или другого, его ошибки, дурные поступки. В начале мне трудно было к этому привыкнуть, но, привыкнув, поняла, как это хорошо, какое получаешь облегчение, когда перед дружеским коллективом сознаешься в своем проступке.
По вечерам за столом А. В. иногда читал нам стихи Некрасова, Пушкина, Есенина, Ал. Блока, Жизнь Джордано Бруно, Ганди. Любил он и умел рассказывать анекдоты. <…>
Один раз он посвятил нас в розенкрейцеры без всякой таинственности и мистики»[168].
Э. М. Кондиайн также упоминает о застольных беседах А. В. Барченко. Темы их были самые разные — гипноз, телепатия, спиритизм, хиромантия, теософия, политика, астрономия, медицина. «Делали мы и опыты по передаче коллективной мысли. Один раз мы произвели спиритический сеанс, устроили цепь вокруг легкого деревянного столика. Он (стол) сначала стукнул ножкой, потом поднялся, т[ак] ч[то] мы все вынуждены были встать и поднять руки до уровня головы. А. В. разомкнул цепь и стол упал на пол на свои ножки». Сеанс этот — «при дневном свете» — по всей видимости был устроен Барченко, чтобы показать, что в спиритизме нет никакой мистики. Будучи убежденным материалистом, А. В. объяснял «спиритические явления» тем, что при сцеплении рук образуется замкнутая электромагнитная цепь. «Каждый человек носит в себе электромагнитный заряд. Одна половина тела носит положительный, а другая отрицательный заряд. Электромагнитный заряд нарушает силу притяжения земли. Предмет, окруженный цепью, теряет свой вес. Самые слабые импульсы человека могут его сдвинуть. Так начинает двигаться блюдечко»[169].
Что же касается ответов на вопросы, якобы получаемых из потустороннего мира, то их, по убеждению А. В. Барченко, дают не духи умерших людей, а подсознание самих участвующих в спиритическом сеансе. Концентрируя свое внимание на каком-то одном предмете, люди усыпляют сознание и тем самым пробуждают подсознание.
Здесь же, в квартире Кондиайнов, А. В. Барченко в конце 1923 г. оборудовал специальную лабораторию, по образцу той, в которой он в 1911 г. ставил опыты с N-лучами. «У нас в квартире был темный коридор, рассказывает Э. М. Кондиайн. В нем А. В. огородил фанерой лабораторию с полками. Все было выкрашено черной клеевой краской»[170]. В этой «черной лаборатории» ученые производили всевозможные опыты, в том числе и телепатические, по усовершенствованной А. В. Барченко методике. Тамиил фотографировал их результаты — появлявшиеся на экране мыслеформы в виде различных фигур, и затем изготавливал черно-белые и цветные диапозитивы.
Постоянными гостями квартиры-коммуны, как уже говорилось, были «чекушники» — К. К. Владимиров, Рикс и Отто. В спиритических сеансах и прочих «опытах» они, однако, участия не принимали, предпочитая наблюдать за происходящим со стороны. В 1923 г. к этой троице присоединился еще один бывший сотрудник Петрочека — Карл Федорович Шварц («Карлуша»), у которого в дальнейшем установятся теплые дружеские отношения с обоими учеными.
О. А. Кондиайн (сын А. А. Кондиайна) вспоминает это время в таких словах: «Широкоплечий, довольно высокого роста, с копной седеющих волос и неизменным пенсне на носу, Барченко был прирожденным лидером, и все беспрекословно подчинялись ему… Он часто уезжал от нас, а когда возвращался, сразу же начинал наводить порядок. Распределял обязанности — устанавливал часы для работы, для отдыха, для бесед — все это было жестко регламентировано. Он требовал от всех неукоснительного соблюдения распорядка дня». В этой строгости, однако, можно усмотреть некий общий принцип: стремление гармонизировать жизненные ритмы человека с ритмами Природы и Космоса.
Назвав свое братство трудовым, Барченко с самого начала стремился вовлечь его членов в полезную трудовую деятельность, поскольку считал труд мощным средством нравственного совершенствования, наиболее эффективным способом достижения человеком «внутренней собранности и гармоничности». В этом он, очевидно, следовал примеру «трудового содружества» Г. И. Гурджиева. Э. М. Кондиайн вспоминала об этом периоде:
«Время было трудное во всех отношениях. И А. В. Барченко решил нас, женщин, научить ткацкому ремеслу. Мы несколько раз ходили к одной частной ткачихе. У нее дома был ткацкий станок. Она нас познакомила с этим искусством. Но купить станок нам не удалось. Дело заглохло».
Пробовали женщины, опять же по подсказке А. В. Барченко, заниматься и швейным делом, для чего поступили на курсы кройки и шитья. Правда, и здесь дело как-то не заладилось, и в конце концов на курсах осталась лишь одна Наталья. Учил Барченко своих учеников и учениц и плотницкому делу — работать топором и рубанком, поскольку сам был отличным плотником. По его совету Кондиайны купили впоследствии своему сыну маленький верстак. (Любопытная параллель: в это же самое время созданная Г. И. Гурджиевым интернациональная воспитательно-трудовая коммуна самоотверженно трудилась на землях Авонского замка в окрестностях Фонтенбло.)
13. Универсальная Схема
Почти полвека спустя, пройдя через лагеря и ссылку — горький опыт большой Советской Коммуны, — Э. М. Кондиайн, вспоминая годы, проведенные в обществе А. В. Барченко, скажет: «Это было удивительное время ежедневных великих открытий!» Именно так воспринималась друзьями и сподвижниками А. В. Барченко его работа, которой он самозабвенно отдавался вместе с Тамиилом. Ученый беспрестанно генерировал идеи — невероятные, парадоксальные, ломающие рамки сложившейся научной парадигмы, увлекая ими окружающих, и его преданный помощник тут же начинал подкреплять их точными математическими расчетами и выкладками. Эта лихорадочная работа двух энтузиастов представляла собой странное, кажущееся совершенно невозможным, соединение строгой, позитивной науки и эзотерических знаний.
«Оба они работали над тем, чтобы проверить и подтвердить достижениями современной науки положения и универсальные законы Древней Науки. Их исследования распространялись на все области науки и искусств: астрономию, химию, физику, минералогию, геологию, медицину, биологию, ботанику, архитектуру, историю, теорию музыки, морских и воздушных течений. Всюду применялась Универсальная Схема»[171].
В записках Э. М. Универсальная Схема (далее УС) упоминается довольно часто. С ее помощью А. В. Барченко и А. В. Кондиайн, как уже говорилось выше, определили на глобусе местоположение центров «доисторической культуры». Эту же схему они «наложили» на рисунок внутренних органов человека и выявили их связь с определенными минералами и металлами. При «наложении» УС на снимок фасада Реймского собора выяснилось, что-схема была хорошо известна средневековым зодчим в Западной Европе, но ее также знали и строители русских православных соборов. Элементы все той же УС, как мы помним, А. В. Барченко и П. С. Шандаровский обнаружили и в «геометрических» орнаментах восточных ковров. Но что такое эта загадочная Универсальная схема?
Речь, по-видимому, идет об «Археометре» Сент-Ива — мистической диаграмме, представляющей собой «ключ ко всем религиям и наукам древности, а также к универсальной религии и универсальной науке»[172]. Археометр, или «археометрическая планисфера», это некое устройство, состоящее из подвижных концентрических окружностей, в которые вписаны различные «элементы соответствий» — буквы древних алфавитов, ноты, цвета, знаки планет и другие символы. (В записках Э. М. Кондиайн читаем: «Вычертили и вырезали из картона с Тамиилом вращающуюся Универсальную Схему».) Над созданием этого загадочного инструмента — ключа к «синтетическим знаниям» древних — Сент-Ив трудился около 15 лет, почти до конца 1890-х. Археометр появился на свет, по мнению одного из биографов Сент-Ива Ж. Годвина, в результате шести откровений, полученных досточтимым мэтром оккультизма в разное время. Так, индийский гуру Харджи Шариф, обучавший Сент-Ива санскриту, открыл ему алфавит универсального языка «ваттан», происходящего из Агарты. Другим источником тайных знаний для мистика послужила душа умершей в 1895 г. супруги, графини Мари-Виктуар Келлер. Смерть любимой жены настолько потрясла Сент-Ива, что, как рассказывают, он устроил в ее комнате маленькую часовню, где неистово молился и где ему являлась в видениях усопшая. В 1897 г. в день Пасхи Сент-Ив «получил» от своего «Ангела Света», как он называл Мари-Виктуар, некую «Таблицу соответствий», названную им по начальной строке одного из библейских псалмов «Coeli enarrant» («Небеса проповедуют…»). Эта таблица и другие «откровенные» знания и легли в основу Археометра. 26 сентября 1900 г. ученик Сент-Ива, знаменитый французский оккультист и глава мартинистского ордена Жерар Энкосс (Папюс), произвел публичную демонстрацию Археометра на Международном конгрессе спиритов и спиритуалистов в Париже. Папюс же после смерти учителя в 1909 г. взял на себя труд и по изданию трактата об «Археометре» (1911–1912)[173]. Напечатанная книга, однако, не являлась законченным произведением, но представляла собой компиляцию фрагментов, обнаруженных в архиве Сент-Ива. Состояла она из 3 частей: обширного теоретического введения с подзаголовком «Истинная мудрость», подробного описания Археометра и раздела, посвященного его оперативному применению.
Говоря об истории создания этого «инструмента», нельзя не упомянуть его «предшественников», наиболее известными из которых являются «Ars combinatoria» (Соединение искусств) Раймунда Луллия, астрологические сферы Гийома де Карпентра, «Прогнометр» Вронского и планиметрическую сферу Адольфа Бертэ. Эти более ранние универсальные схемы, возможно, и вдохновили Сент-Ива на создание собственного «ключа» к эзотерическим знаниям древних. Здесь, однако, необходимо сделать небольшое отступление, чтобы чуть ближе познакомить читателя с жизнью и творчеством одного из крупнейших европейских оккультистов и мыслителей конца XIX — начала XX вв.
Александр Сент-Ив (1842–1909) родился и вырос в католической семье. Недовольство традиционной системой образования довольно рано привело его к конфликту со своим окружением. Мировозрение юноши сформировалось в основном под влиянием одного из его наставников — католика Фредерика де Метца. После недолгой службы в морском флоте в Бресте Сент-Ив поселился на англо-нормандских островах. Здесь он посещал общество иллюминатов, где участвовал в спиритических сеансах вместе с Виктором Гюго. Сюда, привлекаемый славой Гюго, часто наведывался и сам де Метц, который внушил своему питомцу мысль о необходимости вернуть Франции утраченный «социальный завет». К этому же периоду относится и знакомство Сент-Ива с трудами знаменитого эзотерика-каббалиста Фабра д'Оливе, в том числе с его монументальным сочинением — «Восстановленный еврейский язык» (La langue hebraique restituee), раскрывающим сакральные основы древне-еврейского языка.
После разгрома Парижской Коммуны в 1871 г. Сент-Ив поселился в Париже, где поступил на службу в Министерство внутренних дел. Издал несколько сборников своих стихов, которые, впрочем, не принесли ему поэтической славы. В 1877 г. в Лондоне Сент-Ив вступил в брак с 50-летней русской графиней Марией Викторовной Келлер (ур. Ризнич). Это событие стало переломным в жизни мелкого чиновника и неудачливого поэта. Оставив службу, Сент-Ив купил в Италии титул маркиза д'Альвейдра и занялся социально-эзотерическими исканиями и литературным творчеством. Около 1880 г. он получил от своих индийских гуру посвящение в некое тайное знание. Вскоре после этого одна за другой были опубликованы пять книг его знаменитых «миссий»: Миссия соверенов (1882), Миссия рабочих (1883), Миссия евреев (1884), Миссия Индии в Европе (1886) и Миссия французов (1887). В этих книгах Сент-Ив д'Альвейдр пытался раскрыть сокровенный смысл «иудео-христианского социального Закона» — Закона Синархии — и изложил с точки зрения синархических критериев всю историю нашей цивилизации — от времен Рама до конца XIX столетия. По сути, это была попытка воссоздать строго иерархическую «социально-религиозную» (синархическую) форму правления, якобы существовавшую изначально на земле. Свое учение об идеальном государстве Синархии Сент-Ив создал под влиянием как западной оккультной традиции (Фабр д'Оливе), так и восточного мистицизма (каббала, индуизм). Среди его восточных учителей исследователи чаще всего называют индийцев Риши Бхагвандас-Раджи-Шрина и Харджи Шарифа (последнего, впрочем, П. Невиль, как об этом говорится в предисловии, считал «афганским принцем»).
Самое значительное произведение Сент-Ива, дающее ключ к пониманию концепции Синархии — это, безусловно, «Миссия евреев». В этой книге, как уже отмечалось, излагается сакральная история человечества, охватывающая 86 веков, в течение которых Закон Синархии передавался по невидимой цепочке, через посвященных адептов, от индусов к египтянам, от египтян к евреям и от евреев к христианским народам. Это история великой синархической Империи Овна (l'Empire du Belier), основанной Рамом (Ram) 7500 лет до н. э. и просуществовавшей приблизительно 3500 лет. Здесь же мы находим теорию 4 рас в специфической трактовке Сент-Ива, концепцию циклического развития земных цивилизаций и, что особенно важно для нас, учение о Древней Науке — т. е. фактически весь тот комплекс идей, который несколько десятилетий спустя А. В. Барченко положит в основу своей системы «Дюнхор». Первые 4 главы этого весьма объемистого трактата посвящены изложению общих принципов устройства вселенной и научного познания древних народов. Сент-Ив с самого начала проводит различие между наукой современной, принадлежащей к «ионийской эволютивной Традиции», и Ветхим Заветом — т. е. Древней наукой, опирающейся на «дорийскую инволютивную Традицию». Обе эти традиции по своей сути полярны: первая олицетворяет собой пассивный, лунный женский «полюс», или принцип, вторая — «полюс» мужской, активный и солярный. Современная наука, исходя из эволютивного принципа, прилежно дробит единое целое физических и естественных научных знаний; Ветхий Завет был девалоризирован его переводчиками и толкователями, донесшими до нас не истинный дух сакральных текстов, но мертвую букву. В результате ионийская и дорийская традиции превратились в непримиримых антагонистов, тогда как в действительности они являются двумя аспектами единого Откровения, единой истинной Науки. Французский мистик далее рисует следующую трехчастную «пирамиду знания»: в ее основании лежат научные «факты»; координация между собой «всей номенклатуры научных фактов» дает «законы» — их он помещает в средней части пирамиды. И факты, и законы относятся к сфере «чувственного мира» (мир Субстанции), где они образуют первые две степени овладения Истиной. Над ними, в верхней части пирамиды, находятся «принципы», относящиеся к «сверхчувственному миру» (мир Сущности). Таким образом, Сущность (Essence) и Субстанция (Substance) составляют «два аспекта» истинного знания о природе вещей, Науки с большой буквы. С помощью естественных наук (sciences naturelles) человек познает материальный, чувственный мир, тогда как божественные науки (sciences divines) открывают перед ним врата в мир сверхчувственный, трансцендентный. При этом Сент-Ив подчеркивает, что во Вселенной и на Земле «субстанция — пластичная, доступная нашему чувственному восприятию, ничтожна мала, почти равна нулю, по сравнению с Живым Пространством, заключающим ее в себе»[174].
Вполне естественно, что Сент-Ива, как и других эзотериков, интересует прежде всего «мир сверхчувственный» — мир Сущности. Истинное знание, утверждает он в своем главном труде, было передано роду человеческому библейским Моисеем и Иисусом, которых он называет «высшими авторитетами иудео-христианского социального государства». Моисей, обучавшийся у жрецов в храмах Египта и Эфиопии, приобщился, посредством высшей инициации, к «древнейшей научной традиции», которая тайно передавалась от одного посвященного к другому на протяжении многих циклов времени. Полученное им знание заключено в четырех буквах божественного имени («шемот») ЙЕВЕ (йот, хе, вау, хе), означающих четырехступенчатую иерархию наук — о Боге (теогония), вселенной (космогония), человеке (андрогония) и земле (физиогония). Это мистический тетраграмматон («четырехбуквенник»), наиболее священный древнееврейский символ, представляющий собой соединение герметического креста в виде буквы X и четырех «иероглифов» шемота, символизирующих синтез основных знаний герметизма. Добавим здесь от себя, что Тетраграмматон в обыденной жизни заменял собой шемот ЙЕВЕ, ибо божественное имя почиталось древними евреями настолько священным, что произносить его разрешалось только посвященным во время заклинаний. Эта сокровенная формула истинного знания, согласно Сент-Иву, выражает собой идею единства двойственных сил мироздания — вечного мужского и женского, духа и души, сущности и формы, безграничного времени и беспредельного пространства, Ишвары и Пракрита, Осириса и Исиды.
Все древние религии, в том числе и христианство, по учению Сент-Ива, вышли из инициатических центров, являвшихся своего рода «корпорациями» ученых. Наиболее сведущие из их членов — храмовые жрецы — владели названной выше «четырехступенчатой иерархией наук». «В древних храмах изучение делимой Субстанции, которую мы неточно называем материей», пишет Сент-Ив, «было доведено до едва вообразимого сегодня уровня». Все более и более углубляя свои исследования, ученые жрецы пришли постепенно к постижению неделимой Субстанции и чистого Духа, идентичных понятию Бога. Они проникли в тайные глубины «космогонических Сил, Могуществ, Сущностей и Принципов». Жреческая корпорация являлась высшей «социальной властью» в синархических государствах древности; две другие, более низкие ступени властной иерархии занимали посвященные миряне и главы семейств, как мужчины так и женщины.
Моисей записал герметически полученное им сокровенное знание в своей «Космогонии» (библейская книга «Бытия»), созданной по египетскому образцу. Эта книга является основой для «полного восстановления Истины» (reedification totale du Vrai) и тем краеугольном камнем, на котором покоятся Десять заповедей, откровения Пророков, Евангелия, Талмуд и Коран. Отметим, кстати, что пользуясь Археометром, Сент-Ив впоследствии сделал новые — «истинные» — переводы моисеевой «Книги Принципа» и «Евангелия от Иоанна», которые были опубликованы вскоре после его смерти[175].
В подтверждение своего тезиса о существовании в синархическом «Социальном Государстве» (l'Etat Social) высокоразвитой универсальной Науки, Сент-Ив ссылается на различные древние письменные источники и памятники изобразительного искусства. Вот некоторые из приведенных им примеров. Храмы Юноны в древнем Риме и храмы Геры в Греции были оснащены «целой системой громоотводов» (изображения которых можно увидеть на римских и греческих медалях). Строитель храма Святой Софии в Константинополе Антем де Траль «пользовался электричеством огромной мощности» (ссылка на Agathias, De Rebus Justin, кн. 5, гл. 4). Древние знали, утверждает Сент-Ив, о вращении земли вокруг солнца, о законах всемирного тяготения и морских приливов. Они умели пользоваться телескопом, микроскопом и маятником. Они открыли применение камеры обскуры и оптических устройств. Им были известны способы обработки металлов и стекла. И т. д. и т. п.
«Древние» — это, по определению Сент-Ива, представители многих, последовательно сменявших друг друга на земле цивилизаций, предшествовавших появлению нынешней (пост-рамидской) цивилизации. Почему их знания не сохранились до нашего времени, спрашивает он, и почему мы обретаем их вновь столь медленно и трудно? Исчезновение совершенной Древней науки Сент-Ив объясняет тремя причинами: во-первых, апокалипсической гибелью цивилизаций в результате геопланетарных катастроф, вроде всемирного потопа, или неправильного использования древними своих открытий; во-вторых, уничтожением многих ценнейших древних документов варварами и инквизицией; и, в третьих, умышленным сокрытием «синтеза своих знаний» древними корпорациями ученых в священных текстах, символических легендах, геометрических чертежах, с тем, чтобы в будущем ими могли воспользоваться достойные представители новой духовной элиты, достигшие определенной — достаточно высокой — степени эволюции.
О том, в какой степени А. В. Барченко воспользовался идеями Сент-Ива, отчасти позволяет судить бегло пересказанное Э. М. Кондиайн содержание его лекции о Древней науке, прочитанной в Петрограде в 1918 г.
В глубочайшей древности, приблизительно 56 тысяч лет тому назад (!), на земле существовала высокоразвитая культура. (В «Миссии Индии» Сент-Ив говорит о 556 веках эволюции человечества, начиная отсчет с эпохи мифологического прародителя людей Ману.) Эта культура обладала синтетической наукой, которая коренным образом отличается от науки современной, аналитической. Различие это состоит в том, что нынешняя наука ищет Истину аналитическим путем, двигаясь «от периферии к центру» (т. е. к Истине), наблюдая и анализируя все многообразие фактов и явлений окружающего мира. Недостатком такой науки является ее раздробленность по причине чрезмерной специализации, в то время как все в мире взаимосвязано и подчиняется единым законам. Древняя же наука (далее ДН), напротив, изначально обладала Истиной — «Универсальным Единым Законом», по которому построено все — от мельчайшего атома до огромной вселенной, и потому двигалась в своем развитии от Центра к периферии. К изучению ДН допускались не все, а лишь люди, обладавшие высокой нравственностью.
Древние ученые, предвидя глобальные катаклизмы на земле в будущем, вроде всемирного потопа, и в то же время опасаясь, что их познания могут быть использованы потомками во зло людям, вплоть до полного уничтожения человечества и самой планеты, «зашифровали» и «законспирировали» ДН. Сделали они это для того, чтобы ее достижения сохранились в веках и в нужный момент могли быть востребованы — «расшифрованы» будущими поколениями. И еще одна важная деталь: несмотря на высокоразвитую науку, доисторическая культура имела довольно примитивный уровень техники, из чего можно заключить, что развитие земной цивилизации первоначально шло по нетехнократическому пути.
Следы Древней Науки, по мнению А. В. Барченко, следовало искать прежде всего в священных религиозных книгах (таких, как Библия), картах (карты Таро) и «каменных библиотеках» — различных наскальных надписях и символах[176].
Рассказ А. В. Барченко, как можно видеть, вполне согласуется с основной концепцией Сент-Ива, изложенной в его трактате «Миссия евреев». Любопытно, что даже термин «Древняя наука» является не собственным изобретением А. В. Барченко, а калькой с французского «Science antique».
Но вернемся к Археометру и рассмотрим «устройство» этого загадочного инструмента чуть подробнее. В самом центре диаграммы изображен круг, вписанный в 4 пересекающихся равносторонних малых треугольника, составляющих две Звезды Давида — вертикальную и горизонтальную. Их 12 окрашенных в разные цвета вершин образуют следующий круг. Далее идут круги: планетарных символов, зодиакальных знаков, музыкальных нот — по 12 в каждом, круг 12 вершин больших треугольников и, наконец, последний внешний круг, разбитый на 12 секторов по числу зодиакальных домов, обозначенных цветными щитами. В вершины больших треугольников и в щиты вписаны причудливые буквы ваттанского алфавита (так называемые «морфологические» и «адамические» буквы), рядом с которыми проставлены их числовые значения и буквенные эквиваленты в других древних языках (ассирийский, древнесирийский, халдейский, самаритянский, латинский). Все круги кроме центрального — подвижные.
Чтобы пользоваться Археометром, необходимо знать числовую символику, поскольку в эзотерической науке числа и связанные с ними геометрические фигуры исполнены глубоким религиозно-философским смыслом.
Число 3 или тернер (его имя) — число основных цветов (желтый, красный, голубой) — представляет основу астрального и звездного творения.
Число 4 или кватернер — число малых и больших треугольников — управляет восстановлением и возрождением.
Число 7 (4+3) или септенер — число концентрических окружностей — атрибут Духа.
Число 9 (3 в кубе) или новенер — число дополнительных цветов — управляет разложением.
Число 12 (4 помноженное на 3) или дуоденер — число зодиакальных домов — представляет собой Вселенную и Вечность.
В Археометре также заложены два фундаментальных хронологических принципа: линейное время, лежащее в основе поступательного движения истории (изображается в виде прямой линии), и время циклическое — символ «вечного возвращения» (традиционно ассоциируется с окружностью). Кроме этого, каждый зодиакальный дом соотносится с определенным «домом времени года» (по два месяца в каждом). Это дает возможность для разного рода хронологических исчислений, включая прогнозирование будущих событий.
Каково истинное назначение Археометра? Не является ли он всего лишь «игрой ума» — разновидностью столь блестяще описанной Германом Гессе интеллектуальной «Игры в бисер»? Или, быть может, это «инициатический ключ, способный открыть врата Великих Мистерий», как предполагает Ив-Фред Буассе, один из современных биографов и толкователей удивительного творения Сент-Ива?[177] В этом последнем смысле, по мнению Буассе, «археометрическая планисфера» может трактоваться как символическое изображение:
а) двух миров — Арка (область Солнца и Света, а также божественного Логоса — нота «ми») и Метра (круги 5–1: области измерения пространства, времени, ощущений и т. д.);
б) трех миров — человеческого, ангельского и божественного, по учению розенкрейцеров;
в) четырех миров — эманации, творения, формирования и деяния, по учению Каббалы;
г) принципов Падения и Возрождения человека, по учению мартинезистов;
а также как «универсальная схема» (схема строения живой клетки или солнечной системы)[178].
Буассе в книге, специально посвященной изложению основ «археометрической науки», указывает на три главные области практического применения Археометра — это музыка, архитектура и астрология. При этом он отмечает, что Сент-Иву удалось дважды запатентовать свое «изобретение» — в 1903 в Париже и в 1904 в Лондоне — под видом музыкально-архитектурного «эталона»[179]. Но мы знаем также, что Сент-Ив использовал этот универсальный «ключ» для дешифровки ряда текстов Священного Писания.
Как и когда Археометр попал в руки А. В. Барченко, неизвестно. Естественнее всего предположить, что он получил «ключ к древним религиям и наукам» от кого-то из учеников Сент-Ива — французских или русских. В семье Кондиайнов сохранилось предание о том, что А. В. Барченко был посвящен в тайны Древней науки одним из ее адептов, то ли в России, то ли за границей, еще в пору своей молодости. Этот человек незадолго до смерти якобы и передал ему УС. Но кто был посвятитель Барченко? Может быть, уже упоминавшийся нами профессор Юрьевского университета С. А. Кривцов? Нельзя исключить и еще одной возможности: заинтригованный рассказом Кривцова об Агарте и желая получить сведения о загадочной гималайской стране из первых рук, Барченко отправился во Францию, где сблизился либо с самим Сент-Ивом, либо с кем-либо из его друзей-эзотериков, владевших Археометром. В письме Г. Цыбикову в 1927 г. А. В. Барченко между прочим писал, что занимается изучением «истории древнейшего естествознания» (Древней науки) около 18 лет, т. е. с 1909 г. Но именно в этом году и умер маркиз Сент-Ив д'Альвейдр!
В уже обсуждавшейся нами статье А. В. Барченко «Душа Природы», опубликованной в конце 1914, при внимательном чтении можно обнаружить отголоски некой универсальной эзотерической системы. Так, например, связь «музыкальных звуков с N-лучами» А. В. Барченко объясняет «законом созвучий»:
«В природе существует „закон созвучий“. Благодаря ему, резонатор Герца отзывается на искру вибратора; благодаря ему, одним камертоном можно заставить на расстоянии звучать другой такого же тона; благодаря ему, стоящие часы можно пустить в ход тиканьем идущих, а тяжелый маятник раскачать дыханием… Закон созвучий зиждется на том, что тело способно улавливать и воспроизводить колебания, на которые могут отозваться колебаниями же его частицы»[180].
«Закон созвучий», о котором пишет А. В. Барченко, аналогичен «Закону семи» или «Закону октав» в эзотерической системе Г. И. Гурджиева. По мнению знаменитого мистика все кажущееся многообразие явлений природы создается различными сочетаниями очень немногих «элементарных сил». Чтобы понять механику вселенной, следует разложить сложные явления, свести их к уровню элементарных. Так, наиболее фундаментальными законами, управляющими всеми процессами во вселенной, по этой теории являются законы «трех и семи сил», иначе «Закон триады» и «Закон октав». (Более подробно познакомиться с ними читатель может по книге П. Д. Успенского «В поисках чудесного».) Что касается «Закона октав», то он проявляется во всех видах колебаний (вибраций) — световых, тепловых, химических, магнитных, звуковых. «Чтобы понять смысл этого закона, говорил Г. И. Гурджиев, необходимо рассматривать вселенную как состоящую из вибраций. Эти вибрации происходят во всех видах, аспектах и плотностях материи, составляющих вселенную, от самых тонких до самых грубых ее проявлений; они исходят из разных источников и продолжаются в разных направлениях, пересекаясь друг с другом, сливаясь, усиливаясь, ослабевая, препятствуя друг другу и т. д.»[181].
Законы «трех и семи», по утверждению Г. И. Гурджиева, лежат в основе некой «универсальной схемы» или Эннеаграммы — синтеза всех знаний. Изображается Эннеаграмма в виде круга, разделенного прямыми линиями на 9 равных частей («эннеа» означает по-гречески 9)[182]. Этот символ позволяет «прочитать вечные законы вселенной» и потому является наиболее тайным, сокровенным. Хорошо известно, что эзотерическая наука широко пользуется числовым символизмом. (Связь чисел с другими знаковыми системами — геометрическими фигурами, буквами, знаками планет и т. д. — составляет предмет изучения символогии.) Следуя за Платоном и Пифагором, она рассматривает числа в качестве созерцаемых идей («эйдосов») и сил, выступающих посредниками между видимыми и невидимыми планами вселенной. Уже упоминавшийся нами Папюс считал Число «духовной сущностью» и утверждал, что его изучение является одной из важнейших задач для оккультиста. А Отто Шпенглер в своей знаменитой книге «Закат Европы» метко заметил: «Именами и числами человеческое понимание приобретает власть над миром»[183].
В своих записках Э. М. Кондиайн пыталась припомнить некогда услышанный от Барченко рассказ о происхождении Числа и Универсальной схемы:
«Была точка (.) Единица, но в ней уже заключалась полярность, т. е. Двойка (..) или линия (—). А раз существовали 2 точки, то и существовало отношение между ними, в буквальном смысле отношение. (…) — три (точки) — треугольник. Следующее число шесть, но как это объяснить не помню». (Э. М. рисует в тетради шестиконечную звезду в виде двух пересекающихся треугольников. В символике Каббалы эта фигура называется по разному — мистической гексаграммой, знаком макрокосма, Соломоновой печатью или Звездой Давида.) «Затем 4, а уже затем 5 (как не помню). Тут появляется жизнь и человек». (Э. М. в этом месте изобразила пятиконечную звезду — пентаграмму, в которую вписала человеческую фигурку.)[184]
По современным представлениям, вся живая природа, в том числе и человек, в отличие от природы неживой, имеет 5 осей симметрии, т. е. является «пентасистемой». Вот как пишет об этом А. Мартынов: «Наиболее популярная и гармоничная фигура — пятиконечная звезда. В этой фигуре соотношение всех отрезков есть „золотое“ соотношение. Человек — типичная пентасистема. Даже вирус, снятый недавно электронным микроскопом, имеет форму пятигранника. Я уже не говорю о морских звездах, цветах»[185].
Активно работать с УС А. В. Барченко начал лишь после того, как познакомился с Кондиайном. Но каким образом он, вернее, они вдвоем с Тамиилом «проверяли и подтверждали достижениями современной науки положения науки древней» остается загадкой. В записках Э. М. Кондиайн мы читаем: «(А. А.) вычерчивал У. Сх., размещая на ней планеты по их расстоянию от солнца, атомные веса элементов, звуковые колебания, световые колебания»[186]. Складывается впечатление, что ученые разработали какую-то свою «универсальную схему» на основе новейших научных знаний, по аналогии с Археометром Сент-Ива. С помощью этой Схемы А. В. Барченко и Тамиил пытались связать воедино все ритмические (колебательные) процессы в природе, все виды лучистой энергии. Схема раскрыла им смысл триады корреляционных связей: конфигурация планет — солнечная активность — проявление солнечной активности в земной биосфере, и вела к пониманию единого энергетического плана мироздания, то, чему по сути и была посвящена статья «Душа Природы». По словам Э. М. Кондиайн, А. В. Барченко давал ее мужу задания — «найти различные числовые данные: число световых и звуковых колебаний, атомные веса химических элементов, периоды солнечной активности. Сопоставлял все эти данные с планетными категориями. Картина получалась стройная»[187]. В другом месте своих «Записок» Э. М. пишет, что Тамиил собирал статистический материал о всевозможных явлениях природы — засухах, наводнениях, времени перелета птиц, эпидемиях, войнах, бунтах, революциях, совпадающих с солнечной активностью, на основе которого «вычерчивал диаграммы». Все это недвусмысленно говорит о том, что А. В. Барченко и А. А. Кондиайн занимались по существу той же научной проблемой, что и A. Л. Чижевский. Но в таком случае естественно напрашивается вопрос о возможных контактах между А. В. Барченко и А. А. Кондиайном с одной стороны и знаменитым основоположником гелиобиологии с другой. Тем более, что исследования А. В. Барченко и A. Л. Чижевского в 1924 г. велись под эгидой одного и того же учреждения — Главнауки, где они возглавляли соответственно биофизическую лабораторию (первый) и зоопсихологическую (второй). Однако, о существовании таких контактов нам пока что ничего не известно.
Пользуясь Универсальной Схемой А. В. Барченко и А. А. Кондиайн пытались также открывать еще неизвестные науке законы природы. Вот один из примеров: Тамиил расчертил поверхность земного шара «по универсальной схеме» и получил сетку из правильных пятиугольников — пентасистему. «По граням легли горные хребты; окружностям подчинились морские и воздушные течения. Некоторые точки указали на центры древней культуры». Так об этом рассказывает Э. М. Кондиайн. Но для науки того времени это было подлинным открытием. Смысл его помогает нам уяснить тот же А. Мартынов:
«Удивительным фактом является то, что наша планета — также пентасистема. По последним представлениям, Земля — это кристалл, имеющий форму додэкаэдра, вложенного в косаэдр. Наиболее близкой моделью земли является футбольный мяч, покрышка которого состоит из пятиугольников. Впервые эта гипотеза была высказана одним советским геологом в конце 20-х годов. По осям этого гипотетического кристалла должны концентрироваться полезные ископаемые, наблюдаться геофизические аномалии: может быть здесь прячется разгадка тайн Бермудского треугольника, расположение древних цивилизаций и т. п. И наконец, если Земля — пентасистема, она должна быть „живой“ в своем масштабе времени»[188].
С помощью УС А. В. Барченко пробовал даже прогнозировать будущие события, прежде всего различные земные катаклизмы, что может на первый взгляд показаться читателю совершенной мистикой. Как бы то ни было, в мае 1927 г. в Бахчисарае А. В. Барченко предсказал Крымское землетрясение, происшедшее несколько месяцев спустя. Тогда же, он сделал еще более поразительное предсказание — назвал дату начала «страшной войны» — великого столкновения цивилизаций Запада и Востока — 1936 год. (В этом году, как известно, началась итало-германская интервенция в Испании, послужившая прологом второй мировой войны.)
Наконец, следуя примеру Сент-Ива, А. В. Барченко и А. А. Кондиайн, пользуясь своей УС, пытались заняться «расшифровкой» Библии. Вот, например, как они «прочитали» библейскую историю о путешествии деда Иохаведы (мать Моисея) Иакова, о которой рассказывается в 1-й книге Моисеевой (кн. Бытия, 28:5, 10, 19; 29:1):
«На пути в страну среди рек (Месопотамию, по Библии — А. А.) к обитавшему в высокой земле и начавшему новый век после краснокожих (т. е. к арамеянину Иакову) пошел в дорогу, по которой шел отец Рама (т. е. в Харран). И пришел на место, которое было нечто иное, как Вавилон (Дом Божий, Врата Небес), откуда пошел в землю сынов Востока».
Как относиться к идеям Сент-Ива д'Альвейдра и Барченко, прежде всего к их концепции «универсальной Древней науки»? Надо сказать, что многие дошедшие до нас памятники древности (мегалитические обсерватории Стоунхенджа и Аркаима, египетские и индейские пирамиды, античные храмы и другие постройки, различные приспособления для счисления времени, как-то лунно-солнечные календари и т. д.)[189] действительно свидетельствуют о весьма высоком уровне знаний наших далеких предков. Так, исследования английского палеоастронома Александра Тома показали, что в эпоху конца неолита — начала бронзы северо-запад Европы покрывала целая сеть мегалитических обсерваторий для наблюдений как Солнца, так и Луны. Общепризнанным ныне считается и факт использования человеком верхнего палеолита (15 и более тысяч лет назад) разработанной календарной системы (лунно-солнечный календарь). В то же время древние располагали и обширными сведениями о корреляционных связях между планетными конфигурациями (солнечной активностью) и земными биологическими процессами. Б. М. Владимирский и Л. Д. Кисловский в своей работе «Археоастрономия и история культуры» даже допускают, что «эмпирические знания наших предков по проблеме космических влияний на биосферу были, вероятно, обширнее и глубже, чем наши»[190].
Еще более поразительными были познания древних в области «тонкого мира» — человеческой психики и биоэнергетики, к изучению которых европейская аналитическая наука приступила лишь в конце XIX века. Древние знали о телепатии, ясновидении и иных «психических феноменах» гораздо больше и лучше, чем мы сегодня. И не только знали, но и могли управлять сложнейшими психо-био-энергетическими процессами. В этом смысле нельзя не согласиться с выводом А. Мартынова о том, что знание, накопленное человечеством в прошлом, «вне рамок позитивисткой науки», совершенно выпало из поля зрения современного человека. Люди перестали понимать язык, на котором оно выражено. «Стало непонятным издревле существовавшее стремление связать дискретное с континуальным». Причины такого состояния современного знания, по мнению ученого, «кроются в чрезмерном превалировании логического мышления в процессе получения новых знаний, в то время как не может не удивлять, что на заре нашей цивилизации созвездие великих мыслителей смогло постичь именно континуальные сущности, используя в качестве основного канала постижения истины — интуитивный канал. Именно попытка континуального, интегрального осмысления современных дискретизированных знаний приводит к ясному ощущению, что эти выводы уже были сформулированы нашими великими предшественниками: просто человечеству свойственно не только приобретать новые знания, но и, значительно чаще, забывать старые, как только они начинают не укладываться в стереотип мышления, навязанный очередной социальной структурой»[191].
С помощью созерцательно-интуитивного метода (различного рода медитативных практик) древние смогли проникнуть за видимую, «субстанциальную» оболочку вещей и познать сверхчувственные, невидимые явления и «сущности», что позволило им создать (или «синтезировать», по Сент-Иву) гармонично-целостную картину мира, где все связано со всем — атом и галактика, человек и вселенная, картину, основательно раздробленную («дискретизированную») и фрагментированную позитивной «аналитической наукой». Это высшее, «космическое» видение мира было прекрасно выражено индийскими мудрецами-риши в философско-религиозных текстах «Упанишад».
С течением времени, в процессе формирования классовых обществ и государства, уникальные знания Древней науки концентрируются в руках жреческого сословия и становятся закрытыми для непосвященных — «герметизированными». Получить доступ к ним можно было лишь в храмовых школах под руководством жрецов. В древнем Египте такие школы назывались «домами жизни» («пер анх»). Здесь читались и переписывались священные тексты, хранились собрания папирусов самого разного содержания и проходило обучение различным наукам и искусствам — медицине, астрономии, математике, архитектуре и т. д. Здесь же учащимся давались и сокровенные эзотерические знания. «Герметичность этих знаний, как отмечает А. Мартынов, была столь велика, что до XIX века к парапсихологии относились как к мистике, а наука просто отмахивалась от фактов под тем предлогом, что этого не может быть»[192]. И действительно, мы знаем, что некоторые знания в течение длительного времени (столетий или даже тысячелетий) вообще не записывались, но передавались изустно от учителя к ученику, от посвященного к посвященному. Примером такого знания может служить древнеиндийская йога — «дисциплина духа», содержащая сведения о человеке и его интегральной психоэнергетической системе. Известно, что йогины, овладевшие в совершенстве этой дисциплиной, приобретают паранормальные — «сверхчеловеческие» с точки зрения обычного человека, способности, так называемые «сиддхи».
Источник этого знания — глубинный религиозный опыт человека, в основе которого лежат его трансперсональные («мистические») переживания, позволяющие выйти на иной, «более высокий» уровень сознания — «сверхсознание», или «расширенное сознание». Именно в таком состоянии, когда наш мозг работает в каком-то особом режиме, можно познать то, что недоступно для обычного сознания. Само слово «йога» означает на санскрите «соединение» — слияние с Высшим, с Абсолютом-Брахманом, или Богом. И в этом смысле йогу, как, впрочем, и другие знания, полученные древним человеком не эмпирически, но посредством медитации и интуитивных озарений, действительно можно считать «синтезом науки и религии».
Сент-Ив д'Альвейдр вслед за теософами утверждал, что высшее Знание было дано человеку изначально — через Божественное откровение. В системе Барченко подобное абсолютное Знание (или Божественная Истина) — это «Универсальный Единый Закон» или «Мировая Закономерность», лежащая в основе мироздания, что с его точки зрения, впрочем, ни коим образом не противоречит строго материалистической картине мира, созданной «марксизмом». (Как и его любимый герой Джордано Бруно, А. В. Барченко скорее всего понимал Бога не как личное, лежащее вне мира начало, но как «сокровенную сущность Космоса», говоря словами философа И. И. Лапшина. А потому «постижение этого Божественного начала для мудреца возможно лишь путем научной мысли, научного творчества, сопровождаемого величайшим энтузиазмом»[193].)
В наше время, как и столетие тому назад, вновь наблюдается всплеск живейшего интереса к эзотерическим знаниям и стремление использовать их в научных целях. Так, некоторые вполне серьезные ученые — археологи и палеоастрономы (как отечественные, так и зарубежные), сталкиваясь с фактами, явно не укладывающимися в рамки общепризнанной хронологии древнего мира, пытаются объяснить их с помощью теории працивилизации, гипотетически существовавшей на земле в «допотопные времена» — 10–11 (или даже более) тысяч лет до нашей эры. Такой подход заставляет нас по новому взглянуть на древние предания и мифы, еще недавно казавшиеся не более чем прекрасными сказками — о «золотом веке», некогда царившем на земле, о Великом потопе, уничтожившем «первое человечество», о затонувших островах-материках — Атлантиде, Лемурии и др. По мнению А. В. и А. А. Зиновьвых, «Перво-цивилизация — это древнейшее общество, которое не оставило после себя письменных памятников, но жизнь и деятельность которого привела к появлению астральных знаний на разных континентах. Працивилизация передала (изустно и практически, формулами культа и языком мифологии, священными знаками, алфавитами, хронологиями, посредством архитектоники Великих Ступ и Пирамид) свой опыт и свои достижения, что позволило новым народам подняться на более высокие ступени культуры и, пережив подъемы и падения, оставить свой неизгладимый след в истории. Протоцивилизация заложила основу исторического времени, создала незримый, но прочный фундамент динамичного развития человечества»[194].
Эти первоначальные знания («синтетическая Древняя Наука»), однако, были в значительной степени утрачены в процессе поступательного («цивилизационного») развития человечества, когда доминирующим способом познания мира становится логическо-дискурсивный метод, лежащий в основе науки «аналитическо-экспериментальной». В то же время можно согласиться с Сент-Ивом и А. В. Барченко, что огромное число памятников «Древней Науки» погибло вследствие «мировых катаклизмов» — природных (геологических) и социальных. Говоря о последних, нельзя не вспомнить об утрате сотен тысяч (!) египетских и греческих папирусов в результате пожара Александрийской библиотеки и разграбления святилища Сераписа, о практически полном уничтожении памятников маясской культуры испанской инквизицией или о разрушении «каменных памятников» дохристианской Руси, например, на Соловецких островах (так называемые «вавилоны», «лабиринты» и «пирамиды»). Что же касается сохранившихся до наших дней таких загадочных сооружений, как египетские пирамиды и Большой сфинкс или мегалитические обсерватории Стоунхенджа и Аркаима, то они во многом остаются непонятными для нас, поскольку мы не имеем ключа к их «дешифровке» — прочтению изначально заложенной в них информации. Но, как знать, возможно, это смогли бы сделать Сент-Ив, А. В. Барченко и А. А. Кондиайн с помощью своих «ключей» к Древней Науке — «Археометра» и «Универсальной Схемы»?
В заключение мы познакомим читателя с концепцией А. В. Барченко о циклическом развитии земной цивилизации в том виде, как она изложена в «Памятке для членов ЕТБ». Эта концепция в значительной степени является его собственной разработкой, хотя ее исходные положения были опять-таки заимствованы у Сент-Ива, который в свою очередь ссылается на космогонические учения древних египтян и индийцев. А. В. Барченко говорит о чередовании двух циклов — Общеземной Большой Век (то же, что Золотой век), длящийся 144 000 лет, и век Малый (Железный век), продолжительностью в 36 000 лет. В границах Большого Века происходит 7 смен различных цивилизаций по следующей схеме: каждая цивилизация существует 20 000 лет — срок, который в свою очередь делится на 4 периода или малых века: золотой (8000 лет), проходящий под знаком Солнца, серебряный (6000 лет), под знаком Луны, медный (4000 лет), под знаком Венеры, и железный (2000 лет), под знаком Марса. В настоящее время (1920-е гг.) люди живут в железном веке, который, однако, истекает в 2000 г., после чего вновь наступит счастливый Большой Золотой Век. По представлениям А. В. Барченко, это было время, когда на всей земле господствовала Великая Всемирная Федерация Народов, «построенная на основе чистого идейного коммунизма». Таким образом, он подменяет божественную Синархию в доктрине Сент-Ива коммунистическим строем, в результате чего теократическая Империя Рама-Овна трансформируется в Рамидскую Федерацию. Понять причину такой метаморфозы, впрочем, не трудно. Неприемлемой для Барченко в новых условиях оказалась и идея троичной властной иерархии (цари — жрецы — пророки), составляющей стержень синархического миропорядка. В то же время говоря о Золотом — коммунистическом — веке А. В. отмечает, что эта невообразимо далекая от нас эпоха, «когда космические условия особо благоприятствовали развитию цивилизаций, сконструированных по Универсальной схеме», не была временем сплошного благоденствия. В пределах «грандиозного» 144-тысячелетнего цикла периоды расцвета чередовались с периодами упадка, при этом упадочный период неизменно разрешался бурным революционным переломом, за которым наступал золотой 8000-летний период полного расцвета Универсальной культуры, постепенно охватывающей весь мир[195].
Наряду с общеземными циклами существуют также космические или зодиакальные циклы, соответствующие древне-индийским «югам». Правда, у А. В. Барченко, как и у Сент-Ива, они в 12 раз короче «юг», хотя он и сохраняет традиционное соотношение между ними: 4:3:2:1 — 144 000 лет (Золотой век — Крита-юга), 108 000 лет (Серебряный век — Трета-юга), 72 000 лет (Медный век — Двапара-юга), 36 000 лет (Железный век — Кали-юга). (Для сравнения: по учению древних индийцев Крита-юга длится 4 800 божественных лет или 1 728 000 человеческих, Трета — 3600, Двапара — 2400, Кали — 1200. Начало последней юги индийская традиция относит ко времени великой битвы на Курукшетре, происшедшей в 3102 г. до н. э. Согласно же модели истории Сент-Ива, приблизительно в это время — 3250 лет до н. э. — царевич Иршу выступил против Синархии, что и привело к крушению синархической Империи.) В то же время космические циклы у А. В. Барченко не совпадают и с циклами Калачакры. Так, согласно Калачакратантре, все 4 юги имеют равную продолжительность — 5400 человеческих лет каждая, и Маха-юга, таким образом, составляет 21 600 лет (у индийцев 4 320 000 лет).
Семикратную смену земных цивилизаций или культур, однако, не следует понимать как смену 7 рас, о чем говорят теософы. Наивно думать, пишет А. В. Барченко, что во времена Атлантиды, например, на земле была только одна красная раса. Напротив, одновременно существовали и все другие «основные» расы, но красная занимала среди них лидирующее положение, являлась «вождем цивилизации». Вообще же «знамя культуры» переходило из рук в руки, т. е. от одной расы к другой, в такой последовательности: черная, белая, желтая, красная и опять в том же порядке. Черного «лидера культуры», по утверждению Барченко, сменили на евроазиатском материке около 9 тысяч лет назад (7500+2000) «Белые». Отголоском этого эпохального события служит предание о «переселении арийцев в Индию» и о их борьбе с представителями черной расы, отразившееся в эпосе о Раме.
В семейном архиве А. Г. и О. А. Кондиайн сохранился небольшой отрывок, озаглавленный «Оккультная трактовка истории человечества» (очевидно, записан Э. М. Кондиайн со слов Тамиила или А. В. Барченко), в котором рассказывается о послепотопном расселении на земле «белой расы».
«После потопа и разделения народов белокожий народ, родивший впоследствии легендарного великого вождя — Рама, двинулся с крайнего Севера. Промежуточным этапом его движения еще в доисторическую эпоху служили границы Вавилонии. Затем белый народ — отец Рама — двинулся из границ Вавилонии на восток, перевалил через Гиндукуш и, очутившись в ближайшем соседстве с Тибетом и Китаем, вошел в соприкосновение с культурой уже уставшей — древнейшей расы желтокожих. Затем двинулся на восток к Гималаям, к высочайшей горе Азии — Гауризанкару. Двинувшись на юг со склонов Гималаев, наводнил долину Ганга. При позднейшем возвращении части белого народа на запад была принесена культура, прильнувшая к белому народу при соприкосновении с усталой цивилизацией краснокожих». (Обратим внимание: движение «белокожего народа», т. е. арийцев, начинается откуда-то «с крайнего Севера».)
Рамидская Федерация, объединявшая всю Азию и часть Европы, согласно А. В. Барченко, просуществовала «в полном расцвете» около 3600 лет, но была свергнута в результате «революции Иршу» 5600 лет тому назад. Белая раса еще не расселилась по всему свету и еще не применяла «в мировом масштабе» Универсальный ключ (т. е. ключ к «Универсальному знанию») с целью постройки «федерации народов». Очередной всемирный потоп, который должен произойти через 1200 лет, окончательно уничтожит на земле «последние следы черной цивилизации в упадочной ее форме». После поднятия дна Атлантического океана погибнут вместе с Африкой «все низменности Европы, Америки и Азии… и степи Китая и Монголии. Горные же плато и кряжи Евразии, сплошь заселенные белой расой (афганы, кафиры, горные таджики, Курдистан, Белуджистан, Персия, Азербайджан, Закавказье и Гималаи с Шамбалой и Саджа) должны уцелеть». Таким образом, пережившая потоп белая раса останется в большинстве и сможет осуществить социальный идеал Универсального знания — создать или, вернее, воссоздать на планете Всемирную Федерацию Народов. Такую достаточно радужную перспективу будущего земной цивилизации А. В. Барченко нарисовал членам своего братства[196]. Проверить его предсказания, правда, можно будет не ранее, чем через 12 столетий.
14. Несостоявшаяся экспедиция
В конце 1923 г. А. В. Барченко зачислили на должность научного консультанта Главнауки и ему были выделены средства на создание биофизической лаборатории. Размещалась лаборатория в здании Политехнического музея в Москве, однако нам практически ничего не известно ни о составе ее сотрудников, ни о том, какие эксперименты проводились в ней. Можно лишь предположить, что это были скорее всего какие-то парапсихологические опыты. Косвенным подтверждением тому может служить довольно любопытное сообщение московского писателя А. К. Виноградова, согласно которому в 1924 г. в Красково (под Москвой) А. В. Барченко пытался устроить «ментальную спиритическую станцию», якобы для связи с Шамбалой. В этом ему помогали сотрудники Главнауки — Ф. Н. Петров (ее начальник), Р. В. Лариков (помощник Петрова), В. Т. Тер-Оганесов (зав. отделом охраны природы), М. П. Павлович (востоковед, издатель журнала «Новый Восток») и некто Тарасов[197]. Речь, по-видимому, идет об опытах А. В. Барченко по телепатической передаче мыслеобразов между Красково и Москвой, а возможно, и на большие расстояния. Здесь необходимо пояснить, что подобные опыты стали впервые проводиться на Западе в середине 1920-х, а затем (в 1930-е) и в России. Попытки установления ментальной связи между крупнейшими городами мира — Нью-Йорком и Парижем в обоих направлениях, а также между Афинами и рядом европейских столиц, оказались довольно успешными. А в Пасадене в США была даже создана «станция ментального радио»[198].
В то же время из записок Э. М. Кондиайн мы знаем, что А. В. Барченко после возвращения из Мурмана в течение нескольких лет интенсивно занимался совместно с ее мужем проверкой и подтверждением данных Древней науки положениями науки современной, с помощью «Универсальной схемы». Отношение академических кругов Петрограда и Москвы к этой «научно-оккультной» работе А. В. Барченко, надо сказать, было весьма неодназначным. По свидетельству Э. М. Кондиайн, одни ученые, подобно физику А. К. Тимирязеву, восторженно заявляли, что «это революция в науке», другие, вроде непременного секретаря РАН С. Ф. Ольденбурга, были настроены куда более скептически. Правда, критикуя А. В. Барченко на публике, тот же С. Ф. Ольденбург в кулуарах расточал ему комплименты и говорил — «этого нельзя опубликовать»[199]. В самой же Главнауке А. В. Барченко пользовался активной поддержкой небольшой группы ученых во главе с Ф. Н. Петровым. Именно этих людей А. В. Барченко в первую очередь знакомил со своими самобытными исследованиями на импровизированных «семинарах», которые периодически устраивались на московской квартире Ф. Н. Петрова. Так, мы знаем, что на одной из таких встреч, состоявшейся 17 ноября 1923 г., с докладами выступили А. В. Барченко и глава мироведов Н. А. Морозов[200].
В Петрограде же А. В. Барченко в основном поддерживали В. М. Бехтерев и его коллеги по Институту мозга. Известно, что в декабре 1923 г. А. В. Барченко устроил у себя (т. е. на квартире Кондиайнов) небольшое «консультативное совещание» представителей восточной и западной науки (как он назовет его в письме Цыбикову). Восточные ученые — это прежде всего Агван Доржиев, глава Тибетской и Монгольской миссий, и его заместитель Бадма Очиров, а также высокие гости из Монголии и Тибета, Хаян-Хирва и Нага Навен. Западных ученых представляли В. М. Бехтерев и В. П. Кашкадамов. Именно они, по свидетельству А. В. Барченко, высказались на этой встрече «за всяческую желательность теснейшего научного контакта русских ученых с тибетскими». Со своей стороны цанид-лама Доржиев заверил западных ученых в полной готовности ученых Тибета к такому контакту и обещал свое содействие[201].
Устройство подобного совещания было первым шагом Барченко на пути к реализации уже вполне вызревшей в нем идеи — познакомить с достижениями Древней науки высшее советское руководство и побудить его к установлению контактов с главным центром доисторической культуры на Востоке — с Шамбалой. К этой идее, по его собственному признанию, он пришел под влиянием тибетца Нага Навена, который, по всей видимости, связывал с ее осуществлением какие-то свои тонкие политические расчеты. «В результате углубления в теорию „Дуйнхор“, — писал Барченко Цыбикову в 1927 г., — у меня оформилось стремление посвятить в эту тайну наиболее крупных и бескорыстных деятелей России, чтобы сообщить им правильный взгляд на истинное содержание и истинную ценность древнейшей и современной культуры Востока»[202]. Своими планами А. В. Барченко прежде всего поделился с Доржиевым, имевшим немало высоких покровителей в Москве, и с крупнейшими ориенталистами-буддологами, академиками С. Ф. Ольденбургом и Ф. И. Щербатским, возможно, рассчитывая при их протекции получить доступ в высшие правительственные сферы. Однако, Доржиев и ориенталисты отнеслись к его затее неодобрительно и постарались от нее отмежеваться:
«Этот мой шаг встретил со стороны главы лам и всей профессуры самое враждебное отношение. В академических кругах стали широко распространяться слухи о моей будто-бы личной, даже материальной заинтересованности в этой попытке. Взгляды мои на восточную культуру всячески дискредитировались. Дошло до того, что мое имя стали в печати связывать с заведомо ложными и дутыми сообщениями о научных открытиях, не имевших места в действительности. Перед группой же лам, к помощи коих я обратился, той же группой (ученых) я был выставлен как научный карьерист, мистификатор и даже как платный „тайный“ агент большевиков»[203].
Причину столь сильной неприязни востоковедов к А. В. Барченко можно отчасти объяснить его связями с чекистами (хотя и бывшими). С другой стороны, имеются сведения, что столкновение Барченко с С. Ф. Ольденбургом произошло на сугубо оккультной почве. Согласно показаниям Г. И. Бокия, принадлежавший в прошлом к «масонской организации» (розенкрейцерам) С. Ф. Ольденбург был якобы крайне недоволен тем, что А. В. Барченко разгласил тайны Ордена[204], т. е. сведения эзотерического характера. Впрочем, несмотря на враждебность и даже угрозы влиятельного ориенталиста (если верить Г. И. Бокию), А. В. Барченко не отказался от своего намерения «посвятить» высших советских руководителей в тайны Древней науки.
Весной 1924 г. у А. В. Барченко произошел новый конфликт на идейной почве, на этот раз в стенах Главнауки. О своих принципиальных разногласиях, главным образом с курировавшим его работу научным отделом, А. В. Барченко поведал в довольно откровенном и резком по тону письме Ф. Н. Петрову. В нем, в частности, говорилось:
«Высказанные в Вашем присутствии заведующим Научным Отделом положения, в том числе признание, что „уже намечена жестокая борьба с математиками и аксиоматикой во всех ее видах“, что исходная база Научного Отдела: „ВСЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ, МЕНЯЮТСЯ“, совершенно исключают для меня возможность научно работать в контакте, тем более под руководством, Научного Отдела. Для меня обязательно положение: „Диалектические моменты, в том числе революции, суть неизбежный обязательный фактор развития мирового процесса, ПОДЧИНЕННОГО ОПРЕДЕЛЕННОЙ РИТМИКЕ“.
Смелое выплескивание из ведра Мировой Закономерности, предпринимаемое Научным Отделом, занимающим вполне почетное место, но на космической пылинке диаметром в 12 000 километров, представляется мне занятием ДЕТСКИМ. И эта детская трактовка сакраментального „панта рей“, по моему крайнему разумению, для будущего Русской Науки ГИБЕЛЬНО.
Участвовать в этом, хотя бы в качестве мельчайшего фактора, для меня, по совести, неприемлемо»[205].
Из этого же письма мы узнаем, что научный отдел отказался поддержать предложение А. В. Барченко — «переоценить ценность аналитического метода сравнительной обработкой лабораторного материала, ОБЯЗАТЕЛЬНО В КОНТАКТЕ С ВОСТОКОМ, В ПОЛНОЙ МЕРЕ ВЛАДЕЮЩИМ СИНТЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ». Столь же скептически сотрудники отдела отнеслись и к его идее о необходимости создания исследовательских институтов, работающих «синтетическим методом», — то, с чем в принципе соглашался Ф. Н. Петров. Еще одним поводом для недовольства ученого послужило подключение Главнауки к антирелигиозной пропаганде. «Как в докладных записках своих наркому Луначарскому и Вам, так и открыто в комиссиях», писал А. В. Барченко Ф. Н. Петрову, «я неизменно подчеркивал, что религиозные памятники представляются мне ценностями ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ. Обнаруженные мною в области Древнейшего Естествознания данные могут и должны служить для борьбы с суевериями и шарлатанством. Но для борьбы <…> именно с этими отрицательными ПЕРЕЖИТКАМИ, а не с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ценностями религии. <…> Участвовать как бы то ни было в современной не антиЦЕРКОВНОЙ, а антиРЕЛИГИОЗНОЙ пропаганде для меня НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ПРИНУЖДЕНИЯ НЕПРИЕМЛЕМО».
В результате — «по зрелому размышлению» — А. В. Барченко решил отказаться от сделанных ему ранее предложений войти в состав научной коллегии бехтеревского института и Академии истории материальной культуры в Ленинграде. Более того, в письме Ф. Н. Петрову он говорит о своем решении «совершенно уйти на долгий ряд лет, если не навсегда», не только от общественной и научной деятельности, но и от «культурной жизни» вообще. В порыве безысходности и отчаяния у него даже прорываются слова о необходимости «кончить жизнь». Но кончить ее тем же «коммунистом без билета», кем он считал себя, «за исключением религиозных вопросов», на протяжении всей своей сознательной жизни благодаря знанию древнейшей натурфилософии.
Письмо А. В. Барченко заканчивалось рядом «маленьких знамений» — предсказаний «шагов завтрашнего дня» европейской науки в области химии и физиологии, за которыми, очевидно, скрываются его собственные открытия, сделанные с помощью «синтетического метода» Древней науки. А. В. Барченко предсказывал открытие «крайнего этапа радиоактивности за ураном, с атомным весом не больше 253-х» (т. е. открытии трансурановых элементов), утверждал, что аппендикс слепой кишки «это не признак атавизма, а обязательный в организме секреторный орган», а также заявлял о вредности радиотерапии. «Терапевтическое и регенерирующее значение, писал он, должны иметь железные массы, нагретые хотя бы в незначительной степени, прорастающие семена (эффекты солода), роса за час до восхода солнца, вода, аккумулировавшая солнечный свет, но отнюдь не механизм, проецирующий распадающуюся субстанцию атома. Воздействие нагретыми железными массами, солнцем и массажем на главные ганглиозные узлы, в особенности сакральный, обнаружит эффекты необычайно сильные»[206]. (Последнее утверждение явно говорит о его знакомстве с учением индийской йоги об энергетических центрах человеческого организма — «чакрах».)
Духовный кризис А. В. Барченко, порожденный несоответствием между его идеалистическими устремлениями и суровой советской действительностью, однако, вскоре миновал, и ученый вернулся к работе в Главнауке. Неожиданная встреча с Кругловым, показавшая, что традиция Универсального знания живет и на русской почве, в среде староверческих сект «искателей Беловодья», дала новый импульс его поискам. Осенью того же 1924 г. А. В. Барченко отправился в Кострому, чтобы разыскать старца Никитина. Там ему действительно удалось встретиться с престарелым учителем Круглова, который, как выяснилось, принадлежал к секте голбешников (от «голба» — подполье.) родственной секте бегунов или странников. Старец, вероятно, рассказал А. В. Барченко немало интересного о своих хождениях в Тибет и Индию, о самобытной вере голбешников, и о загадочных символах-идеограммах, свидетельствовавших о знакомстве русских сектантов с буддийской тантрой.
Вернувшись в Ленинград, А. В. Барченко вновь загорелся желанием отправиться в Центральную Азию — в Монголию и Тибет — на поиски следов древней Шамбалы. Попытался организовать такую поездку под видом командировки от Главнауки для изучения восточных языков. Вопрос о монголо-тибетской экспедиции А. В. Барченко был рассмотрен на закрытом заседании президиума Главнауки, по-видимому, в конце 1924 г. По просьбе А. В. Барченко на него пригласили в качестве «консультанта» Хаян Хирву, который горячо поддержал ходатайство русского ученого. Во время обсуждения, однако, произошло новое столкновение Барченко с С. Ф. Ольденбургом. В письме Г. Цыбикову он рассказывает об этом так: «На этом заседании академик-ориенталист обрушился на меня, утверждавшего (без детальной аргументации), что монгольские и тибетские ученые далеки от облика наивных дикарей, который навязывают им западные ученые. Академик-ориенталист защищал точку зрения Рокхилла, Уодделла, и даже Гренара о низком культурном уровне лам, подтверждая это положение ссылкой на авторитеты свой и своего коллеги, известного Вам академика-ориенталиста, бывшего лично в Шигатзэ»[207](Речь идет о Ф. И. Щербатском, недавно вернувшемся из поездки в Монголию. Справедливости ради, однако, надо заметить, что Щербатской в Тибете никогда не был.) Доводы непременного секретаря АН, очевидно, перевесили аргументы его не столь именитого оппонента, и президиум Главнауки в итоге отклонил ходатайство Барченко.
Несмотря на эту новую неудачу, в жизни А. В. Барченко на исходе 1924 г. определенно наметился перелом. Все началось с малозначительного вроде бы события: во время очередного визита к нему «чекушников» (Владимирова, Рикса, Отто и Шварца) ученый рассказал им о своем намерении посвятить в Древнюю науку советских вождей и обратился за помощью — попросил свести его с кем-либо «из близко стоящих людей к руководству ВКПб и Советского правительства». «Покровители» откликнулись на его просьбу с готовностью и тут же стали припоминать какие у кого имеются связи наверху. Так, К. Ф. Шварц назвал А. В. Барченко фамилии трех известных ему лиц: ленинградцев Н. П. Комарова (секретаря президиума Ленгубисполкома) и Я. Г. Озолина (заместителя председателя Губсуда), а также москвича, бывшего руководителя ПЧК, ныне возглавляющего Спецотдел ОГПУ, Г. И. Бокия. Взвесив все за и против остановились на кандидатуре последнего, который, таким образом, и должен был стать проводником А. В. Барченко в высшие партийно-правительственные сферы[208].
Дальнейшие события развивались приблизительно так: А. В. Барченко написал письмо главе ОГПУ и председателю ВСНХ Ф. Э. Дзержинскому, в котором рассказал о себе и своей работе. Это письмо К. К. Владимиров затем отвез в Москву на Лубянку. В то же время он связался с Бокием, которого знал по прежней работе в ПЧК. В результате, через несколько дней в Ленинград приехал заведующий секретно-политическим отделом ОГПУ — возможно, по личному указанию Дзержинского — Я. С. Агранов, который встретился с А. В. Барченко на одной из чекистских конспиративных квартир. «В беседе с Аграновым я подробно изложил ему теорию о существовании замкнутого научного коллектива в Центральной Азии и проект установления контактов с обладателями его тайн. Агранов отнесся к моим сообщениям положительно», так впоследствии рассказал об этой встрече следователям сам А. В. Барченко[209]. Вскоре после этого вернувшийся в Питер Владимиров сообщил Барченко, что переговоры с Бокием прошли успешно и что ему надлежит выехать в Москву для доклада своего проекта руководству ОГПУ. Владимиров и Барченко затем отправились вместе в столицу, где встретились с Аграновым и Бокием. После конфиденциальной беседы с последним А. В. получил приглашение на коллегию ОГПУ, где и доложил о своем проекте.
«Заседание коллегии состоялось поздно ночью. Все были сильно утомлены, слушали меня невнимательно. Торопились поскорее кончить с вопросами. В результате при поддержке Бокия и Агранова нам удалось добиться, в общем-то, благоприятного решения о том, чтобы поручить Бокию ознакомиться детально с содержанием моего проекта и, если из него действительно можно извлечь какую-либо пользу, сделать это»[210].
Такова версия событий в изложении А. В. Барченко. В ней, однако, отсутствует один важный персонаж — К. Ф. Шварц. Согласно же показаниям Г. И. Бокия, с визитом к нему в Спецотдел в конце 1924 г. явились трое — Владимиров, Шварц (!) и сам ученый. «Они рекомендовали мне его (т. е. А. В. Барченко) как талантливого исследователя, сделавшего имеющее чрезвычайно важное политическое значение открытие, и просили меня свести его с руководством ОГПУ с тем, чтобы реализовать его идею»[211]. Со своей стороны К. Ф. Шварц о поездке в Москву к Г. И. Бокию рассказывал иначе. По его версии, на той памятной встрече в квартире Кондиайнов А. В. Барченко попросил его отвезти начальнику Спецотдела написанный им доклад об учении Дуйнхор.
«Я дал свое согласие и вскоре Барченко мне передал для доставки Бокию пакет, что я и сделал. В Москву я ездил один. Владимиров в Москву уехал на день раньше. Я с ним встретился на другой день, а потом вместе зашли к Бокию и Владимиров дополнил мою информацию о Барченко»[212].
Таким образом, версия К. Ф. Шварца не согласуется с рассказом Г. И. Бокия. Складывается впечатление, что ленинградские чекисты посещали Г. И. Бокия дважды — первый раз без А. В. Барченко. Основной визит к начальнику Спецотдела втроем — Шварц, Владимиров и Барченко — вероятно, состоялся несколько позднее, после того как Бокий, ознакомившись с «докладом» Барченко, заинтересовался изложенными в нем идеями и пожелал переговорить с автором. Обе рукописи А. В. Барченко — доклад и проект экспедиции в Шамбалу — отыскать в архивах, к сожалению, не удалось.
Несмотря на положительное решение коллегии ОГПУ, организация столь необычной экспедиции встретила немалые трудности. Об этом говорят обнаруженные в архиве Владимирова две коротенькие записки от ученика А. В. Барченко, студента ЛИЖВЯ Владимира Королева, который, как выясняется, также был напрямую связан с Г. И. Бокием.
В одной из них, датированной 26 марта, Королев сообщает Владимирову (оба в то время находились в Москве): «Был сегодня у Г. И. и разговор с ним оставил у меня плохое впечатление»[213]. Но к середине апреля. Г. И. Бокию, как кажется, удалось решить главную проблему, связанную с финансированием экспедиции. Средства, выделенные на нее ОГПУ, составили весьма внушительную сумму — 100 тысяч рублей (золотом), т. е. столько же, сколько советское правительство ассигновало весной 1923 г. на научную экспедицию в Тибет П. К. Козлова. Поверить в это трудно, если только не предположить, что ОГПУ связывало с этой новой экспедицией в Центральную Азию — а речь шла, как мы увидим в дальнейшем, о посещении Тибета и Афганистана — какие-то свои цели. Г. И. Бокию, несомненно, удалось заинтересовать планами А. В. Барченко руководителей ОГПУ — возможно, даже самого Феликса Эдмундовича. В результате А. В. Барченко, который окончательно расстался с Главнаукой вскоре после столкновения с С. Ф. Ольденбургом, поступает весной 1925 г., очевидно, по протекции Г. И. Бокия, в научно-технический отдел ВСНХ, организации, которую, как известно, возглавлял по совместительству Дзержинский. Уволился со своей службы в советско-германском транспортном товариществе «Дерутра» и К. К. Владимиров, также собиравшийся принять участие в путешествии. «Я знаю, что перед отъездом своим Вы, так или иначе будете у меня», писала К. К. Владимирову из Сестрорецка в конце апреля его новая пассия В. В. Зощенко. «Вы не сможете, не должны уехать куда-то бесконечно далеко, не увидев меня, не простившись со мной»[214]. И еще через несколько дней: «Мне очень грустно, что Вы уезжаете. Я знаю, что вы должны уехать, что Вам нужно ехать, и все-таки… Ведь дела и здесь много, нужного, полезного, большого дела. Но ведь Вы — мечтатель и Вам нужно чего-то другого, большого… Если же почему-либо отложится Ваша поездка на Восток, я буду рада, если Вы раз-другой в месяц, можете навестить меня здесь»[215].
Кроме К. К. Владимирова отправиться в Шамбалу изъявили желание и члены коммуны-братства А. В. Барченко — обе его жены Нататья и Ольга, Юлия Струтинская, Лидия Шишелова-Маркова и Тамиил (А. А. Кондиайн). Летом 1925 все они под руководством своего начальника начали готовиться к предстоящей экспедиции. В записках Э. М. Кондайн читаем:
«Мы стали в манеже на Конногвардейском бульваре учиться верховой езде. С неделю ходили раскорякой. Шились перекидные сумы для вьюков. Вышивалось белое знамя с Универсальной Схемой. Учили монгольский. Читали буддийский катехизис»[216].
Книга, о которой идет речь, это переведенный А. М. Позднеевым с монгольского трактат «Тонилхуйн чимэк» (Украшение Спасения), содержащий космологические и религиозно-философские воззрения буддистов[217]. В записках Э. М. Кондиайн мы находим определения двух ключевых буддийских понятий, почерпнутые из этого сочинения: «Что такое Сансара? — Сансара это рождение в муках и постоянное заблуждение. Что такое Нирвана? Нирвана — избавление от всякого страдания и познание (приобретение) истины». Из Ленинграда тем же летом все вместе — А. В. Барченко со своей женской «свитой» и Кондиайны — переехали на дачу в подмосковный городок Верею, где продолжили подготовку. В основном занимались верховой ездой и учили восточные языки — монгольский, урду и, по-видимому, тибетский. (По рассказу А. В. Барченко, студент-монголист Королев раздобыл у Б. Я. Владимирцова русско-монгольский разговорник — по нему и стали изучать современную монгольскую речь. Тибетский же язык учили по учебнику Г. Ц. Цыбикова.)[218]
Сведения о готовящейся экспедиции быстро распространились среди многочисленных питерских знакомых К. К. Владимирова. Один из них, скульптор В. Н. Беляев (также большой почитатель Сент-Ива), даже обратился к нему с просьбой:
«Константин Константинович! Зашел к Вам с тем, чтобы узнать, не можете ли Вы меня устроить в дальнюю поездку. Дела сложились скверно. Бюсты не идут. Весь рынок обслужен. Голодаю. Прошу Вас, если есть возможность, то и еще двух человек — женщин. Мой адрес: Новоисакиевская 22 кв. 7»[219].
Содействовать планам А. В. Барченко вызвались и двое его новых московских знакомых — некто доктор Вечеслов и В. И. Забрежнев. Оба они в прошлом принадлежали к ложе Великий Восток Франции; Вечеслов, к тому же, был близок с Астромовым-Кириченко, но, главное, он хорошо знал Афганистан, где по некоторым сведениям, побывал до революции в составе дипломатической миссии. В начале 1925 г. Вечеслов вновь по каким-то делам экстренно выехал в Кабул. Что касается В. И. Забрежнева, то он скорее всего сблизился с А. В. Барченко на почве общего интереса к гипнозу, поскольку был опытным гипнологом[220]. В прошлом сотрудник НКИД и ОГПУ, а ныне аспирант Института Экспериментальной Психологии в Москве, Забрежнев имел обширные связи в различных наркоматах и ведомствах, которые он попытался задействовать для продвижения планов А. В. Барченко. Так, В. И. Забрежневу удалось организовать встречу ученого с Г. В. Чичериным, что, вероятно, было вызвано необходимостью получения Барченко, как руководителя научной экспедиции, санкции наркоминдела для поездки зарубеж.
Визит А. В. Барченко к Г. В. Чичерину, в сопровождении двух сотрудников ОГПУ (очевидно, из Спецотдела Бокия), состоялся 31 июля. А. В. Барченко рассказал наркому о своих многолетних исследованиях в области древнейшего естествознания и изложил планы путешествия в Тибет и Афганистан — «для поиска следов доисторической культуры». При этом он заявил, что готов немедленно отправиться в Монголию, снарядить там караван и затем двинуться в Тибет. Из этого можно заключить, что Барченко фактически планировал не одну, а две отдельные экспедиции, ибо попасть в Афганистан было гораздо легче и безопаснее с территории СССР, чем на обратном пути из Тибета через Китайский Туркестан. Его большой интерес к Афганистану (Кафиристану) подогревался, во-первых, тем, что здесь находились тайные обители («братства») суфиев, которые некогда посещал Гурджиев. В то же время в афганском Туркестане, между Балкхом и Бамианом, Сент-Ив помещал сакральную территорию Парадезы — владение Понтифов Империи Рама. (Напомним, что Балкх — это один из древнейших городов мира, столица Греко-Бактрийского царства; Бамиан же главным образом известен своим пещерным монастырским комплексом, насчитывающим около 2000 тысяч гротов.) В Афганистане путешественник, между прочим, намеревался войти в контакт с главой исмаилитов Ага-ханом[221], рассчитывая, очевидно, с его помощью проникнуть в наиболее недоступные для европейцев места, хранящие остатки древних знаний. (О чем он едва ли поведал Г. В. Чичерину, зная о крайне неприязненном отношении большевиков к Ага-хану за его связь с англичанами.)
Реакция наркома на сообщение А. В. Барченко была двойственной — поездку в Афганистан он тут же решительно отклонил по политическим соображениям, но в то же время высказался довольно положительно относительно посещения Тибета. Свой отзыв об экспедиционном проекте А. В. Барченко Г. И. Чичерин направил в Политбюро ЦК. Однако уже на следующий день из телефонного разговора с начальником ИНО ОГПУ М. А. Трилиссером Г. В. Чичерин узнал, что тот совершенно не в курсе относительно похода в НКИД А. В. Барченко и чекистов. Кроме того, Г. И. Чичерину доложили, что его визитеры самовольно обратились через наркоминдельский отдел виз в афганское посольство, заявив, что они «составляют экспедицию, едущую от ВСНХ». Разгневанный нарком тут же направил новую докладную в Политбюро с просьбой «не давать хода» его предыдущему письму. Ссылаясь на свой разговор с Трилиссером и Ягодой, он отмечал в ней, что «руководители ОГПУ теперь сомневаются в том, следует ли вообще отправлять экспедицию Барченко, ибо для проникновения в Тибет имеются в виду более надежные способы». В этой записке Г. И. Чичерин, помимо прочего, высказал свое отношение к исследованиям ученого и его проекту:
«Некто Барченко уже 19 лет изучает вопрос о нахождении остатков доисторической культуры. Его теория заключается в том, что в доисторические времена человечество развило необыкновенно богатую культуру, далеко превосходившую в своих научных достижениях переживаемый нами исторический период. Далее он считает, что в среднеазиатских центрах умственной культуры, в Лхасе, в тайных братствах, существующих в Афганистане и тому под., сохранились остатки научных познаний этой богатой доисторической культуры. С этой теорией тов. Барченко обратился к тов. Бокию, который ею необыкновенно заинтересовался и решил использовать аппарат своего Спец. Отдела для нахождения остатков доисторической культуры. Доклад об этом был сделан в Коллегии Президиума ОГПУ, которое точно также чрезвычайно заинтересовалось задачей нахождения остатков доисторической культуры и решило даже употребить для этого некоторые финансовые средства, которые, по-видимому, у него имеются. Ко мне пришли два товарища из ОГПУ и сам Барченко, для того, чтобы заручиться моим содействием для поездки в Афганистан с целью связаться там с тайными братствами.
Я ответил, что о поездке в Афганистан и речи быть не может, ибо не только афганские власти не допустят наших чекистов ни к каким секретным братствам, но самый факт их появления может повести к большим осложнениям и даже к кампаниям в английской прессе, которая не преминет эту экспедицию представить в совершенно ином свете. Мы наживем себе неприятность без всякой пользы, ибо, конечно, ни к каким секретным братствам наши чекисты не будут допущены.
Совершенно иначе я отнесся к поездке в Лхасу. Если меценаты, поддерживающие Барченко, имеют достаточно денег, чтобы снарядить экспедицию в Лхасу, то я даже приветствовал бы новый шаг по созданию связей с Тибетом при непременном условии, однако, чтобы, во-первых, относительно личности Барченко были собраны более точные сведения, во-вторых, его сопровождали достаточно опытные контролеры из числа серьезных партийных товарищей и, в третьих, чтобы он обязался не разговаривать в Тибете о политике и, в особенности, ничего не говорить об отношениях между СССР и восточными странами. Эта экспедиция предполагает наличие больших средств, которые НКИД на эту цель не имеет.
<…> Я безусловно убежден, что никакой богатейшей культуры в доисторическое время не существовало, но исхожу из того, что лишняя поездка в Лхасу может в небольшой степени укрепить связи, создающиеся у нас с Тибетом»[222].
Отповедь Г. И. Чичерина, в которой чувствуется скрытое соперничество НКИД и ОГПУ, не обескуражила Г. И. Бокия, поскольку нарком в принципе не возражал против экспедиции А. В. Барченко в Тибет, хотя и считал необходимым прикрепление к ней партийного «контролера», т. е. политкомиссара. Именно таким образом Политбюро поступило в 1923 г. с П. К. Козловым, навязав его Тибето-Монгольской экспедиции дополнительного сотрудника, бывшего коминтерновца Д. М. Убугунова. Точно также поступили и с А. В. Барченко, назначив в его отряд политкомиссара Я. Г. Блюмкина. Одиозная личность бывшего левого эссера-террориста — убийцы германского посла графа В. Мирбаха, однако, встретила решительный отпор со стороны А. В. Барченко. Такому человеку как Блюмкин не могло быть места среди участников его отряда, отправлявшегося в святую землю Шамбалы. Но была, как кажется, и другая, более веская причина, окончательно разрушившая надежды А. В. Барченко. Уже в начале августа 1925 г. Г. В. Чичерин приступает к разработке планов новой советской дипломатической экспедиции в Тибет, что делало практически невозможным какое-либо постороннее проникновение в эту страну.
Не попав в Шамбалу, А. В. Барченко осенью того же года отправился вместе со своей женской «свитой» в другое заповедное место, на Алтай. Цель этой поездки, организованной все тем же Г. И. Бокием, состояла в том, чтобы установить связь с представителями «русской ветви традиции Дюнхор», искателями Беловодья. Э. М. Кондиайн сообщает нам маршрут путешественников — через Семипалатинск, Усть-Каменогорск, пароходом по Оби и Иртышу, а затем на лошадях в горы. Конечный пункт — селение Катон-Карагай, расположенное в живописной Бухтарминской долине. Там рассчитывали встретить тех, кто некогда ходил в Беловодье-Шамбалу. В Катон-Карагае А. В. Барченко познакомился со 115-летним старцем Филоновым («старик с пасеки»), у которого был сын и множество внуков. Оттуда, судя по краткой записи Э. М. Кондиайн, А. В. Барченко и его спутницы двинулись в Котово, где находилась заимка Филонова — избушка и пасека. Запись заканчивается сообщением, что «старик вылечил Олю от простуды горячим медом»[223].
15. ОГПУ овладевает «Древней Наукой»
Несмотря на неуспех новой попытки пройти в заветную Страну Махатм, А. В. Барченко не пал духом. Осенью 1925 г., по возвращении с Алтая, ему удалось наконец-то приступить к практической реализации давно уже созревшего плана, которому он придавал значение «исторической миссии» — к передаче руководителям «идейного коммунизма в России», «Большим большевикам», ключа к универсальным знаниям древних («Универсального ключа»). В письме Г. Ц. Цыбикову А. В. Барченко мотивировал свое решение так. Русская социальная революция, хотя и оказывает «идейную поддержку Востоку», еще «совершенно далека от понимания той величайшей общечеловеческой ценности, коей скрыто владеет Восток». Ломая традиционные бытовые устои народов восточных окраин России — «коренные основы их самобытности», она тем самым уничтожает элементы древнейшей научной традиции. Ту же губительную политику большевики проводят и в отношении зарубежных восточных стран. Единственно возможный выход из такого положения — «скорейшее ознакомление крупнейших идейных руководителей Советской власти с истинным положением вещей, с истинной ценностью тех древнейших бытовых особенностей Востока, к разрушению которых Советская власть подходит так примитивно и грубо не из злостных побуждений, но по неведению, действуя с глазами, завязанными ей авторитетом западно-европейской академической науки. Самым сильным, самым неоспоримым и убедительным орудием в этом может послужить подтверждение, что Восток до сих пор владеет в неприкосновенности не только случайно уцелевшими практическими формулами тантрической науки, но и всей разумно обосновывающей ее теорией „Дюнхор“»[224]. По существу это была попытка просветить новых властителей России, тех, кто не ведает, что творит. При этом А. В. Барченко явно следовал примеру своего учителя Сент-Ива, который в свое время апеллировал к главам западных держав, призывая их к «коллективной охране очага древней науки», т. е. Шамбалы, поскольку он мог бы пострадать в случае военного столкновения Англии, Афганистана и России[225]. (Англия и Россия действительно едва не начали войну из-за Афганистана в середине 1880-х. Ситуация удивительным образом повторилась полвека спустя, в результате резкого обострения англо-советского соперничества в Центральной Азии.) Тот же Сент-Ив, между прочим, побуждал французского премьера Жоржа Клемансо установить контакт с мудрыми правителями Агарты-Шамбалы.
Для передачи эзотерического знания наиболее достойным представителям большевистской партии А. В. Барченко организовал в недрах ОГПУ в конце 1925 г. — при содействии Г. И. Бокия — небольшой кружок по изучению Древней науки. В этот кружок вошли ведущие сотрудники Спецотдела — Гусев, Цибизов, Клеменко, Филиппов, Леонов, Гопиус, Плужницов, а также его начальник Бокий[226]. А. А. Кондиайн в своих показаниях, однако, говорит о двух кружках: одним руководил А. В. Барченко, другим — он сам, при этом в его кружке занималось 15 человек, в том числе Г. И. Бокий и Е. Гопиус[227]. И все же, какого-то отдельного «кружка Кондиайна» скорее всего не существовало, а просто А. А. Кондиайн, по просьбе А. В. Барченко, вероятно, читал собственные доклады в кружке (о чем свидетельствует и Г. И. Бокий). Как бы то ни было, но занятия с сотрудниками Спецотдела продолжались недолго, поскольку, по словам Г. И. Бокия, ученики оказались «неподготовленными к восприятию тайн Древней науки». Кружок А. В. Барченко распался, но энергичному Г. И. Бокию вскоре удалось подыскать новых, более способных учеников «из числа своих старых товарищей по Горному институту». В состав этой второй группы входили М. Л. Кострыкин, А. В. Миронов (оба инженеры), Б. С. Стомоняков (зам. наркоминдела в 1934–1938), И. М. Москвин (член Оргбюро и секретариата ЦК, заведующий орграспредом ЦК), А. Я. Сосовский[228]. Несколько раз занятия кружка, согласно Г. И. Бокию, посещали С. М. Диманштейн и инженер Ю. Н. Флаксерман, а также, по свидетельству Ф. К. Шварца, Г. Г. Ягода — в будущем шеф НКВД[229]. О том, что конкретно изучали «ученики» А. В. Барченко на этих занятиях мы узнаем из уже упоминавшегося письма А. В. Цыбикову, в котором говорится, что созданная им группа в течение двух лет «занималась изучением теории Дюнхор в основных ее пунктах и сравнением с теоретическими основами западной науки»[230].
В этой связи, естественно, возникает вопрос: в какой степени А. В. Барченко владел этой «теорией»? Мы уже говорили, что свои познания в области Калачакра-тантры он в основном почерпнул из бесед с «восточными учителями» — Нага-Навеном, Хаян-Хирвой и бурятско-калмыцкими ламами во время проживания в буддийском общежитии в Старой Деревне. Скорее всего это были довольно поверхностные знания, ибо трудно представить себе, чтобы европеец, не владеющий тибетским языком, мог овладеть столь сложной религиозно-философской системой всего за несколько месяцев. Сами ламы обычно изучают Кала-чакру в специальных монастырских школах — «дуйнхор-дацанах», где курс обучения обычно длится 4 года. Следовательно, А. В. Барченко имел возможность познакомиться с высшим тантрийским учением лишь в самых общих чертах, но, вероятно, этих знаний оказалось вполне достаточно для включения им тибетской тантры в общую систему Древней науки. И действительно, в письме Г. Ц. Цыбикову А. В. Барченко говорит об учении Калачакры довольно невнятно и туманно. В целом учение характеризуется им как некая «универсальная наука», представляющая «синтез всех научных знаний». Сам термин «дуйн-хор» (буквально «колесо времени») Ф. К. Шварц и Г. И. Бокий переводят — по-видимому, со слов А. В. Барченко — соответственно как «семь кругов» и «семь кругов знания». Такое понятие, однако, не встречается в известной нам литературе Калачакра-тантры. Возможно, в данном случае речь идет о древней космологической концепции «Семи кругов» (небес, миров, сфер), с которой мы встречаемся, например, у Платона и в книгах Гермеса. В своей лекции о картах Таро (см. приложение 1) А. В. Барченко утверждает, что число СЕМЬ — символ «Великого Универсального механизма» Божественного Творчества, иначе «Великого Универсального Круговорота». А в записке для членов ЕТБ он говорит о семикратной смене цивилизаций в рамках Большого земного цикла. Вспомним также о семи окружностях Археометра Сент-Ива — «ключа ко всем религиям и наукам древности». Вообще же число 7 облечено большим сакральным смыслом в эзотерической символогии, особенно в учении розенкрейцеров (7 космических кругов, или планов, 7 Великих Логосов, 7 планетарных духов, 777 Инкарнаций, семиричная конституция человека и т. д.)[231] Аналогичным образом и у Г. И. Гурджиева мы встречаемся с понятием 7 космосов или миров. Но в таком случае А. В. Барченко, очевидно, употреблял тибетский термин Дуинхор в отрыве от его прямого значения, как синоним Древней науки в целом.
В то же время можно с большой уверенностью утверждать о том, что в практическом плане самое ценное в Древней науке для А. В. Барченко — это, во-первых, ее «синтетический метод», который, как уже говорилось, А. В. Барченко пытался применять для обработки экспериментальных (лабораторных) данных, и, во-вторых, психотехника («тантрическая созерцательная тренировка»). Конечная цель такой «тренировки» формулировалась им как «индивидуальное совершенствование вплоть до степени возбуждения в себе крестцовой чакры»[232] — то, что на языке йоги называется «пробуждением Кундалини». Мы уже говорили, о том, что Барченко, по-видимому, был достаточно хорошо знаком с индийской йогой. Но он также пытался использовать знание о «чакрах» (которые он называет «главными ганглиозными узлами») в своей довольно оригинальной медицинской практике. Э. М. Кондиайн рассказывает такую курьезную историю:
«У меня с 1921, после рождения Олега, сделалось расстройство обмена веществ, болело колено 2 года. Меня лечили врачи, но боль становилась все сильнее, не давала спать по ночам, с трудом ходила. А. В. Барченко меня вылечил за один месяц чугунным утюгом. Я ложилась на пол на живот между двумя опрокинутыми табуретками. На палке между табуретками подвешивался горячий утюг над моим крестцовым сплетением. Первый раз — в течение 10 минут. Этого оказалось слишком много. Ночью боли у меня усилились и поднялась температура. Уменьшили продолжительность процедуры до 3 минут, прибавляя по одной минуте в день. Остановились на 20 минутах».
Усилия А. В. Барченко, направленные на просвещение коммунистических вождей посредством эзотерического знания, оказались столь же бесплодными, как и его попытка связать «Больших большевиков» с духовными водителями мира, обитающими в Шамбале. Лекции А. В. Барченко, адресованные крошечной группе московских партийцев (заметим, далеко не самых высокопоставленных и влиятельных), сколь бы увлекательными и познавательными они ни были, не могли оказать существенного влияния на идеологию большевиков. Теория А. В. Барченко о высокоразвитой доисторической культуре должна была казаться откровенной ересью любому правоверному марксисту. Известно, что В. И. Ленин решительно отрицал существование «золотого века» в доисторическую эпоху, утверждая, что первобытный человек был «совершенно подавлен» трудностью жизни и трудностью борьбы с природой[233]. И все же тот факт, что инициатива А. В. Барченко совпала по времени с выступлением зиновьевско-троцкистской оппозиции, ставшей кульминацией идеологического брожения в партийных рядах, наводит на мысль: не мог ли А. В. Барченко, столь энергично выражающий в письме Г. Ц. Цыбикову свое несогласие с восточной политикой большевиков, быть связан с кем-либо из оппозиционеров? Например, с Л. Д. Троцким?
Напомним, что Троцкий, исходя из своей теории «перманентной революции», резко критиковал в 1927 г. линию партии и Коминтерна в вопросе о китайской революции, как и вообще «безграмотный» бухаринско-сталинский курс в отношении восточных стран. Правда, у нас нет сведений о прямых контактах между А. В. Барченко и Л. Д. Троцким, в то же время А. А. Кондиайн в своих показаниях говорит о том, что А. В. Барченко был связан в Москве с женой Троцкого, Бронштейн[234]. Г. И. Бокий, со своей стороны, на одном из допросов признался, что всегда был троцкистом и после высылки Троцкого поддерживал с ним постоянную и тесную связь[235]. И хотя достоверность подобного «признания» довольно сомнительна, в принципе нельзя исключить того, что А. В. Барченко мог передать Л. Д. Троцкому — через его жену или через Г. И. Бокия — свой «доклад» о Древней науке, на что вроде бы и намекает А. А. Кондиайн. В одной из поздних работ Л. Д. Троцкого мы находим довольно любопытный пассаж:
«Марксизм исходит из развития техники, как основной пружины прогресса, и строит коммунистическую программу на динамике производительных сил. Если допустить, что какая-либо космическая катастрофа должна разрушить в более или менее близком будущем нашу планету, то пришлось бы, конечно, отказаться от коммунистической перспективы, как и от многого другого. За вычетом же этой, пока что проблематичной, опасности нет ни малейшего научного основания ставить заранее какие бы то ни было пределы нашим техническим, производственным и культурным возможностям. Марксизм насквозь проникнут оптимизмом прогресса и уже по одному этому, к слову сказать, непримиримо противостоит религии»[236].
Значит ли это, что Л. Д. Троцкий был знаком с оккультной теорией мировых катаклизмов? Если это так, то процитированный отрывок недвусмысленно указывает на его негативное отношение к ней. А следовательно, А. В. Барченко, если он действительно установил связь с Л. Д. Троцким, едва ли мог рассчитывать на понимание и поддержку с его стороны. Но такое понимание он безусловно нашел в лице своего главного московского покровителя Г. И. Бокия, наличности которого здесь хотелось бы остановиться чуть подробнее.
Л. Разгон в книге воспоминаний «Плен в своем отечестве» рисует довольно привлекательный образ руководителя загадочного Спецотдела «при ОГПУ» Глеба Ивановича Бокия. Старый большевик, член петроградского ВЧК в период подготовки Октябрьского восстания, а затем, после победы революции, председатель ПЧК, он имел много «странностей». К примеру, «никогда никому не пожимал руки, отказывался от всех привилегий своего положения: дачи, курортов и проч. <…> Жил с женой и старшей дочерью в крошечной трехкомнатной квартире, родные и знакомые даже не могли подумать о том, чтобы воспользоваться для своих надобностей его казенной машиной. Зимой и летом ходил в плаще и мятой фуражке, и даже в дождь и снег на его открытом „паккарде“ никогда не натягивал верх»[237]. По словам Л. Разгона, близко знавшего Бокия, Глеб Иванович «принадлежал к совершенно иной генерации чекистов, нежели Ягода, Паукер, Молчанов, Гай и др. <…> Это был человек, происходивший из старинной интеллигентной семьи, хорошего воспитания, большой любитель и знаток музыки»[238]. И вместе с тем, именно Г. И. Бокий «руководил» красным террором в Петрограде, именно его подпись стоит под списками заложников ПЧК, именно по его инициативе были созданы первые концлагеря в Советской России. Правда, известно и о том, что Г. И. Бокий выступил против применения самосуда в отношении контрреволюционеров в сентябре 1918 г., чем навлек на себя гнев главы Петросовета Г. Е. Зиновьева, который в результате «вышиб» его из Петрограда[239].
После ареста в 1937-м Г. И. Бокий поведал следователе о своих давних «политических расхождениях» с партией, возникших под влиянием таких событий, как подписание большевиками Брестского мира, Кронштадский мятеж, введение НЭПа и завещание Ленина, что в конечном счете привело его к «внутреннему разладу» и увлечению мистикой. Признался он и в том, что еще в 1909 г. вступил в масонскую ложу (орден розенкрейцеров), членами которой якобы являлись академик С. Ф. Ольденбург и «английский шпион» Н. К. Рерих[240]. И хотя мы хорошо знаем цену подобных признаний, все же в показаниях Г. И. Бокия, наряду с явным самооговором, можно найти и немало достоверных сведений, тем более, что аналогичные «расхождения с партией» имелись и у многих других представителей большевистской «старой гвардии». Вполне можно допустить, что в юности Г. И. Бокий увлекался оккультизмом — «занимался познанием абсолютной истины», говоря его собственными словами, что объясняет столь неожиданно вспыхнувший в нем интерес к теории о «существовании абсолютных научных знаний». Фантастичные идеи Барченко, по-видимому, действительно произвели большое впечатление на интеллигентного и аскетичного начальника Спецотдела. Хотя, с другой стороны, конечно же, Глеба Ивановича едва ли можно считать «скрытым масоном». По свидетельству Э. М. Кондиайн, «Г. И. Бокий был глубоко заинтересован работами А: В. Он был его другом и опорой».
В мае 1921 г. Г. И. Бокий создал криптографическую службу при ВЧК — так называемый Спецотдел (СО)[241]. Главной ее задачей являлась охрана государственной тайны. (Л. Разгон сравнивает СО с Агентством Национальной Безопасности США.) Как явствует из показаний Г. И. Бокия, Спецотдел имел собственный источник дохода от продажи различным учреждениям сейфов («несгораемых шкафов») — средства, которыми лично распоряжался Г. И. Бокий. Возможно, что из этого «фонда» и финансировались командировки А. В. Барченко и его научная работа, о которой более подробно мы будем говорить в следующей главе. Здесь, однако, важно отметить, что тайноохранительная функция далеко не исчерпывала деятельность СО. Г. И. Бокий стремился привлечь к сотрудничеству различных экспертов и ученых в областях, представлявших наибольший интерес для ОГПУ. Так, в мае 1925 г. Г. И. Бокий принял на работу в свое учреждение К. К. Владимирова[242], вероятно, в качестве графолога, поскольку один из подотделов СО (7-й) занимался экспертизой почерков.
16. Новые поиски
Расставшись с Главнаукой, А. В. Барченко, как уже говорилось, перешел в ВСНХ, где был зачислен консультантом научно-технического отдела. Там официально он занимался в основном исследованиями в области гелиодинамики и изучением лекарственных растений. В то же время мы знаем, что Бокий помог ученому организовать собственную лабораторию, где А. В. Барченко, по-видимому, возобновил свои парапсихологические опыты, поскольку они представляли большой интерес для Спецотдела. Эта секретная «спецлаборатория» позднее перекочевала под крышу Московского энергетического института, а в 1934 или 1935 г. — в здание Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ), где она стала называться нейроэнергетической. В этой лаборатории работала и одна из его учениц, Л. Н. Шишелова-Маркова. (По свидетельству Разгона, организатору и директору ВИЭМ Л. Н. Федорову покровительствовал бывший ученик А. В. Барченко И. М. Москвин.) О характере исследований ученого в этот период (1927–1937) позволяет судить название его большой монографии, конфискованной НКВД в 37-ом: «Введение в методику экспериментальных воздействий объемного энергополя».
Некоторое представление о направлении поисков А. В. Барченко во 2-й половине 1920-х дают весьма интересные, хотя и обрывочные сведения из показании А. А. Кондиайна. Так, он «„признался“ следователю, что в 1926 г. получил от А. В. Барченко „задание“ — проникнуть в среду сотрудников Пулковской обсерватории с целью получения данных о новейших астрономических открытиях». В результате он свел знакомство с заместителем директора обсерватории, астрономом и астробиологом Г. А. Тиховым — тем самым, который ранее тесно сотрудничал с мироведами. Их контакт, правда, оказался малопродуктивным. «Знакомство с Тиховым результатов не дало, т. к. кроме сведений о плане работы Пулковской Обсерватории и одной научной работы на тему о „поглощении света в мировом пространстве“ мне других сведений достать не удалось»[243].
Интересно также и сообщение А. А. Кондиайна о метеорологе Л. Г. Данилове: «В 1925 я был командирован Барченко и Бокием в Винницу с заданием познакомиться с проф. Даниловым Леонидом Григорьевичем и выяснить практические результаты его работы, которой он занимается в течение 20 лет. <…> Его работа имеет большое научное значение, т. к. вскрывает весь механизм атмосферы и, в частности, дает возможность предсказывать погоду на долгие сроки»[244]. С А. А. Кондиайном Л. Г. Данилов послал в Москву для А. В. Барченко свое большое исследование «Теория волновой погоды». (О судьбе этого труда нам ничего не известно, кроме довольно странного заявления А. А. Кондиайна о том, что он был «похищен» другим ученым, метеорологом Б. П. Мультановским, и переправлен за границу.)
Особенно большой интерес А. В. Барченко и А. А. Кондиайн проявляли к теории 11-летней периодичности пятнообразования на Солнце. Так, в письме Г. Ц. Цыбикову в начале 1927 г., ссылаясь на статью французского астрофизика Эмиля Туше «Тайны Солнца»[245], А. В. Барченко писал:
«Для посвященного в тайну Дюнхор не может быть сомнений, что западно-европейская наука случайно натолкнулась в этой теории на механизм, составляющий главную тайну Дюнхор. Пока еще аналитический метод европейской науки мешает ей оценить всю важность этой теории. Но достаточно какому-нибудь вдумчивому исследователю сделать попытку перенести на бумагу, на плоскость картину, аналитически вычисленную проф. Туше, чтобы обнаружилась тайна Дюнхор и других механизмов. А в руках современной техники, уже знакомой с применением ультра-фиолетовых и инфракрасных лучей, эти механизмы, открывая механизм действия „малых причин“, механизм космического резонанса и интерференции, механизм стимуляции космических источников энергии, грозит вооружить буржуазную Европу еще более кровавыми средствами истребления»[246].
В приведенной выше цитате не трудно увидеть намек на ту работу, которой занимались А. В. Барченко и А. А. Кондиайн — то, что Э. М. Кондиайн называет «проверкой Универсальной Схемы». Одна из тем, наиболее интересовавших обоих ученых, это ритмические («унисональные») колебания в природе и их влияние на человека. В архиве К. К. Владимирова хранится рукопись, автором которой, по-видимому, является А. А. Кондиайн[247]. По сути это краткое резюме основных представлений европейской науки того времени (середина 1920-х) — материал для работы с УС. Вот название разделов этой работы: некоторые специфические черты ритмических колебаний, координационные числа неорганических и органических процессов, основы ритмических колебаний, современные представления о структуре вещества, о свете, данные современной науки о лунном свете, о роли солнца в жизненных процессах, данные современной биологии. В воспоминаниях Э. М. Кондиайн мы находим любопытную запись — мысли А. В. Барченко об универсальной природной «ритмики» — штрих к портрету А. В. Барченко-ученого. «Все в мире ритмично, начиная с движения светил, смены времен года, смены дня и ночи, дыхания, кровообращения до движения электронов. Внешние колебания действуют на живой организм. А. В. не допускал в комнате обои с рисунком. Рисунок, считал он, дает негармоничные колебания, которые разрушают гармоничные ритмы живого организма. А. В. оклеивал стены обоями лицевой стороной к стене и окрашивал обои клеевой краской интенсивно золотисто-оранжевого цвета. Стены получались матовые»[248].
Еще один любопытный факт: А. В. Барченко и А. А. Кондиайн считали, что внутри солнца находится вещество не подчиняющееся известным человеку законам. Прорываясь на поверхность, это вещество и образует солнечные пятна. (Речь, конечно, идет о плазме, о которой в ту пору науке еще ничего не было известно.)
В конце 1926 г. Кондиайны, давно уже подумывавшие о том, чтобы перебраться на юг, уехали в Крым. Поначалу остановились в местечке Азиз под Бахчисараем. К ним вскоре (в марте 1927 г.) присоединился и А. В. Барченко со своей кочевой «семьей». Крымский полуостров привлекал к себе его внимание тем, что здесь, по учению Сент-Ива, находилась одна из главных колоний «Черной расы» — Таврида (древняя Таврика). (Другие колонии это Египет, Малая Азия, Китай, Япония, Персия и Тибет; метрополией же цивилизации Черных была Эфиопия — Абиссиния!) Особенно большой интерес у А. В. Барченко и Тамиила вызывали так называемые «пещерные города» в юго-западной части полуострова: Тепе-Кермен, Качи-Кальен, Чуфут-Кале, Эски-Кермен, Мангуп. Особенность этих «городов» заключается в том, что они состоят не только из наземных построек в виде остатков крепостей, монастырей и жилых зданий, но и подземных, вырубленных в толще мягких известняковых пород помещений, т. е. пещер. В Тепе-Кермене таких пещер насчитывается, например, 250, в Чуфут-Кале 167, а в Кыз-Кермене всего 3. По поводу происхождения и времени создания этих памятников существует три основные гипотезы. Согласно первой из них, пещерные комплексы были созданы неолитической культурой — киммерийцами, таврами и скифами (VIII–VII века д. н. э.). Согласно второй — это творения ранних христиан, спасавшихся от преследований римлян. И наконец, существует мнение, что «пещерные города» это не поселения, а некрополи со склепами, на подобии римских катакомб[249]. Наиболее древние из «городов» (Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Мангуп) датируются VI–VII веками н. э., тогда как большинство монастырских построек относится археологами к более позднему периоду (VIII–IX вв.). В то же время установлено наличие в Крыму пещерных стоянок древне-каменного века, палеолита (80–7 тысяч лет до н. э.)[250]. Барченко и Тамиил, по воспоминаниям О. А. Кондиайна (сына А. А. Кондиайна), пытались отыскать среди развалин городищ следы доисторической культуры. Их внимание особенно привлекли загадочные древние орнаменты на камнях, сохранившихся, по-видимому, от построек более архаичного периода. Заметим, кстати, что в 1920-е гг. в Крыму работало немало советских археологов, занимавшихся обследованием, разведкой и раскопками в городищах, что вероятно, послужило дополнительным импульсом для поисков Барченко и Кондиайна[251].
Находясь в Крыму, А. В. Барченко вместе со своим учеником возобновили серию экспериментов со светом, начатых им когда-то в «черной лаборатории» в Петрограде. Например, ставили опыты, доказывающие, что световое излучение бесцветно — та или иная окраска лучей (т. е. цвет) появляется в результате смешения черного и белого спектров. Для этого они вырезали из светлого картона диски и частично закрашивали их поверхность черной краской. Эти диски затем прикреплялись к маховому колесу швейной машины. Быстрое вращение колеса — при направлении на него потока света из какого-либо источника — давало ощущение цвета, который менялся в ту или другую сторону спектра в зависимости от величины «черного сектора» на диске. Идея подобных опытов, возможно, была навеяна популярной брошюрой А. К. Тимирязева («О свете, цветах и радуге»). В ней, между прочим, рассказывается о способе «смешения цветов» при помощи быстрого вращения насаженного на ось картонного круга, раскрашенного различными красками[252]. Ставились и опыты с целью установить характер влияния световых волн различной длины на живые организмы — растения и животных. Так, по рассказу Э. М. Кондиайн, А. В. Барченко «освещал» белых крыс через различные светофильтры. Выяснилось, что синие и фиолетовые лучи оказывают на животных губительное воздействие.
Весна 1927 года надолго осталась в памяти А. А. и Э. М. Кондиайнов. Запомнилось прежде всего счастливое время, проведенное в обществе Барченко — совместные прогулки-экскурсии в горы, обследование загадочных «пещерных городов», научные эксперименты. Э. М. Кондиайн вспоминает также ботанические «уроки» Барченко: «Весной А. В. ходил с нами по степи и показывал лекарственные растения — мак, адонис верналис, тысячелистник, полынь и др.» Этой же весной произошло и печальное событие — нелепая ссора между А. В. и Тамиилом, приведшая к разрыву между ними. Поводом для нее послужило то, что Тамиил нечаянно разбил комплект цветных липмановских пластинок — собственноручно изготовленных им, на которые были засняты все крымские опыты. Эти диапозитивы А. В. предполагал отправить в Москву с приехавшим в Бахчисарай Королевым и потому их утрату воспринял крайне болезненно, обвинив А. А. во «вредительстве и измене». О. А. Кондиайн, однако, подлинную причину разрыва видит в другом — «Мой отец в отличие от Барченко считал, что знания содержащиеся в древней науке, обнародовать нельзя, т. к. они могут быть использованы во зло. Кроме того, А. В., считая себя учителем, настаивал на том, чтобы отец признал себя его учеником, что обрекло бы его на полное ему подчинение». И действительно, А. В. Барченко придавал большое значение идее ученичества в контексте созданного им «братства»; изучение основ Древней науки, с его точки зрения, было допустимо «либо в порядке прямого, преемственного посвящения в степень ученика и брата, либо в порядке сообщения знаний правомочному коллективу», как это имело место в случае с московской группой учеников[253]. В этом можно усмотреть желание А. В. Барченко строго следовать восточной традиции с ее акцентом на сохранении линии преемственности при передаче эзотерического знания. Тамиил, однако, не хотел связывать себя какими-либо обязательствами по отношению к своему «гуру», зная, что ученичество предполагает беспрекословное подчинение ученика учителю.
А. В. Барченко уехал из Бахчисарая вскоре после ссоры с Тамиилом. «Тяжело мы переживали разлуку с А. В., — вспоминает в своих записках Э. М. Кондиайн. — Тамиил с этого времени сильно изменился, стал замкнутым, мрачным. Пытался восстановить отношения с А. В. Ездил к нему в Москву, раз в Кострому, но отношения оставались холодные, натянутые. И он быстро возвращался еще более убитым».
Рассказывая немало любопытного о пребывании А. В. Барченко в Крыму весной 1927 г., Э. М. Кондиайн ничего не говорит о его контактах с местными мусульманскими сектами, которые он также причислял к хранителям «Традиции Дюнхор». Об этом мы узнаем из другого источника — от Г. И. Бокия, который сообщает, что А. В. Барченко во время поездки в Бахчисарай в 1927 г. установил связь с членами мусульманского дервишского ордена Саиди-Эддини-Джибави и впоследствии вызывал в Москву и приводил к нему сына шейха (главы) этого ордена. Примерно в это же время, согласно Бокию, А. В. Барченко также ездил в Уфу и Казань, где установил связь с дервишами орденов Накш-Бенди и Халиди[254]. Сам А. В. Барченко также признался в ходе следствия, что начиная с 1925 г. он предпринял ряд попыток к сближению с представителями различных «религиозно-мистических сект» — с хасидами, исмаилитами, суфийскими дервишами, караимами, тибетскими и монгольскими ламами, алтайскими старообрядцами-кержаками и костромскими странниками-голбешниками. Цель этих встреч состояла в том, чтобы соединить внешне разрозненные ветви единой эзотерической традиции. В то же время А. В. Барченко ставил перед собой и более конкретную задачу — организовать всесоюзный «съезд» посвященных в Древнюю науку. Такой съезд должен был продемонстрировать советскому правительству реальность существования и научную ценность древнейшей Традиции, а также выработать рекомендации относительно применения в СССР «в самом широком масштабе» многих, «из тех воспитательно-технических методов, которыми владеет Дюнхор»[255]. Провести съезд предполагалось в Москве в конце 1927 г. или в 1928 г.
Эта новая инициатива А. В. Барченко родилась опять-таки под влиянием Сент-Ива, который в своей книге «Миссия Индии в Европе» ратовал за созыв «европейского Вселенского Собора» представителей «всех вероисповеданий и всех Университетов» (т. е. эзотерических школ). Идею съезда-собора восточных ученых-эзотериков, по словам А. В. Барченко, одобрил в 1923 г. и Нага-Навен: «От Нага-Навена я получил также указания на желательность созыва в Москве съезда мистических объединений Востока и на возможность этим путем координировать шаги Коминтерна с тактикой выступления всех мистических течений Востока, которыми, в частности, являются гандизм в Индии, шейхизм в Азии и Африке»[256].
Определенная работа по выявлению и объединению российских адептов Древней науки велась А. В. Барченко подспудно в течение нескольких лет. Однако, решение о созыве «съезда» он окончательно принял лишь после поездки в Кострому в начале марта 1927 г. Костромичи-искатели Беловодья «формально» приняли его «в свою среду» и уполномочили «известить всех иноплеменников, владеющих Традицией Дюнхор», о своей работе в России[257]. С этой целью, приехав из Костромы в Крым (Бахчисарай), А. В. Барченко незамедлительно вступил в контакт с шейхами суфийских орденов Саадия и Пакшбандия, а также обратился письменно к ряду известных ему лиц; «посвященных» в Традицию, в том числе к Хаян-Хирве, Нага-Навену и Г. Ц. Цыбикову, приглашая их принять участие в съезде. Письма Г. Ц. Цыбикову и Хаян-Хирве должен был собственноручно доставить В. Н. Королев. (Окончивший годом ранее ЛИЖВЯ, последний получил в марте 1927 г. в Наркоминделе назначение на должность секретаря советского консульства в Алтан-Булаке — на границе с МНР, однако прежде чем проследовать к месту работы, решил навестить А. В. Барченко в Бахчисарае.) Любопытно, что для связи с Хаян-Хирвой А. В. Барченко вручил В. Н. Королеву «пароль» — нарисованный на бумаге знак Розы и Креста. Хаян-Хирве А. В. Барченко также отправил письмо для передачи Нага-Навену, который в то время находился во Внутренней Монголии. (Складывается впечатление, что Нага-Навен был связан с другим тибетским оппозиционером — Панчен-ламой, который в декабре 1923 бежал с группой своих сторонников в Китай по причине недовольства прозападными реформами Далай-ламы. Вскоре после того как Панчен-лама в начале 1927 г. перебрался из Пекина в Мукден, поползли слухи о его скором возвращении в Тибет, что, по мнению лам, указывало на приближение сроков Шамбалинской войны. А. В. Барченко, разумеется, хорошо знал о древнем буддийском пророчестве, и его письмо к Г. Ц. Цыбикову проникнуто острым предчувствием грядущего мирового катаклизма.)
После отъезда из Крыма А. В. Барченко продолжил работу по организации съезда адептов Древней Науки. Во время вторичного посещения Костромы в 1927 г. он встретился с сыном шейха ордена Саадия на квартире Ю. В. Шишелова. (Последний после обучения в ЛИЖВЯ перебрался в Кострому, где устроился на работу в милиции.) Здесь же в Костроме, ожидая прибытия из заграницы некоего «представителя ордена Шамбала»[258], ученый неожиданно был арестован ОГПУ, но его вскоре освободили после вмешательства Г. И. Бокия. По сведениям А. А. Кондиайна, А. В. Барченко в тот же период встречался и с главой хасидов Шнеерсоном, впоследствии высланным из СССР[259]. Какие-либо подробности этих встреч нам не известны.
Цель обращения А. В. Барченко к Г. Ц. Цыбикову состояла прежде всего в том, чтобы привлечь известного тибетолога, а вместе с ним и некоторых высокоученых бурятских лам, к участию в намеченном съезде. Более конкретно А. В. Барченко предлагал Гомбожабу Цэбековичу выступить в роли переводчика и эксперта-консультанта по вопросу о «бытовых формах ламаизма». В то же время он просил его прочитать курс тибетского письменного и разговорного языка московской группе изучающих Древнюю науку. Предлинное послание Барченко (составляющее в перепечатке более 30 страниц!), как кажется, чрезвычайно удивило бурятского профессора. А потому ответил он на него не сразу, а почти полгода спустя, после долгих размышлений и, возможно, наведения справок о незнакомом ему столичном ученом. Посетив в апреле 1927 г. с научной командировкой Монголию (Улан-Батор), Цыбиков неожиданно обнаружил там истоки новой идеологии — книги Ц. Жамцарано и Н. К. и Е. И. Рерихов. Вот как он рассказывает об этом в своем путевом дневнике:
«После переезда на новую квартиру <…> получил обратно заграничный паспорт, отобранный на аэродроме. Потом побродил по магазинам и лавкам, вернулся пешком в учкомовскую квартиру свою. Читать пока нечего. У Жамцарано прочитал „Основы буддизма“. Написана в апологетическом тоне, сопоставляет учение Будды с новым мировоззрением. Художник Н. Рерих напечатал и выпустил здесь несколько книжек в этом духе. Сопоставляя такое новое течение с содержанием письма Борченко (орфография публикаторов дневника — А. А.), приходится заметить, что, должно быть, появляется новое веяние — основать социализм на принципах древнего буддизма. Какое это течение, пока судить не берусь. Разбор дам по возвращении к письму Борченко, которое оставил в Верхнеудинске»[260].
Ответное письмо Г. И. Цыбикова А. В. Барченко не сохранилось. Мы знаем только, что оно было датировано 22 ноября 1927. О его содержании можно судить лишь отчасти по некоторым репликам из второго письма Барченко бурятскому ученому (начато 27 декабря 1927 и закончено 24 марта 1928), которые позволяют говорить о том, что Цыбиков отнесся к сделанным ему предложениям с изрядной долей недоверия и скепсиса. В этом новом послании А. В. Барченко решительно отвергал брошенные ему академиками-ориенталистами вкупе с «лицом из высшего ламайского духовенства» (то есть Доржиевым) обвинения и вновь аргументированно доказывал своему корреспонденту необходимость «посвятить идейных руководителей России в подлинную сущность того научного богатства, коим скрыто владеет Восток». При этом он подчеркивал близость основных положений системы Дюнхор и материалистического учения большевиков. «Учителя марксизма» — Маркс, Энгельс и Ленин, утверждал он, не ведая о тысячелетней исторической ошибке западной науки, интуитивно (курсив А. А.) осознали «основы универсальной синтетической истины», в свое время ставшей достоянием древнейшей культуры Востока. «Эта истина осознана ими вплоть до общей формулировки основного космического процесса, лежащего в основе центральной тайны Дюнхор»[261]. Для подкрепления такого вывода А. В. Барченко послал Г. Ц. Цыбикову вместе с письмом один из философских трудов Ф. Энгельса, в котором отчеркнул карандашом обнаруженные им аналогии с тантрийским учением. (Возможно, это был «Анти-Дюринг», поскольку именно на него А. В. Барченко неоднократно ссылался в первом письме.)
Но что более всего привлекало А. В. Барченко в марксистском учении, это его социальная программа: ликвидация имущественных («экономических») классов и их замена классами на профессиональной основе (т. е. профессиональными социальными группами), а также борьба с накопительством. Проведение в жизнь этой программы, по мнению А. В. Барченко, должно было бы привести к существенному оздоровлению государства и общества. Помочь большевикам в этом могли бы «владеющие тайной Дюнхор», поскольку они имеют «многотысячелетний опыт воспитания естественных профессиональных классов»[262].
17. Шамбала перед судом ЧК
Конец 1920-х для А. В. Барченко был временем крушения многих его надежд и планов. Рухнула идея созыва съезда «посвященных в Дюнхор», прекратились занятия с «парт-оккульт-кружком» Бокия и разъезды по стране с целью координации работы различных ветвей хранителей Древней науки. Последняя поездка А. В. Барченко вместе с женой в Уфу, по-видимому, для встречи с представителями какого-то мусульманского ордена, состоялась летом 1930 г. Единственная радость — дети, появившиеся на свет во время этих путешествий: в 1927 г. в Юрьевце родилась дочь Светлана, а через 3 года в Уфе сын Святозар.
9 июля 1927 г., в то время как А. В. Барченко со своей женой и ученицами находился в Юрьевце, ОГПУ арестовало в Ленинграде его покровителя К. К. Владимирова. Суть выдвинутых против Константина Константиновича обвинений сводилась к тому, что вращаясь в 1926–1927 гг. среди ленинградских литераторов и художников, он рассказывал им о прежней своей службе в ЧК и тем самым «разглашал не подлежащие оглашению сведения». В ходе следствия выяснилась одна любопытная подробность — после ухода из «органов» К. К. Владимиров продолжал тайно сотрудничать с учреждением на Гороховой.
«С 1920 по настоящее время как бывший сотрудник ВЧК — ГПУ (я) считал себя обязанным сообщать в ГПУ о всех известных мне случаях преступлений экономического и политического характера; по мере поступлений из разных источников материалов и сведений, передавал таковые в виде донесений и рапортов отдельным товарищам в разные отделы ПП. (Полномочного представительства ОГПУ в Ленинграде — А. А.) В списках секретных сотрудников ГПУ я не состоял и никакими анкетами и подписями с ГПУ не связан»[263].
Некоторый свет на характер добровольного «идейного» сотрудничества К. К. Владимирова с ОГПУ проливают приобщенные к следственному делу документы — изъятые при обыске у него анонимные «донесения» о деятельности видных питерских и московских оккультистов, в числе которых встречается и имя А. В. Барченко[264]. Это позволяет предположить, что К. К. Владимиров по заданию ОГПУ — а совсем не по собственной инициативе — руководил некой секретной агентурной сетью, занимавшейся сбором компромата на «масонские организации» в обеих столицах. Одно из донесений адресовано лично некоему Леонову — возможно, речь идет об А. Г. Леонове, члене Ленсовета, ведавшим вопросами религиозных культов. Проходивший свидетелем по делу К. К. Владимирова писатель Иероним Ясинский сообщает, что К. К. Владимиров однажды в 1927 г. признался ему, что «заведует культами, по линии ГПУ». Анализ содержания «донесений» информаторов К. К. Владимирова показывает, что ОГПУ особенно интересовалось заграничными связями российских масонов. Вполне возможно, что собранная таким образом информация была использована для возбуждения так называемого «масонского дела» в Ленинграде в январе 1926 г.
Ленинградская прокуратура по просьбе руководства ПП ОГПУ ЛВО не стала рассматривать дело К. К. Владимирова «в общесудебном порядке», поскольку это могло бы «причинить ущерб конспиративным методам работы в ОГПУ», а передала его в Особое Совещание Коллегии ОГПУ в Москву. В результате, 17 августа 1927 г. К. К. Владимирову был вынесен приговор по статье 121 УК РСФСР — «выслать через ОГПУ в Сибирь сроком на три года»[265]. А через 4 месяца (21 декабря) Президиум ЦИК СССР во главе с А. С. Енукидзе принял решение относительно конфискованной у К. К. Владимирова библиотеки, постановив: удовлетворить ходатайство ОГПУ и передать все изъятое — 3188 книг, 24 607 единиц автографов и рукописей и 965 штук фотографий — в Областной отдел Народного Образования для распределения в соответствующие учреждения[266].
На этом, однако, злоключения К. К. Владимирова не кончились. В конце мая 1928 г. К. К. Владимиров, который к этому времени уже отбыл 9 месяцев в административной ссылке в Томском округе, был неожиданно доставлен под конвоем в Новосибирск, а оттуда отправлен в Москву на Лубянку. Здесь 1 июня ему предъявили новое обвинение — в шпионаже в пользу Англии. К. К. Владимиров с изумлением узнал, что является резидентом английской шпионки Фриды Лесман, той самой, с которой у него в 1919-ом был мимолетный роман и которую он давно уже успел забыть. Но следователь напомнил К. К. Владимирову о его знакомстве с Ф. Лесман и о «бесследно пропавшем» из ПЧК деле ее мужа англичанина Тернера, которое вел К. К. Владимиров. Сообщниками оказались малознакомые ему люди: С. П. Загуляев, флагманский артиллерист бригады траления и заграждения Балмора, его жена М. А. Загуляева и А. В. Евсюков, командир башенной лодки «Сунь Ятсен» Дальневосточной военной флотилии. Сущность инкриминированного К. К. Владимирову преступления состояла в том, что он якобы занимался сбором военных сведений среди военнослужащих РККА, которые передавал Загуляеву, а тот затем переправлял их заграницу — в Англию — Ф. Лесман[267]. К. К. Владимиров, однако, виновным себя не признал — находясь в тюремной камере, он пишет отчаянные письма в прокуратуру, просит представить ему «конкретные обвинения», а не «пустые слова». Но это был глас вопиющего в пустыне. 5 ноября 1928 г. — вскоре после разрыва англо-советских отношений, в самый разгар шпиономании в стране — ОС Коллегии ОГПУ вынесла приговор «четверке английских шпионов» — Загуляева и Владимирова расстрелять, Евсюкова и Загуляеву отправить в концлагерь на 5 лет[268].
В июне 1927 г. в Ленинграде был арестован также и П. С. Шандаровский, один из соруководителей ЕТБ, по обвинению в «попытке создания масонской ложи» (группа М. А. Радынского). На допросе бывший ученик Г. И. Гурджиева, впрочем, решительно все отрицал: «О масонстве я знаю только по литературе. С масонами никогда не был связан. Вообще же я никогда ни в каких религиозных или других подобных объединениях не участвовал»[269]. Дело о группе Радынского, однако, вскоре развалилось и П. С. Шандаровского вместе с другими арестованными освободили из-под стражи под подписку о невыезде. О его дальнейшей судьбе нам ничего не известно.
Летом 1936 г., в канун Большого террора, в Крестах оказались еще двое учеников-покровителей А. В. Барченко из бывших чекистов — Э. М. Отто и А. Ю. Рикс. Оба проходили по делу так называемых «Фонтанников» — участников эстонской «троцкистской террористической организации», возглавлявшейся профессором Комуниверситета им. Сталина Я. К. Пальвадером. Э. М. Отто, работавшего фотографом в Русском музее, и его приятеля А. Ю. Рикса, заведующего ленинградским отделом сектора валюты и внешней торговли НКФ СССР, обвинили в подготовке теракта против членов ЦК КПЭ и Эстсекции Коминтерна Я. Я. Анвельта и X. Г. Пегельмана. С этой целью первый их заговорщиков весной 1936-го якобы изготовил «адскую машину собственной конструкции»[270]. Поводом для покушения послужило разоблачение А. Ю. Риксом этих двух старых членов партии как бывших сотрудников царской охранки. В результате, 11 октября 1936 г. Выездная Сессия Военной Коллегии Верховного Суда СССР под председательством В. В. Ульриха вынесла всей пятерке «Фонтанников» — Я. К. Пальвадеру, Р. И. Изаку, А. И. Сорксепу, А. Ю. Риксу и Э. М. Отто — смертный приговор[271]. (В ходе следствия всплыл, между прочим, любопытный факт — первая жена Отто, Минна Петровна Инт, работавшая в 1917–1919 гг. в секретариате Г. Е. Зиновьева, находилась в интимной связи с могущественным главой Петросовета!)
О жизни самого А. В. Барченко между 1930 и 1937 годами нам известно, к сожалению, очень немногое. Так, в 1934–1935 он пытался завязать отношения с бывшими учениками Г. И. Гурджиева. От Меркурова, как уже говорилось, он получил дневник Александра Никифоровича Петрова и тогда же написал А. Н. Петрову в Грозный, где тот работал инженером. А. Н. Петров немедленно откликнулся на письмо и через некоторое время сам приехал в Москву — остановился на квартире у А. В. Барченко, где прожил около двух недель. Однако ничего нового о Г. И. Гурджиеве и его «работе» за границей он сообщить не смог[272].
Несмотря на ужесточение политического режима в стране — показательные процессы, первые волны массовых репрессий, антирелигиозную вакханалию, — А. В. Барченко не отказался от добровольно взятой на себя просветительской миссии и с завидным упорством продолжал добиваться встречи с руководителями советского государства. В начале 1936 г. он настойчиво просил своего патрона, Г. И. Бокия, в то время возглавлявшего 9-ый отдел ГУГБ НКВД, свести его с Молотовым и Ворошиловым, но Г. И. Бокий выполнить эту просьбу явно не торопился. Досадуя на медлительность Г. И. Бокия и, возможно, подозревая его, как и Тамиила, в измене, А. В. Барченко обратился тогда за помощью к своему другому покровителю Ф. К. Шварцу, работавшему фоторепортером «Союзфото» в Ленинграде. «Карлуша» срочно выехал в Москву, встретился с Бокием и Барченко и получил от последнего пакет с «докладом о науке Дюнхор» для передачи Ворошилову. Однако усилия Шварца также не увенчались успехом — на прием к наркому обороны ему попасть не удалось, правда, адъютант Ворошилова Хмельницкий пообещал передать своему шефу пакет Барченко.
Весной 1937 г. А. В. Барченко снова вызвал Шварца в Москву, где дал ему новое, еще более ответственное поручение — на этот раз без согласования с Г. И. Боким — встретиться со Сталиным!
«Барченко информировал меня о трудностях проникновения в круги руководителей партийных и советских работников, высказывал неудовлетворенность деятельностью Бокия, который недостаточно энергично добивается выполнения его, Барченко, указаний, и не может добиться встречи со Сталиным. Тогда я изъявил желание взяться за выполнение этого задания. Барченко дал согласие и при этом заявил: Постарайся добиться встречи со Сталиным»[273].
Но и эта попытка закончилась неудачей. «Я два раза пытался попасть на прием к Сталину», сообщил следователю Ф. К. Шварц, «первый раз в конце апреля я дал телеграмму на имя Сталина с просьбой принять меня. Ответа на эту телеграмму я не получил, тогда в июне месяце я лично сам поехал в Москву с целью добиться приема, но к Сталину меня не допустили, и я уехал из Москвы, не выполнив поручения Барченко. <…> При встрече со Сталиным я хотел рассказать ему о существовании „древней науки“ и убедить его в необходимости личного свидания с Барченко»[274].
Что касается Тамиила, то расставшись с А. В. Барченко, он не утратил интереса к их общему делу и самостоятельно продолжал работать с Универсальной схемой. Его жена Э. М. Кондиайн в 1929 г. поступила в издательство «Молодая гвардия» художником-оформителем. Летом 1934 г. она побывала с экспедицией в Восточной Сибири (район Витима и Олекмы), собирая материалы для учебника эвенкийского языка. Прежние связи Кондиайнов с другими членами «трудового братства» А. В. Барченко постепенно распались. Теплые, дружеские отношения сохранились только с К. Ф. Шварцем и его семьей. «Не покидал нас только Карлуша — верный товарищ», вспоминала Э. М. Кондиайн. «Одно лето он провел с нами на Кавказе в Красной Поляне с дочкой Элей. В 1936 г. он прошел с нами Военно-Сухумскую дорогу»[275].
16 мая 1937 был арестован Г. И. Бокий — хранитель Государственной тайны и тайный собиратель компромата на советских вождей. Уже на первых двух допросах 17 и 18 мая Глеб Иванович «покаялся» следователям — заместителю наркома внутренних дел, комиссару гос. безопасности 2 ранга Вельскому и старшему лейтенанту Али Кутебарову — в своих прегрешениях. Сообщил о созданной им еще в 1921 г. из сотрудников Спецотдела «Дачной Коммуне». А также об организованной в 1925 г. вместе с А. В. Барченко масонской ложе. «Органы» отреагировали на последнее заявление Г. И. Бокия серией арестов — один за другим с небольшими интервалами под стражу были взяты А. В. Барченко (22 мая) и другие бывшие члены ЕТБ в Ленинграде и Москве — Л. Н. Шишелова-Маркова (26 мая), А. А. Кондиайн (7 июня), К. Ф. Шварц (2 июля), В. Н. Ковалев (8 июля). Та же участь постигла и наиболее высокопоставленных «учеников» А. В. Барченко, входивших в московскую группу — И. М. Москвина и Б. С. Стомонякова, хотя их арестовали и не в связи с «делом Барченко».
Обвинительная формула Барченко звучала совершенно стандартно: создание «масонской контрреволюционной террористической организации Единое Трудовое Братство» и шпионаж в пользу Англии. Что касается А. А. Кондиайна, то его обвинили в том, что он являлся участником «контрреволюционной фашистско-масонской шпионской организации» и одним из «руководителей Ленинградского отделения ордена Розенкрейцеров, связанного с заграничным центром масонской организации „Шамбала“». Интересно отметить, что следователи присвоили московскому кружку А. В. Барченко особое название — «Шамбала-Дюнхор», что, по-видимому, должно было говорить о «маскировке» А. В. своей шпионской работы «лже-научной деятельностью».
Для обвинения А. В. Барченко и его «сообщников» руководство НКВД разработало следующую легенду. На территории одного из восточных протекторатов Англии — какого именно, в деле не указывалось — существует некий религиозно-политический центр «Шамбала-Дюнхор». Этот центр имеет широко разветвленную сеть филиалов или ячеек во многих азиатских странах, а также в самом СССР. Его основная задача состоит в том, чтобы подчинить своему влиянию высшее советское руководство, заставить его проводить угодную центру (вернее, Англии) политику. С этой целью А. В. Барченко и участники созданного им «филиала» восточного центра пытались получить доступ к советским руководящим работникам. В то же время организация «Шамбала-Дюнхор», являясь шпионско-террористической, активно занималась сбором секретных сведений и подготовкой терактов — против тех же самых советских руководителей! Согласно этой легенде, следователи НКВД без особого труда квалифицировали как акт шпионажа получение А. А. Кондиайном от проф. Л. Г. Данилова работы о волновой природе погоды с последующей ее переправкой за границу. (В протоколе допроса А. А. Кондиайна читаем: «Эта работа имеет большое оборонное значение, т. к. вскрывает возможность указывать направление ветра и могла быть использована для военных целей — полете аэропланов, газовых атак»[276].)
Что касается обвинения в терроризме, то следствию удалось «раскрыть» план покушения на товарища Сталина во время его летнего отдыха на Западном Кавказе, якобы разработанный К. Ф. Шварцом совместно с А. А. Кондиайном. По одному из вариантов этого плана, террористы собирались обстрелять лодку вождя, когда он будет кататься на озере Рица. С целью подготовки теракта К. Ф. Шварц дважды выезжал в Гагры, в 1935 и 1936 гг., поскольку был информирован Г. И. Бокием, что Сталин ежегодно отдыхает там. У обоих заговорщиков имелось личное оружие (револьверы). Кроме этого, боевая организация имела особую «пиротехническую лабораторию» для изготовления взрывчатых веществ, которая помещалась на даче Евгения Гопиуса под Москвой[277].
О самой Шамбале, как и о сущности учения Дюнхор, речи на допросах почти не заходило, поскольку эти темы для следователей, очевидно, большого интереса не представляли. А. В. Барченко, впрочем, охарактеризовал тибетско-гималайское убежище махатм как центр «Великого Братства Азии», объединяющий все мистические общины Востока, и, вероятно, так в действительности он и считал. В том же духе высказался и А. А. Кондиайн, назвавший Шамбалу «высшим масонским капитулом, с которым связаны все масонские ордена на Востоке». Ее влияние, пояснил он, распространяется, главным образом, на восточные страны — Китай, Тибет, Индию и Афганистан. На вопрос, к чему сводятся идеи древней науки, А. А. Кондиайн ответил — очевидно, по подсказке следователя: «Наша нелегальная организация пропагандировала мистику, направленную против учения Маркса — Ленина — Сталина»[278]. Так в ходе следствия по делу А. В. Барченко был сфабрикован новый миф о Шамбале как некой конспиративно-заговорщической организации восточных мистиков-масонов, используемой Англией для подрыва мощи СССР и распространения своего пагубного влияния на азиатском континенте. Шамбала из Счастливой страны буддистов превратилась в свою полную противоположность, став олицетворением зловеще-мрачной, деструктивной силы, представляющей прямую угрозу для существования первого в мире государства рабочих и крестьян.
Строго говоря, название мифической гималайской страны сделалось именем нарицательным в глазах советских идеологов еще в конце 1920-х. Усиление административного и экономического нажима на ламство в период насильственной коллективизации вызвало большое социальное напряжение в буддийских регионах СССР (Бурятская АССР и Калмыкская АО). Среди верующих начали широко распространяться ламские «лундены» — предсказания о скором начале апокалипсической мировой войны — священного похода против врагов буддийской веры («красных») 25 царя Шамбалы, воплотившегося в тибетском Панчен-ламе. Приход царя-освободителя во главе Шамбалинского войска ожидался, согласно предсказаниям, в Год лошади («Морен-жил») — в 1930 году. Именно в это время резко обострилась политическая ситуация на Дальнем Востоке в связи с экспансией милитаристской Японии, что, естественно, придавало ламским «джуд-хуралам» — молениям Эрыгден-Дагбо-хану с просьбой ускорить наступление священной войны и уничтожение еретиков и безбожников — весьма зловещий характер. Хотя с конфессиональной точки зрения призывы к Владыке Шамбалы являлись столь же безобидными, как и молебствия о втором пришествии Христа. В 1929 г., в канун «шамбаланцерык», Агван Доржиев освятил только что построенный в Агинском дацане субурган Калачакры. Рассказывают, что внутрь этого памятника ламы поместили сто тысяч металлических иголок, олицетворявших железное воинство Эрыгден-Дагбо-хана.
Антибуддийские настроения в стране еще более усилились в начале 1930-х после ряда вооруженных — «ламско-кулацких» — выступлений в Бурятии и оккупации японцами Маньчжурии. Усилиями советской пропаганды Шамбала отныне окончательно превращается в символ крайней агрессивности, воинственности буддийского мира, прежде всего Японии. Но даже если бы международная ситуация была более благоприятной в это время, Барченко, по правде говоря, едва ли бы удалось убедить в величайшей ценности буддийского тантризма (Древней науки Дюнхор) таких ортодоксов марксизма, как Сталин, Молотов и Ворошилов. Рассчитывать на это мог только совершенный идеалист, не понимавший сущности советской системы.
В 1937–38 гг. в Бурятии и Калмыкии были закрыты («ликвидированы») последние буддийские монастыри. Советская пресса в эти годы гневно бичевала буддийских монахов за их проповедь учения о «шамбаланцерык» — войне Шамбалы. «Эта проповедь явно свидетельствует о связи ламства с фашизмом», вещал журнал «Антирелигиозник».
«Во время поездки агента японской разведки Банчен-Богдо (Панчен-ламы — А. А.) в Манчжурию ламы распространили слух, что эта поездка связана с организацией „земных войск шамбалы“, и т. п. Интервенцию, которую готовит японский фашизм против СССР, ламы объявили „священной войной“ небесных сил против еретиков и безбожников, в первую очередь против русских. Учение „шамбала“ является орудием контрреволюционно-пораженческой агитации в пользу японского фашизма и разжигания националистических настроений среди верующих»[279].
9 сентября 1937 Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила А. А. Кондиайна по ст. 58 п. 6, 8 и 11 УК РСФСР к ВМН к расстрелу с полной конфискацией имущества. В последнем слове обвиняемый произнес вымученную фразу о том, как ему тяжело сознавать, что он был «втянут в контрреволюционную организацию и самые лучшие годы своей жизни лил на мельницу своего врага». Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Участь А. А. Кондиайна разделили и другие члены организации Шамбала-Дюнхор — К. Ф. Шварц (расстрелян в сентябре 1937-го), В. Н. Королев (26 декабря), Л. Н. Шишелова-Маркова (30 декабря), Г. И. Бокий (15 ноября 1937), И. М. Москвин (21 ноября 1937). Судьба А. В. Барченко решилась несколько позднее — 25 апреля 1938 г. та же Военная коллегия под председательством В. В. Ульриха вынесла ему смертный приговор на основании тех же трех пунктов 58-й «людоедской статьи» (по меткому определению С. А. Барченко) — шпионаж (п. 6), террор (п. 8) и принадлежность к организации (п. 11).
Репрессий не избежали и жены «врагов народа» — Э. М. Кондиайн была арестована через 10 дней после гибели мужа и осуждена постановлением «тройки» (Особого Совещания) на 8 лет лагерей. Тот же срок 23 июля 1938 получила и О. П. Барченко (отбывала в Акмолинском лагере жен изменников родины).
О ближайшей сподвижнице А. В. Барченко Ю. В. Струтинской мы знаем только, что в 1937 г. она проживала где-то под Майкопом — сведения, которые сообщил следствию А. А. Кондиайн, возможно, состоявший в переписке со Струтинской до своего ареста.
За два года до ареста А. В. Барченко, по рассказу Э. М. Кондиайн, тяжело заболел — на ноге образовалась флегмона и врачи настоятельно советовали ему лечь в больницу. Иначе, говорили они, вы можете умереть. Но А. В. Барченко на это возразил: «Я умру тогда, когда больше не буду нужен своей работе». И стал лечить себя сам, как это делал и раньше, спиртовыми компрессами. Вскоре опасная болезнь отступила. Слова А. В. Барченко оказались пророческими — в 1937 г. он, а вместе с ним и тысячи других ученых, оказались ненужными советской, вернее, Сталинской науке. Именно Кремлевский хозяин в конечном счете и вынес смертный приговор Шамбале, правда, не той Шамбале, о которой повествуют буддийские предания и которую искал А. В. Барченко, а ее полному антиподу — анти-Шамбале, созданной советской пропагандой.
Гибель ученого неизбежно повлекла за собой и утрату всего, созданного им в 1920–1930-е годы. Как сообщили мне в 1999 г. из Центрального архива ФСБ РФ, изъятые при аресте А. В. Барченко личные документы, различная переписка и диссертация «Введение в методику экспериментальных воздействий объемного энергополя» (а вместе с ними, вероятно, и другие его работы, включая трактат о Древней науке «Дюнхор» и книгу воспоминаний «В поисках утерянной Истины») были уничтожены в 1939 г. Но если это так, то должна была бы сохраниться, по крайней мере, документация ВИЭ-Мовской «спецлаборатории» Барченко — материалы, связанные с его биоэнергетическими исследованиями, ввиду их большой научной ценности. Однако следы этих уникальных материалов до сих пор не обнаружены. А потому нам остается надеяться, что рано или поздно выплывут на свет упрятанные в каком-нибудь сверхсекретном архиве (но не уничтоженные!) труды удивительного ученого-оккультиста и визионера А. В. Барченко, если, конечно же, прав Воланд, утверждавший, что «рукописи не горят».
С.-Петербург. Июль 1999 — май 2002.
Приложение 1
А. В. Барченко
Таро (лекция), 1919
На протяжении предыдущих лекций мы осветили в общих чертах механизм священной иерограммы каббалистов «Пардес» вплоть до последней строки тайны[280].
Применив вполне положительный анализ к тексту Библии мы обнаружили, что в легенде о потерянном Рае скрыта под аллегориями вполне прозрачными память о Великой Религии Разума, о Религии Солнца, Пламенного Меча, обращающегося символизированного первой буквой священного алфавита — алеф.
Применив данные положительной науки к легенде о родословии и жизни Моисея, мы обнаружили, что под примитивными одеждами этой легенды скрывается повествование о высокой культуре, возникшей под влиянием Ведической философии Йога, обработанной окончательно в древнем допотопном Египте и вынесенной из Египта, «Спасенным от воды»[281], усвоившим египетскую мудрость, прошедшим школу в Большом Доме Египетской Науки и Философии.
И усвоенное в Египте «Спасенным от воды» не сделал достоянием толпы, но, как под покровом самых прозрачных аллегорий повествуют главы XXXII и XXXIV Исхода — от народа защитил «покрывалом» и передал лишь избранным.
И применив чисто механический буквенный ключ Сефир-Ецира к Священнейшему и неприкосновеннейшему механизму Моисеева Кодекса, к непроизносимому имени — мы обнаружили в самом сердце Святая Святых Моисеевой традиции — содержание отнюдь не еврейское — обнаружили синтез Египетской Философии и Религии — элементы Египетской Божественной троицы — мысль — речь — действие.
И на протяжении наших поисков, как вы имели случай наблюдать, нам ни разу не приходилось прибегать ни к натяжкам, ни к умалчиваниям. Мы чисто механически черпали потребные нам ключи в хранилищах чисто позитивной науки, чисто механически подставляя найденные эквиваленты и, кроме того, вполне подчиняясь требованиям позитивного анализа — механически подвергали поверке найденное или путем исключения, или путем подстановки по методу Шаба.
На этом пути нам ни разу не пришлось зайти в тупик, несмотря на крайнюю парадоксальность наших допущений.
Если мы добросовестны, мы признаем, что право относится к Тайной Доктрине скептически, насмешливо, даже просто поверхностно — нами утеряно.
Мы уже потеряли право априорно не доверяться серьезным адептам. На смену произвольной прерогативы издеваться над Тайной мудростью к нам пришло право искать в ее неизмеримых глубинах ответов исчерпывающих на мучающие нас вопросы.
В прошлой лекции я в самых беглых чертах коснулся Таро как центрального механизма символических ключей.
В беглом обзоре я показал вам, что картины Таро суть иероглифы, тесно связанные с 22 буквами священного древнееврейского алфавита. Несколько более детальному обзору этого величайшего из завоеваний человеческой мысли мы посвятим ближайшие лекции.
Сегодня же мы зададимся вопросом, что такое Таро вообще? И насколько вяжется с действительностью и здравым смыслом тот ответ, который дает Тайная Доктрина на этот вопрос.
Ответ этой такой:
1) Центральный ключ к посвящению скрыт в пирамиде.
2) Ключ к пирамиде скрыт в колоде игральных карт.
Что такое Таро? С моей точки зрения, это конденсатор символики — максимум синтеза. Совершеннейший положительный научный аппарат.
Что такое Таро с точки зрения популяризаторов?
22 + 56 — неподвижная часть — все возможности.
22 — синтез всех вариаций существующих реальностей.
Можно ли допустить, чтобы механизм, служащий ключом к сложнейшим механизмам символики, насчитывал всего 78 элементов?
Отчего же?
Механизм нашего запечатления и выражения мыслей вовсе не так сложен. Весь этот механизм подчинен законам аналогии. Аналогия по терминологии Аристотеля соответствует слову пропорция: отношение. Эти термины расширяют компетенцию механизма почти безгранично. К примеру: диапозитивы.
Мы знаем, что древняя мудрость все бесконечные вариации реального, чувственного, воспринимаемого подчиняла Великой Простейшей схеме Четвероединства. Эта схема вытекает из единицы и в нее же в ином плане выливается.
Математически это выражается так:
1 + 2 + 3 + 4 = 10, т. е. единице высшего порядка.
В рассмотренных схемах символического механизма мы имеем схему двойную, четверную, но не тройную. Творчество мысли до реализации в воспринимаемые формы обязано пройти и тройную схему. Где же она?
Великая Универсальная Наука — Религия представляет себе Божество проявляющимся в трех взаимно проникающих, служащих логическим расширением предшествующего мирах.
Эти миры наш ограниченный разум может представить себе так:
1. В нашем представлении всякому формированному и качественному бытию необходимо предшествует абсолютная бесконечная субстанция. Она без качества. Она не ограничена. О ней можно лишь сказать, что она есть.
В Исходе III 13–15: Божество называет себя:
«Ehie asher ehie» (др. евр.) — Я сущий, который пребудет (букв.: «Буду, который буду»).
Греческие переводчики LXX перевели это: ('εγω ειμι o'Ω)[282].
Титул высшего Божества солнечного культа Египта: Nuc-pu-nuc.
По-латыни этому соответствует: ego sum ego[283].
Утверждением, что эта абсолютная бескачественная субстанция Есть, мы допускаем в ней лишь скрытую, ускользающую от нашего восприятия возможность перейти в реальность. До тех пор она лишь полна потенциальности.
2. Возникшее из нее как логическое ее содержание, бывшее в ней потенциально включенным формирующее начало определяет и ограничивает ее в реально существующее, подлежащее уже нашему представлению.
3. Это первое реальное, очевидно, есть общая форма, логически включающая в себя все дальнейшие многообразные формы, ибо позади нее, за ней и над ней, т. е. прежде нее, лишь бесформенная, неограниченная, неопределенная сущность. Эта общая форма обнимает всякую частную форму.
Пример из области естествознания:
Неорганическая форма — химизм заключается в растительной протоплазме. Растительная форма — клетка-протоплазма заключается в животной. Другими словами: химизм проницает и растительную, и животную формы.
3. Из совокупности всеобъемлющей, всесодержащей потенциальной субстанции и всеобъемлющей общей формы, первого формирующего начала в ней потенциально содержащегося, из нее восставшего, оформляется впервые реальный универсальный механизм мироздания с его бесконечно разнообразными применениями. Результат применения его — бесконечное число определенных и ограниченных созданий.
4. Как наиболее близко к действительности представить себе абсолютную бескачественную, неограниченную и в то же время все наполняющую первосущность?
5. Вообразим себе математическую точку.
Как известно, она не имеет измерений. У нее нет протяженности, толщины, длины, ширины, высоты.
Она не занимает пространства.
Наиболее близкое к ней графическое изображение, доступное нашим несовершенным приборам, — это мельчайший укол, занимающий как можно меньше пространства.
6. Представим теперь эту точку постоянно развивающейся и распространяющейся во все стороны — как бы распухающей. Этот процесс представляется нам как бесконечно распухающий шар.
Пространство безгранично.
Шар бесконечно распухает.
Представим себе, что на пути распухания он обнял и поглотил нас, нашу планету, солнечную систему, звезды, миры — конца его распуханию нет. В своем развитии точка выполняет и обнимает все.
В точке, не имеющей измерений, очевидно, скрыты в потенциальности все измерения.
Неограниченное бесконечное недоступно нашему восприятию.
Другими словами, оно для нас нереально.
Чтобы стать реальностью, оно должно быть ограничено.
Единственный способ ограничения этого бесконечного распухания, очевидно, принятие возрастающего из центра — точки радиуса определенного, ограниченного размера.
Тогда мы получим определенного размера шар.
Шар древняя Мудрость устами наследника величайшего из посвященных классического мира Пифагора, устами ученика Платона, называет Совершеннейшим всеобъемлющим телом — это 3 мира (Бриа, Ецира, Асиа).
Бесконечно распухающая, развивающаяся точка передает точно механизм и содержание представления о бесконечности вселенной.
Представление о шаре близко к представлению об истинном объеме вселенной, воспринимаемом нашим разумом.
Будет ли это представление представлением о Первом Осязаемом в прямом смысле?
Нет!
Почему?
Что такое вещество? (Осязаемое надписано сверху. — А. А.)
То, что можно взвесить, измерить точно.
Что мы можем измерить точно?
Лишь прямолинейные протяженности.
Можно ли точно измерить окружность?
Нельзя.
Можно ли точно измерить объем шара?
Нельзя.
Почему?
Потому что между истинным размером и полученным стоит таинственная, не поддающаяся измерению величина.
Таинственное «π».
22/7.
Вы помните, что Великий Универсальный Круговорот Древней символики слагается в астрономии из трех матерей планет: Солнце, Луна, Земля, семи планет и 12 знаков Зодиака.
Это составит 22.
В механизме языка Великий Универсальный Круговорот слагается, как вы знаете из примера древнееврейского языка, из трех букв-матерей, 7 букв двойных и 12 простых.
Это составляет 22.
Все алфавиты древности: финикийский, греческий, древнелатинский, еврейский, египетский, химьяритский, магадхи, тибетский имеют ровно 22 основных буквы.
Эти алфавиты всегда считались священными.
Резюмируем результаты наших поисков:
Великий Универсальный механизм есть синоним Круговорота.
Как Круговорот — он в точности неизмерим.
Отражаясь в форме символической в древней астрономии и языке, он слагается из 22 символических элементов — планет и букв.
Буквы — запечатление символическое элементов речи.
Речь — реализация мысли в форме звуковых символов.
Сакраментальное 22, следовательно:
1. символ круговорота-круга, т. е. точно не измеримого.
2. простейшее воспроизведение числом истинного произношения таинственного непроизносимого имени Божия в точном соответствии с указанием священной книги еврейской каббалы Сефер-Ецира.
Это воспроизведение:
Но отношение круговорота — ускользающего от конечного измерения к поддающемуся точному конечному измерению к прямолинейно протяженному к (пропуск) выражается формулой:
22/7.
Значит, Универсальный Механизм, поддающийся конечному измерению, следовательно, в своем развитии создающий поддающиеся конечному измерению, другими словами, вещественные создания, производящий все бесконечное разнообразие нас окружающих реальных форм, символизируются числом 7.
Почему?
И каков внутренний механизм этого таинственного Универсального Аппарата?
Как его применить в реальных формах?
И как, наконец, связать его с загадочным механизмом жалкой колоды карт — с загадочным Таро?
Попытаемся сделать и это.
Поставим вопрос ребром.
Как Тайная Доктрина символизирует графически проявление Божественного начала в реальные формы?
Как известно, каббалисты-философы все формы реальные, поддающиеся нашему чувственному восприятию рассматривают как проявление, как метаморфоз Единой Божественной Сущности последовательно в 3 мирах, нами только что рассмотренных.
Тайная Доктрина — я снова подчеркиваю это — не произвольные вымыслы, не догадки, не подтасовки. Тайная Доктрина — прежде всего сухая математика мысли. Примем же каждый из рассмотренных нами Каббалистических миров за одно из геометрических измерений для изображений графических. Применительно же к выражению наших спекуляций числами — за соответствующую алгебраическую степень.
Таким образом
Миру Божественного Творчества (бриах) — 1-е изм. и 1-я степень.
Миру Божественного Образования — формирования (Ецирах) — 2-е изм. и 2-я степень.
Миру Божественного Осуществления (Асиах) — 3-е и 3-я степень.
Как в рамках этой же схемы выразить проявлением Божественной Сущности в реальную форму воплощенного человека?
Мысль о Божестве как о Первопричине Сокровенной (Амон, Эн-Соф), непостижимой, недоступной анализу, Тайная Мудрость, как мы уже видели, представляет себя в виде математической точки, синонима нулевого измерения.
Математическая точка не имеет измерения.
Полноту могущества непроявленного неизмеримого Божества нетрудно себе представить в виде именно математической точки.
Для пояснения представим себе математическую пружинную спираль и станем ее закручивать:
Очевидно, в момент совмещения сточкой пружина приобретет максимум энергии напряжения.
Иначе:
представим себе из той же точки пружину, разряжающуюся не по кругу, а по прямой, радиально:
Станем ее нагнетать от точки В по направлению к точке А. Очевидно, максимум напряжения пружина приобретет в момент совмещения точки А с точкой В.
Числовой эквивалент непроявленного Всемогущества = 1.
Почему?
Потому что до 1 — нет чисел. Из единицы все числа.
Мы не можем воспринять неимеющегося измерения. Без проявления Всемогущего Скрытого — чувственного, подлежащего восприятию мира нет. По своей неизреченной благости Божество помыслило, заблагорассудило проявиться.
Кроме него, не было ничего. Для проявления необходима объектизация. Божество раздвоилось. Математическая точка излучила из себя нечто, превратившись в 2 точки, рядом стоящие.
Графически это раздвоение как процесс, т. е. динамически, можно представить лишь кратчайшим расстоянием между 2 точками, т. е. прямой.
Цифровой эквивалент ее 2.
Прямая, не имеющая толщины, математическая линия, относится к 1-му измерению. Итак, Божество, впервые помыслив, раздвоилось. Статически же раздвоение это нами может быть воспринято в определенной форме только как троичность, ибо представление о нем слагается в целом из 2 элементов:
Раздвоение + Божество = 3 Бог + процесс проявления
2 1 Проявление Божества (Троица)
Божество заблагорассудило — иначе пожелало.
Понятие желания по существу активно (мне не хватает, я стремлюсь) и субъективно.
Желание мыслимо лишь в виде направленного на какой-то объект, т. е. на нечто воспринимающее.
Но не было еще в мире ничего, кроме луча — желания Божества. Если бы этот луч направился только по одному направлению, он никогда бы не встретил на пути своем ничего воспринимающего геометрически.
Желание не встретило бы объект.
Мира как объективной реальности, вещественного мира не существовало бы.
Ибо, совмещаясь по одному направлению, линии не могут ограничиться — вещество же есть ограничение формой.
А так как мир существует, стало быть, Божественная Точка получила нечто по направлению иному — в схематическом виде — под прямым углом.
В точке две линии пересекаются. Пересечение есть ограничение. Ограничение — синоним вещественной формы.
Получила объективное существование вещественная форма.
Но Божество вечно и бесконечно, как мы видели.
Излучения Божества бесконечны.
Бесконечность равнопротяженна в прошедшем и будущем — вперед и назад.
Значит, графически механизм объектизации, форменного ограничения создания реальности должен быть представлен:
Здесь точка в смысле пространственном есть неуловимая граница между началом и концом, между передом и задом.
В смысле времени эта математическая точка есть неуловимая граница между прошедшим и будущим.
Эта неуловимая точка — синоним настоящего — обманчивейшей из иллюзий, которыми тешит и гипнотизирует себя человечество. Графически эта схема слагается из 2-х прямых линий. Числовой эквивалент линии = 2.
Значит, числовой эквивалент Креста выразится:
2 + 2 = 4
Стало быть, Крест — символ создания, символ реализации, ограничения, т. е. символ сотворения мира.
Но сотворение мира — дарование жизни, притом связанное, как мы видели, для Божества-Точки с процессом отрыва от себя своей субстанции, ибо, кроме Божества, ничего не было — есть, очевидно, акт Божественной любви и самоотвержения.
Следовательно, 4-конечный Крест есть графическое изображение принципа Любви.
Численный эквивалент стремящегося ограничить, как мы видели, 3.
Это — животворящая Троица.
Численный механизм ограничиваемого, как мы видели, 4.
Механизм Божественного Творчества, стало быть, слагается из двух элементов: ограничивающего и ограничиваемого.
3 + 4 = 7
Его числовой эквивалент, стало быть, 7.
Каково его точное графическое воспроизведение?
Ограничивающее — вертикальный луч из точки в отрезке, эквивалентном 3.
Ограничиваемое — горизонтальный луч из нее в отрезке, эквивалентном 4.
Механизм этот действует в мире Божественного Творчества,
т. е. в мире 1-го геометрического измерения,
т. е. в мире 1-й алгебраической степени.
Попробуем проявить, проектировать этот механизм в мире 2-го геометрического измерения, т. е. на плоскость.
Выразим его применительно ко 2-й алгебраической степени:
3² + 4² = 5²
Мы имеем всем нам известный священный треугольник, мистический треугольник Пифагора.
Мы имеем — припомните — Круговорот Божественной Жизни, созданный символически 22. В проекции на плоскость — это круг.
И мы имеем сейчас мистическое выражение механизма Божественного творчества, созданного 7. В проекции на плоскость это — треугольник.
Божество не поддается конечному измерению. Оно проявляется.
Вещество измеримо. Оно явлено.
Полнота Божества — это отношение проявляющегося, т. е. 22.
Графически — треугольник в круге.
Как Православная церковь изображает Полноту Бога? Посмотрите на фасад Казанского собора. Но механизм Божественного Творчества должен быть проявлен и в мире осуществления, в мире трех измерений.
Другими словами, должен проектироваться под прямыми углами в трех направлениях: в длину, широту и высоту.
Мы получили некоторую фигуру, ограничивающее пространство в 3 измерениях, т. е. тело.
Как называется это тело?
Пирамида.
Из чего она создалась?
Из точки.
Что говорит Тайная Мудрость про точку устами посвященного Арабского ученого Артефи, на которого ссылается такой авторитет, как Афанасий Кирхер?
Артефи утверждает: Ex puncto omnia[284].
Что говорит другой посвященный ученый Абенефии?
«Per ipsam figuram pyramidum signabant materiam primordialem»[285].
Из каких элементов слагается механизм, создавший пирамиду?
1) Из активного начала Божества — его эквивалент 3.
2) Из слияния его с пассивным началом Божества — эквивалент этого слияния 3.
3) Из функции этих двух начал — эквивалент 3 õ 4 = 12.
3 + 7 + 12 = 22
Механизм, лежащий в основе пирамиды, располагает в полном объеме всеми элементами старших арканов Таро. Его подвижного механизма.
Но где же 56 младших арканов? Где 56 исчерпывающих возможностей, 56 основных комбинаций, при помощи которых синтез символики распускается в роскошный цветок древней мудрости?
Мы не имеем права искать их вне пирамиды.
В пирамиде и не только в ней полнота посвящения.
Сосчитайте грани пирамиды.
Теперь возьмите ее мысленно в руки и рассматривайте все ее грани с точки зрения каждой одной.
Вам придется приложить глаз к каждой из 8 граней и 8 раз видеть по отношению к ней остальные 7 граней.
8 раз 7 = 8? 7 = 56
(Зачеркнуто) Про эту пирамиду говорят, что она обладает чудесной силой, что знающий ее тайны решает задачу о квадратуре круга.
ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 7. Д. 12. Лл. 89–94.
Приложение 2
Мысли А. В. Барченко о медицине
(Из записок Э. М. Кондиайн)
Европейская медицина, как и вся европейская наука, аналитична. Она анализирует симптомы, признаки болезни, пытается лечить эти признаки болезни, в то время как Древняя Наука лечит человеческий организм. Человеческий организм — гармоничное целое, даже от состояния отдельной клетки зависит общее состояние организма. Специализация европейской медицины привела к тому, что узкий специалист, ведая только своей специальностью, забывает, что имеет дело с организмом, где все его части, все его органы взаимосвязаны и подчинены единым законам. Лечить надо не признаки болезни, а организм. Человеческий организм обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы противостоять любой болезни, любой инфекции, для этого надо лишь, чтобы человек обладал здоровой, гармоничной аурой (электромагнитным полем). У нормально развитого человека, живущего в нормальных условиях, вдали от железа, окружающее его электромагнитное поле непроницаемо ни для каких микробов. Если все-таки человек заболел, то следует только помочь организму, укрепить его для борьбы с болезнью. Организм сам обладает всеми необходимыми возможностями побороть болезнь.
Первым безоговорочным условием и требованием А. В. было — убрать все железо из комнаты. Главное — железные кровати и пружинные матрацы. Железо размагничивает организм. А. В. сделал для себя с Олей деревянную кровать. Покрыл ее фанерой. Спали они на войлоках из овечьей шерсти.
Весной 1922-го в Мурманске А. В. вылечил Колосова Григория Григорьевича от последней стадии туберкулеза. А. В. взял Колосова из больницы в безнадежном состоянии. Врач дал расписку, что он от больного отказывается. А. В. давал ему 10 свежих сырых куриных яиц и прописал солнечные ванны. Для этого клал его обнаженного на солнце при морозе в защищенном от ветра месте, во дворе, начиная с нескольких минут. Через месяц или полтора Колосов настолько поправился, что самостоятельно поехал в Крым долечиваться.
А. В. вылечил девочку анемичную, туберкулезную, очень слабую. Велел проветривать помещение, на весь день выносил ее на улицу, отменил диету. Давал морковный сок, 2 стакана в день, фрукты, ягоды, овощи, сырую воду. К концу лета девочка поправилась, бегала, собирала ягоды, цветы. Это было в Юрьевце, на Волге. Лида Маркова была туберкулезная, не могла лежать, даже спала в полусидячем положении. Она принимала солнечные ванны в красной кумачовой рубахе с «форточкой» на селезенке. Тоже морковный сок, фрукты, овощи, гимнастика. Она поправилась, только всегда была слабенькая.
В Костроме женщина теряла зрение. Она долго лечилась и очень много лекарств принимала, главным образом, глазные капли. А. В. все лекарства отменил и сказал: надо лечить организм. Глаза были сильно воспалены. Он заваривал ochradia oficinalis (араука?) и делал примочки. У нее было больное сердце и расстройство обмена веществ. (Давал ей) морковь с кожицей. Женщина стала видеть без очков. Стала чувствовать себя хорошо.
В 1919 или 1920 г. А. В. вылечил молодую женщину от саркомы легких. Она выплевывала куски легкого, была безнадежна. А. В. поселил ее на Алексеевской, и там она принимала летом солнечные ванны. Чем он ее еще лечил, не знаю. Но знаю, что она поправилась.
На Волге в селе Спасском жил дядя Ал. Вас., мужчина 50 лет, крестьянин. Болела рука, тыльная сторона. Около месяца лечился у врача. Сделалась гангрена. Рука отмирала, страшно гноилась. Врач собирался отнимать руку. А. В. взялся ее вылечить. Мужик приходил каждый день. А. В. обрабатывал руку, очищал, промывал и на улице, уложив руку неподвижно, освещал солнцем через лупу, начав с 1 минуты, довел минут до 10, постепенно приближая лупу. А. В. поставил условие — не пить, не курить и руку держать на перевязи в полном покое. Через 3 недели рана покрылась молодой кожей, боли прекратились. Вскоре мужчина стал работать в колхозе.
Самым эффективным средством лечения А. В. считал росу.
С вечера на лужайке на 8 колышках натянуть 2 простыни, лучше полотняные, немного выше травы. До восхода солнца снять одну простыню, намокшую росой, завернуть в нее больного с головой и тепло укутать. Больному пролежать так завернутому 2 часа. Вторую простыню отжать в чистую стеклянную посуду и дать выпить больному.
Приложение 3
Из донесений в ОГПУ К. К. Владимирова
Довожу до Вашего сведения некоторые подробности и характеристики лиц, поселившихся в квартире астронома КОНДИАЙНИ, где проживает проф. БАРЧЕНКО.
В середине сентября прошлого года (т. е. 1924 — A. A.) поселилась у гр. Кондиайни гр. СПЕНДИАРОВА Татьяна, приехала она из Судака (Крым), где проживают ея родители в собственном имении, быв. миллионеры, имеющие до сих пор связь с белой эмиграцией и некоторыми контр-революционными элементами, находящимися на территории СССР. Приехала она в Ленинград с целью лечиться и поселилась у знакомых, т. е. КОНДИАЙНИ, т. к. семья КОНДИАЙНИ в прошлом году жила в Судаке и благодаря чему познакомилась с семьей КОНДИАЙНИ. Первые дни гр-ка СПЕНДИАРОВА вела себя как подобает лицу, пользующемуся гостеприимством чужой семьи, но в дальнейшем поведение ее сразу изменилось, она стала чрезвычайно внимательной, осторожной, как бы страдающ[ей] манией любопытства, сама старалась открывать двери всем приходящим, заговаривать с посторонними, настоятельно расспрашивала всех приходящих, кто они, с какой целью посещают А. В. Барченко и т. д. В первое время тов. БАРЧЕНКО подумал, что это пустое любопытство, но впоследствии выяснилось наоборот, что она занята исключительно информацией. Стараясь во что бы то ни стало ее расшифровать, он притворился лицом заинтересованным ею, после чего она стала за ним сильно ухаживать, стараясь войти в более или менее близкую связь, но, видя, что это ей не удается, она переменила свою позицию и стала откровенно чернить Соввласть, высказывая чисто контр-революционные взгляды и т. д. Видя, что ее разговоры не действуют на БАРЧЕНКО, она стала входить в контакт с остальными членами семьи, стараясь нащупать почву, каковы их взгляды на современное положение и т. д.
Приблизительно около месяца тому назад она попросила тов. БАРЧЕНКО о разрешении познакомить его с одним из ее земляков гр. ЦУРИНОВЫМ, который также заинтересовался научными открытиями тов. БАРЧЕНКО в области доисторической культуры. Получив согласие, она передала свой разговор гр. ЦУРИНОВУ, который тотчас же написал письмо о желании поближе познакомиться с ним. Тов. БАРЧЕНКО также ответил, что он согласен его принять у себя, т. к. ему самому посетить его ввиду болезни невозможно. 27 января с. г., после приезда его из Москвы, он нашел письмо ЦУРИНОВА, который просил разрешения посетить его, после чего по истечении нескольких дней, явился сам ЦУРИНОВ, завел с ним разговор о белых, о Сов[етских] порядках, выражал свое неодобрение современной властью, а главное, выражал свое мнение о скором падении Советской власти, выражая большое удовольствие [от] принятия участия в расправе с большевиками. В ответ на антисоветские разговоры гр. ЦУРИНОВА тов. БАРЧЕНКО парировал, выражая противоположное мнение, с достаточными доказательствами выявляющими его отношение к современной власти. Видя, что склонить его нельзя на противную точку зрения, он попросил его, нельзя ли ему в следующее посещение пригласить еще одного молодого человека, который также заинтересован доисторической культурой, но более силен, чем он. Получив согласие на это, он ушел.
Заинтересованный социальным положением гр. ЦУРИНОВА, тов. БАРЧЕНКО зашел к нему на квартиру и поразился той роскоши, которая находилась у него. Оказывается, что гр. ЦУРИНОВ сумел сохранить на основании своих связей свое колоссальное богатство, живя на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Он говорил, что у него связь с заграницей, если необходимы ему деньги, то он их получает в любом размере. После ухода от гр. ЦУРИНОВА, по истечении несколько дней, явился к тов. БАРЧЕНКО молодой человек, который представился лицом, заинтересованным доисторической культурой, ссылаясь на рекомендаацию гр. ЦУРИНОВА. Означенное лицо имело чрезвычайно большое сходство с доктором ВЯЧЕСЛО. (Сведения о д-ре ВЯЧЕСЛО — см. старые мои сводки.) Означенный молодой человек сразу же выявил свое антисоветское лицо, стараясь всеми мерами выявить все отрицательные стороны современного государственного строя, выявив убедительное знание всех дефектов современной жизни, стараясь своим разговором выяснить позицию тов. БАРЧЕНКО, но, видя безуспешность своих попыток склонить на свою точку зрения, он выпалил в конце своего разговора, что «ведь Вы, Александр Васильевич, имеете со мной общего знакомого и друга, хорошо знающего Вас». Ал-др Васильевич удивился этому заявлению и спросил, кто же означенное лицо, тогда этот молодой человек сообщил, что этот общий их знакомый, который также заинтересован достижениями тов. БАРЧЕНКО в доисторической культуре, есть не кто иной как доктор ВЯЧЕСЛО. При этом он сообщил, что д-р ВЯЧЕСЛО чрезвычайно популярный, влиятельный в сферах, могущих многое сделать для проведения в жизнь желаний А. В. БАРЧЕНКО, одновременно заявив, что д-р ВЯЧЕСЛО ныне находится в Афганистане (г. Кабул), где занимает чрезвычайно ответственный пост и как знаток доисторической науки очень влиятелен и сможет помочь ему в чем-нибудь, если только он пожелает. Что именно он понимал под словом «многое устроить», он не пояснил.
После ухода его домашние тов. БАРЧЕНКО сразу заметили, что гр. СПЕНДИАРОВА, которая ранее всегда выявляла удивительное любопытство ко всем приходящим к тов. БАРЧЕНКО лицам, ныне чрезвычайно хладнокровно, стараясь не выявлять своего любопытства, повела тактику в противовес своему первоначальному поведению. Из всех ее поступков видно, что гр. СПЕНДИАРОВА, как рекомендовавшая тов. БАРЧЕНКО ЦУРИНОВА, прекрасно осведомлена о тех вопросах и о цели посещения гр. ЦУРИНОВЫМ БАРЧЕНКО, не стала более расспрашивать о настоящем визите. Не касаясь вышеизложенного, в бытность тов. БАРЧЕНКО в Москве, при встрече с док-ом ВЯЧЕСЛО, последний сообщил ему, что у него имеется сын в Питере, быв. студент.
Вторым характерным явлением в семье КОНДИАЙНИ, это точно и персонально выяснено, что жена астронома КОНДИАЙНИ, по родству близкая знакомая недавно поселившегося у них в семье гр. МЕСМАХЕРА, находится в контакте с контр-революционным элементом, группирующимся в Ламайском храме (буддийский храм в Нов[ой] Дер[евне], где помещается Тибетская миссия. Означенный гр. МЕСМАХЕР недавно поселился у гр. КОНДИАЙНИ, по его словам, заявил, что он быв[ший] член РКП, занимал ответственный пост в Бухаре в должности какого-то комиссара, принужден был оставить службу ввиду каких-то проступков. Ныне же подыскивает службу, которую ему обещала гр. СПЕНДИАРОВА, с которой он познакомился на квартире у КОНДИАЙНИ. В первое время гр. МЕСМАХЕР избегал встреч с гр. СПЕНДИАРОВОЙ, но впоследствии стал за ней усиленно ухаживать. Означенный МЕСМАХЕР, быв[ший] сын проф. МЕСМАХЕР, ныне ведущий чрезвычайно странный образ жизни, уходит рано, возвращается поздно ночью, при вопросе во время возвращения, где он бывает, он ссылается, что после занятий он гуляет будто бы на Елагином Острове. Когда ему сказали, что ныне небезопасно гулять в такое позднее время, он улыбнулся и ничего определенного не сказал. Во время поздних приходов он подвергает себя тщательному обмыванию, точно после какой-то очень странной работы, чтобы не оставить никакого следа о своей деятельности на какой-то странной службе, о которой он абсолютно ничего не сообщает. Через гр-ку СПЕНДИАРОВУ МЕСМАХЕР входит в контакт с Тибетской миссией и информирует восточников (бурят, монголов и т. д.) — о всех новостях и о лицах, посещающих тов. БАРЧЕНКО. Передает он эти сведения некоему гр-ну БАРТЕЛЬСУ, быв[шему] сыну рижского губернатора, постоянно проживающему в Тибетской миссии. Гр-н БАРТЕЛЬС вхож в дом к родственникам КОНДИАЙНИ и в том числе знаком с КАТУНСКИМ — Зав[едующим] Секретным Отделом Радио-Электро-Вакуумного завода, помещ[ающегося] на Лопухинской ул., следовательно, имеющий возможность в любое время пользоваться радио для сношения с иностранцами. Этот инженер КАТУНСКИЙ пытался несколько раз входить в близкое знакомство с тов. БАРЧЕНКО, но, увидя безрезультатность своих попыток, стал как-то охладевать к нему и повел противоположную линию-тактику, ухаживания за его семейными, но, видя, что и здесь он потерпел фиаско, тогда стал просто чернить и распространять гнусные слухи, позорящие тов. БАРЧЕНКО. Гр-ка СПЕНДИАРОВА, кроме информационной работы, ведет еще большую переписку с заграницей. Каждый день она получает кипу писем из Парижа, Лондона, Берлина и др. городов. Отвечает на них тотчас же, часто уходит из квартиры <…>. (Конец текста утрачен — А. А.)
10 февраля 1925
Получив рекомендательное письмо от гр. ПАЛИСАДОВА Сергея Владимировича[286] к гр. КИРИЧЕНКО-ОСТРОМОВУ (он же Ватсон)[287], я явился к нему на квартиру, помещающуюся на Московской ул. д.8, кв.9 в воскресенье, т. к. он только принимает в этот день, все остальное время он проживает в Д[етском] Селе у б[ывшего] сенатора ФРОЛОВА[288], также масона, работающего среди своих знакомых. На мой вопрос, много ли в Ленинграде есть приверженцев того масонского течения, которого он придерживается, он уклончиво ответил, что есть, но в большинстве случаев люди эти причастны к науке, как напр., Зав[едующий] Пуш[кинским] домом гр. МОДЗАЛЕВСКИЙ Борис Львович[289], проф. СТРУВЕ[290] и др. На мои указания, что МОДЗАЛЕВСКИЙ принадлежал ранее, как я знаю, к группе так наз. «Космос», где числился в свое время проф. Максим Максимович КОВАЛЕВСКИЙ[291], он подтвердил, что в данное время «Космос» является незначительной группой, объединяющей только литературную братию, и что к этой группе принадлежали высланные из РСФСР проф-ра ЛОССКИЙ[292], КАРСАВИН[293], а также ныне находящиеся в Ленинграде проф. МЕЙЕР[294], ПЕРГАМЕНТ[295] и др. Из его знакомых он мне не указал ни одного лица. На мой вопрос, к какой ориентации отнести ШАНДАРОВСКОГО, КИРИЧЕНКО, мне сообщил утвердительно, что ШАНДАРОВСКИЙ принадлежит к группе так наз. «Северных лож». На мой вопрос, не к тем «Северным ложам», которые были организованы в Финляндии выходцем из Англии, неким гр-м КОРДИКОМ[296], он сказал — да. На мой вопрос, имеется ли кто-либо в этой группе в СССР, он сказал, что в Москве находится много его учеников, и в том числе указал на проф. ЗУБАКИНА[297], а в Ленинграде будто к этой группе принадлежит ШАНДАРОВСКИЙ. На мой вопрос, не знает ли он адрес ШАНДАРОВСКОГО, он ответил, что ШАНДАРОВСКИЙ Петр Сергеевич проживает на Пр. 25 Октября, д. 32, женат на артистке НИКОЛАЕВОЙ Зинаиде Николаевне (по сцене), будто он работает среди артистических групп, приняв горячее участие в организации так наз. «Артистической ложи Вольных Каменщиков», которая просуществовала недолго. Также он сообщил, что к этой ложе принадлежали такие крупные артистические силы, антисоветски настроенные, как Павел Михайлович САМОЙЛОВ, Мария Александровна ПОТОЦКАЯ, Нина Михайловна ЖЕЛЕЗНОВА, Мария Андреевна ВЕДРИНСКАЯ, а также Николай Николаевич ЕВРЕИНОВ[298], Николай Николаевич ХОДОТОВ[299] и др[угие], растлевающе действующие на всю артистическую среду. ЕВРЕИНОВ, ПОТОЦКАЯ были арестованы, ПОТОЦКАЯ за сношения и переписку с Вел[иким] Кн[язем] НИКОЛАЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ, женой которого она была, и имеет в Ленинграде по сие время нелегальную вязь с эмигрантской средой. На мой вопрос, имеется ли в Ленинграде соответствующая литература и сохранилась ли она и где, он сообщил, что пока такие хранилища оберегаются тайно, и утвердительно сообщил, что около Н[овой] Ладоги имеется усадьба дальнего родственника знаменитого масона Шварца, также по фамилии ШВАРЦ Евгений Григорьевич. И что у него будто на чердаке скрыты старинные рукописи, грамоты и соответствующая масонская литература и атрибуты. На мое предложение поехать туда как-нибудь для моего знакомства с гр. ШВАРЦЕМ, он сообщил, что об этом подумает и просил зайти к нему в одно из ближайших воскресений. Зная ранее о том, что КИРИЧЕНКО Борис Викторович был учеником Г. О. М.[300] Я спросил о Г. О. М., он сообщил, что Г. О. М. чрезвычайно престарел, а потому ввиду преклонного возраста уже не принимает активного участия в работе, и что он с Г. О. М. разошелся по принципиальным вопросам. Указал он, что нынешняя сожительница Г. О. М. — НЕСТЕРОВА Мария Андреевна[301], его опутала, не допускает к нему посторонних лиц, боясь разных шпионов и т. д., сама же она ведет за него всю обширную работу. КИРИЧЕНКО одновременно сообщил, что быв[шая] жена Г.О.М. ИВАНОВА-НАГОРНАЯ, которая ныне работает в ГУБОНО на Казанской ул. в Отделе Дошкольного Воспитания, усиленно занимается организацией отдельных групп среди педагогов и что таких объединенных членов среди Ленинградской профессуры числится ок.1500 человек.
Из разговоров об Академии Наук и ее деятелях, как например, ОЛЬДЕНБУРГЕ и др., он сообщил, что некий ГРЕНСТРАНД (Зав[едующий] Торгово-Экспед[иционным] сектором) также принадлежит к какой-то ложе, но к какой, он не знает. Пообещав зайти к нему в одно из воскресений, я ушел.
К ложе «Космос» был причастен также знаменитый русский изобретатель-самоучка Яблочкин. Из академ. центров к этой группе принадлежат следующие профессора: ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ Израиль Григорьевич[302], прожив[ающий] на ул. Халтурина, д.5, ШИЛЕЙКО Владимир Казимирович[303], в том же доме проживающий, а в Москве проф. ЯНОВИЧ[304] — этнограф, проживающий по Никитскому бульвару, д. 17.
Узнав из некоторых источников о причастности проф. КОВАЛЕВСКОГО[305], ныне работающего в Наркомземе, я зашел к нему, представившись лицом, заинтересовавшимся масонством. Он встретил меня чрезвычайно дружелюбно и сообщил мне, что ему в такие годы трудно принимать горячее участие в ознакомлении с деталями нынешнего масонского течения. На мой вопрос, знаком ли он с неким гр. ВАЛЕРО-ВАЛЕРСКИМ, он сообщил мне, что этот ВАЛЕРО-ВАЛЕРСКИЙ чуть ли не ежедневно бывает у него, пользуется его гостеприимством, а иногда и его материальными средствами. Зная за этим гр. ВАЛЕРО-ВАЛЕРСКИМ (см. мои старые сводки) разные такие дела, в смысле сношения с Западом, я подошел к КОВАЛЕВСКОМУ очень осторожно, дабы он меня не расшифровал. После разных мелких расспросов о былой его жизни, встречах, я сразу перешел к больному вопросу и спросил, что ныне делает ВАЛЕРО-ВАЛЕРСКИЙ и имеет ли он по-старому связь с заграницей, он мне сообщил, что у ВАЛЕРО-ВАЛЕРСКОГО (псевдоним) — настоящая его фамилия Грачев[306], как быв[шего] личного секретаря графа ОРЛОВА-ДАВЫДОВА-ДЕНИСОВА, с которым он по сие время еще находится в хороших отношениях, <…> и что он ныне оканчивает Географический Институт и одновременно Институт Живых Восточных Языков, думает этим своим преимущественным положением воспользоваться, дабы уехать за пределы СССР. КОВАЛЕВСКИЙ сообщил, что ГРАЧЕВ уже побывал в Монголии, чуть ли не прошел [всю ее] пешком, а потому его главная цель — опять вернуться туда и примазаться к Монгольскому правительству, с некоторыми членами которого он прекрасно знаком. Одновременно КОВАЛЕВСКИЙ сообщил, что ВАЛЕРО-ВАЛЕРСКИЙ имеет колоссальные связи с заграницей и при своих частых посещениях его часто меняет свой костюм, иногда приходит в роскошном одеянии, а иногда в простом, чуть ли не в лохмотьях, не давая никакого объяснения по поводу такого маскарада. На мой вопрос, знал ли он полковника ЕЛЬЦА, он сказал, что это был его хороший друг, ныне проживающий за границей и играющий большую роль среди русских эмигрантов. Он спросил, откуда я знаю ЕЛЬЦА, на что я ему ответил, что в свое время я как-то встретил ЕЛЬЦА у Г. О. М., когда он числился еще преподавателем Пажеского корпуса, был исключен из него за совращение молодых пажей в масонство, который сообщил мне о знаменитых векселях артистки ШАБЕЛЬСКОЙ, с подложными подписями, каковые векселя были представлены мне как эксперту для определения их подлинности. Видя, что я знаю его интимную старую жизнь, он более доверчиво стал мне сообщать о некоторых современных новостях, сообщил, что этот знаменитый полковник ЕЛЕЦ ныне проживает в Австрии в одном из имений экс-кронпринцев, со своим другом Хайме Бурбонским, и ведет определенную работу по инструктированию отправляемых в Россию молодых сотрудников от Ватикана для насаждения католичества среди русского духовенства. Своим отношением к иезуитству он объяснил тем, что полковник ЕЛЕЦ числится в чине гофмаршала Ватикана, за прежние услуги, оказанные по защите католического монастыря в Манчжурии во время нападения на этот монастырь Боксерских банд. Теперь же он работает среди поляков и, благодаря своему браку на графине ТЫШКЕВИЧ, имеет доступ в самые конспиративные польские центры. Ближайшим помощником, как он говорит, по слухам, является полковник ПАЛЬЧИНСКИЙ[307], ныне будто бы находящийся на Кавказе, раньше проживавший в Ленинграде и работавший среди профессуры Военно-Медицинской Академии, и будто этот ПАЛЬЧИНСКИЙ возглавляет так наз. ложу «Вега». КОВАЛЕВСКИЙ сообщил, что гр. ГРАЧЕВ имеет большие связи среди некоторых сотрудников Особого отдела и благодаря знакомству с ними отправляет через границу укрывающихся в СССР белогвардейцев. Выразив свое сомнение возможности подобного факта, он мне сообщил, что это бывшие офицеры, устроившиеся на службе, скрывающие свое прошлое. Кто эти сотрудники, мне неудобно было спросить. Быть может, в следующее мое посещение мне удастся узнать более подробно о них.
Машинопись, б\д
Архив УФСБ по СПб и Ленобласти. Дело П-21098 (эти и другие донесения К. К. Владимирова находятся в отдельном конверте).
Приложение 4
Из протокола допроса Г. И. Бокия от 17–18 мая 1937
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Расскажите о всех политических расхождениях, которые, по Вашим словам, привели Вас к внутреннему разладу.
БОКИЙ: Мои расхождения с партией начались еще в 1918 г. с периода Брестского мира, когда я поддался мелкобуржуазным настроениям и вместе с Бухариным и другими левыми коммунистами пошел против Ленина. В силу выработавшихся у меня традиций я тогда подчинился партийной дисциплине, но так как переубежден я не был, обстоятельство это оставило во мне неприятный осадок.
Это неприятное чувство усилилось, когда меня с партийной работы помимо моего желания перебросили на работу в ЧК, и в особенности, когда из-за конфликта с Зиновьевым отозвали из Ленинграда в Москву, затем послали в Ташкент, откуда я также вместе с другими членами Турккомиссии был отозван, вернее, снят с работы. К периоду профсоюзной дискуссии выросшая на почве изложенных выше неудач личная неудовлетворенность начала перерастать у меня в недовольство более общего порядка. В период дискуссии я стоял на позиции Ленина, но применявшиеся нами, на мой взгляд, демагогические методы борьбы отталкивали меня от нее и углубляли сложившееся у меня недовольство существующим положением. Неизгладимое впечатление произвели на меня Кронштадтские события. Я не мог примириться с мыслью, что те самые матросы, которые принимали участие в Октябрьских боях, восстали против партии и власти, и в поисках объяснения этого факта приходил к обвинению ЦК. При введении НЭП я, несмотря на образовавшийся у меня надрыв, не выступал против этого мероприятия партии. Нутром, однако, я воспринять НЭП не мог и признал его только потому, что не видел другого исхода.
Обстоятельство это привело к углублению внутреннего разлада во мне, и я начал отходить от партийной жизни.
Дискуссию с Троцким 1923–24-го гг. я воспринял уже по-партийному и хотя не разделял взглядов Троцкого, но был против той, на мой взгляд, излишней страстности, которая применялась в полемике против него. Решающее влияние в дальнейшем имела смерть Ленина. Я видел в ней гибель Революции. Завещание Ленина, которое мне стало известно, не помню от кого, мешало мне воспринять Сталина как вождя партии, и я, не видя перспектив для Революции, ушел в мистику. К 1927–27 гг. я уже отошел от партии настолько далеко, что развернувшаяся в это время борьба с троцкистами и зиновьевцами прошла мимо меня, и я в ней никакого участия не принял. Углубляясь под влиянием Барченко все более и более в мистику, я в конце концов организовал с ним масонское сообщество и вступил на путь прямой контрреволюционной деятельности.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Кто такой Барченко, откуда Вы его знаете и каким образом он вовлек Вас в масонскую организацию?
БОКИЙ: Барченко А. В., биолог, в настоящее время сотрудник ВИЭМ, куда я устроил его в 1935 г. Познакомили меня с Барченко в 1924 г. приезжавшие из Ленинграда бывш. сотрудники Ленинградской ЧК Лейсмейер-Шварц и Владимиров. Явившись ко мне в Спецотдел ОГПУ в сопровождении Барченко, они рекомендовали мне его как талантливого исследователя, сделавшего имеющее чрезвычайно важное политическое значение открытие, и просили меня свести его с руководством ОГПУ с тем, чтобы реализовать его идею. Барченко выдвигал теорию о том, что в доисторические времена существовало высокоразвитое в культурном отношении общество, которое затем погибло в результате геологических катаклизмов. Общество это было коммунистическим и находилось на более высокой стадии социального (коммунистического) и материально-технического развития, чем наше. Остатки этого высшего Общества, по словам Барченко, до сих пор существуют в неприступных горных районах, расположенных на стыках Индии, Тибета, Кашгара и Афганистана и обладают всеми научно-техническими знаниями, которые были известны древнему обществу так называемой «Древней Науки», представляющей собой синтез всех научных знаний. Существование и Древней Науки, и самих остатков этого общества является тайной, тщательно оберегаемой его членами. Это стремление сохранить свое существование в тайне Барченко объяснял антагонизмом древнего общества с римским Папой. Римские Папы на протяжении всей истории преследовали остатки древнего общества, сохранившиеся в других местах, и, в конце концов, полностью их уничтожили. Себя Барченко называл последователем древнего общества, заявляя, что был посвящен во все это тайными посланцами его религиозно-политического центра, с которыми ему удалось однажды вступить в связь.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Какие же это посланцы?
БОКИЙ: Барченко называл имена монголо-тибетских мудрецов Нага-Навана и Хаяна Хирва. Мудрецы эти входили в состав приезжавшей в 1918 г. в Ленинград и Москву Монголо-Тибетской делегации с тем, чтобы установить связь с Советами. Советским правительством делегаты приняты не были и, оскорбившись, уехали назад. Барченко, однако, во время их пребывания в Ленинграде имел возможность встречаться с ними, и они посвятили его в свои планы. Занимаясь сам в период встречи с Барченко познанием абсолютной истины (абсолютного понятия добра и зла), я заинтересовался его рассказом о существовании синтеза абсолютных научных знаний и пытался организовать Барченко в том же 1925 г. поездку в Афганистан с тем, чтобы войти оттуда в контакт с хранителями этой «Древней Науки». Предприятие наше, однако, сорвалось, т. к. против него запротестовал Чичерин.
Независимо от срыва моего предприятия, я, не отказываясь от намерения войти в контакт с хранителями «Древней Науки», организовал из числа сотрудников Спецотдела кружок по изучению этого мистического учения. Кружок этот работал под руководством посвященного в его тайны Барченко. Входили в кружок сотрудники Спецотдела ВЧК/ОГПУ Гусев, Цибизов, Клеменко, Филиппов, Леонов, Гопиус, Плужницов. Вскоре после организации мною кружка, однако, выяснилось, что привлеченные мною в него лица из числа сотрудников Спецотдела не подготовлены к восприятию тайн Древней Науки. В связи с этим кружок распался и я привлек для изучения мистического учения Барченко новых лиц из числа своих старых товарищей по Горному Институту. Эти лица впоследствии и составили наше масонствующее сообщество.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Кто, кроме Вас, входил в состав этого сообщества?
БОКИЙ: Кроме меня и руководящего нашими занятиями Барченко, в состав нашей группы входили: Кастрыкин (Кострикин — А. А.) Михаил Лаврентьевич, Миронов Александр Владимирович, Москвин Иван Михайлович и Стомоняков Борис Спиридонович. Непродолжительное время в группу входил Александр Яковлевич Сосовский.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Какую связь Вы поддерживали с этими лицами помимо кружка?
БОКИЙ: Все эти лица, как я уже показывал, являются моими старыми товарищами по Горному Институту. Помимо собраний, на которых Барченко читал нам рефераты о своем мистическом учении, у нас были установлены традиционные встречи, так называемые «свидания друзей». Раза 3 или 4 в году я, Стомоняков, Кастрыкин, Миронов собирались у старой знакомой Алтаевой и проводили вместе 2–3 часа, после чего расходились, не встречаясь между собой до следующего раза.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: С какой целью Вы производили эти сборища, что делали на них?
БОКИЙ: Мы собирались как старые друзья для того, чтобы просто провести время вместе. Никаких других задач мы не ставили.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы говорите неправду. К исследованию этого вопроса мы еще вернемся в дальнейшем. Сейчас уточните, к какому масонскому ордену принадлежало Ваше сообщество?
БОКИЙ: Название «Древняя Наука» я употребляю для нашего общества условно, как название, показывающее, что наше общество основной своей задачей ставило овладение мистическим учением, известным под названием «Древней Науки», и ориентировалось на религиозно-мистический центр, являвшийся его хранителем. Барченко, являвшийся наставником в нашем сообществе и установивший однажды контакт с этим центром, называл его Шамбала или Дюнхор, что в переводе с тибетского означает «семь кругов знания». По словам Барченко, Шамбала-Дюнхор является высшим масонским капитулом, с которым в прошлом были связаны все масонские ордена. В настоящее время этот капитул распространяет свое влияние главным образом на восточные страны, в частности, на Китай, Тибет, Синьцзян, Индию, Афганистан и даже Северную Африку. Влияние капитула в этих странах, по словам Барченко, настолько велико, что в Африке, например, им утверждается восшествие на престол новых эмиров. До переезда в Москву в 1925 г. у Барченко в Ленинграде произошел крупный конфликт с руководителями масонской организации, обвинявшими его в разглашении тайн ордена и грозившими ему уничтожением. Угроза эта от имени масонской организации была высказана ему в 1924 г. членом ордена акад. Ольденбургом. В связи с конфликтом с руководством организации Барченко отошел от ее ленинградского ядра и стал искать пути для непосредственной связи с высшим капитулом Шамбала-Дюнхор, объединяя вокруг себя различный масонствующий элемент. Таким образом и возникло наше мистическое сообщество, фактически самостоятельная ложа, ориентировавшаяся на непосредственную связь с высшим масонским капитулом Шамбала-Дюнхором. К какому ордену принадлежал до переезда из Ленинграда Барченко, я сказать затрудняюсь. Ввиду особых, конфликтных отношений Барченко с основным ядром масонской организации в Ленинграде никто из нас, группировавшихся вокруг Барченко в новой ложе, официального посвящения не прошел, и как не посвященным Барченко не мог рассказывать некоторых тайн ордена, к которому мы формально не принадлежали. По косвенным намекам Барченко и общим наблюдениям можно судить, что он посвящен в члены ордена Розенкрейцеров. Говорю я это на основании того, что на Розенкрейцеров Барченко определенно указывал как на орден, связанный с нашим центром Шамбала-Дюнхором. У Барченко в различного рода геометрических чертежах и многочисленных фотографических снимках предметов древности постоянно повторялись эмблемы Розы, Креста и Чаши, которые являются символами Розенкрейцеров. В настоящее время Барченко обладает печатью с общемасонскими эмблемами — двойного треугольника с символически изображенными на его сторонах Солнцем, Луной и Чашей.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Кого Вы знаете из числа членов масонской организации?
БОКИЙ: Кроме уже перечисленных мною Стомонякова, Москвина, Кастрыкина и Миронова, входивших в состав нашей ложи, со слов Барченко известны как члены масонской организации ленинградцы: Вячеслов — доктор, Забражнев — бывш. работник Наркоминдела, Кандиайн (масонский псевдоним Тамиил) — астрофизик и бывшие сотрудники Ленинградского ЧК-ППОГПУ — Лейсмейер-Шварц, Отто, Владимиров и Рикс. О Кондиайне и бывш. сотрудниках Ленинградского ЧК Барченко говорил мне не как о посвященных масонах, а как о своих учениках и последователях. Всех их я знаю лично и аналогичные заявления мне приходилось слышать и от них самих. Кандиайн, кроме того, по просьбе Барченко, однажды выступал с докладом на занятиях нашего кружка. Как о посвященном в тайны мистического учения Шамбалы-Дюнхор Барченко говорил мне о некоем Гурджиеве — директоре Института ритма в Париже[308], в свое время проживавшем в СССР. Учеником и последователем Гурджиева на территории СССР в прежнее время, по словам Барченко, являлся скульптор Меркуров. Гурджиев, как мне говорил Барченко, старался установить связь с его учеником Меркуровым, но он от этого по не известным для меня причинам уклонился. В качестве своих учеников и последователей Шамбалы-Дюнхора Барченко называл мне сотрудниц Лобач и Шишелову фиктивного мужа Шишеловой, и сотрудника Наркоминдела Королева. Наконец, мне еще до революции было известно о принадлежности к масонам акад. Ольденбурга, о котором я уже показывал выше.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Что за фиктивный муж у последовательницы Барченко Шишеловой?
БОКИЙ: Дело в том, что настоящая фамилия Шишеловой Маркова. Она дочь известного черносотенца — члена Гос. думы Маркова II. Желая изменить свою фамилию с тем, чтобы скрыть свое социальное происхождение, Маркова заключила брак с одним из последователей Барченко.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы показывали, что Ваша ложа ориентировалась на связь непосредственно с центральным капитулом. Расскажите, что Вы сделали для установления этой связи?
БОКИЙ: Для организации этой связи я устраивал Барченко поездки в различные районы Союза, в отношении которых у нас имелись данные о том, что там существуют какие-либо религиозно-мистические секты восточного происхождения, ориентирующиеся на Шамбалу.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: На какие средства устраивались эти поездки?
БОКИЙ: На средства, незаконно отпускавшиеся мною Барченко из сумм пар. 9 и имевшегося у меня нелегального фонда. Вообще я полностью содержал Барченко с его семьей в течение 10 лет — с 1925 по 1935 гг. Незаконные выдачи денег Барченко я продолжал производить и в 1935 г. В этом году я выдал ему ок. 23 000 руб., из них из сумм пар. 9, а остальные 13–14 тысяч — из нелегального фонда.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Что за нелегальный фонд, из которого Вы снабжали Барченко?
БОКИЙ: Это денежные суммы, поступающие в Спецотдел от различных учреждений за проданные нами несгораемые шкафы и выполнение работы по составлению кодов. Деньги эти мною обычно незаконно задерживались в кассе Спецотдела, и я расходовал их по своему усмотрению.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Какие конкретные поездки вы устроили Барченко?
БОКИЙ: У меня в памяти следующие случаи: В 1925 г. мной была организована Барченко поездка на Алтай, где Барченко должен был установить связь с сектами «Беловодья» — религиозно-мистические круги в Центральной Азии, представляющие, по мистическому учению ближайшее окружение нашего центра Шамбала. В результате поездки Барченко среди местных сектантов были установлены лица, совершавшие регулярные паломничества в находящийся за кордоном мистический центр. В 1926–27 гг Барченко ездил в Крым — Бахчисарай, где установил связь с членами мусульманского дервишского ордена Саиди-Эддини-Джибави. Впоследствии он вызывал в Москву и приводил ко мне сына шейха (главы) этого ордена. Примерно в это же время он ездил в Уфу и Казань, где установил связь с дервишами орденов Пакш-Бенди и Халиди. Кроме этого, Барченко в различное время выезжал для связи с сектантами в Самарскую губернию и Кострому. В 1926 г. Барченко ездил в Кострому для встречи с представителем нашего ордена Шамбала, который должен был прибыть из-за границы.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вам было известно, что все эти секты представляют социально и политически враждебные нам слои населения и насыщены шпионским элементом?
БОКИЙ: Да, я знал.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Для какой же цели Вы искали связи с контрреволюционерами и шпионами?
БОКИЙ: Специально связей со шпионским элементом я не искал. На связь с указанными выше сектами я шел, будучи увлечен мистическим учением Барченко и ставя овладение его тайнами выше интересов партии и государства. Высокая задача овладения научно-мистическими тайнами Шамбалы в моих глазах оправдывала отход от марксистско-ленинского учения о классах и классовой борьбе и связь с классовым врагом. Тем не менее специального вреда партии и советской власти я нанести не хотел, и никто из членов нашего ордена как шпион или человек, связанный со шпионами, известен не был.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это неправда. Где в настоящее время находится Владимиров, рекомендовавший Вам в свое время Барченко?
БОКИЙ: Владимиров в 1926 или 1927 г. был расстрелян за шпионаж в пользу Англии.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Как же Вы говорите, что не знаете никого из членов Вашего ордена, занимающихся шпионажем или связанных со шпионами?
БОКИЙ: Я признаю, что мне были известны факты, указывающие на шпионскую деятельность Барченко.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Почему же Вы не приняли мер для ареста и привлечения Барченко к ответственности, а помогали ему продолжать свою шпионскую деятельность?
БОКИЙ: Я признаю, что наша ложа входила в состав общемасонской системы шпионажа. Я терпел такое положение, потому что, как я уже говорил, поставил интересы нашего ордена выше интересов партии и государства и, наблюдая проявления контрреволюционной шпионской деятельности, закрывал на них глаза, оправдывая их теми же интересами нашего ордена.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: С кем еще, кроме Владимирова, были связаны члены ложи по линии шпионажа?
БОКИЙ: Со слов Барченко, мне известно о связях нашего ордена с известным организатором английского шпионажа на Востоке, проживающим в настоящее время в Париже английским принцем Ага-Ханом. Ага-Хан входит в состав ордена Шамбала-Дюнхор и непосредственно связан с центром. Кроме того, у Барченко существовала связь с Польшей, через члена нашего ордена Кондиайна. В частности, Барченко мне рассказывал в 1925 г. о том, что Кондиайном были получены «под видом наследства» деньги из Польши.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Дайте подробные показания, в чем заключалась шпионская деятельность Барченко.
БОКИЙ: Шпионская деятельность Барченко в основном заключалась в создании разветвленного аппарата шпионажа. Работа эта велась им в двух направлениях — организация шпионской сети на периферии и проникновение в руководящие советские и партийные круги. Последнее делалось с той целью, чтобы овладеть умами руководящих работников и, по примеру масонских организаций в капиталистических странах, в частности, во Франции, направлять деятельность правительства по своему усмотрению. Для насаждения сети на периферии Барченко использовал различные религиозно-мистические секты восточного происхождения. Для этой цели он постоянно предпринимал поездки в различные районы Союза, устанавливал связь с местными сектантскими организациями, встречался с закордонными эмиссарами. В 1926 г., когда он выезжал в Кострому для встречи с представителями нашего ордена Шамбала, который должен был прибыть из-за границы, он был задержан местным отделом ОГПУ. Я, однако, имея в виду интересы ордена, приказал его освободить. Кроме Костромы, как я уже показывал, он выезжал на Алтай, в Крым, Казань, Уфу и Самарскую губернию. Для того чтобы проникать в руководящие круги советских работников, Барченко старался заинтересовать отдельных лиц своими «научными исследованиями», их значением для обороны страны и т. п. Заинтересовав кого-либо научной стороной вопроса, он постепенно переходил к изложению своего учения о Шамбале и, опутав жертву паутиной мистики, использовал ее в целях шпионажа. Таким образом он в свое время обработал меня и проник в ОГПУ. Впоследствии при моем участии был обработан Стомоняков, Москвин, Миронов, Кастрыкин. Удалось ему при моей помощи заинтересовать своим учением бывш. зав. подотдела нацменьшинств ЦК ВКПб Диманштейна и инженера Флаксермана, которые по моему приглашению два раза присутствовали на занятиях нашего кружка Древняя Наука. Не довольствуясь этим, Барченко просил меня свести его с Молотовым и Ворошиловым. Особенно настойчиво он стал добиваться встречи с Ворошиловым в последнее время. Действовал он совместно с Лейсмейером-Шварцем, который в свое время свел Барченко со мной. Лейсмейер специально для этого в начале 1936 г. приезжал из Ленинграда в Москву и носил Ворошилову написанный Барченко по настоянию Лейсмейера доклад. Ворошилов Лейсмейера, однако, не принял. После этого Лейсмейер уехал в Ленинград и прислал оттуда Барченко небольшую сумму денег (200 руб.), которую Барченко почему-то не принял и отослал обратно.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Какую шпионскую деятельность <Вы вели>, какие конкретные шпионские задания получали от Барченко Вы лично?
БОКИЙ: Прямых заданий по шпионажу от Барченко я не получал. Моя роль в этом деле выражалась в том, что, будучи увлечен мистикой Барченко, я пренебрегал интересами государства и помогал ему вести шпионскую работу, закрывая глаза на характер его деятельности и покрывая ее именем Спецотдела ОГПУ.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Это неверно. При занимаемой Вами должности Барченко не мог не стремиться использовать Вас в целях шпионажа более активно.
БОКИЙ: Причины сдержанности в этом отношении Барченко непонятны и для меня самого. Теперь, после обнаруженных под руководством наркома внутренних дел Ежова обстоятельств, я думаю, что шпионаж в органах ОГПУ-НКВД шел по другой линии. При самом активном использовании меня я не мог дать тех сведений, которые имели возможность давать другие арестованные лица, в частности Ягода. В связи с этим меня, очевидно, держали в резерве, не желая подвергать напрасно риску провала, сопряженному со всякой активной деятельностью, и довольствуясь тем общим содействием, которое я оказывал Барченко. К этому заключению меня приводит еще и следующее обстоятельство. Последние полтора-два года моя связь с Барченко значительно ослабела. Мы с ним не встречались, и он перестал обращаться ко мне с какими-либо просьбами и только после произведенных в последнее время арестов он, стараясь восстановить со мной прежнюю связь, вновь обратился ко мне с письмом. Полагаю, что здесь именно имеет место попытка включить меня в активный шпионаж, ввиду провала других линий.
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Следствие Вам не верит. Стараясь увести следствие от расследования своей шпионской деятельности, Вы хотите направить его в другую сторону. Предлагаю Вам дать откровенные показания о Вашей шпионской работе.
БОКИЙ: К тому, что я уже показал, я больше ничего существенного добавить не могу.
Допрашивали:
Зам. наркома внутренних дел комиссар Госбезопасности 2 ранга Вельский
Ст. лейтенант Госбезопасности Али
Иллюстрации
«Царство Шамбалы», монгольская «тангка» (фрагмент), 19 в. (Из книги.: М. М. Rhie, R. A. Thurman. Wisdom and Compassion: The Sacred Art of Tibet. N. Y., 1991 r.)
Мистическая монограмма «Намчувангдан» — эмблема Калачакры. (Из книги Э. Бернбаума «Путь в Шамбалу»)
Путь в Беловодское царство. Маршрут путешествия А. Е. Зырянова в 1861 г.
13-й Далай-лама Тибета (начало 20 в.). Фото из архива А. А. Терентьева
Потала — зимний дворец Далай-ламы в Лхасе. Фото из архива А. А. Терентьева
Посланец Далай-ламы к русскому царю бурятский лама Агван Доржиев (ок. 1900 г.)
Буддийская служба в библиотеке Музея Гиме в Париже, 27 июня 1898 г. Лама на троне — А. Доржиев. (Репродукция с картины Феликса Регамея из собрания Музея Гиме)
Маркиз А. Сент-Ив д' Альвейдр
А. Доржиев выходит из Большого Петергофского дворца после аудиенции с Николаем II, 1901 г. Фото из архива А. А. Терентьева
А. В. Барченко (снимок периода 1-ой мировой войны)
Изобретенный Барченко шлем из медных и алюминиевых пластин для передачи и приема мыслей (1910 г.)
Этюд А. В. Барченко «Родная картинка» (Журнал «Русский Паломник», 1917 г.)
Буддийский храм в Старой деревне. (ЦГА КФФД, С.-Петербург)
Агван Доржиев в буддийском общежитии при храме, 1913 г (ЦГА КФФД)
А. В. Барченко (1922 г.). Архив семьи Кондиайнов
А. А. Кондиайн (1920 г.). Архив семьи Кондиайнов
Э. М. Месмахер (жена А. А. Кондиайна), Дерекой, 1927 г.
А. А. Кондиайн с женой Э. М. Кондиайн наблюдают солнечное затмение в Мурмане, 1921 г. Архив семьи Кондиайнов
Лапландская экспедиция А. В. Барченко (1922 г.). Слева направо: лопарь-проводник, А. В. Барченко, Н. Барченко, Л. Н. Шишелова-Маркова, Ю. В. Струтинская, А. А. Кондиайн, неизвестное лицо, Семенов (корреспондент «Известий»). Архив семьи Кондиайнов
Одна из находок — камень-жертвенник (?). Архив семьи Кондиайнов
Справа налево: проводник, А. В. Барченко, Н. Барченко, Л. Н. Шишелова-Маркова, Ю. В. Струтинская. Архив семьи Кондиайнов
Елка в квартире Кондиайнов на ул. Красных Зорь, 1923 г. Архив семьи Кондиайнов
А. В. Барченко с учениками в Крыму (весна 1927 г.). Стоят: (справа налево) А. В. Барченко, О. П. Барченко, H. Барченко, А. Д. Солдатов, жена Солдатова, А. А. Кондиайн; Сидят: (слева направо) неизвестное лицо, Э. М. Кондиайн, Л. Шишелова-Маркова, дочь Солдатовых, Олег Кондиайн. Архив семьи Кондиайнов
А. А. Кондиайн в рабочем кабинете (конец 1920-х гг.). Архив семьи Кондиайнов
«Тибетские идеограммы» костромского отшельника М. Т. Круглова: «Дюнхор» (вверху) и «Шамбала» (внизу)
Археометр А. Сент-Ива д'Альвейдра
Глава Спецотдела при ОГПУ Г. И. Бокий
А. В. Барченко, 1937 г. (снимок из следственного дела)
ЧАСТЬ II
Большевики в Тибете
Неизвестная страница из истории тайной дипломатии Кремля
Дипломатия, не должна исходить из того, что все будут бросаться в наши объятия. Дипломатия должна активно подготовлять стремление других сближаться с нами.
Г. В. Чичерин
1. Тибет — «зерно между жерновами» двух великих империй
Впервые Тибет возник на политическом горизонте России в конце XIX века в связи с обострением англо-русского соперничества в Азии. Добровольно изолировавшийся от окружающего мира, он представлял собой в ту пору огромную Terra Incognita — Неведомую землю, которая неожиданно оказалась на пути двух встречных потоков империалистической экспансии — царской России с севера и Великобритании (Британской Индии) с юга. Таким образом Тибету, подобно Персии и Афганистану, суждено было стать еще одним «зерном, попавшим между двумя жерновами», говоря словами русского военного географа А. Е. Снесарева. Начиная с 1860-х гг. в течение нескольких десятилетий «Снежная страна» служила объектом интенсивных географических исследований, осуществлявшихся под эгидой англо-индийского «Главного тригонометрического бюро» в Дера-дуне и Императорского Русского географического общества в С. Петербурге. Постепенно Тибет начал привлекать к себе внимание английских торгово-промышленных кругов. В 1890 г. Англия установила протекторат над Сиккимом, гималайским княжеством, находившимся до того времени в вассальной зависимости от Лхасы, подписав договор с Китаем, формальным сюзереном Тибета, без ведома лхасских властей. А в 1893 г. этот договор был дополнен торговым соглашением, открывавшим сиккимо-тибетскую границу для английских товаров. Подобная «наступательная политика» (forward policy) Дели не могла не встревожить С. Петербург. В том же году чиновник Азиатского департамента МИД, более известный как врач тибетской медицины, П. А. Бадмаев выдвинул грандиозный проект мирного присоединения к России «монголо-тибетско-китайского Востока». Этот план, несмотря на всю его фантастичность и явно авантюрный характер, получил одобрение Александра III и субсидии из казны. В 1895 г. на разведку в Тибет Бадмаевым была отправлена группа бурят — торговых агентов. В Лхасе они тайно вступили в контакт со своим соплеменником, ламой Агваном Доржиевым, который проживал в Тибете уже около двадцати лет и пользовался большим влиянием при дворе Далай-ламы. Собранные ими сведения побудили влиятельного министра финансов С. Ю. Витте, в руках которого фактически находилась внешняя политика России, обратиться к Николаю II с докладной запиской, в которой, в частности, говорилось:
«По своему географическому положению Тибет представляет, с точки зрения интересов России, весьма важное политическое значение. Значение это особенно усилилось в последнее время ввиду настойчивых стремлений англичан проникнуть в эту страну и подчинить ее своему политическому и экономическому влиянию. Россия, по-моему, должна сделать все от нее зависящее, чтобы противодействовать установлению в Тибете английского влияния»[309].
Два года спустя (в 1898 г.) на Невских берегах неожиданно появился посланец XIII Далай-ламы Тубтена Гьяцо — упомянутый выше Агван Доржиев. С его помощью правитель Тибета пытался прозондировать почву относительно возможности политического сближения с Россией в целях защиты своей страны от английских притязаний. Тибетский дипломат получил аудиенцию у царя, который сочувственно его выслушал, однако ничего не обещал. В 1900 и 1901 гг. Доржиев еще дважды побывал в Петербурге с той же миссией в качестве доверенного лица Далай-ламы. Его последний визит увенчался некоторым успехом — Николай II письменно заверил тибетского первосвященника, что «при дружественном и вполне благосклонном расположении России никакая опасность не будет угрожать Тибету в дальнейшей судьбе его»[310]. Эта весьма расплывчатая формулировка была истолкована Лхасой как согласие русского «Белого царя» установить протекторат над Тибетом — заблуждение, имевшее для нее роковые последствия.
В действительности русское правительство таких целей перед собой никогда не ставило и, несмотря на поддержку бадмаевских планов, к тому времени, впрочем, окончательно рухнувших, и большую «азиатскую программу» нового царя, серьезных видов на Тибет не имело. Весь интерес Петербурга к Лхасе ограничивался преимущественно религиозной связью российскоподданных бурятов и калмыков со своим духовным главой, Далай-ламой. Связь эта, однако, была очень слабой, в силу изоляционистской политики лхасских властей, наглухо закрывших двери своей страны для посетителей с Запада. Запрет этот распространялся и на «русских буддистов», которым, чтобы проникнуть в священный город, приходилось выдавать себя за халха-монголов (жителей Халхи, или Внешней Монголии), подданных китайского императора. По сведениям Гомбожаба Цыбикова, «русская колония» в Лхасе в 1900 г. насчитывала около 50 человек — в основном бурятских лам, обучавшихся в монастырских школах в окрестностях столицы[311]. Петербург до того времени, по правде говоря, не придавал большого значения сношениям бурятов и калмыков с Лхасой, однако под влиянием посольств Доржиева, он начинает использовать этот чисто религиозный мотив в качестве весомого политического аргумента в своем споре с Лондоном.
Таким образом, наметившееся в начале века русско-тибетское сближение было порождено, с одной стороны, англо-русским антагонизмом, неожиданно обострившимся вследствие официальных дипломатических инициатив Лхасы, и, с другой — крайним политическим бессилием Цинской династии в Пекине, неспособной обеспечить неприкосновенность одной из своих вассальных территорий. Впрочем, сюзеренитет Китая над Тибетом к этому времени носил уже чисто символический характер — во всяком случае пекинский резидент в Лхасе («амбань») не оказывал какого-либо влияния на внешнюю политику страны, о чем убедительно свидетельствует факт обращения Далай-ламы за помощью к России. В этой связи необходимо также отметить исключительно важную роль Доржиева, чье умелое и настойчивое посредничество в конечном счете и привело к русско-тибетскому сближению.
Агван Лобсан Доржиев (1854–1938), забайкальский бурят по рождению, обосновался в Лхасе в начале 1870-х годов[312]. Здесь, в крупнейшем монастыре Дрепунг, он получил высшее конфессиональное образование и степень «лхарамба» — тибетского доктора богословия. Вскоре после этого Доржиев был назначен одним из учителей юного Далай-ламы, точнее, одним из его семи «цан-шавов» — партнеров для упражнения в философских диспутах. Это позволило бурятскому ламе завязать дружеские, доверительные отношения со своим августейшим «учеником» — фактически он стал фаворитом Далай-ламы и начал играть ключевую роль на лхаской политической сцене. В середине 1890-х, когда Далай-лама достиг своего совершеннолетия, Доржиев сформировал новый внешнеполитический курс Тибета, переориентировав страну на царскую Россию. Держава русского царя, убеждал он тибетского правителя, в силу своей враждебности Англии, могла бы стать защитницей Тибета. Сама же Россия покуситься на Тибет не смогла бы, поскольку находилась слишком далеко от его границ. Но главное, на что делал упор Доржиев, — в России «беспрепятственно процветает буддизм» и даже сам царь открыто благоволит «желтой вере»[313]. В результате Доржиеву удалось создать прорусскую партию при дворе Далай-ламы в противовес уже существовавшим прокитайской и проанглийской группировкам. Сторонники сближения с Россией окончательно одержали верх после того, как в конце 1901 г. тибетские послы торжественно доставили в Лхасу царскую «грамоту» — уже упоминавшееся письмо Николая II на имя Далай-ламы.
Переговоры Доржиева с царем и русскими министрами (В. Н. Ламздорфом, С. Ю. Витте и А. Н. Куропаткиным) имели в действительности довольно скромные практические результаты. Все, чего Лхасе реально удалось добиться от Петербурга, это согласия МИД на учреждение русского консульства в городе Дацзянлу, в китайской провинции Сычуань, «с целью установления непосредственных и постоянных сношений Императорского правительства с высшими буддийскими властями Тибета»[314]. Консульство это, впрочем, просуществовало недолго, всего около года, с сентября 1903 г. по сентябрь 1904 г. В целом, русское правительство в лице МИД не проявляло большой активности в «тибетском вопросе», опасаясь осложнений с Англией. К тому же, «открытие» Тибета для иностранцев, по мнению С. Ю. Витте, сулило выгоду одним лишь англичанам из-за соседства Тибета с Индией; «для нас же конкуренция с англичанами в области коммерции в Тибете», считал он, «едва ли возможна»[315]. Гораздо больший интерес к Тибету проявляло военное ведомство. Так, военный министр А. Н. Куропаткин еще во время первого визита Доржиева в Россию выразил готовность оказать военную помощь Тибету, однако мы не имеем прямого подтверждения факта поставки русского оружия в Лхасу в конце 1901 — начале 1902 гг., как утверждали англичане и о чем писал якобы видевший это оружие своими глазами японский монах Экай Кавагучи[316]. Планировавшаяся же еще в 1901 г. посылка военных инструкторов в Лхасу не состоялась. В начале 1904 г., правда, после того как до Петербурга дошли слухи о военном походе англичан в Тибет, Куропаткин послал в Лхасу на разведку группу калмыков-буддистов во главе с подъесаулом Нараном Улановым. В то же время Главный штаб взвешивал возможность направления в Лхасу военно-дипломатической экспедиции под руководством капитана П. К. Козлова (знаменитого путешественника, ученика М. Н. Пржевальского) — факт, до сих пор неизвестный исследователям. Цель этой миссии состояла в том, чтобы «добиться для русских тех же привилегий, каких добивается Англия своей экспедицией, но избегать во что бы то ни стало конфликта с Англией»[317]. Внезапно начавшаяся русско-японская война, однако, помешала планам военных.
Англия активизировала свою политику в отношении Тибета практически в те же годы, что и Россия, и в значительной степени под влиянием того же фактора — посольств Доржиева к русскому царю. Возглавивший в 1899 г. администрацию колониальной Индии лорд Джорж Керзон был весьма нервирован дошедшими до него сведениями о посещении Петербурга в 1901 г. «чрезвычайным тибетским посольством». Новый индийский вице-король подозревал, что Россия и Тибет достигли тайной договоренности или даже заключили договор между собой за спиной англичан. Установление же русского влияния в Лхасе, по мнению Керзона, представляло потенциальную угрозу для индийской границы, что в конечном счете и побудило его пойти на превентивную меру, чтобы «расстроить русскую интригу пока есть время»[318]. Аналогичным образом Петербург со своей стороны также стремился не допустить английского контроля над Лхасой, поскольку англичане в этом случае могли бы использовать лхасскую ламско-теократическую верхушку для распространения враждебного влияния на буддийское население Забайкалья, а также проникать в русскую Среднюю Азию через Синьцзян (Западный Китай). Эти взаимные и далеко не беспочвенные опасения фактически и привели к столкновению русских и английских интересов в Тибете в начале века.
Военная экспедиция Ф. Янгхазбенда в Тибет в 1903–1904 гг. стала серьезным испытанием для зарождавшегося русско-тибетского политического альянса. Изначально она задумывалась исключительно как дипломатическая миссия с целью настоять на выполнении Тибетом статей непризнанного им Сиккимского торгового договора 1893 г. Военной экспедиция стала лишь после того, как тибетцы отказались от ведения переговоров на своей территории, в Камбадзонге. В результате англо-индийские войска двинулись на Лхасу, которую заняли без труда в августе 1904 г. Далай-лама бежал из Тибета во Внешнюю Монголию, за что был низложен китайским императором. В его отсутствии глава экспедиции, Янгхазбенд, принудил тибетские власти к подписанию унизительного для них договора, так называемой Лхасской конвенции, фактически превращавшей страну в английский протекторат.
Победа англичан, однако, оказалась «пирровой», говоря словами американского историка М. Голдстейна. Уже в ближайшие годы Лондон и Калькутта отказались почти от всех «достижений» экспедиции Янгхазбенда. В новых договорах, заключенных с Китаем по тибетским делам (конвенция 1906 г. и торговое соглашение 1908 г.) англичане признали сюзеренные права Пекина, обязались не аннексировать тибетской территории и не вмешиваться в управление Тибетом, оговорив лишь свое присутствие в пунктах, где они учредили торговые агентства — в Ятунге (у Сиккимской границы), Гартоке в Западном Тибете и Гьянтзе (на пути между Ятунгом и Лхасой). Кроме этого, китайское правительство разрешило Калькутте соединить Гьянтзе телеграфной линией с Индией.
Что касается русского правительства, то оно оказалось в весьма щекотливом положении после того, как обосновавшийся в конце 1904 г. в Урге, вблизи русских пределов, Далай-лама обратился к нему за помощью. Петербург, однако, не счел возможным удовлетворить его просьбу о том, чтобы Россия открыто перед всеми державами приняла Тибет под защиту от Англии и Китая. И хотя в МИД поначалу (весной 1905 г,) взвешивалась возможность предоставления Далай-ламе убежища в России, от этой политически опасной комбинации вскоре отказались в пользу более простого решения — удалить Далай-ламу от русских границ, убедив его вернуться в Лхасу. Только в этом случае Россия обещала ему дипломатическую поддержку. В целом, Петербург, следуя своей традиционной политике в Китае, стремился примирить Далай-ламу с Пекином, не сочувствуя его сепаратистским настроениям — объединиться с монголами в единое государство под русским протекторатом.
По окончании русско-японской войны Россия взяла курс на сближение с Англией, что сделало необходимым устранение англо-русских разногласий в Азии. В результате 31 августа 1907 г. в Петербурге была подписана конвенция между двумя странами по делам Персии, Афганистана и Тибета, положившая конец так называемой «Большой игре» — давнему соперничеству России и Англии на азиатском континенте. Обе стороны, признавая сюзеренные права Китая над Тибетом, обязались взаимно уважать территориальную целостность Тибета и воздерживаться от всякого вмешательства в его внутреннее управление. Они также обязались сноситься с властями Тибета только через китайское правительство и не посылать своих представителей в Лхасу. При этом, правда, делалась одна важная оговорка в пользу Англии — ее коммерческие агенты, в соответствии с ранее заключенными Англией договорами с Тибетом и Китаем, могли напрямую сообщаться с тибетскими властями. В то же время буддисты — как русские, так и британские подданные, получили право «входить в непосредственные сношения на почве исключительно религиозной» с Далай-ламой и другими буддийскими иерархами Тибета[319].
Англо-русская конвенция 1907 г. была в целом воспринята с удовлетворением политическими кругами в обеих странах как «справедливый компромисс» и «дальнейшая гарантия европейского мира». Официозное «Новое Время», хотя и отмечало, что Россия потеряла свободу действий в Тибете, не слишком огорчалось из-за этого, поскольку договор обеспечивал главное — «противовес для английских захватов — все, чего могла желать самая смелая политика России в Тибете»[320]. Впрочем, ограничения, которые конвенция налагала на тибетскую политику Петербурга, не помешали царскому МИД в последующие годы довольно успешно поддерживать негласные отношения с Далай-ламой, главным образом через Доржиева и своих бурятских агентов — оказывать ему финансовую помощь, как это, например, имело место летом 1908 г., и консультировать по политическим вопросам в расчете на то, что «Тибетская политика не примет враждебного России направления»[321]. Осевший осенью 1905 г. в С. Петербурге Доржиев, со своей стороны, стремился изо всех сил активизировать русско-тибетский диалог, привлечь русское правительство к решению «тибетского вопроса». В 1908 г. он совершил поездку в Китай для встречи с Далай-ламой, находившимся в то время в монастыре Утай Шань (под Пекином). По возвращении в Петербург Доржиев, с разрешения властей, приступил весной 1909 г. к строительству буддийского храма, которому отводил определенную роль в деле политического сближения Тибета и России.
В декабре 1909 г., после почти пятилетних скитаний по Азии (Монголии и Китаю), Далай-лама, помирившись с Цинами (манжурской императорской династией) и вернув свой высокий титул, возвратился наконец в Лхасу. Но ненадолго. В начале 1910 г. произошло вторжение в Тибет из Сычуани войск генерала-милитариста Чао Эрфеня под формальным предлогом обеспечения охраны английских факторий. В действительности эта акция была направлена на восстановление китайского сюзеренитета над Тибетом. Это обстоятельство заставило Далай-ламу вновь бежать из страны. На этот раз он направился в соседнюю Индию. Там Далай-лама получил политическое убежище и обосновался со своим двором в Дарджилинге. Двухлетнее пребывание владыки Тибета в этой стране в корне изменило его отношение к прежним «врагам», англичанам, которое становится вполне доброжелательным. В немалой степени этому способствовало дружеское общение с приставленным к нему английским чиновником, так называемым «политическим агентом в Сиккиме» (political officer in Sikkim), Чарльзом Беллом. Россия, со своей стороны, проявляла сочувствие к положению Далай-ламы и выражала ему моральную поддержку. Но о чем-то большем не могло быть и речи.
Синьхайская революция в Китае (1911 г.), приведшая к падению цинской династии и установлению республиканского строя в стране, ускорила изгнание китайских войск из Тибета, что помогло Далай-ламе вернуться в Лхасу в январе 1913 г. Вскоре после этого он провозгласил независимость Тибета. Это событие стало поворотным пунктом в судьбе тибетского народа. Республиканское правительство Юань Шикая (президент Китая с 1912 г.) не признало, однако, суверенного статуса Тибета, но ничего не смогло изменить в создавшейся ситуации. Революция ввергла Китай в состояние политического хаоса и привела к раздроблению страны на ряд фактически самостоятельных территорий, управляемых военными губернаторами — «ду-дзюнами». Связь Лхасы с Пекином также практически полностью прервалась («амбань» с его гарнизоном бежал из Лхасы в 1912 г.). Аналогичным образом маньчжурские власти и войска были изгнаны из Внешней Монголии, которая затем объявила об отделении от Китая и провозгласила своим светским и духовным правителем Чжебцун-Дамба Хутухту, третье лицо в ламаистском мире после Далай-ламы и Панчен-ламы.
Россия и Англия, естественно, стремились использовать ситуацию в Китае, каждая в свою пользу — для укрепления своих позиций во Внешней Монголии (Россия) и Тибете (Англия). Петербург, впрочем, преуспел в этом гораздо больше Лондона — 3 ноября 1912 г. русский дипломат И. Я. Коростовец подписал в Урге договор с монгольскими князьями о создании автономного монгольского государства под русским протекторатом. Основы этого договора были подтверждены в соглашении 1913 г. и затем окончательно закреплены в Кяхтинском тройном русско-китайско-монгольском акте 1915 г. В своих мемуарах барон Б. Э. Нольде писал: «На русской границе, от Алтая до Маньчжурии, место Китая заняли монголы, все будущее которых, политическое и культурное, было в руках России. Цель была достигнута без резких и непоправимых конфликтов, бесшумно и без всякого намека на политическую авантюру»[322].
В эти же годы, сосредоточившая свое внимание на более актуальном для нее монгольском вопросе, русская дипломатия все более отстранялась от «тибетских дел». В целом, МИД усматривал определенный «параллелизм между нашим положением в монгольском вопросе и положением Англии в вопросе Тибета» и даже считал выгодным для себя «заключение между английским правительством и Далай-ламой непосредственного соглашения», при условии, однако, чтобы оно не нарушало англо-русской конвенции 1907 г.[323] При этом Петербург недвусмысленно рассчитывал на получение политической компенсации от Лондона в тех областях, где русские интересы соприкасались с английскими.
В мае — июне 1913 г. состоялся обмен меморандумами между Лондоном и Петербургом, свидетельствовавший об их одинаковом подходе к «тибетскому вопросу». Английское правительство заявило, что считает наилучшей политикой по отношению к Тибету «начало международного невмешательства в его внутренние дела». Русское правительство, со своей стороны, всецело присоединилось к такому взгляду «как вытекающему из духа и смысла соглашения 1907 г., которое является одним из основных актов, определяющих положение названной страны»[324]. В том же 1913 г. МИД России и Форин Оффис столь же единодушно заявили о своем непризнании монголо-тибетского дружественного договора, заключенного Доржиевым ранее в Урге (11 января — 29 декабря 1912 г. ст, стиля) от лица Далай-ламы с монгольским правительством, по причине, неправомочности подписавших его сторон. В этом, на первый взгляд, политически довольно безобидном соглашении правители Тибета и Монголии, Далай-лама и Чжебцун-дамба, прежде всего взаимно признавали независимость, первый — монгольского, а второй — тибетского государств. Другие статьи договора содержали ряд деклараций общего характера — о взаимной помощи двух народов «в случае внутренней и внешней опасности», о взаимном покровительстве монголами тибетцам, а тибетцами монголам, проезжающим через территории соответственно Монголии и Тибета и др.[325]Ургинский договор несомненно преследовал цель создания духовного и политического союза между Тибетом и Монголией, но в то же время с его помощью Доржиев, очевидно, стремился привлечь русское правительство к «тибетским делам».
Объявление независимости Тибета Далай-ламой потребовало от него решения ряда неотложных задач, таких как улучшение системы государственного управления, реорганизации армии, а также урегулирования дипломатических отношений с пекинскими властями. Особенно остро стоял вопрос военной реформы, ввиду сохранявшейся угрозы нового китайского вторжения. До 1913 г. Тибет не имел регулярной национальной армии. Тибетское войско насчитывало 3 тысячи необученных и плохо вооруженных воинов. Достаточно сказать, что основным оружием тибетцев были примитивные фитильные ружья. В 1913–1914 гг. Далай-лама приступил к созданию регулярной тибетской армии, во главе которой он поставил своего нового фаворита, 27-летнего Царонга. Выходец из простой семьи, Царонг (настоящее имя Ченсал Намганг), прославился как «герой Чаксама». В 1910 г. его отряд задержал у переправы Чаксам китайские войска, преследовавшие бежавшего из Лхасы Далай-ламу[326]. Царонг увеличил численность армии на одну тысячу человек. Военная подготовка рядового состава передавалась в ведение иностранных инструкторов и велась в четырех вновь сформированных полках по китайско-монгольской, японской, русской и английской системам. Спустя два года в Лхасе прошел показательный смотр войск — в результате Далай-лама отдал предпочтение английской системе, которая с того времени и была введена в тибетской армии. В 1914 г. англичане безвозмездно поставили тибетцам 5 тысяч винтовок (старого образца «Ли Метфорд» и нового «Ли Энфилд») и полмиллиона патронов к ним. В то же время представитель Далай-ламы просил русского генконсула в Урге о продаже Тибету 1 тыс. винтовок для защиты страны от возможных посягательств со стороны Китая, но тот отказал ему, посоветовав обратиться к английскому правительству через посредство индийских властей[327]. Этот факт, вероятно, еще раз дал понять Лхасе, что она не может больше рассчитывать на помощь далекой и «инертной» России и что поэтому ей следует искать опору в гораздо более отзывчивой к ее нуждам и уже совсем не опасной Англии в лице соседней Индии.
Помимо реорганизации армии, Далай-лама весьма успешно осуществил и ряд других мероприятий в рамках задуманной им программы «модернизации». Так, в Тибете начали печатать бумажные деньги (ассигнации изготавливались сперва вручную). Позднее там перешли к чеканке собственной монеты (медной, серебряной и золотой). В 1913 г. по распоряжению Далай-ламы на обучение в Англию отправились четверо тибетских юношей. По возвращении на родину они с успехом использовали на практике приобретенные ими знания. Например, обучавшийся электротехнике Ригзин Ринганг в середине 1920-х смонтировал две небольшие гидроэлектроустановки — одну в окрестностях Лхасы для электрификации летнего дворца Далай-ламы, Норбулингки, и ряда других зданий, а другую в долине Чумби на юге страны для обслуживания нового монетного двора.
В 1913–1914 гг. в Индии (в Симле и Дели) прошли англо-тибетско-китайские переговоры, вошедшие в историю под названием Симлской конференции. На ней решались вопросы, связанные с урегулированием отношений между Лхасой и Пекином и определением границы между Восточным Тибетом (Камом) и Китаем. Великобританию на этих переговорах представлял глава иностранного департамента индийского правительства сэр Генри Макмагон и политический агент в Сиккиме Чарльз Белл, Тибет — премьер-министр, известный англофил Лончен-Шатра. В результате дискуссий удалось выработать проект Симлской конвенции. В нем правительства Великобритании и Китая признали сюзеренитет Китая над Тибетом. В то же время китайская сторона обязалась не превращать Тибет в китайскую провинцию, а британская — не аннексировать Тибет или какую-либо его часть. Территориально Тибет делился на Внешний (под контролем лхасской администрации) и Внутренний (включая в себя Куку-норскую область и восточную часть страны, прилегающую к Китаю), при этом первый получал автономный статус. Британское правительство обязалось не держать в Тибете военных или гражданских лиц или войска (за исключением эскорта торговых агентов) и не устраивать в этой стране колоний.
Аналогичные обязательства приняло на себя и китайское правительство. Далее, согласно конвенции, Великобритании предоставлялся режим наибольшего благоприятствования в торговле с Тибетом; торговые правила 1893 и 1908 гг. аннулировались и подлежали замене новыми после соответствующих переговоров между тибетским и китайским правительствами.
В апреле 1914 г. стороны парафировали Симлское соглашение, однако, оно не вступило в силу по той причине, что правительство Юань Шикая отказалось его ратифицировать, признав неудовлетворительным проведенное разграничение Внешнего и Внутреннего Тибета. В результате, британский и тибетский представители подписали 3 июля совместную декларацию, в которой заявили о признании парафированной конвенции обязательной для правительств Великобритании и Тибета, что, впрочем, не сделало соглашение «работающим». Одновременно англичане и тибетцы заключили между собой новый торговый договор «Правила англо-тибетской торговли». Кроме этого они достигли договоренности по еще одному очень важному для них вопросу — о демаркации индо-тибетской границы в Ассамских Гималаях восточнее Бутана, так называемой «линии Макмагона». Этот договор, однако, вызвал недовольство в Лхасе, поскольку в соответствии с ним часть исконно тибетской территории с городом и монастырем Таван, площадью около 2000 кв. миль, отходила к индийским владениям. (Несмотря на договор, Таван фактически продолжал оставаться под юрисдикцией тибетских властей.)
Таким образом, главная цель Симлских переговоров не была достигнута, хотя английскому правительству и удалось заключить выгодное торговое соглашение с тибетцами. После начала мировой войны тибетский вопрос отошел на второй план в британской внешней политике. Формально Лондон продолжал заявлять о своем невмешательстве во внутренние дела Тибета, ссылаясь на англо-русскую конвенцию 1907 г. В связи с этим он не дал согласия своему сиккимскому резиденту Ч. Беллу на поездку в Лхасу, куда его настойчиво приглашал Далай-лама. В то же время делийское правительство отклонило в 1915 г. просьбу Царонга о новых поставках английского оружия тибетской армии, но согласилось поставить Лхасе дополнительно небольшое количество боеприпасов (патронов).
Во второй половине 1917 г. вновь начались военные действия между тибетцами и китайцами на камо-сычуаньской границе. Тибетским войскам удалось значительно продвинуться вглубь китайской территории и занять ряд населенных пунктов к востоку по верхнему течению Янцзы. Принято считать, что своей победе тибетцы были обязаны прежде всего новым английским ружьям. Конфликт удалось урегулировать год спустя при посредничестве британского консульского чиновника в Дацзянлу Эрика Тейхмана.
2. Большевики обращают взоры к «Стране лам»
Такой была обстановка в Тибете на тот момент, когда к власти в России пришли большевики. Одним из своих первых актов советское правительство аннулировало все «грабительские» договоры, заключенные царской Россией с Англией и другими державами в эпоху империалистического раздела мира, в число которых попала и конвенция по делам Персии, Афганистана и Тибета 1907 г. Это было частью пропагандистской кампании большевиков по упразднению «тайной дипломатии». Правда, обнародовавший в конце 1917 — начале 1918 г. «секретные договоры» Народный комиссариат по иностранным делам (НКИД), по-видимому, забыл, или не знал, что полный текст конвенции в свое время публиковался в русских газетах[328].
В свое время, в 1915–1916 гг., В. И. Ленин, занимаясь в эмиграции научными изысканиями в области политической экономии, натолкнулся в западных источниках на упоминание о договорах, заключенных Россией в начале XX века с Китаем и Англией по Тибету. Эти сведения не вызвали у него ни малейшего сомнения, и он считал вполне достоверной информацию о русско-китайском договоре о Тибете 1902 г. — «признание Китаем протектората России над Тибетом» (?!) и уступке Россией Тибета Англии вследствие заключения конвенции 1907 г. Это дало Ильичу повод утверждать, что «царизм и все реакционеры России <…> хотят одного — побить Англию в Азии (отнять всю Персию, всю Монголию, весь Тибет и т. д.)»[329]. В том же ключе рассуждал и глава Народного комиссариата по иностранным делам (НКИД) Г. В. Чичерин, охарактеризовавший договор 1907 г. как «дело рук англо-русского металлургического империализма <…> подчинившее Тибет Англии»[330]. Но, как мы уже видели, конвенция 1907 г. не столько развязывала, сколько связывала руки «английским империалистам».
Осенью 1918 г. в «Известиях» появилась первая заметка, посвященная Тибету, что определенно может служить свидетельством интереса к этой стране со стороны партийно-государственного руководства новой России. В ней говорилось о борьбе, якобы начатой тибетцами, по примеру индийцев, против «иностранных поработителей». «К северу от Индии, в сердце Азии, в священном Тибете идет такая же борьба. Пользуясь ослаблением китайской власти, эта забытая всеми страна подняла знамя восстания за самоопределение»[331]. По утверждению автора заметки, тибетцы вдруг вспомнили о том, что в 1914 г. они заключили договор с англичанами, гарантировавший им независимость, — очевидный намек на Симлскую конвенцию. Этим соглашением англичане в свое время пытались умиротворить тибетцев, «боясь внутреннего брожения по соседству с Индией», хотя они и не ратифицировали его (?!). «Пока Китай еще не был в кулаке у союзников, договор существовал по крайней мере на бумаге», — читаем мы дальше. — «Теперь, когда Китай окончательно попал в руки союзных капиталистов, индийское правительство вспомнило, что Тибет всегда тяготел экономически к Индии. А т. к. с ростом революции в южном Китае, революционное движение по реке Янцзы может переброситься в Тибет, и т. к. власть пекинского правительства в столице Тибета Лхасе равняется нулю, то отныне право восстановления „порядка“ должно принадлежать только англичанам».
Заметка в «Известиях» — типичный пример ранней революционно-пропагандистской публицистики большевиков. В действительности же на момент ее появления никакого восстания в Тибете против англичан не происходило, хотя, как уже говорилось, в 1917–1918 гг. имел место вооруженный конфликт на границе между Камом и Сычуанью. Но большевики едва ли могли знать о событиях в далекой Сычуани, да и речь в «Известиях» шла о борьбе тибетцев не с китайцами, а с англичанами. Вообще же, судя по упомянутой публикации, большевики имели довольно смутные представления о политической ситуации в Тибете, как, впрочем, и в других странах «пробуждающейся» Азии. Однако, им хотелось верить, что повсюду на Востоке, а значит и в Тибете, под влиянием русской революции началось мощное национально-освободительное движение.
Довольно неожиданное появление заметки о Тибете в сентябрьском номере «Известий» было все же вызвано вполне конкретным событием — возвращением на политическую сцену Агвана Доржиева. Произошло это при весьма необычных обстоятельствах. Летом 1918 г. Доржиева вместе с двумя спутниками-калмыками арестовали на железнодорожной станции Урбах (недалеко от Саратова, на пути из Калмыцких степей в Забайкалье) по подозрению в попытке вывоза ценностей за пределы Советской России. Эти средства Доржиев собрал среди калмыков на строительство общежития при буддийском храме в Петрограде. В своей тибетской автобиографии он рассказал о страшных днях, проведенных в Бутырской тюрьме в ожидании расстрела, который ему казался неминуемым[332]. Выйти на свободу Доржиеву удалось лишь благодаря настойчивому ходатайству перед ЧК его петроградских друзей-востоковедов[333]. Условием освобождения «тибетского дипломата», по-видимому, стало его согласие сотрудничать с советским дипломатическим ведомством. Привлечь Доржиева к такому сотрудничеству не составляло труда, поскольку он всегда выступал за сближение между Тибетом и Россией. Перед руководителями НКИД Г. В. Чичериным и Л. М. Караханом (заместителем наркома), таким образом, открылась заманчивая перспектива — завязать через Доржиева дружеские связи с Далай-ламой и другими тибетскими теократами, что позволило бы Советской России занять стратегически важную позицию в центре Азиатского континента. Оттуда, с тибетской территории, можно было бы приступить к осаде главной цитадели британского империализма в Азии — Индии, и в то же время продвинуть социальную революцию в страны буддийского Востока. Начиная с весны 1918 г., после визита в Петроград на пути в Германию главы «временного индийского правительства» в Кабуле, сикхского национал-революционера раджи Махендры Пратапа, большевики особенно пристально следили за развитием событий за Гималайским хребтом, в многомиллионной стране, которая, по их сведениям, находилась на пороге революционного взрыва[334].
Вскоре после освобождения Доржиева, 19 октября 1918 г. состоялось заседание Русского комитета для исследования Средней и Восточной Азии (находился в ведении НКИД), на котором его председатель академик С. Ф. Ольденбург выступил с проектом двух экспедиций — в Восточный Туркестан и Кашмир, под его собственным руководством, и в Тибет, под началом профессора Ф. И. Щербатского и при участии профессора Б. Я. Владимирцова. Обе экспедиции, хотя перед ними формально ставились чисто научные задачи, в то же время должны были служить политическим целям большевиков. Так, в проекте тибетской экспедиции говорилось, что она должна сосредоточить свои усилия на исследовании центральной части страны в области Лхасы и Ташилхумпо[335] — двух главных религиозных и политических центров Тибета, где находились резиденции Далай-ламы и Панчен-ламы. Щербатской, встречавшийся с Далай-ламой дважды, в 1905 и 1910 гг., по всей видимости, рассчитывал на новую встречу, а это давало НКИД возможность вступить в контакт с правителем Тибета и попытаться восстановить прерванные между двумя странами отношения. Много лет спустя, в 1929 г., С. Ф. Ольденбург, выступая в защиту своего коллеги академика Ф. И. Щербатского, необоснованно лишенного избирательных прав, подчеркивал его большие заслуги перед советским правительством и, в частности, упоминал его участие в 1919 г. в обсуждении в НКИД «вопроса об ответственнейшей в политическом отношении экспедиции в Тибет»[336]. Сохранившиеся письма того времени Ф. И. Щербатского к С. Ф. Ольденбургу проливают некоторый свет на планы НКИД и ту подготовку к экспедиции, которая велась в этом учреждении. В одном из писем Ф. И. Щербатской писал: «Сейчас от Карахана. Беседовал с ним около двух часов. Он обнаруживает необыкновенный интерес к Востоку. Очень жалеет, что наш комитет перешел в Наркомпрос, и хочет перетащить нас обратно, слить с нами Общество Востоковедения.
<…> Что касается Тибета, то они (руководители НКИД — А. А.) больше всего желали бы устроить в Лхасе радиостанцию, и он просил моего совета. Я поставил вопрос об информации, но не отклонял радиостанции прямо, а стоял на том, что предварительно я поехал бы в Лондон, а в Лхасу хамбо (т. е. Агван Доржиев — А. А.) пошлет бурята Жамбалона — подателя сего письма. Тем временем наши сборы снаряжения экспедиции шли бы своим чередом. Хамбо полагает, что проникновение в Тибет с севера при нынешних условиях крайне опасно, но я его просил категорически не отклонять планов Карахана в виду того, что обстоятельства еще могут измениться»[337].
В другом письме Ф. И. Щербатской рассказывал С. Ф. Ольденбургу, как он занимался переводом материалов по Тибету, полученных НКИД, очевидно, при содействии Доржиева из Лхасы: «Я исполнил для Наркоминдела летом два письма, в переводе вышло 4 листа большого формата моей рукой, а теперь пять документов:
1) список всех правительственных учреждений, как старых, так и новых, возникших при 13 перерождении Далай-ламы, список всех школ, всех префектур, всех фабрик, арсеналов, и список всех знатных фамилий, имеющих замки, с указанием всех штатов, сколько в каждом учреждении духовных и светских чиновников — всего вышло перевода 35 листов сравнительно большого формата;
2) список всех духовных владык от Далай-ламы и Банчена (Панчен-ламы — А. А.) до настоятелей всех монастырей, выйдет моих листов 10;
3) список всех Цонхавинских монастырей и их должностных лиц;
4–5) и еще два мелких документа.
Все написано мельчайшей скороп[исью], читать надо через лупу, на китайской шершавой бумаге. Мы на разбор потратили почти целый месяц. Сведения замечательно интересны, все, что сообщают Waddel, Rockhill и старые путешественники, до смешного незначительно, по сравнению с полнотой этих данных.
Я просил разрешения напечатать их в будущем нашем журнале. Был бы козырь, но МИД не разрешает, боится, что мы можем подвести их информатора»[338].
Такая информация, несомненно, имела большую ценность для НКИД, хотя и не давала представления о политической ситуации в Тибете, в частности, о расстановке классовых сил в стране, что более всего интересовало советское руководство. Любопытно, что желание участвовать в экспедиции Ф. И. Щербатского изъявил упомянутый выше Махендра Пратап, по-видимому, намеревавшийся заняться в Тибете антибританской пропагандой. В июле 1919-го он вновь объявился в Москве проездом из Берлина в Кабул — посетил НКИД, где, вероятно и узнал о планах Ф. И. Щербатского, встречался с В. И. Лениным в составе делегации индийских революционеров[339]. В начале 1920 г. Пратап послал Ф. И. Щербатскому из Кабула открытку, в которой спрашивал о «тибетской миссии» и просил не забыть о нем, в том случае, если русский ученый соберется поехать «в сторону Тибета»[340]. Однако, экспедиции Ф. И. Щербатского не суждено было осуществиться. Гражданская война отрезала Красную Москву от Восточной Сибири и Монголии — территории, через которую пролегал путь в далекий Тибет.
В том же 1919 г. в Наркоминделе рассматривался еще один проект экспедиции в Тибет. На этот раз инициатива принадлежала уже не ученым, а двум высокопоставленным калмыкам-большевикам: А. Ч. Чапчаеву (председателю ЦИК Совета депутатов трудящихся калмыцкого народа) и А. М. Амур-Санану (возглавлявшему калмыцкий отдел Наркомнаца). Оба они хорошо знали А. Доржиева, который, начиная с января 1919 г., находился в Калмыкии, где по заданию НКИД вел просоветскую агитацию среди калмыцкого духовенства и верующих[341].
26 мая 1919 г. газета «Жизнь Национальностей», орган Наркомнаца, опубликовала статью Амур-Санана «Ключи Востока», в которой он предлагал использовать калмыков для распространения «идеи Власти Советов» на Востоке, среди многомиллионных монголо-буддийских племен, близких им по крови, религии и языку. Проживавшие на огромной территории между Байкалом и Тибетским нагорьем, они «могли бы охотнее откликнуться на призыв своих братьев-калмыков, чем на призывы чуждых им наций и религий». Для связи с ними существовал древний «монголо-буддийский путь», начинавшийся в калмыцких степях и проходивший через Алтай, Монголию, Тибет далее в Индию. Таким образом, «в сферу влияния Советской власти» попала бы не только Монголия, но и связанный с ней тесными религиозными узами Тибет. В свое время, напоминал читателям Амур-Санан, Россия уже пыталась установить связь с Тибетом с помощью бурятских и калмыцких буддистов — Цыбикова, Нарзунова и Уланова. Конечной целью калмыцких агитаторов считалась Индия — «Тибет же непосредственно соприкасается с Индией; вот каким образом последняя могла бы установить связь с очагом мировой революции Россией»[342]. Осуществить эту крайне важную политическую задачу предстояло калмыцкой интеллигенции с помощью «таких известных политических деятелей Востока, как Хамбо Агван Доржиев».
Через некоторое время (13 июля 1919 г.) «Жизнь Национальностей» в продолжение поднятой темы опубликовала еще одну заметку, озаглавленную «Монголия как ворота буддийского Востока». Ее автор Ойратский (псевдоним А. Ч. Чапчаева) призывал советское правительство ориентироваться в своей восточной политике не только на мусульманство, но, в равной мере, и на «буддийский мир» и расточал похвалы А. Доржиеву.
За публикациями А. М. Амур-Санана и А. Ч. Чапчаева последовал практический шаг. 14 июля 1919 г. председателю Совнаркома В. И. Ленину была передана их докладная записка с предложением немедленно послать вооруженный отряд к северо-восточной границе Индии, через Монголию и Тибет. Внезапное появление такого отряда «на буддийском участке ее пограничной линии», там, где Индия прикрыта цепочкой буферов — Бутаном, Сиккимом и Непалом, — вызвало бы переполох среди англо-индийских властей, чье внимание в то время было сконцентрировано на войне с афганцами. Внешне отряд должен был напоминать караван мирных буддийских паломников. С ним, по мнению калмыков, следовало отправить некоторое количество стрелкового оружия (револьверов, винтовок, пулеметов) и разных «военных припасов» для раздачи местному населению. В дальнейшем предполагалось наладить регулярные поставки оружия в этот регион, что фактически превратило бы пограничный «буддийский участок» в плацдарм для военных операций в глубь юго-восточной Азии. «Здесь прямой путь в наиболее революционно настроенную провинцию Индии — Бенгалию; Бирма же и Сиам, — писали А. М. Амур-Санан и А. Ч. Чапчаев, — дают возможность проникнуть сухим путем еще глубже в тыл английским колониальным владениям, даже в пределах Индокитая»[343]. Собственно Тибету, равно как и Монголии, в этих планах отводилась второстепенная роль, хотя калмыцкие деятели и подчеркивали важность распространения революционных идей среди монголов и тибетцев с целью «приобщения этих народов к мировой революции» (см. Приложение 1).
Письмо калмыцких революционеров заинтересовало В. И. Ленина, который без промедления (16 июля) переправил его через Оргбюро ЦК Г. В. Чичерину с указанием начать «подгот[овительные] мероприятия»[344]. Однако НКИД в условиях гражданской войны не сумел оперативно снарядить и отправить к индийской границе летучий отряд буддистов-агитаторов летом 1919 г. Тем не менее Тибет продолжал привлекать к себе внимание Москвы. Так, советское правительство довольно резко реагировало на англо-китайские переговоры по Тибету, проходившие в Пекине во второй половине 1919 г., о которых оно узнало совершенно случайно: «Сейчас радио принесло нам сообщение, что на очередь поставлен вопрос о независимости Тибета, — писали „Известия“ 15 ноября 1919 г. — Между Китаем и Англией ведутся переговоры о „даровании Китаем Тибету автономии, при условии сохранения суверенитета Китая“. Нет сомнения, что в постановке этого вопроса замешана английская дипломатия, которая, стремясь оградить подступ к Индии, плетет свою дипломатическую паутину, в которой должны, в конечном счете, запутаться и Китай, и Тибет»[345].
Летом 1920-го, когда гражданская война подходила к концу, на стол Г. В. Чичерина лег еще один проект — «научно-пропагандистской экспедиции» в Тибет, принадлежавший литератору и ученому-биологу А. В. Барченко, о котором рассказывалось в первой части этой книги. Напомним читателю, что экспедиция ставила своей целью «исследование Центральной Азии и установление связи с населяющими ее племенами», хотя в действительности, как мы знаем теперь, А. В. Барченко намеревался установить контакты с центром «доисторической культуры» в Тибете — легендарной Шамбалой северных буддистов. Арестованный в 1937 г., он так рассказывал об этом следователю: «… В своей мистической самонадеянности я полагал, что ключ к решению социальных проблем находится в Шамбале-Агарте, в этом конспиративном восточном очаге, где сохраняются остатки знаний, опыта того общества, которое находилось на более высокой стадии социального и материально-технического развития, чем современные общества. А поскольку это так, необходимо выяснить пути в Шамбалу и установить с нею связь»[346]. Принять участие в столь необычном путешествии изъявили желание моряки Балтийского флота, большевики И. Я. Гринев и С. С. Белаш. Но и эта поездка не состоялась, скорее всего по той же причине, что и планировавшиеся ранее НКИД две другие экспедиции в Тибет.
Между тем, в Петрограде в конце 1919 г. неожиданно произошел инцидент, поставивший под угрозу «тибетские планы большевиков» — разгром буддийского храма. Виновницей происшествия оказалась расквартированная в соседнем доме красноармейская часть. Из храма были похищены многие ценные культовые предметы, некоторые из которых являлись личными подарками Далай-ламы. Полному уничтожению подверглись библиотека тибетских и монгольских книг, а также обширный дипломатический архив А. Доржиева. Узнавший об этом А. Доржиев осенью 1920 г. срочно приехал из Калмыкии в Петроград. Потрясенный случившимся, 1 октября он направил гневное письмо заведующему отделом Востока НКИД Я. Д. Янсону. В нем А. Доржиев писал, что «разгром и надругательство над Петроградским буддийским храмом, являющимся общебуддийской святыней, находящейся под особым покровительством Далай-ламы, <…> будут иметь несомненно и определенно отрицательное значение для укрепления налаживающихся связей между Советроссией и буддийским Востоком»[347]. 4 октября 1920 г. его заявление НКИД переслал председателю Петросовета Г. Е. Зиновьеву, при этом в сопроводительной записке Л. Б. Карахан и Я. Д. Янсон выразили свою озабоченность по поводу случившегося — «факт его (храма — А. А.) разрушения преступен не только по отношению к исторической ценности, но и подорвет доверие буддистов к Советской России, если до их слуха дойдет известие о гибели храма»[348]. Расследование инцидента, предпринятое ПЧК, не дало никаких результатов. Впрочем, НКИД со своей стороны обещал А. Доржиеву помощь в восстановлении «общебуддийской святыни» и действительно выделил на это некоторые средства, которых, однако, оказалось недостаточно. Насколько можно судить, сведения о разгроме петроградского «дацана» все-таки дошли до Далай-ламы, хотя, вероятно, и не сразу, через бурятских и калмыцких лам, но о его реакции нам ничего не известно.
3. На разведку в Лхасу
Весной 1920 г. в тибетской политике Англии наметились важные перемены. Продолжавшиеся с лета 1919 г. в Пекине переговоры по «тибетскому вопросу» между главой британской миссии Джоном Джорданом и министром иностранных дел Китая Чен-лу окончательно зашли в тупик. Между тем (в начале 1920 г.) в Лхасу прибыла китайская делегация из соседней провинции Ганьсу, что вызвало большое беспокойство у Лондона, опасавшегося, что за спиной ганьсуйцев стоит Пекин, стремящийся к сепаратному соглашению с тибетцами. Это побудило британское правительство активизировать свою политику в отношении Тибета, результатом чего стало согласие нового руководителя Форин Оффиса лорда Д. Н. Керзона на посещение Лхасы «сиккимским резидентом» Ч. Беллом, который к тому времени получил новое приглашение Далай-ламы. Керзон полагал, что Англия может больше не считаться с конвенцией 1907 г., запрещавшей подобные визиты как английским, так и русским представителям, поскольку ее аннулировали большевики. В то же время Лондон по-прежнему относился отрицательно к идее создания постоянного английского представительства в Лхасе, поскольку такой шаг дал бы повод Пекину добиваться посылки своего резидента в тибетскую столицу.
Основная задача миссии Ч. Белла состояла в укреплении дружественных отношений с Далай-ламой и его министрами, восстановлении несколько пошатнувшегося в годы мировой войны доверия тибетских верхов к англо-индийскому правительству. В то же время в Дели хотели с помощью Ч. Белла разузнать о результатах Ганьсуйской миссии. Британский представитель прибыл в Лхасу 17 ноября 1920 г. в сопровождении военного медика, д-р Дайера, которого впоследствии заменил подполковник Р. С. Кеннеди. После Ф. Янгхазбенда Ч. Белл стал первым английским дипломатом, посетившим недоступную для европейцев столицу Тибета.
Далай-лама и члены его правительства встретили Ч. Белла необычайно радушно. Свободно владевший тибетским языком и прекрасно знавший тибетские обычаи и этикет, он не мог не импонировать тибетцам. Долгие часы «сиккимский резидент» проводил в приватных дружеских беседах с особенно симпатизировавшим ему Далай-ламой, о чем впоследствии рассказал на страницах написанной им биографии XIII Далай-ламы[349]. В то же время приезд английского дипломата вызвал в начале 1921 г. стихийный протест со стороны наиболее радикально настроенных клерикальных элементов, к которым в основном принадлежали монахи крупнейшего Дрепунгского монастыря. Ламы связывали визит британского представителя с планами увеличения тибетской армии (Царонг хотел довести ее численность до 15 тысяч), что побудило их выступить против «новых военных» во время празднования тибетского Нового года (так наз. «Монлама»). Далай-ламе, однако, удалось усмирить недовольных лам, хотя обстановка в Лхасе продолжала оставаться напряженной.
Визит Ч. Белла в Лхасу продолжался почти 11 месяцев, до 19 октября 1921 г. Его основным результатом стала устная договоренность с тибетским правительством (хотя и не формальный договор) о предоставлении Тибету английской помощи в модернизации страны. Она включала в себя: обучение (инструктаж) рядового и командного состава тибетской армии, проведение телеграфной линии от Гьянтзе до Лхасы, разведку полезных ископаемых и устройство двух школ в Гьянтзе и Лхасе. Наиболее важный вопрос — о поставке Лхасе оружия — решился незадолго до отъезда «сиккимского резидента». Делийские власти, очевидно, под влиянием меморандума Д. Н. Керзона от 26 августа, подведшего черту под англо-китайскими переговорами, согласились продать тибетцам 10 горных орудий, 20 пулеметов, 10 тысяч винтовок образца «Ли Энфилд» и один миллион патронов к ним, правда, при одном обязательном условии, что английское оружие будет использовано тибетцами исключительно в целях самообороны и поддержания внутреннего порядка в стране.
Суммируя результаты своей миссии, Ч. Белл докладывал правительству Индии: «Доверие тибетского правительства к нам совершенно восстановлено. Его чувства по отношению к нам, вероятно, никогда не были столь дружественными, как теперь. Политика, которую я предложил для регулирования наших будущих взаимоотношений с Тибетом, была принята в ее полном объеме. Увеличилась вероятность того, что Китай приступит к обсуждению трехстороннего договора с Британией и Тибетом. Одним словом, можно без преувеличения говорить, что тибетский вопрос урегулирован настолько, насколько это вообще возможно в настоящее время. Это урегулирование останется в силе на протяжении нескольких лет и будет в значительной степени способствовать нашим интересам, а также интересам Тибета, и затем, в самом подлинном смысле, высшим интересам Китая»[350].
Но была еще одна сторона, советская, чьи интересы в Тибете Ч. Белл, естественно, не учитывал, уверенный, что большевикам не удастся вовлечь Лхасу в свою политическую орбиту. В интервью лондонскому корреспонденту «Дейли Телеграф» от 17 января 1922 г. он решительно отверг мысль, что большевизм уже проник в Тибет, как сообщалось в некоторых западных печатных органах, давая понять, что он рассматривает Тибет как «грозное государство-буфер между Индией и русским большевизмом». «Принципы большевизма совершенно противны характеру тибетцев», — утверждал он. И хотя большевизм, несомненно, уже проник в Северную Монголию, едва ли можно думать, что монголы в восторге от него. Во всяком случае, «в Тибет он не придет никогда»[351].
Прогноз английского дипломата, однако, не сбылся. Осенью 1920 г. Наркоминдел, почти одновременно с Форин Оффисом, перешел к практической реализации собственных планов в отношении Тибета. В сентябре-октябре этого года, во время посещения Москвы группой монгольских революционеров (Чойбалсан, Сухе-Батор, Данзан, Бодо и др.), в стенах НКИД вновь поднимается вопрос о тибетской экспедиции. К его обсуждению были привлечены также А. Доржиев и А. М. Амур-Санан. То, что руководство Наркоминдела сочло необходимым согласовывать свои планы с монгольскими гостями, объяснялось, во-первых, тем, что экспедицию предполагалось снаряжать в Урге, идти ей предстояло в составе и под прикрытием каравана монгольских торговцев и паломников, что обеспечивало некоторую безопасность. Во-вторых, «тибетский вопрос» теснейшим образом соприкасался с «монгольским вопросом» с точки зрения перспектив Восточной революции: как Тибет, так и Монголия являлись отсталыми, феодальными, ламско-теократическими государствами; обе страны в недалеком прошлом находились под властью Китая и в то же время служили объектами экономической и политической экспансии империалистических держав, обе ныне открыто выражали стремление к национальной независимости. Первой на путь революционных преобразований предстояло вступить Монголии, которая в дальнейшем должна была стать передатчиком коммунистических идей в глубь Азиатского континента. Именно таким путем революция могла прийти в пока что недоступный советскому влиянию Тибет.
В ходе совещаний в НКИД был сформулирован подход советского государства к «тибетскому вопросу», который основывался на следующих принципиальных положениях:
«1. Установление связи РСФСР с Тибетом чрезвычайно важно и необходимо; 2. Отсутствие надлежащей информации о внутреннем и внешнем положении Тибета за последние 3–4 года и особая острота тибетского вопроса в связи с нарождением революционного движения в Индии и вообще в Азии диктует советской дипломатии особую осторожность при подходе к тибетскому вопросу, неразрывно связанному с другими дальневосточными вопросами; 3. Для окончательного выяснения вопроса и намечения практических путей разрешения тибетской проблемы необходимо командировать в Тибет небольшую секретно-рекогносцировочную экспедицию (курсив — А. А.). По прибытии в Тибет и выяснении положения и в случае положительного отношения Тибета к России один из членов экспедиции должен пробраться в Афганистан и оттуда сообщить результаты экспедиции по радиол Москву, где по получении сведений Наркоминдел должен приступить к организации новой и более солидной экспедиции, вернее миссии в Тибет»[352].
Подробное инструктирование участников экспедиции было поручено Э. Д. Ринчино[353], секретарю монголо-тибетского отдела Секции Восточных Народов Сибирского Областного Бюро ЦК РКПб в Иркутске (который, кстати, и сопровождал монгольских революционеров в Москву), и А. Доржиеву. Дальнейшая подготовка экспедиции продолжалась под непосредственным руководством Г. В. Чичерина и Б. З. Шумяцкого, уполномоченного Коминтерна и одновременно НКИД на Дальнем Востоке. В начале февраля 1921 г. Коминтерн преобразовал Секцию Восточных народов в Дальневосточный Секретариат, ставший фактически штабом по руководству всей коммунистической и революционной работой в странах Восточной и Центральной Азии — Китае, Японии, Корее, Тибете и Монголии. Однако планам советского правительства неожиданно помешал Р. Я. Унгерн фон Штернберг, чьи отряды вторглись осенью 1920 г. во Внешнюю Монголию с целью ее освобождения по просьбе Ургинского Хутухты от китайских оккупационных войск. 4 февраля 1921 г. Унгерн взял Ургу. Но уже через несколько месяцев Красная Армия, совместно с частями Монгольской революционной армии, наскоро сформированными и обученными советскими инструкторами-калмыками, начала «освободительный поход» против «Белого барона», завершившийся его полным разгромом.
В начале июня 1921 г. А. Доржиев, находившийся в то время в Забайкалье, получил важные вести из Лхасы. Один из калмыцких монахов, возвращавшихся из «Страны Джу» (т. е. Будды) — как буряты и калмыки называли Тибет, привез ему письмо — то ли от кого-то из его старых тибетских друзей, то ли даже от самого Далай Ламы, — содержавшее сведения о ситуации в Тибете. С этим письмом А. Доржиев спешно выехал в Москву для информирования НКИД и получения дальнейших инструкций. Но главная цель его поездки состояла в том, чтобы поторопить Центр с отправкой тибетской экспедиции. 6 или 7 июля А. Доржиев передал докладную записку заведующему отделом Востока С. И. Духовскому, в которой, в частности, сообщалось: «В настоящее время по-полученным мною сведениям Далай Лама и его приближенные остаются при старом своем мнении, и не может быть ни малейшего сомнения в их готовности [к] возобновлению дружественных отношений с Россией, тем более, когда им станет известна платформа Советской власти и светлые принципы, проводимые ею в жизнь, защиты мелких угнетенных народностей»[354].
Далее А. Доржиев предлагал следующую схему экспедиции — сперва в Лхасу «морским путем» (т. е. через Индию) следует отправить курьера — донского калмыка Сандже Бакбушева, того, кто привез ему «сведения от Далай Ламы». Он должен будет сообщить тибетским властям о намерениях Москвы, с тем чтобы они могли подготовиться к приему советских представителей — «сговориться и посовещаться, тогда вылилось бы в определенную форму теперешнее отношение Тибета к России». Следом за Бакбушевым, по получении от него известий, предстояло выслать основной отряд, состоящий не более чем из 10 человек, во главе с бурятским ламой Дава Ямпилоном, номинальным главой миссии. «Этот человек вполне надежный и сведущий, несколько раз ездивший в Тибет через Центральную Азию, получивший образование в Тибете, и он известен по моей рекомендации Далай Ламе как человек, знающий русский и тибетский языки»[355], — писал А. Доржиев. Начальником конвоя — фактически руководителем экспедиции — планировался некто Цивано, кандидатура которого ранее предлагалась Э. Д. Ринчино (вероятно, речь идет о сотруднике монголо-тибетского отдела Лупсане Цивано). «Цевано — человек вполне надежный. Забайкальский казак, старый служака, прослужил с самого начала в частях Красной Армии. Он человек бывалый, стойкий и закаленный», — сообщал А. Доржиев. Функции по ведению путевых записей и выполнению «всей научной части работы экспедиции» он предлагал поручить Даши Сампилону, известному деятелю бурятского национального движения. Остальным участникам отводилась роль обслуживающего персонала.
Цели экспедиции А. Доржиев формулировал так: «выяснение внутреннего положения Тибета, точное установление взаимоотношений соседних с Тибетом стран, особенно Англии, выяснение, насколько велико влияние английских и других дипломатических интриганов в Тибете»[356]. Складывается впечатление, что А. Доржиев знал о миссии Ч. Белла в Лхасу. Акция Лондона, надо думать, вызвала большое беспокойство в НКИД и послужила дополнительным стимулом для отправки советской экспедиции, которой, помимо прочего, следовало также разузнать о «тайных происках» англичан в Тибете. Таким образом, эмиссарам Москвы предстояло провести предварительную политическую разведку в Лхасе и подготовить почву для будущих официальных переговоров между советским и тибетским правительствами.
В своей докладной записке А. Доржиев затронул также крайне важный вопрос об установлении телеграфной связи с Лхасой. Дело в том, что НКИД намеревался послать Далай-ламе в качестве подарка радио-телеграфный аппарат, при этом предполагалось, что обслуживать его будут советские телеграфисты. А. Доржиев считал, однако, преждевременной посылку большого аппарата, «ибо пока неизвестен пункт, где может быть поставлена радиостанция, и также неизвестно настроение тибетского народа и насколько отсутствуют в массе англофильские течения». По его мнению, сначала следовало «уговориться с Правительством Тибета по поводу места постановки станции». А тем временем, необходимо было подготовить для работы на аппарате какого-нибудь бурята или калмыка. С экспедицией же А. Доржиев предлагал послать маленький радиоприемник. «Вообще телеграфная связь между Россией и Тибетом крайне необходима, — подчеркивал он. — Эта необходимость давно уже сознается Далай Ламой, и в свое [время] даже были ведены переговоры по поводу проведения телеграфной линии в Россию с датским телеграфным агентством в Пекине. И теперь несомненно оно (т. е. проведение такой линии — А. А.) является вопросом первой важности для Тибета»[357].
Доржиев также не советовал НКИД посылать в Тибет кинематографический аппарат, поскольку «публичная демонстрация картин даст повод к распространению всевозможных перетолков об экспедиции и может обострить отношения с Англией». По его мнению, следовало сперва дождаться «благоприятных сведений» из Лхасы, а затем приступить к снаряжению «второй большой экспедиции», с которой можно было бы отправить радиостанцию, кинематограф и… «возможное количество оружия для тибетской армии».
Практически одновременно с А. Доржиевым — 6 июля 1921 г. — свой проект тибетской экспедиции подал Г. В. Чичерину и Б. З. Шумяцкий, приехавший в Москву для участия в 3-ем конгрессе Коминтерна. Поднимался ли вопрос о поездке в Лхасу на заседании Политбюро, состоявшемся 6–7 июля, мы не знаем; во всяком случае, в повестке дня этого заседания в качестве отдельного пункта он не значится. Предложения Б. З. Шумяцкого, очевидно, и легли в основу окончательного сценария экспедиции. Так, НКИД отказался от предварительной посылки в Лхасу курьера-калмыка Бакбушева, отклонил кандидатуру «начальника конвоя» Цивано, а «ориенталиста» Сампилона решили поставить во главе второй экспедиции. 25 июля Б. З. Шумяцкий писал Г. В. Чичерину из Иркутска:
«Тиб[етская] экспедиция мною спешно снаряжается, я вызвал в Иркутск начальника экспедиции Ямпилова проинструктировать его согласно вашим указаниям. Жду присылки радиоаппарата и тех вещей, на которые я оставил вам выписку. Мы выработали маршрут для экспедиции с расчетом обойти все опасные пункты. Весь путь рассчитан на 45–60 дней, считая остановки и возможные задержки. Начальника конвоя ищу из числа калмыков-коммунистов. На днях один из кандидатов приедет ко мне для ознакомления. 28-го июля, в крайнем случае 4 августа, экспедиция выступает в путь. Ранее приобретенные прежними организаторами верблюды экспедиция не возьмет, ибо гораздо конспиративнее следовать на наемных верблюдах, как пилигримы. Сампилон мною уже вызван в Иркутск. Он сейчас с головою увяз в работу в Монголии. Пришлось его оттаскивать от работы. При приезде немного его обработаю и пошлю к Вам для полировки и для того, чтобы Вы познакомились с ним лично, окончательно решим, стоит ли его посылать или нет»[358].
Через несколько дней Б. З. Шумяцкий вновь пишет в НКИД, на этот раз С. И. Духовскому: «Организация и отправка экспедиции тормозятся сейчас только отсутствием радиоаппарата и тех вещей, которые Вы должны были достать и выслать. У меня все уже на мази. Сейчас стараюсь только достать золотой слиток вместо серебра. В крайнем случае отольем и сплавим здесь. Это работа на 2 дня. Жду заказанных для экспедиции вещей и как получу, то сейчас же экспедиция выступит. Ямпилова уже проинструктировал и сегодня отправляю. Для конспирации он будет ожидать караван недалеко от кочевого тракта. Начальника конвоя, т. е. фактически нашего политкома, уже нашел и сейчас вызвал сюда. Это коммунист-калмык. Не знаю, подойдет ли внешним видом и манерами. Это ведь тоже важно»[359].
Сомнения Б. З. Шумяцкого легко понять — ведь «политкому» предстояло непосредственно общаться с самим Далай-ламой и членами его правительства. Эту непростую роль согласился сыграть В. А. Хомутников (настоящее имя Василий Кикеев, 1891–1945)[360]. Командир Калмыцкого кавалерийского полка Юго-Восточного и Кавказского фронтов, он вместе с группой молодых командиров-калмыков был направлен Реввоенсоветом Республики (РВСР) с «интернациональной миссией» в Монголию в январе 1921 г. Принимал участие в советско-монгольском походе на Ургу, а после победы «народной революции» занимался формированием кавалерийских частей Монгольской народно-революционной армии. Но была, как кажется, и еще одна причина, почему выбор Б. З. Шумяцкого пал именно на В. А. Хомутникова. Одним из секретарей Далай-ламы был его земляк, донской калмык Шарап Тепкин. Поэтому, инструктируя В. А. Хомутникова накануне поездки, представитель НКИД РСФСР при советских воинских частях в Монголии В. И. Юдин советовал ему по приезде в Лхасу сразу же связаться с Тепкиным, который мог бы устроить встречу с Далай-ламой и быть на ней переводчиком[361].
Рекомендовал В. А. Хомутникова Б. З. Шумяцкому, по-видимому, хорошо знавший его по работе в Калмыкии Б. X. Кануков, начальник оперативно-разведывательного отдела штаба Монгольской Армии (Б. X. Кануков и В. А. Хомутников и приехали вместе в Монголию). Здесь надо сказать, что экспедиция в Тибет, помимо Наркоминдела и Коминтерна, представляла несомненный интерес и для РВСР. Овладев Ургой, Красная Армия осенью 1921 г. стремительно двинулась на юго-запад, в глубь Центральной Азии, в Синьцзян (Китайский Туркестан), преследуя остатки разгромленных унгерновских и других белогвардейских отрядов. Вполне естественно, что в поле зрения советских военных попал и соседний с Синьцзяном Тибет. Еще в 1920-м Унгерн пытался установить связь с Лхасой, послав делегацию к Далай-ламе. В 1921 г., при отступлении его отрядов из Урги, он строил планы повести свою Азиатскую дивизию в Тибет и поступить к Далай-ламе на службу. Осенью 1921 г. группа унгерновских офицеров отправилась через Гоби в Тибет в надежде проникнуть оттуда в Индию, что некоторым из них и удалось[362].
Вместе с тем, наблюдение за пока что не доступной пригималайской страной велось с двух сторон — из Урги, разведотделом штаба Монгольской Народной Красной Армии, и из Ташкента, где находился штаб Туркестанского (позднее Средне-Азиатского) Военного Округа. Так, в начале 1921 г. уполномоченный НКИД РСФСР в Средней Азии Михайлов обратился за справкой в РВС Туркфронта в связи с полученным им сообщением о продвижении к границам Кашгара англо-тибетской армии и получил ответ, за подписью командующего Туркфронта А. И. Корка и члена Реввоенсовета Печеренко, в котором говорилось, что «английских войск в Тибете небольшое количество»[363].
Прежде чем перейти к рассказу об экспедиции В. А. Хомутникова, необходимо ответить на вопрос: какое место тибетская инициатива Г. В. Чичерина занимала среди других внешнеполитических акций НКИД того времени? 1921 год, как известно, ознаменовался большими успехами восточной политики Советской России. В начале года она подписала мирные договоры с Персией (26 февраля), Афганистаном (28 февраля), кемалистской Турцией (16 марта), что, несомненно, нанесло сильный удар по позициям Англии на Ближнем и Среднем Востоке. В то же время 16 марта Москва заключила торговое соглашение с Англией, означавшее фактическое признание ведущей капиталистической державой советского государства. Важным положением этого документа было взаимно взятое на себя обеими сторонами обязательство воздерживаться от всякого враждебного действия и пропаганды друг против друга. В частности, советское правительство обязалось воздерживаться «от всякой политики к поощрению военным, дипломатическим или каким-либо иным способом воздействия и пропаганды какого-либо из народов Азии к враждебным британским интересам или Британской Империи действиям, в какой бы то ни было форме, в особенности в Индии и в независимом государстве Афганистан». Англия, со своей стороны, обязалась «не вести пропаганды в государствах, которые входили в состав бывшей Российской Империи»[364]. Впрочем, несмотря на взятые на себя обязательства, стороны не отказались от пропагандистской деятельности.
Во второй половине 1921 г. советская дипломатия сосредоточила свои усилия уже на дальневосточном и центральноазиатском направлениях. В центре внимания Москвы оказываются Китай и его бывшие «внешние территории» — Монголия, Синьцзян и Тибет. Так, в августе представительство НКИД в Средней Азии отправило из Ташкента в Урумчи для заключения торгового соглашения с синьцзянским ду-цзюном миссию Казанского. (Дипломатические отношения с Западным Китаем были фактически установлены годом ранее путем учреждения в Кульдже и Алма-Ате соответственно советского и китайского торгпредств, с присвоением им консульских функций.) Осенью 1921 г. в Пекин направляется миссия во главе с А. К. Пайкесом для переговоров об установлении дипломатических отношений между Советской Россией и Китаем (прибыла в китайскую столицу в середине декабря.) В то же время делались попытки завязать контакты с вождем Синьхайской революции и основателем партии гоминьдан, Сунь Ятсеном, провозглашенным чрезвычайным президентом Южного Китая. С этой целью весной 1922 г. Пайкес посылает в Кантон члена ДВ секретариата ИККИ С. А. Далина. Наконец, в октябре 1921 г. в Москву прибыла чрезвычайная монгольская миссия, которая 5 ноября подписала договор с советским правительством. В этом контексте секретная тибетская экспедиция В. А. Хомутникова являлась продолжением советской политики в регионе. Любопытно, что Г. В. Чичерин в интервью корреспонденту газеты «Юманите» 24 июля 1921 г., характеризуя «восточную политику» Советской России, подчеркивал, что «нашему методу чужды тайные происки и дипломатические интриги. <…> Когда народы Востока пробуждаются к новой жизни, Англия приписывает этот факт нашим эмиссарам. Мы весьма охотно обязались не посылать тайных эмиссаров, т. к. мы знаем, что полное отсутствие в нашей политике всякой империалистической идеи является единственным и действительным источником потрясений, наблюдаемых в странах Востока»[365].
Экспедиция Ямпилона-Хомутникова после долгих сборов выступила из Урги 13 сентября 1921 г. Маленький отряд, двигавшийся на 12 верблюдах, присоединился к большому каравану монгольских и тибетских паломников и торговцев, направлявшемуся в Лхасу. Кроме уже названных двух руководителей, участие в поездке приняли еще шестеро калмыков и один бурят. Достоверно нам известны фамилии лишь 4-х человек — Доржи Дарминов, Доржинов (оба земляки В. А. Хомутникова), Л. Бадминов и Шагдыр Лундуков. До Лхасы, однако, дошли не все. Во время стоянки на Эдзин-голе произошла ссора Ямпилона с Дарминовым, изъявившим желание остаться среди торгоутов и примкнуть к отряду знаменитого «святого-разбойника» Джа-ламы, по происхождению астраханского калмыка, жившего в городе-крепости в собственном хошуне на границе Западной Монголии и Китая[366]. Узнав об этом, В. А. Хомутников застрелил изменника. (Подругой версии, принадлежащей В. И. Юдину, Дарминов «во время выполнения спецзадания был арестован Джа-ламой и расстрелян»[367]). Другой потерей была неожиданная смерть в пути ламы Ямпилона. Произошло это, по сообщению В. А. Хомутникова, во время очень тяжелого перехода через высокогорную местность Сартын[368]. Этот необычный маршрут путешественники выбрали умышленно, чтобы обойти стороной владенья Джа-ламы, грабившего проходившие мимо караваны. Как выяснилось позднее, во время таможенного досмотра грузов ургинского каравана в Нагчу — главной заставе на пути в Лхасу ламы и торговцы везли в основном оружие — 1500 винтовок — русских, китайских и японских, скупленных у унгерновцев, один миллион патронов, пулеметы «Максим», множество ручных фанат и пр. Любопытно, что во время 10 дневной стоянки в Цаган-голе (ставка Дзасакту-Хановского аймака) сам В. А. Хомутников приобрел у местных жителей «до 50-ти винтовок русского образца с клеймом Ижевского завода»[369].
В Нагчу экспедиции пришлось задержаться на некоторое время — чтобы двигаться дальше в Лхасу, требовалось разрешение тибетского правительства. Тогда В. А. Хомутников объявил, что он является посланцем Агван Доржа — «главного ламы буддистов России», предъявив при этом чиновникам собственноручное письмо А. Доржиева, которым он предусмотрительно запасся на этот случай. Это письмо вместе с ходатайством В. А. Хомутникова о пропуске для его отряда тибетская пограничная охрана отправила Далай-ламе, от которого вскоре пришел ответ — пропустить русских, не досматривая их вещи. Далай-лама также распорядился предоставить им почтовых лошадей до Лхасы.
Советская экспедиция достигла столицы Тибета 9 апреля 1922 г., т. е. она находилась в пути более 7 месяцев, а не полтора-два, как первоначально рассчитывал Б. З. Шумятский. Не вполне оправдались и другие ожидания Москвы. Так, Далай-лама встретил эмиссаров «красных русских», как тибетцы называли большевиков, без особой симпатии, довольно настороженно. (Аудиенция состоялась на следующий же день в зимнем дворце правителя в Потале). «Не расстреляли ли Советы (это слово он произносил по-русски — А. А.) Агвана Доржиева? Здоров ли он, чем занят? Говорят, что Советы расстреляли наших единоверцев-калмыков?» — были первыми его вопросами, обращенными к В. А. Хомутникову[370]. Чтобы рассеять подозрения тибетского первосвященника, В. А. Хомутников передал ему письмо А. Доржиева. Но началась аудиенция с ритуала приветствия Далай-ламы и поднесения ему подарков от лица Советского правительства — сто аршин парчи, золотые часы с монограммой «РСФСР», серебряный чайный сервиз и, наконец, «чудесная машина» — небольшой радиотелеграфный аппарат. Вместе с подарками правителю Тибета вручили официальное послание Советского правительства за подписью заместителя Г. В. Чичерина Л. М. Карахана[371]. В ходе последовавшей затем беседы В. А. Хомутникову, в основном, пришлось отвечать на многочисленные вопросы Далай-ламы, некоторые из которых оказались весьма щекотливыми (например, о судьбе Николая II и его семьи). Лишь в конце приема, продолжавшегося около 6 часов (!), В. А. Хомутников получил возможность задавать вопросы сам. Он попросил Далай-ламу разрешить ему встретиться с тибетскими министрами и, получив согласие, неожиданно озадачил его вопросом: «Могу ли я быть уверенным, что они не выдадут меня англичанам?»
Эта встреча произошла на другой день в летней резиденции правителя Тибета, в Норбулингке. На ней присутствовали Далай-лама, его могущественный фаворит, главком тибетской армии Царонг, а также первый министр, по-видимому, Лончен Шолкхан, хотя В. А. Хомутников и не называет его имени. На этот раз беседа носила более дружественный и в то же время деловой характер. Министры хотели знать, «может ли Советская Россия оказать помощь Тибету — охранять его от посягательств других государств». Они заявили, что страна нуждается в мастерах по производству пороха, патронов и снарядов, т. к. англичане, согласившиеся поставлять Тибету оружие, отказывались предоставить специалистов по изготовлению пороха? Кроме этого, тибетские министры просили прислать им радиотелеграфистов для работы на аппарате, подаренном Москвой.
В. А. Хомутников заверил министров о готовности советского правительства прийти на помощь Тибету, поскольку оно стоит на страже интересов всех малых народов. В своем отчете он отметил, что престарелый Лончен, бывший русофил и противник Англии, относится «с большой симпатией к России». «Когда я прощался с ним, он сказал: „Раньше мы дружили с русскими; думаю, что и теперь сможем возобновить старые отношения, если будут позволять условия и обстоятельства“»[372]. О Царонге, слывшем заядлым англофилом, В. А. Хомутников также отзывался весьма положительно: «Ко мне [он] отнесся очень хорошо: много раз приглашал к себе и всегда охотно беседовал на разные темы. Очень интересуется Советской Россией и Красной Армией». Любопытна и характеристика, которую он дал Далай-ламе: «Сам Далай Лама относится в данное время к Англии дружелюбно, вследствие того, что англичане доставляют оружие для войны с Китаем. К последнему отношение его определенно враждебное. Среди лам и народной массы Далай Лама пользуется большой симпатией, хотя есть у него среди них противники. Так, в 1921 году, в связи с приездом в Лхасу английского представителя Белла, монахи двух монастырей, сторонники китайской ориентации, пытались устроить против правительства восстание. Однако, руководители восстания были арестованы и по сие время сидят в тюрьме»[373].
Что касается Красной России, то владыка Тибета испытывал к ней явно двойственные чувства. С одной стороны, его пугали рассказы о гонениях большевиков на «желтую веру». Незадолго до приезда экспедиции он получил письмо от Ургинского Хутухты, в котором тот писал, что Советы, уничтожив свои храмы и священные книги, добрались, наконец, и до Монголии и при содействии Монгольской революционной партии сместили его с престола. В результате Далай-лама распорядился, по просьбе Хутухты, служить в тибетских храмах особые молебны об уничтожении врагов буддийской веры. С другой стороны, под влиянием бесед с В. А. Хомутниковым его отношение к «красным русским» стало заметно меняться. Так, в своем отчете В. А. Хомутников писал, что «по получении информации от Доржиева и меня Далай-лама их (эти молебны — А. А.) отменил». А во время прощальной аудиенции 29 апреля он неожиданно признался: «Мне желательно установить добрососедские отношения с Россией, ибо хотя мы с Англией официально находимся в мирных отношениях, фактически она стремится подчинить нас себе. С этой целью она держит на нашей территории свои войска, что является для нас весьма неблагоприятным и совершенно нежелательным»[374].
Речь, по-видимому, идет о небольшом военном эскорте при торговом агенте в Гьянтзе, главной английской фактории в Тибете. Однако есть основания, заставляющие сомневаться в искренности подобного заявления Далай-ламы, особенно после визита Ч. Белла. Во всяком случае он не собирался менять своей проанглийской ориентации, а потому отклонил предложение В. А. Хомутникова послать официальное тибетское посольство в Москву. «В данный момент сделать это невозможно, ибо, если узнают англичане, могут быть плохие последствия для нас»[375]. Вместо посольства Далай-лама решил направить своего представителя ШарапаТепкина, которому поручалось передать его устный ответ советскому правительству и вручить несколько писем А. Доржиеву с тем, чтобы последний довел их содержание до сведения руководителей страны. Тепкину также надлежало оказывать помощь А. Доржиеву, ввиду его преклонного возраста, и в случае смерти заменить его. Сам Тепкин, после своего ареста в 1931 г., в показаниях следователю так рассказывал о данном ему поручении: «В связи с возвращением экспедиции в Россию, я был вызван Далай Ламой, который предложил мне выехать вместе с ней к Хамбо Агвану Доржиеву, [чтобы] информировать его о положении в Тибете; одновременно с этим дал поручение информировать его, Далай Ламу, о происходящих событиях в России и положении и жизни духовенства»[376]. Таким образом, Далай-лама, очевидно, решил проверить с помощью своего наблюдателя достоверность сообщений В. А. Хомутникова и А. Доржиева.
Экспедиция В. А. Хомутникова пробыла в Лхасе 3 недели, до 1 мая 1922 г. Обратно в Россию она возвращалась другим, более коротким сухопутно-морским путем, через Индию и Китай. По дороге заехали в монастырь Ташил-хумпо в Южном Тибете, чтобы поклониться Панчен-ламе, второму по значению лицу после Далай-ламы. «Я представится ему, не говоря кто я такой», — пишет в отчете В. А. Хомутников. Подобная предосторожность не была излишней, ибо Панчен, по его сведениям, находился «в оппозиции к Далай-ламе» и к тому же «являлся сторонником англичан».
Немало поволноваться советским эмиссарам пришлось в Индии. В Дарджилинге за ними увязались полицейские, сопровождавшие их в поезде до самой Калькутты. «Чтобы не было подозрений, мы захватили большое количество духовных книг, как это обычно делается ламами-паломниками», — сообщал В. А. Хомутников. Оставшуюся часть пути он описывал так: «В Калькутте пришлось задержаться на целых 27 дней из-за забастовки рабочих. Наконец, когда забастовка кончилась, мы на пароходе выехали в Шанхай, причем ехали без билета, так как лица из пароходной администрации за взятку согласились довезти нас по дешевой цене. Из Шанхая по железной дороге, с остановкой в Пекине, мы прибыли в Калган, а из Калгана на автомобиле 4 августа прибыли в Ургу. Обратный путь от Лхасы до Урги занял, таким образом, около четырех месяцев»[377].
Свой отчет о поездке в Тибет В. А. Хомутников подал в НКИД 28 октября 1922 г.[378] (Аналогичный отчет он, вероятно, представил и в РВСР.) О том, какого рода сведения он добыл в поездке, говорят заголовки основных разделов этого документа: «Далай-Лама и его настроение», «Министры Далай-Ламы», «Тибет и Англия», «Тибет и Китай», «Японцы в Тибете», «Делегация Унгерна», «Тибетская армия», «О скотоводстве и земледелии», «Торговые промыслы», «Лхаса». Правда, приводимые руководителем экспедиции факты в ряде случаев не соответствовали действительности. Это прежде всего относится к его сообщениям о миссии Ч. Белла и об англичанах в Тибете в целом. Так, В. А. Хомутников утверждал, по-видимому, со слов своих информаторов в Лхасе, что Ч. Белл, якобы, просил Далай-ламу допустить в Лхасу официального представителя Англии, а также договорился с тибетцами о передаче англичанам в аренду «территории на северо-западе и юго-востоке от Лхасы». Эта информация, однако, не подтверждается данными британских дипломатических архивов. Ничего не говорят официальные источники и о постройке англичанами лесопильного завода в местности Домула (?) около индийской границы. Некоторые сомнения вызывает также и сообщение В. А. Хомутникова о военном присутствии Англии в Тибете — о том, что «в Гияндзе живут шесть англичан и три сиккимца при военном училище и стоит один взвод англичан на телеграфной станции для охраны»[379]. Достоверно известно, что в Гьянтзе в 1922 г. находился британский торговый агент Дэвид Макдональд, который был наполовину сиккимцем. В качестве охраны он имел военный эскорт, состоявший приблизительно из 75 индийских сипаев, под командованием капитана Эрика Паркера. Это был единственный английский военный офицер во всем Тибете (!) Кроме того, в Гьянтзе проживали офицер индийской медицинской службы Бо Церинг, сиккимец по происхождению, и еще несколько англичан, в основном технический персонал (двое из них в звании сержантов, например, обслуживали телеграф). Что касается военного училища, то, строго говоря, в Гьянтзе его никогда не существовало. Военным обучением тибетцев заведовал командующий эскортом при торговом агенте[380]. Данные В. А. Хомутникова об оружии, которое англичане обещали поставить тибетцам — 20 тыс. винтовок, 8 горных орудий, 10 пулеметов и 5 бомбометов[381] — также сильно завышены. В целом, информация калмыцкого разведчика, особенно та ее часть, которая была получена из вторых рук, являлась мало достоверной. В Москве же, судя по всему, результатами экспедиции остались довольны, о чем свидетельствует награждение Кикеева-Хомутникова 2 февраля 1925 г. орденом «Красного Знамени»[382].
4. Москва бросает вызов Лондону: миссия С. С. Борисова, 1923–1925
Воодушевленный результатами первой тибетской экспедиции, Г. В. Чичерин сделал следующий шаг в сторону сближения с Тибетом. В конце 1922 г. под эгидой НКИД учреждается неофициальное тибетское представительство в РСФСР при буддийском храме в Петрограде во главе с Агваном Доржиевым. Большевики, по понятным причинам, не хотели афишировать этот факт, поэтому сведения о тибетском представительстве не попали в советские справочные издания тех лет (такие, как «Весь Петроград»). В то же время НКИД пытался использовать в своих целях Шерапа Тепкина, приехавшего в Москву вместе с В. А. Хомутниковым. Сам Ш. Тепкин о своей московской жизни впоследствии рассказывал так: «Прибыв в Россию, я выехал в Москву для встречи с находившимся там хамбо Агваном Доржиевым, вручил ему письмо от Далай-ламы, в котором последний уполномочивал его, Доржиева, быть представителем Тибета в Советской России. Доржиев рассказал мне о том, как началась и проходила революция, говорил, что в годы гражданской войны было трудно калмыцкому населению и духовенству, но что теперь положение благодаря помощи государства улучшается. Первые 4 месяца я жил в Москве, особенно ничего не делал, занимался лишь переводом писем, направляемых в Тибет Далай-ламе и получаемых оттуда. В начале 1923 г. я переехал на жительство в Ленинград, где по поручению Доржиева руководил ремонтом буддийского храма»[383].
Одновременно Тепкин исполнял обязанности одного из двух заместителей «тибетского представителя». Вторым стал бурят Бадма Намжил Очиров, также вернувшийся из Тибета в 1922 г. и преподававший монгольский язык (халхаский диалект) в недавно открывшемся в Петрограде Институте живых восточных языков (ПИЖВЯ).
А тем временем в наркомате по иностранным делам уже полным ходом шла подготовка новой экспедиции в Тибет. По сути дела, она началась сразу же после отъезда В. А. Хомутникова. Об этом рассказывал в своих воспоминаниях один из ее участников Ф. В. Баханов[384]. Сын бурятского бедняка, комсомолец-активист Ф. В. Баханов являлся переводчиком монгольской делегации, принимавшей участие в работе 3-го конгресса Коминтерна (состоялся в Москве 22 июня — 12 июля 1921 г.). После этого поступил в Коммунистический Университет Трудящихся Востока (КУТВ). В сентябре того же года его неожиданно вызвали в НКИД к Г. В. Чичерину. Согласно рассказу Ф. В. Баханова, Г. В. Чичерин первым делом ознакомил его с международным положением, рассказал о том, как Советская республика стремится прорвать кольцо империалистической блокады и ищет пути к установлению нормальных дипломатических и иных отношений со всеми странами. С этой целью НКИД намеревался отправить особую экспедицию в Тибет для восстановления утраченных связей с этой страной и ее правительством, в которой ему, Ф. В. Баханову, и предлагалось принять участие.
От Г. В. Чичерина Ф. В. Баханов узнал, что руководить тибетской экспедицией будет С. С. Борисов, ответственным за хозяйственное обеспечение назначен Д. Молонов, а ведение «научной работы» во время путешествия поручено буряту Баярто Вампилону (очевидно, заменившему Сампилона, имя которого Ф. В. Баханов нигде не упоминает). Собственно самому Ф. В. Баханову предстояло вести кино- и фотосъемку всего путешествия. Связь с Центром экспедиция должна была поддерживать через советское полпредство в Монголии.
Руководитель экспедиции Сергей Степанович Борисов (1889–1937), по происхождению ойрот из Горно-Алтайска, сын священника, один из активных сотрудников Дальневосточного Секретариата Коминтерна, где он некоторое время заведовал монголо-тибетским отделом. Одновременно с конца 1921 г. он работал заместителем уполномоченного НКИД в Монголии. В мае 1922 г. его перебросили в Москву, где зачислили на должность консультанта НКИД[385]. Фактически же С. С. Борисов занимался подготовкой второй тибетской экспедиции, которой Г. В. Чичерин придавал исключительно большое значение.
Начавшаяся в НКИД подготовка к поездке состояла из штудирования ее будущими участниками книг и других материалов наиболее известных путешественников по Центральной Азии — Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, П. К. Козлова, В. А. Обручева, Свена Гедина и др. Особое внимание уделялось их сообщениям о нравах и быте туземных народов, обычаях и обрядах, а также способам обеспечения себя в пути продовольствием.
8 февраля 1922 г. Политбюро ЦК приняло решение об ассигновании 20 тысяч серебряных рублей на вторую экспедицию в Лхасу[386]. А в конце года, вскоре после возвращения В. А. Хомутникова, Г. В. Чичерин отправил в Тибет к Далай-ламе курьера С. Бакбушева. В то же время он дал согласие на посылку в Тибет научной экспедиции П. К. Козлова, зная из отчета В. А. Хомутникова о посещении Тибета английскими научными экспедициями.
Летом 1923 г. в ожидании С. Бакбушева Г. В. Чичерин обсуждал с руководством РВС СССР вопрос об оказании военной помощи Тибету в форме посылки инструкторов и продажи оружия его армии. К переговорам, вероятно, была подключена и третья сторона — монгольская: известно, что в июне-июле в Москве находилась военно-дипломатическая миссия Монголии во главе с уже известным нам Э. Д. Ринчино, председателем РВС Монгольской народной армии.
4 августа Г. В. Чичерин направил письмо в Политбюро (лично И. В. Сталину), в котором изложил свой план второй тибетской экспедиции. «Наша первая Тибетская экспедиция, — писал он, — носила ориентировочный характер. Это было первое знакомство советского правительства с Далай-ламой. Тогда же с ним было условлено, что после возвращения экспедиции в Москву к нему будет отправлена вторая экспедиция, которая оформит связи Советского Правительства с Тибетом. Это теперь нам и предстоит сделать»[387].
О каких предметах идет речь, неясно; в записке Г. В. Чичерина в Политбюро от 6 февраля 1922 г. довольно туманно говорится о «подарках технического характера, чрезвычайно интересующих Далай-ламу»[388]. Возможно, это те самые предметы, которые предлагал послать Далай Ламе А. Доржиев. Оценивая обстановку в Тибете, Г. В. Чичерин ссылался, в основном, на данные экспедиции В. А. Хомутникова:
«Положение стало более серьезным и требует от нас большей активности ввиду наступательных действий английского империализма в Тибете. В настоящее время Англия занимает часть тибетской территории и имеет там главного уполномоченного Тейхмана. При этом Англия поддерживает программу некоторых тибетских вельмож о создании независимого Великого Тибета с присоединением к его территории части соседних китайских провинций.
Тогда же, в июле 1922 г., Англия предъявила Китаю ряд требований, [таких] как формальное признание автономии Тибета с отказом Китая от права иметь в Тибете свои войска и пересмотр границ Тибета.
По нашим сведениям небольшая кучка реакционных продажных вельмож поддается на заискивание английского империализма. Огромное большинство ламства и народные массы ненавидят Англию. Глава прогрессивной партии, главком Тибета, хочет ориентироваться на Россию. Сам Далай-лама стал обнаруживать к нам большое тяготение, как только наша первая экспедиция рассеяла ложные представления о Советской Республике. Между тем, Англия развивает лихорадочную деятельность, и за последние полтора-два года Тибет посетил целый ряд английских экспедиций, то под научно-разведочным флагом, то с открытыми официальными заданиями. (Очевидно, Г. В. Чичерин имел в виду две британские экспедиции на Эверест и миссию Ч. Белла — А. А.)
Задача нашей второй экспедиции — установление постоянных дружественных отношений с Тибетским Правительством. Другая сторона этой задачи, борьба против английской экспансии, должна осуществляться чрезвычайно осторожно, чтобы не вести к новым ультиматумам Керзона. Разоблачение английских интриг и воздействие на Далай-ламу в целях недопущения английских войск и т. д. в Тибет должны проводиться только устно и со всеми предосторожностями»[389]. (Здесь необходимо пояснить, что 8 мая 1923 г. лорд Д. Н.? Керзон направил Советскому правительству ноту, в которой обвинил его в ведении антибританской пропаганды на Востоке, прежде всего в Афганистане и Персии, в нарушении условий соглашения 1921 г.)
Оценка Г. В. Чичерина во многом не соответствовала действительному положению вещей. Англия отнюдь не стремилась к захвату или аннексированию Тибета, будь то частичному или полному, равно как и не поощряла территориального расширения владений Далай-ламы за счет соседних китайских провинций, то есть не являлась сторонницей создания Великого Тибета. Столь же мало привлекала ее и идея установления формального протектората над Лхасой. Подобная откровенно империалистическая экспансия была чревата для Лондона серьезными осложнениями с Пекином и, к тому же, наверняка вызвала бы резко негативную международную реакцию. Но с другой стороны, англичан также не устраивал и полностью независимый Тибет, т. к. их основные соперники в Азии, большевики, могли превратить его в плацдарм для революционного наступления на Индию. Гораздо более приемлемой для Уайтхолла в 1920-е гг. являлась формула Симлской конвенции: «символическое подчинение Тибета Китаю при сохранении широкой автономии, под бдительным присмотром Великобритании»[390]. Что касается англо-китайских переговоров 1922 г., которые так встревожили Г. В. Чичерина, то известно, что 13 сентября этого года британский посланник в Пекине сэр Б. Алстон имел беседу с китайским министром иностранных дел доктором Веллингтоном Ку, в ходе которой вновь поднял тибетский вопрос. Алстон призвал Китай возобновить переговоры по Тибету, однако, В. Ку, несмотря на заверения, данные год назад, что Китай вернется к обсуждению тибетской проблемы по окончании Вашингтонской конференции, вновь заявил о неготовности китайской стороны к таким переговорам. Никаких «требований» к Пекину британским дипломатом выдвинуто не было[391].
В том же письме Г. В. Чичерина к И. В. Сталину содержалась конкретная программа предстоящей тибетской экспедиции. Ее первым и наиболее важным пунктом был вопрос о создании официального советского представительства в Лхасе. Необходимость такого шага остро ощущалась советской дипломатией ввиду удаленности Тибета и невозможности пока что поддерживать прямую связь с его правителями, прежде всего с Далай-ламой. К такому шагу подталкивало также и тревожное сообщение В. А. Хомутникова о намерениях англичан послать в Лхасу своего представителя. Правда, Г. В. Чичерин делал при этом существенную оговорку — стремиться к созданию советского представительства в Тибете надо лишь в том случае, «если окажется, что английское представительство там уже создано». Поэтому он предлагал дать главе экспедиции С. С. Борисову «мандат на официальное представительство от нашего имени условно для предъявления его лишь в том случае, если в Лхасе окажется официальный английский представитель. В противном случае, связь с Далай-Ламой должна осуществляться посредством какого-нибудь преданного нам монгола, бурята или калмыка, который может находиться в Лхасе в качестве благочестивого пилигрима». Для прикрытия С. С. Борисову и Б. Вампилону следовало также дать «мандаты религиозного характера от буддийского населения СССР и местные мандаты от Бурятской Автономной Республики и Калмыцкой Автономной Области». Такие мандаты, пояснял Г. В. Чичерин, дадут Далай-ламе возможность «отводить английские протесты» (пункт 2)[392].
Вторым по важности вопросом был вопрос о китайско-тибетском урегулировании (пункт 3). В формулировке Г. В. Чичерина он звучал так:
«В вопросе о взаимоотношениях Тибета с Китаем мы должны занять примирительную позицию и указывать на необходимость соглашения между Тибетом и Китаем. Тов. Борисов должен будет нащупать осторожно, можем ли мы предложить свое посредничество. Разоблачение английской интриги при этом должно происходить с величайшей осторожностью.
Если с Тибетской стороны будет предложено обеспечить неприкосновенность Тибета англо-русским или англо-русско-тибетским соглашением, надо стремиться привлечь к этому соглашению и Китай на почве федеративной программы (курсив — А. А.)»[393].
Неопределенный статус Тибета ввиду неурегулированности китайско-тибетских отношений, несомненно, создавал немалые сложности для Москвы, которая весной 1922 г. вела переговоры одновременно и с Пекином, и с Лхасой. Но столь же трудным для советских руководителей был и вопрос о статусе Внешней Монголии, ставший камнем преткновения на китайско-советских переговорах в 1922–1924 гг. Монголы, как и тибетцы, заявляли о своей полной независимости от Китая, в то время как центральное пекинское правительство, несмотря на то, что реально его власть распространялась на очень незначительную территорию по причине гражданской войны в стране, упорно продолжало рассматривать Внешнюю Монголию, равно как и Тибет, неотъемлемыми частями Китайской республики. Той же точки зрения, по сути, придерживалось и революционное правительство Южного Китая во главе с Сунь Ятсеном. В Наркоминделе существовало два различных подхода к монгольскому вопросу. Так, Г. В. Чичерин настаивал на монгольской автономии, исходя из принципа самоопределения наций, а А. А. Иоффе предлагал уступить Внешнюю Монголию Китаю в интересах китайской, а следовательно и мировой, революции. В итоге взяла верх конъюнктурно-революционная «линия» А. А. Иоффе и в текст китайско-советского договора, подписанного 31 мая 1924 г., вошла статья, в которой советское правительство признало Внешнюю Монголию составной частью Китайской республики и заявило о своем уважении суверенитета Китая. К весне 1925 г. по требованию Пекина из Монголии были выведены все советские войска.
Что касается вопроса о Тибете, то здесь, насколько можно судить, преобладала принципиальная точка зрения Г. В. Чичерина. В своей переписке с Сунь Ятсеном этих лет нарком настойчиво пытался убедить вождя китайской революции поставить во главу угла национальной политики созданной им партии гоминьдан советский принцип самоопределения наций. Так, в письме Г. В. Чичерина от 4 декабря 1923 г. говорилось: «Вся китайская нация должна ясно видеть разницу между Гоминьданом, народной массовой партией, с одной стороны, и милитаристской диктатурой в различных частях Китая, с другой. Братские народы, как, например, монгольский, тибетский и различные народности Западного Китая должны ясно увидеть, что Гоминьдан поддерживает их право на самоопределение»[394].
Не без влияния Г. В. Чичерина Сунь Ятсен включил в манифест своей партии, принятый на ее организационном съезде в январе 1924 г., пункт о признании права на самоопределение всех народов, проживающих в пределах страны, и что после победы национальной революции будет создан свободный и объединенный Китай на основе добровольного союза этих народов[395].
Чичеринская формула «независимого Тибета», таким образом, основывалась на двух фундаментальных принципах ленинской национальной политики — самоопределения наций и федерализма, что вело к созданию «тибетской автономии» в границах федеративной Китайской республики, по примеру советской федерации. Полная независимость Тибета, на которой настаивала Лхаса, не могла приветствоваться Москвой, полагавшей, что это служило бы интересам Англии. Референт НКИД Л. Е. Берлин писал в журнале «Новый Восток» в 1922 г., что требование «полной независимости Тибета от Китая», выдвинутое тибетским представителем на Симлской конференции, соответствовало английским желаниям: «Англичане были, без сомнения, заинтересованы в изоляции Тибета от Китая с тем, чтобы впоследствии прибрать его к своим рукам»[396].
Третий пункт тибетской программы Г. В. Чичерина весьма любопытен также и тем, что указывал на определенный сдвиг в подходе советской дипломатии к тибетскому вопросу, выражавшийся в ее готовности пойти на компромисс с англичанами, что весьма напоминало ситуацию, предшествовавшую подписанию англо-русского соглашения 1907 г. Во второй половине 1923 г. общественное мнение в Великобритании все более склонялось в пользу восстановления нормальных отношений с Советской Россией. Эти новые веяния, чутко улавливаемые Москвой, очевидно, и побудили Г. В. Чичерина, в преддверии грядущего признания de-jure Великобританией СССР, задуматься об устранении тибетского очага напряженности в Азии. Но каким представлял себе нарком возможное четырехстороннее англо-русско-китайско-тибетское соглашение, трудно сказать. Однако после того, как лейбористское правительство Р. Макдональда официально признало СССР, в Лондоне в апреле 1924 г. состоялась англо-советская конференция по урегулированию спорных вопросов, разделявших обе страны. На ней британская делегация, в частности, высказала пожелание обновить ряд утративших силу двухсторонних договоров, некогда заключенных Англией с царским правительством России, в том числе и конвенцию 1907 г. Договоренности в отношении Персии и Афганистана англичане, безусловно, считали утратившими силу и были согласны аннулировать. Что же касается Тибета, то здесь им представлялось желательным заключить новое соглашение с русскими.
В Москве советское руководство также склонялось к необходимости мирного соглашения с Англией относительно тех регионов, где соперничество СССР с главной империалистической державой приняло наиболее острые формы. Глава британской миссии в Москве Р. М. Ходжсон после встречи с Чичериным 24 февраля 1924 г. сообщил: — «Я заключил из одного или двух замечаний, сделанных г. Чичериным, что он собирается внести предложение с целью определения зон, в которых возможно столкновение русских и британских интересов… Он упомянул более конкретно в этой связи Китай, но несомненно имел в виду также Центральную Азию и Персию»[397]. К таким конфликтным зонам глава НКИД, очевидно, причислял и Тибет, как об этом свидетельствуют инструкции, данные С. С. Борисову накануне его поездки в Лхасу.
Другие пункты тибетской программы Г. В. Чичерина касались, в основном, советской помощи Лхасе, и здесь обнаруживается поразительное сходство предложений наркома с английскими инициативами. Так, Г. В. Чичерин считал желательным, во-первых, посылку в Тибет военных инструкторов — бурят и калмыков «при условии, что Тибетское правительство возьмет на себя расходы по их проезду и содержанию»; во-вторых, продажу за наличные тибетскому правительству оружия и военного снаряжения (пулеметов, легких горных и зенитных орудий, взрывчатых веществ и т. д.). При этом он полагал, что Далай-лама будет охотнее покупать оружие «у нас», чем у Англии. В-третьих, привлечение в советские учебные заведения тибетской молодежи. И, наконец, в-четвертых, содействие проникновению в Тибет промышленного и торгового капитала стран, не представляющих опасности для независимости Тибета (очевидно, СССР и МНР)[398].
Практически одновременно с дипломатической миссией С. С. Борисова, в Тибет предполагалось отправить и научную экспедицию под руководством П. К. Козлова, которую организовало Русское географическое общество. Свои планы путешественник согласовал в НКИД с Л. М. Караханом в конце 1922 г., а затем они были утверждены советским правительством. 27 февраля 1923 г. Совнарком постановил: «1. Признать своевременной и целесообразной экспедицию РГО в Монголию и Тибет… 2. Принять расходы экспедиции на средства правительства»[399]. На том же заседании СНК дал поручение НКИД — «рассмотреть совместно с Козловым вопрос о подарках Далай-ламе и его свите»[400]. В результате П. К. Козлову отпустили из государственной казны 100 тысяч рублей золотом и еще 4 тысячи на подарки Далай-ламе. (На эти деньги, в основном, закупили добротную парчу известной московской фирмы Сапожникова, особо ценившуюся в Тибете.) Начало экспедиции П. К. Козлов планировал на лето 1923 г. Насколько нам известно, НКИД (Г. В. Чичерин) не давал ему никаких политических заданий, но поддержав планы П. К. Козлова, несомненно хотел использовать его имя в целях установления дружественных отношений с Тибетом — поскольку русский путешественник был хорошо известен Далай-ламе, с которым встречался еще летом 1905 г. в Урге, а затем в 1908 г. в монастыре Кумбум во время возвращения Далай-ламы в Лхасу. Дружеские отношения в 1908 г. у П. К. Козлова завязались и с Царонгом. В архиве Русского географического общества сохранилось письмо, посланное Намганом-Царонгом П. К. Козлову в конце 1909 г., уже после того, как в Тибет вторглась армия Чао Эрфеня. Намган, занимавшийся в то время обучением тибетских новобранцев, просил русского офицера послать ему учебники по военному делу и уставы[401].
П. К. Козлову, однако, не удалось отправиться в Лхасу, где его уже ждали Далай-лама и Царонг. Путешествие его неожиданно расстроилось вследствие доноса А. С. Мартынова (сотрудника института Маркса-Энгельса при ВЦИК), направившего в конце июня 1923 г. письмо Ф. Э. Дзержинскому, где П. К. Козлов и несколько его спутников обвинялись в антисоветских настроениях. Прекрасно снаряженная экспедиция была остановлена в Урге (совр. Улан-Батор) по распоряжению Политбюро, и П. К. Козлову стоило немалых усилий, чтобы предотвратить ее расформирование и получить разрешение Центра на проведение исследовательских работ на территории Монголии, находившейся в то время под полным советским контролем[402].
Возвращаясь к миссии С. С. Борисова, необходимо отметить, что с окончанием дипломатической блокады Советской России в 1921 г. борьба большевиков с английским империализмом на Востоке вступает в новую фазу и все более переносится из идеологической сферы в экономическую. В декабре 1922 г. в Москве была создана Российско-Восточная торговая палата (РВТП) для содействия экономическим связям Советской России с восточными странами — Персией, Турцией, Афганистаном, Монголией и Японией — «на почве торгово-промышленных интересов». В результате, в 1923–1924 гг. значительно оживилась внешняя торговля СССР и руководство палаты начало поговаривать о необходимости ее расширения на ряд других стран — Грецию, Египет, Палестину. Выступая 15 февраля 1924 г. на годичном заседании Палаты, Г. В. Чичерин так охарактеризовал ее задачи: «Вначале наши дружественные отношения со странами Востока имели исключительно политическое содержание, когда и Советская Россия, и восточные государства боролись за политическую независимость против общего врага — мирового империализма. Теперь стоит более длительная задача — развитие своих производительных сил и отвоевание или защита своей экономической независимости»[403]. Определенный интерес у Г. В. Чичерина вызывало и развитие торговли с Тибетом и другими буддийскими странами Азии как с точки зрения товарообмена, так и возможности получения доступа к их сырьевым рынкам. Так, в одном из своих писем в Политбюро еще в 1922 г. Г. В. Чичерин писал, что получение из этих стран сырья, в частности, продуктов скотоводства, имеет очень большое значение для всего советского торгового баланса. «Нашу роль торговых посредников между буддийскими народами Азии и Европы мы не выполним как следует без дружественных связей с Лхасой»[404].
В том же году журнал «Новый Восток», между прочим, поместил рецензию на недавно опубликованную П. К. Козловым книгу «Тибет и Далай-лама», автор которой намечал пути дальнейшего сближения СССР и Тибета. «Необходимо, чтобы чувство дружбы тибетского народа к России не ослабевало, а наоборот, крепли русско-тибетские экономические и политические связи. Лучшим способом для достижения плодотворных результатов в этом отношении может служить русская научная экспедиция в Тибет. Она подготовит почву и для командирования затем торговой миссии (курсив — А. А.). Так, путем научного исследования и коммерческих связей окрепнут и политические взаимоотношения»[405]. Любопытно, что Далай-лама в этой рецензии характеризовался весьма положительно как «редкий человек, обладающий большим умом, философским образованием и искренней преданностью дружественной и соседней Тибету России».
9 августа 1923 Политбюро утвердило проект второй тибетской экспедиции, при этом ее финансирование возлагалось на Совет Труда и Обороны (СТО). Здесь надо заметить, что первоначально выделенные НКИД средства были по большей части истрачены на поездку С. Бакбушева и на подарки П. К. Козлова Далай-ламе. Согласно новой смете, стоимость экспедиции оценивалась в 71 тысячу рублей серебром. Эта сумма включала, в основном, расходы на снаряжение каравана, его передвижение из Урги в Лхасу и обратно из расчета 10–12 месяцев на дорогу, а также на 6-месячное пребывание советской делегации в тибетской столице. В смете, между прочим, имелась особая графа: «Подарки Далай Ламе и его министрам и приближенным, князьям и гегенам, с которыми придется иметь дело в Лхасе и по пути туда, а также мелкие подарки живущим в Тибете ламам, бурятам и калмыкам в качестве платы за информацию и агентурную работу». На эти цели НКИД запросил 4 тысячи золотых рублей[406].
Неделю спустя в Москве неожиданно появился С. Бакбушев с вестями из Лхасы, что побудило Г. В. Чичерина внести некоторые коррективы в свой проект, а именно — отказаться от планов создания советского дипломатического представительства в Лхасе. В своем письме И. В. Сталину от 18 августа 1923 г. он писал: «Предварительно ездивший в Лхасу лама Бакбушев привез письмо Далай-Ламы от 5 мая с. г. (год Воды-свиньи, 2 день 4 луны) с чрезвычайно дружественными заверениями, с выражением удовольствия по поводу предоставления автономии бурятам и калмыкам и установления в „рабочем государстве“ действительной свободы распространения учения Будды и с выражением глубокой радости по поводу внутренних и внешних успехов нашей политики; в этом письме Далай-Лама пишет мне, что в настоящее время в Лхасе совершенно нет представительств Англии и иных государств, и что если в Лхасе будет представительство или экспедиция России, то Англия и другие государства поспешат сделать то же самое и им трудно будет отказать. Поэтому Далай-Лама просит найти тот или иной мудрый способ установления связи и развития прежней дружбы между обеими странами.
Это вполне покрывает дальнейшие пункты инструкции, принятой Политбюро. Тов. Борисов и его спутники ввиду этого совершат эту экспедицию в качестве „паломников“»[407].
Кроме упоминавшихся уже С. С. Борисова, Б. Вампилона, Д. Молоноваи Ф. В. Баханова, в состав экспедиции были включены служивший в читинском Бурревкоме Булат Мухарайн (первоначально зачисленный в отряд П. К. Козлова), бурятские ламы Жигме-Доржи (Бардуев), Зодбо и Ендон — в качестве переводчиков и посыльных, а также небольшая группа калмыков-буддистов. Всего в поездке участвовало, по сведениям Ф. В. Баханова, около 15 человек.
Из Урги экспедиция С. С. Борисова выступила в конце января 1924 г. — такую дату называет сам Ф. В. Баханов. Почти сразу же она попала в поле зрения английской разведки — 31 мая 1924 г. иностранный и политический департамент индийского правительства в Симле сообщал британскому генеральному консулу в Кашгаре: «По полученным сведениям, советская миссия, возглавляемая неким Зырянином, находилась в пути из Урги в Лхасу в начале марта. <…> Это, возможно, тот отряд, о котором вы упоминаете. Вы должны воздерживаться от всяких действий, которые могли бы быть истолкованы как враждебные или недружественные, ввиду признания Советского правительства правительством Его Королевского Величества»[408].
4 февраля отряд С. С. Борисова — вероятно, в составе большого монгольско-тибетского каравана, как и в случае с В. А. Хомутниковым, — двинулся через Гобийскую пустыню на запад в направлении Аньси, к Синьцзянской караванной линии (Лань-чжоу — Кульджа). Во время стоянки в Верхней Монголии (Цайдаме), по рассказу Ф. В. Баханова, С. С. Борисов подарил одному из местных князей в благодарность за оказанные услуги швейную машину «Зингер», из чего можно заключить, что экспедиция везла с собой образцы «русских товаров», очевидно, для демонстрации лхасским купцам, в основном выходцам из Непала и Индии (Кашмира). Переход через высокогорное тибетское плато — безжизненный Чантанг, не обошелся без жертв — в дороге заболел и умер лама Зодбо. «Похоронили» его в Нагчу, по-тибетскому обычаю, оставив тело на съедение грифам. Ф. В. Баханов, однако, ничего не рассказывает о другом, гораздо более важном событии — о том, как он и его спутники встретились по дороге в Цайдам, в одном из амдосских монастырей, с бежавшим из Тибета в конце декабря 1923 г. Панчен-ламой. Главной причиной его бегства стало недовольство новой фискальной политикой Далай-ламы, ущемлявшей интересы крупных тибетских землевладельцев, к каковым относился и Панчен. Ф. И. Щербатской, находившийся в это время в Урге, рассказывал об этом так: «В Лхасе, между прочим, создалось такое положение: Далай-Лама и его присные увлеклись милитаризмом, о чем сокрушается Агван (А. Доржиев — A. A.). Милитаризм требует расходов, каких там до сих пор не знали. Пришлось обложить монастыри и коснуться ламских привилегий, пошли протесты и неудовольствия. Во главе недовольных оказался Банчен (Панчен-лама — А. А.). Он послал в Лхасу посольство, руководимое отважным ламою. Посольство было принято очень сухо, а руководитель его обезглавлен. Тогда Банчен испугался и бежал. Пробрался незамеченным мимо Лхасы, направляясь в Монголию, но около Лаврана его перехватили китайцы и не выпускают, хотя держат со страшным почетом. Хотят поселить его в Утайшане и вокруг группируют партию анти-далайламскую»[409].
Ф. И. Щербатской, очевидно, пересказывает версию бегства Панчен-ламы, которую он слышал из уст Агвана Доржиева, в это время также находившегося в Урге. От Ф. И. Щербатского мы, между прочим, узнаем и то, о чем предпочел умолчать Ф. В. Баханов, — что «Борисов по дороге в Лхасу виделся с Банченом и вел с ним переговоры».
Здесь надо сказать, что Урга в феврале-марте 1924 г. была взбудоражена самыми фантастическими слухами — о революции в Тибете, о бегстве из Лхасы от англичан Далай-ламы, который якобы направился в столицу Красной Монголии, о планах Англии посадить на его престол в Лхасе Панчен-ламу и т. п. Поэтому С. С. Борисов, после своей мимолетной встречи с Панченом, надо думать, постарался переправить в советское посольство в Урге полученные им «из первых рук» сведения о случившемся. Сделать это было нетрудно, поскольку между Лавраном, крупнейшим религиозным центром в Амдо, и Ургой постоянно ходили ламские караваны. Другим источником информации для Москвы стал Агван Доржиев. По сообщению Ш. Тепкина, едва А. Доржиеву стало известно о местонахождении бежавшего Панчен-ламы и его планах поездки в Пекин через Монголию по приглашению генерала У. Пейфу — главы чжилийской группировки милитаристов в Северном Китае, под чьим контролем находилось тогда центральное пекинское правительство, — он спешно выехал из Урги ему навстречу, однако, разминулся с ним в пути. Проехав до самого Пекина и так и не встретив Панчена, А. Доржиев все же счел необходимым оставить для него письмо, в котором «в основном писал о том, чтобы он, Панчен Богдо, помирился с Далай-Ламой» и затем вернулся в Ургу[410]. Трудно представить себе, чтобы А. Доржиев мог совершить столь важную в политическом отношении поездку без ведома советских властей, исключительно по собственной инициативе.
В Нагчу, на главной заставе у границы лхасских владений, С. С. Борисов столкнулся с теми же трудностями, что и В. А. Хомутников. Тибетские пограничники настаивали на досмотре багажа экспедиции, и ему пришлось разыграть уже знакомый нам трюк — С. С. Борисов объявил багаж собственностью Далай-ламы, подтвердив это письмом А. Доржиева, после чего в Лхасу на имя тибетского правителя было послано ходатайство о пропуске экспедиции. Вскоре пришел положительный ответ и экспедиция благополучно добралась до Лхасы, избежав таможенных неприятностей. Находясь в Нагчу, С. С. Борисов узнал важную новость о том, что в Лхасе находится англичанин, знающий русский язык, который в сопровождении 2-х врачей и 40 индийских солдат (!) расположился лагерем в 10–20 км от Норбулингки. Им оказался заменивший Ч. Белла на посту «сиккимского резидента» Ф. М. Бейли (занимал эту должность с 1921 по 1928 гг.), хорошо известный ГПУ и советской военной разведке по своим «похождениям» в Ташкенте в 1918 г.[411] Ф. М. Бейли прибыл в Лхасу с дипломатической миссией по приглашению тибетского правительства 17 июля 1924 г. и находился там до 16 августа. Трудно сказать насколько случайным был почти одновременный приезд в столицу Тибета английского и советского представителей. Во всяком случае, зная о выступлении из Урги советской миссии, Ф. М. Бейли волне мог «приурочить» свой приезд в Лхасу ко времени предполагаемого прибытия туда С. С. Борисова.
Поводом для визита Ф. М. Бейли в Лхасу послужила прежде всего та тревожная ситуация, которая сложилась в Тибете после бегства Панчен-ламы. Англичане серьезно опасались, что он может отправиться в «красную» Ургу в поисках защиты от лхасских притеснителей у Хутухты (Богдо-гегена), для чего действительно имелись некоторые основания, или даже у большевиков. С другой стороны, Ф. М. Бейли хотел установить более тесные контакты с тибетскими властями и узнать, как проходят начатые с английской помощью реформы. То, что он увидел, не слишком впечатляло, хотя с отъезда Ч. Белла из Лхасы прошло лишь два с половиной года и едва ли можно было ожидать больших успехов за такой короткий срок. Впрочем, по тибетским меркам, нововведения выглядели достаточно впечатляюще. Летом 1922 г. англичане протянули телеграфный провод из Гьяндзе в Лхасу, соединив таким образом тибетскую столицу с Индией, а через нее с остальным миром. После этого, руководивший работами специалист Бенгальского телеграфного управления В. Кинг проложил телефонный кабель между Норбулингкой и Поталой (летний и зимний дворцы Далай-ламы) и зданием правительства (Кашагом). В том же 1922 г. (с апреля по сентябрь), английский геолог сэр Генри Хейден, занимался разведкой полезных ископаемых в Тибете, результаты которой, однако, оказались довольно скромными. Несколько ранее (в декабре 1921 г.) в Гьянтзе возобновилось обучение рядового состава тибетской армии, в то время как в Кветте и Шилонге в Индии началась подготовка небольшой группы молодых тибетских офицеров. В 1923–1924 гг. англичане поставили Тибету 4 горных орудия и более 1000 снарядов для них. Наконец, в 1924 г. в Гьянтзе открылась английская школа, которую возглавил Френк Ладлоу, а в Лхасе под руководством сиккимца из Дарджилинга, Ладен Ла, была организована полицейская служба.
Ф. М. Бейли провел в Лхасе всего две недели, когда один из его местных информаторов, калмык-эмигрант Замбо Халдинов (Хаглышев, по русским документам), сообщил ему о прибытии в священный город секретной русской миссии. Это произошло 1 августа 1924 г.[412]Тибетцы, насколько известно, встретили советскую делегацию довольно приветливо и даже «с некоторыми почестями», как утверждал Д. Макдональд в книге воспоминаний «20 лет в Тибете», — при ее встрече был выставлен почетный караул[413]. Поселили гостей в особняке какого-то крупного чиновника, где им отвели помещения в 3-м этаже. «Вечером на главной площади Лхасы хозяева организовали по случаю нашего приезда молебствие в центральном храме-дацане. Служба продолжалась около 3-х часов», — рассказывал Ф. В. Баханов. На следующий день состоялась аудиенция в летнем дворце Далай-ламы. Началась она, по обычаю, с поднесения подарков правителю Тибета, которые включали в себя, как сообщал Ф. В. Баханов, фарфоровые вазы, золотые кубки, серебряные блюда и многое другое — похоже, что Далай-ламе привезли на этот раз из Москвы целый столовый сервиз. Вместе с подарками С. С. Борисов, фигурировавший под конспиративным именем Церендоржи, вручил ему также два официальных письма — от ЦИК (за подписью М. И. Калинина) и от правительства СССР. Подарки и письма были приняты «благосклонно». Затем последовала традиционная чайная церемония, к которой гости отнеслись настороженно, так как «боялись, что отравят чаем». О содержании беседы с Далай-ламой Ф. В. Баханов (он же Дамба) ничего не рассказывает. По всей видимости, основные переговоры С. С. Борисова с владыкой Тибета происходили конфиденциально, «с глазу на глаз», лишь в присутствии переводчика, поскольку тибетским С. С. Борисов не владел, во время одной из последующих аудиенций.
Кроме визита к Далай-ламе Ф. В. Баханов также упоминал посещение членами экспедиции монетного двора и арсенала под Лхасой, в сопровождении Царонга (Царонга-Галдана, как он его называет), занимавшего два поста одновременно — военного министра и министра финансов. Царонг продемонстрировал «красным русским» процесс изготовления тибетской пятизарядной винтовки по образцу русской трехлинейки. Свой рассказ о пребывании в Тибете Ф. В. Баханов завершил следующим рассказом: «После встречи с Далай-Ламой Борисов остался в Лхасе, а я, с разрешения главы тибетского правительства, занимался изучением страны, ее природы и хозяйства. Много ездил, фотографировал. Снимал киноаппаратом два с половиной месяца». По сообщению бурятского исследователя Г. Н. Заятуева, Ф. В. Баханов сделал более 700 позитивов и негативов, которые ныне находятся в архиве МИД России[414].
Другим источником сведений об экспедиции С. С. Борисова служит официальный отчет Ф. М. Бейли, представленный в форме «очень конфиденциального» письма на имя заместителя главы иностранного департамента правительства Индии С. Латимера, а также его «Лхасский дневник»[415]. В своем отчете Ф. М. Бейли, со ссылкой на З. Халдинова, сообщал, например, что русская миссия состоит из 12 человек — шестерых бурят и шестерых калмыков. Особенно подозрительными из них З. Халдинову показались двое — Баярту, т. е. Вампилон, потому что у него была борода, и Церинг Доржи, т. е. С. С. Борисов, потому что он плохо говорил по-монгольски. Тибетское правительство, тем не менее, пришло к заключению, что посланцы Советской России вполне «безвредны», и сам Далай-лама согласился предоставить им аудиенцию[416]. Ф. М. Бейли все же счел своим долгом указать Далай-ламе и его министрам («калонам») на опасность «большевистской интриги» в Тибете, что, в конечном счете, как кажется, имело негативные последствия для миссии С. С. Борисова. Так, 21 августа Далай-лама отправил Ф. М. Бейли, который к тому времени уже покинул Лхасу, оригиналы двух писем, привезенных «красными русскими», одно — от бурят-монгольского правительства за подписью М. Н. Ербанова, а другое — от представительства Калмобласти при Наркомнаце в Москве, вместе с их переводами на тибетский язык (что, конечно же, было далеко не дружественным шагом с его стороны по отношению к советским гостям). Они, по всей видимости, и являлись теми «мандатами на представительство» от БМ АССР и КАО, о которых писал И. В. Сталину Г. В. Чичерин. В обоих письмах С. С. Борисов и Б. Вампилон (Церинг Доржи и Баярту) назывались «паломниками», которым поручалось ознакомить Далай-ламу с состоянием дел его единоверцев в России. Их авторы откровенно восхваляли новую власть, при которой буряты и калмыки «ведут мирную и счастливую жизнь» в своих землях, получив право на самоуправление и свободное исповедание буддийской религии, чего они были лишены при «плохом» царском правительстве[417].
Однако, Далай-лама имел основания сильно сомневаться в правдивости подобных утверждений. Незадолго до приезда С. С. Борисова из Забайкалья в Лхасу вернулся весьма почитаемый тибетский перерожденец («тулку») Тагрин-Геген, рассказавший о том, как его арестовала Агинская аймачная милиция, а имущество конфисковала, в том числе собранные среди бурят пожертвования на Дрепунгский Гоман-дацан (дацан, где с давних пор обучались буддийским наукам все буряты и калмыки, в том числе и А. Доржиев). Такие истории, разумеется, не могли способствовать поднятию советского престижа в Тибете. Более того, они противоречили рассказам С. С. Борисова и Б. Вампилона и той позитивной информации об СССР, которую НКИД периодически направлял в Лхасу через А. Доржиева и его сторонников — бурятских и калмыцких лам-«обновленцев»[418]. Интересно, что А. Доржиев в мае 1923 г., зная о предстоящей экспедиции С. С. Борисова, подал докладную записку в НКИД, в которой указывал на важность религиозного фактора в деле завязывания дружественных отношений с Тибетом. «Советской России, — писал он в ней, — придется считаться с господствующим положением буддийской церкви в стране и так или иначе установить с ней первоначальный контакт, ибо других путей для официального сношения с Тибетом нет. Таким образом, успех советской политики в восточных странах и, в частности, в Тибете будет зависеть от того, насколько Советская Россия сумеет подойти к обычаям, нравам и религии культурно отсталых народов этих стран»[419]. В этой связи тибетский представитель не мог не коснуться инцидента с Тагрин-Гегеном, поскольку по возвращении в Тибет он «даст там невыгодную информацию о положении буддийского духовенства в Советской России». Поэтому А. Доржиев предлагал «взыскать с виновных хоть часть вещей Тагрин-Гегена и отослать ему в Лхасу»[420].
Советская экспедиция пробыла в Лхасе около трех месяцев и вернулась в Москву в мае 1925 г. Переговоры Борисова с Далай-ламой не увенчались успехом, хотя их подробности во многом остаются неизвестными нам. Два года спустя (в мае 1927 г.), выступая с лекцией на заседании кафедры зарубежного Востока в Коммунистическом университете трудящихся Востока им. Сталина (КУТВ), С. С. Борисов неожиданно приоткрыл завесу тайны над своей поездкой в Тибет. В этой лекции, озаглавленной «Современный Тибет»[421], наибольший интерес для нас представляет та ее часть, где речь идет о политической ситуации в Тибете в 1924 г. и перспективах ее развития в будущем. Эту ситуацию С. С. Борисов характеризовал как крайне сложную и нестабильную ввиду нарастающего трения между англофильской военной «кликой» — молодыми тибетскими офицерами, прошедшими подготовку в Индии, во главе с военмином Царонгом, и консервативным ламством. Разрыв с Китаем обусловил экономическую переориентацию Тибета на Индию, в результате чего в стране стала формироваться национальная буржуазия в лице военных-англофилов, основательно потеснившая лам как в торговой области, так и в деле управления государством. Сам Далай-лама, по мнению С. С. Борисова, держался «политики сидения между двумя стульями», осторожно лавируя между двумя основными политическими группировками — клерикальной и военной. В этих условиях роль ламства как силы, «организующей массы» и противостоящей военной клике Царонга, оценивалась С. С. Борисовым положительно. Особенно он выделял мелкое, рядовое ламство, тесно связанное с «нашей бурято-монгольской колонией» в Дрепунге, среди которого имелось немало русофилов — «сторонников обращения к революционной России» поскольку последняя по-прежнему считалась антиподом Англии. Что касается официальных кругов — «ответственных тибетских правителей», то их отношение к новой России было двойственным и колеблющимся. Так, Далай-лама признавал, что «значение России как фактора международной политики [теперь] почти такое же, как прежде», но в то же время он давал понять, что сомневается в «устойчивости такого положения» и потому, по словам С. С. Борисова, «прежде чем обращаться к советскому правительству официально, он хотел бы еще подождать некоторое время, чтобы посмотреть, не будет ли какого-нибудь сюрприза в этой области»[422].
О главе англофилов Царонге С. С. Борисов отзывался следующим образом: «Он демонстрирует свое искреннее расположение к нам. Он раньше бывал в Монголии, встречался с русскими. Он говорит, что с англичанами приходится вести вынужденную политику. Он рисует это наглядно, берет схемы, карты, показывает пограничные линии, точки и говорит: „Как ни бейся, англичане через несколько дней будут здесь. Попробуй обратиться к вам официально за помощью, а то еще аэропланы сделают такую штуку, как с афганцами“». (Имеется в виду использование англичанами авиации в войне с Афганистаном в 1919 г. — А. А.) В целом же Царонг показался ему человеком «новой формации» — здравомыслящим и прагматичным, таким, с которым легко можно найти общий язык. «Он ходит в европейском костюме, учит своего сына английскому языку, имеет в большом количестве французские ликеры, одним словом, европеизировался окончательно»[423]. Интерес С. С. Борисова к Царонгу легко понять, ведь тибетский главком — фаворит и правая рука Далай-ламы, играл ключевую роль на лхасской политической сцене в то время. Именно Царонг руководил проводимыми в стране реформами, что позволяло Далай-ламе оставаться в тени, не афишируя свои проанглийские симпатии. «Вообще разговоры с ним у меня велись чрезвычайно интересные частным образом», — рассказывал С. С. Борисов своим слушателям, отмечая при этом, что его общение с Царонгом и другими тибетцами было затруднено в первое время присутствием в Лхасе английского агента: «В конце концов мы дошли до разговора, что такое большевизм. Он (Царонг) говорит: „Знаете, у Вас правительство какое. Оно ориентируется на неимущих, а у нас у власти стоят люди имущие, например, я… Что будет, если Ваше учение проникнет сюда, каковы будут результаты?[424]
<…> Что такое большевики? Это люди, которые оскверняют землю. Вы такие люди, которых у нас называют [словом] тын“. Он показал это на примере так. Взял чашку и говорит: „Я держу чашку за ручку, всякий нормальный человек возьмет чашку за ручку и будет пить, а большевик возьмет чашку, отломает ручку, возьмет ее так и начнет пить, т. е. это люди, у которых нет нормального отношения, нормального подхода к вещам, которые подходят ко всему со своей меркой, шиворот-навыворот“. Свои слова он иллюстрировал тем, что вот де большевики опубликовывают договора. На это он особенно напирал: „Народ неблагонадежный. Вы попробуйте повести с ними разговоры, а потом извольте расплачиваться“»[425].
О гражданской войне и революции в России тибетцы имели столь же своеобразные представления — борьба между «красными» и «белыми», например, многими воспринималась как своего рода религиозный конфликт, подобный тому, что некогда имел место в самом Тибете между «красношапочной» и «желтошапочной» буддийскими школами. В то же время они имели информацию о более поздних событиях — о признании советского правительства другими странами, о национальной политике большевиков, о НЭПе. В результате, как утверждал С. С. Борисов, у тибетцев стал формироваться положительный образ Советской России. Правда, большие споры среди них вызывала советская политика в Монголии — одни говорили, что «красные» помогли монголам освободиться от китайского владычества, другие, что «красные» преследуют тамошнее ламство.
История с бегством Панчен-ламы в интерпретации С. С. Борисова выглядела так — англо-индийское правительство прежде ориентировалось на Панчена, чьи владения лежат на границе с Индией. Однако поскольку в своей индийской политике английские власти стали проводить в последнее время линию на поддержку национальной буржуазии, то и в Тибете они сделали ставку на созданную ими там военную группу. Поэтому англичане «выдали» своего прежнего друга Панчен-ламу тибетцам и «Далай-Лама провел его ликвидацию»[426]. О своей тайной встрече с Панченом на пути в Лхасу С. С. Борисов не обмолвился ни словом.
В то же время С. С. Борисов довольно откровенно высказался о целях советской политики в Тибете: «Для нас противодействие английскому вторжению, закрепление нашего влияния разными путями в Тибете, конечно, стимулируется прежде всего тем моментом, что Тибет находится по соседству с Индией, что по существу он является заключительным звеном той нашей линии соприкосновения с Англией, которая начинается с Турции и кончается в Китае. Иметь в этом звене известную базу для идеологического проникновения в Индию, конечно, в нашей практике взаимоотношений с Англией является большим плюсом»[427].
Не менее интересны, хотя и сумбурны, рассуждения советского дипломата «о ближайших перспективах в Тибете». Характеризуя обстановку в стране, он особо отмечал «нарождение новых настроений» в связи с разложением ламства, а также крайне тяжелое положение народных масс, толкающее их на путь политической борьбы: «Нужно, чтобы появился только какой-нибудь развязывающий момент, который уже имеется в виде конфликта между ламством и военной группировкой. Несомненно, что свое влияние на массы он уже оказывает. Дело только за тем, чтобы эти настроения пошли по определенному руслу, получили определенное влияние, определенное выражение и программу, пошли по революционному руслу»[428].
Основную надежду на перемены в Тибете С. С. Борисов связывал прежде всего с китайской революцией: «Задачей нашей и наиболее сознательных элементов среди тибетцев, которые рекрутируются из среды ламства, задачей ближайшего времени, является установление определенного организационно-политического контакта с китайским революционным движением; это единственный, естественный, рациональный, подсказываемый всей обстановкой выход»[429].
По словам С. С. Борисова, со стороны Гоминьдана уже делались попытки установить подобного рода контакт с Тибетом, правда, успеха они пока что не имели. Объяснял он это неудовлетворительной национальной политикой китайской народной партии — отсутствием у нее «определенной практической программы <…> платформы для совместной работы всех окраин»[430].
Несмотря на то, что визит С. С. Борисова в Лхасу не привел к заключению каких-либо договоров с тибетским правительством, в том же 1924 г. появились первые робкие плоды советско-тибетского сближения. В феврале в Ургу из Лхасы прибыл некто Жамба Тогмат, которого А. Доржиев называет «дипкурьером от Далай Ламы». Он доставил письмо А. Доржиеву, в котором глава Тибета писал о желательности «командирования» молодых тибетцев в Россию для ознакомления с техникой порохового и ружейного дела[431]. В результате А. Доржиев, при содействии председателя СНК Бурреспублики М. Н. Ербанова, отправил в Москву в конце 1924 г. нескольких тибетских юношей, прибывших вместе с тибетским курьером. Впоследствии, в 1925–1928 гг. в Россию прибыло еще около десяти тибетцев, которые, по рекомендации НКИД, зачислялись либо в Комуниверситет в Москве, либо в Институт живых восточных языков в Ленинграде. Известно, что в последнем для тибетцев был организован «спец. класс» по изучению «порохового дела», просуществовавший, по крайней мере, до конца 1928 г.[432]
Далее, в декабре 1925 г. через Ургу в Тибет проследовал караван с русским оружием — об этом сообщал в путевом дневнике своей Монголо-Тибетской экспедиции П. К. Козлов[433]. Правда, из сообщения П. К. Козлова не ясно, о каком оружии идет речь, — о том, которое РВС СССР согласился поставить Тибету на определенных условиях летом 1923 г., или же о том, которое закупил в Забайкалье в конце 1923 г. тибетский лама Галсан, якобы по поручению Далай-ламы (в основном, трофейное оружие, оставшееся от Унгерна)[434], и которое затем было задержано на советско-монгольской границе. При отсутствии конкретных документов мы склонны считать, что сообщение Козлова скорее всего относится к последнему — т. е монгольские власти вернули Галсану купленный товар и позволили выехать в Лхасу, дабы не омрачать отношений с Далай Ламой.
5. «Монгольское посольство» А. Ч. Чапчаева, 1926–1928
В середине августа 1925 г. «Известия» опубликовали статью Г. В. Чичерина под заголовком «Новый успех Востока». В ней, со ссылкой на сообщения из Лондона, рассказывалось о «взрыве» национально-освободительного движения в Тибете и о «разгроме англофильской клики». Статья Чичерина служила, конечно же, пропагандистским целям, и потому в ней немало ошибок и явных передержек — следствие его англофобии — впрочем, незаметных читателю, неискушенному в хитросплетениях тибетской политики. Так, нарком явно сгущал краски, утверждая, что Тибет под влиянием англичан и их ставленников внутри страны начал превращаться в «нечто, напоминающее английский протекторат», или, что Царонг стал «фактическим диктатором Тибета», подчинившим себе Далай-ламу и все тибетское правительство. И все-таки, статья не лишена некоторого интереса для нас, особенно то ее место, где нарком говорил о геостратегическом значении Тибета. Полемизируя с Ч. Беллом, утверждавшим, что Тибет нужен англичанам, главным образом, как буфер или барьер с северной стороны Индии, Г. В. Чичерин заявлял: «Но Тибет есть нечто большее, чем буфер: Тибет есть непосредственная связь со всей внутренней Азией и всем монгольским миром. Тибет представляет доминирующее положение над древней основной дорогою народов, идущей от Китая к нашей Семиреченской области и разделяющей северные и южные пустыни. Таким образом, основные внутренние артерии, проходящие через Азию, могут оказаться под влиянием того, кто господствует в Тибете»[435]. В таком заявлении, однако, не трудно увидеть аналогичный советский интерес к Тибету.
Поводом для публикации послужили репрессии Далай-ламы против небольшой группы офицеров-англофилов, заподозренных в заговоре, имевшем место между февралем и апрелем 1925 г., в то время как Царонг находился в Индии. Часть виновных понизили в звании, других отправили в отставку, а майора Педма Чандра убили при попытке к бегству из Лхасы. Сам Царонг также попал в опалу. По возвращении в Лхасу он узнал о своем смещении с поста главкома. (Царонг, тем не менее, до 1930 г. сохранял свое место в правительстве Тибета, Кашаге.) Однако, не следует сводить случившееся исключительно к конфликту между Далай-ламой и «новыми военными». В основе драматических событий в Тибете лежало давно уже зревшее недовольство наиболее консервативной части ламства проводимыми в стране реформами. Особую ненависть у монахов вызывала лхасская полиция — «жандармерия», по терминологии Г. В. Чичерина, доставлявшая им немало беспокойств. Многие из влиятельных лам заявляли, что западные нововведения наносят непоправимый ущерб духовным ценностям самобытной тибетской культуры, и Далай-лама, конечно же, не мог не считаться с их мнением. Так, один из критиков, Донирчеммо Ара гапо, открыто выступил против Царонга в связи с инцидентом в Лхасе весной 1924 г., когда во время уличной стычки военные убили двух полицейских. Прибывший на место преступления Царонг распорядился сурово наказать виновных — в результате одному из них отрубили ухо, а другому руку, и он вскоре скончался. Донирчеммо использовал этот инцидент, чтобы обвинить Царонга в самоуправстве и пренебрежении к государственным органам правосудия. В этой ситуации Далай-лама встал на сторону лам, к тому же до него дошли слухи о заговоре военных во главе с Царонгом и Ладен Ла.
Современный английский исследователь А. Маккей предполагает, что идея переворота в Лхасе принадлежала Ф. М. Бейли, который действовал исключительно по собственной инициативе, без ведома делийской администрации. Сиккимский резидент хотел передать светскую власть в стране в руки энергичного и прогрессивного Царонга. (Далай-лама в этом случае остался бы лишь духовным главой Тибета.) Поводом к такому шагу, как считает А. Маккей, скорее всего могли послужить «серьезные попытки нового коммунистического правительства России установить свое влияние в Лхасе»[436]. Таким образом, Ф. М. Бейли, следуя примеру архирусофоба лорда Керзона, очевидно, пытался расстроить «русскую интригу» в Тибете, пока она не зашла слишком далеко. Захват власти военными должен был произойти до начала его официального визита, однако, Царонг не решился пойти на открытую измену и отступил в решающий момент. На существование заговора тибетских офицеров указывает ряд косвенных улик; отсутствие же прямых доказательств А. Маккей объясняет тем, что Ф. М. Бейли, будучи опытным разведчиком, держал все нити заговора в своих руках, и когда он провалился, сумел вовремя спрятать концы в воду. Гипотеза А. Маккея, безусловно, представляется интересной, хотя, конечно, не может не смущать полное отсутствие документальных свидетельств. Впрочем, следует иметь в виду, что ряд дел в индийских архивах, относящихся к лхасскому кризису 1924–1925 гг., остается засекреченным, на что и указывает английский историк.
Новая конфронтация клерикальной и военной группировок имела далеко идущие последствия для Тибета — постепенное сворачивание начатых реформ и заметное охлаждение в отношениях Далай-ламы с англо-индийским правительством. В 1925 г. состав лхасской полиции сократился вчетверо, с 400 до 100 человек; в 1926 г. закрылась школа в Гьянтзе, а в 1927 г. тибетские власти запретили английским автомобилям курсировать между Гьянтзе и Пхари — по проложенному ранее британцами шоссе.
Новости о «перевороте» в Лхасе не могли не обрадовать Г. В. Чичерина, ибо разгром «англофильской клики» означал, что «английская политика постепенного внедрения» в Тибет потерпела крах, а это позволяло Москве активизировать свою собственную тибетскую политику. Главная задача НКИД в 1925 г., как и двумя годами ранее, состояла в том, чтобы сделать советское присутствие в Тибете постоянным. Однако добиться этого было не так-то просто, особенно после того, как Далай-лама отклонил советское предложение об учреждении официального представительства в Лхасе. Тогда у Г. В. Чичерина родилась идея создания там полпредства МНР, руководить которым стал бы негласно советский резидент. Свой план он представил на утверждение Политбюро в декабре 1925 г., о чем мы расскажем позднее. Однако уже в начале августа нарком обсуждал его с новым советским полпредом и одновременно торгпредом в Монголии П. М. Никифоровым. Так, в личном дневнике П. М. Никифорова имеется запись от 2 августа под заголовком «Задачи в Тибете», сделанная, очевидно, после его беседы с Г. В. Чичериным. Главная из намеченных наркомом задач определялась как «создание там полпредства Монголии»[437]. В записи от 13 августа приводилось содержание другого разговора, в котором Г. В. Чичерин подчеркивал важную роль МНР в советской политике на Дальнем Востоке. «Он считает Монголию, — читаем мы у П. М. Никифорова, — самым серьезным аванпостом наступления революционных идей в Тибет и Индокитай»[438]. В вопросе о взаимоотношениях Тибета с Китаем Г. В. Чичерин советовал придерживаться монголо-китайской формулы, сущность которой он выразил в следующих словах: «Мы формально декларируем автономную самостоятельность Монгольской республики, под протекторатом Китая, но практически ведем там такую работу, чтобы по внутреннему политическому и экономическому строительству Монголия приближалась к советским формам»[439].
П.М. Никифоров, со своей стороны, предложил учредить в Западном Китае (в Ша-Чжоу) советское торговое агентство, через которое можно было бы осуществлять торговые операции с Тибетом. Наркому эта мысль понравилась, но он рекомендовал полпреду действовать осторожно. Обсуждался и еще один очень важный вопрос — проект А. Доржиева об установлении почтовой связи с Тибетом, согласно которому предполагалось создать цепочку промежуточных почтовых станций (по-монгольски «уртонов») между Юмбейсе и Нагчу. Перед отъездом из Москвы П. М. Никифорова также инструктировал по военным вопросам председатель РВС СССР М. В. Фрунзе.
По приезде в Ургу в сентябре месяце П. М. Никифоров немедленно приступил к согласованию планов НКИД с членами монгольского правительства — предсовмином Церен Доржи, мининделом Гева Бальжиром и вскоре заменившим его на этом посту Дорликчжапом. В начале октября вопрос об отправке в Тибет монгольского полпредства был рассмотрен в ЦИК МНРП, который поддержал инициативу Москвы. «Хотя больших дел в Лхасе у монголов нет, но иметь там представителя необходимо», — доверительно сообщил Церен Доржи П. М. Никифорову[440].
18 декабря 1925 г. член коллегии НКИД С. И. Аралов, очевидно по поручению Г. В. Чичерина, направил в Политбюро докладную записку с изложением проекта новой тибетской экспедиции. В ней, в частности, говорилось: «В соответствии с создавшейся у нас в настоящий момент в Тибете политической обстановкой и результатами, достигнутыми тибетской экспедицией НКИД, вернувшейся из полуторагодичной поездки в мае тек. г., НКИД считает необходимым и своевременным поставить вопрос об отправке в ближайшем времени в Лхасу неофициального представительства СССР под видом представительства МНР (курсив — А. А)»[441].
Такое представительство, номинально возглавляемое монголом, утвержденным монгольским правительством, указывалось в записке, «фактически будет руководиться нашим советником».
Главной задачей советско-монгольского представительства должно было стать создание столь необходимого Москве канала оперативной двухсторонней связи с Тибетом через «передаточно-наблюдательный пункт» — советское консульство, которое планировалось открыть в Лань-чжоу-фу, в центре китайской провинции Ганьсу. О стратегической важности этого города в свое время говорил еще Бадмаев, предлагавший соединить Лань-чжоу-фу железной дорогой с основной транссибирской магистралью[442]. Для связи с центром предполагалось также использовать и традиционное «средство» — бурятско-калмыцких лам и торговцев.
К другим задачам представительства относились:
— распространение «правильных сведений» среди тибетцев о СССР, МНР, международном положении и, особо, о проводимой англичанами политике в отношении Тибета;
— консультирование Далай-ламы и русофильской группировки в Лхасе по экономическим вопросам, оказание поддержки тибетским русофилам, главою которых довольно неожиданно был назван сам Далай-лама;
— зондирование почвы с целью заключения монголо-тибетского дружественного договора, по образцу соглашения между Монголией и Тибетом 1913 г.;
— организация военных поставок в Тибет («арт. имущества») и направление в тибетскую армию бурятских, калмыцких и монгольских инструкторов, отправка тибетской молодежи в СССР и МНР для военного обучения;
— экономическая разведка, выяснение потребностей тибетского рынка и организация торговых операций между Тибетом с одной стороны и МНР с другой;
— установление связи с «буддийским движением» в Индии в целях «укрепления позиции Тибета в его национально-освободительной борьбе»[443].
Большинство этих задач были не новыми и уже стояли в «программе» экспедиции С. С. Борисова. Но в отличии от ситуации 1924 г, очевидно стремление советской дипломатии использовать «монгольскую карту» в новой «большой игре» с Англией в Центральной Азии. Так, отправка представительства в Тибет формально мотивировалась С. И. Араловым религиозными, торгово-экономическими и другими нуждами монгольского населения. Здесь надо отметить, что Монголия и Тибет издавна поддерживали тесные религиозные, культурные и торговые связи. В Урге проживала довольно большая тибетская колония, а также находился духовный представитель Далай-ламы, так называемый Донир (Доньер). Эту должность в 20-е годы исполнял Лобзанг Чолден. Однако, он не пользовался авторитетом у монгольских властей и даже несколько раз арестовывался Государственной внутренней охраной (ГВО, монгольским аналогом ГПУ).
В записке НКИД также давалась резко негативная оценка английской политике в Тибете, особенно действиям англичан в последние годы (после миссии Ч. Белла). «Пока Англия не захватила важнейшие командные позиции в Тибете, — писал С. И. Аралов, — необходимо противопоставить ее агрессии все наши реальные возможности и в этих целях незамедлительно прежде всего отправить в Тибет неофициальное представительство. В нашей работе в Тибете мы должны встретить особо благоприятные возможности в сравнении с возможностями Англии и Китая… Отношение (Тибета) к СССР, выражающееся в несравненно более положительном смысле, чем к царской России, укрепляется и должно укрепиться в дальнейшем»[444].
В заключение С. И. Аралов просил отпустить на содержание представительства 24 355 американских долларов, согласно приложенной смете. (Как и в случае с С. С. Борисовым, в этой смете также имелась статья «особых расходов» — затраты на подарки Далай-ламе и его главным министрам, приобретение информации и представительские нужды.)
Вопрос об учреждении монгольского полпредства в Лхасе дважды включался в повестку дня заседаний Политбюро (7 и 14 января 1926 г.) и дважды откладывался по просьбе Г. В. Чичерина, который в это время обговаривал детали своего проекта с находившимся с визитом в Москве председателем ЦК МНРП Дамба-Доржи. 17 января — за несколько дней до нового заседания — Г. В. Чичерин послал записку в Политбюро, в которой просил незамедлительно рассмотреть этот вопрос и принять по нему решение: «В Тибете произошло движение против захватившей всю власть англофильской клики. Если мы будем медлить, могут произойти новые внутренние события, и Англия при помощи подкупа и привлечения материальных интересов может опять захватить власть.
Вопрос о влиянии Англии в Тибете имеет громадное значение для всех буддийских стран и, в частности, для Монгольской Республики или тех наших автономных республик, где имеется буддийское большинство. Через посредство тибетского правительства Англия может оказывать враждебное нам и разлагающее влияние во всей сфере буддийских национальностей»[445].
В результате Политбюро на заседании, состоявшемся 21 января 1926 г., вынесло следующее решение:
«1. Принять предложение НКИД об отправке в ближайшее время в Лхасу неофициального представительства СССР под видом представительства МНР.
2. Ассигновать на содержание представительства 20 000 рублей»[446].
Вскоре после этого Г. В. Чичерин подыскал подходящую кандидатуру на роль советника при монгольском полпреде. Им стал уже знакомый нам А. Ч. Чапчаев (1890–1938), закончивший незадолго до этого курсы марксизма при Комакадемии. Выбор наркома был одобрен лично И. В. Сталиным (и это несмотря на то, что Центр двумя годами ранее выразил свое недоверие А. Ч. Чапчаеву, освободив его с поста председателя ЦИК Калмыцкой автономной области за проявленный в работе «национальный уклон»)[447]. В ходе инструктажа в НКИД А. Ч. Чапчаеву помимо утвержденных Политбюро заданий поручили также удалить из Лхасы «английского агента» Замбо Хаглышева (Халдинова), служившего главным источником антисоветской агитации в Тибете[448].
Кроме А. Ч. Чапчаева Москва включила в состав монгольского посольства еще несколько человек — бурятского ламу Жигме-Доржи Бардуева (спутника С. С. Борисова) в качестве переводчика тибетского и монгольского языков и двух калмыков, бывших инструкторов МНРА — Шагдура Лундукова и Матцака Бимбаева, в должности конвоиров. (Последний в интервью автору в 1993 г. признался, что имел секретное задание, полученное от начальника Разведуправления Штаба РККА Я. К. Берзина.)
Со своей стороны МИД МНР назначил главу представительства («элчин сайда») и его секретаря. Ими стали некие Гомбодчийн и Амуланг. О первом, со слов М. Т. Бимбаева, известно, что он имел княжеский титул «гуна» (т. е. был монголом) и слыл очень набожным человеком. По-видимому, таковой была его легенда, поскольку П. К. Козлов, встречавшийся с «монгольским полпредом» в Улан-Баторе осенью 1926 г., сообщает нечто противоположное — что Гомбодчийн был на самом деле бурятом, имевшим довольно слабое представление о Тибете и потому забросавшим его вопросами[449]. Оба они, и Гомбодчийн, и Амуланг, являлись китаефилами и сторонниками реставрации теократического правления во Внешней Монголии, упраздненного в 1924 г. после смерти монгольского Хутухты. Об остальных участниках делегации, а их было около 8 человек, нам практически ничего не известно.
Осенью 1926 г. под давлением «народных масс» — верующих и духовенства — 3-ий Великий Хурулдан принял постановление, в котором говорилось о необходимости официального обращения к Далай-ламе за санкцией на отыскание и объявление нового перерожденца Богдо-гегена. Этим шагом монгольские власти, очевидно, рассчитывали произвести благоприятное впечатление на Лхасу ввиду намечавшегося монголо-тибетского сближения. На том же Хурулдане обсуждался и вопрос о заключении дружественного монголо-тибетского договора.
Согласно первоначальным планам, монгольская миссия предполагала выехать из Улан-Батора в августе 1926 г., однако ее отъезд задержался до глубокой осени, что, возможно, было связано с тем, что монгольский МИД ожидал принятия принципиальных решений по тибетскому вопросу высшим законодательным органом МНР. От Улан-Батора до Юмбейсе, где находилось отделение советского торгпредства, делегация добиралась на «доджах». Там пересели на верблюдов и 5 ноября тронулись в дорогу по бескрайней Гоби. Ежедневно караван передвигался не менее 10 часов непрерывно. Через 3 недели добрались до Шобучина (к югу от Аньси), первого населенного пункта Верхней Монголии. По сведениям А. Ч. Чапчаева, экспедиция от Юмбейсе шла в составе большого каравана (до 200 верблюдов) тибетских торговцев, возвращавшихся из Урги на родину[450]. В Шобучине сменили верблюдов наполовину и продолжили путь в направлении Шара-гола (Желтой реки). Переход через высокогорные районы Верхней Монголии до Цайдама был очень тяжелым. Практически все участники поездки страдали от горной болезни, особенно Гомбодчийн. Состояние посла сделалось критическим в районе Хотан-дабана; «жизнь его держалась на волоске, — пишет А. Ч. Чапчаев, — но полпред поправился, как только спустились в Цайдам». В целом, отрезок пути между Юмбейсе и Цайдамом был пройден за 35 дней.
В Цайдаме монгольское посольство пробыло полтора месяца — это время в основном ушло на наем верблюдов. В начале февраля двинулись через Тайчжинар коротким путем в сторону безжизненного Чантанга — Тибетского плато. «Все очень боялись предстоящего самого трудного этапа маршрута, — сообщал А. Ч. Чапчаев. — Во время движения по Сартыну все участники экспедиции чувствовали себя больными. В пути мы похоронили у хребта Думбуре одного подвозчика. Врач тибетской медицины доехал до Нагчу едва живым с опухшим и раздувшимся телом. В течение двух последних недель по Сартыну я, не будучи в состоянии от слабости держаться на верблюде, ехал на последнем привязанным к вьюку»[451]. Но не меньшую опасность для путешественников, чем горная болезнь, представляли и «голоки» — воинственные тибетские номады, промышлявшие грабежом караванов в районе безлюдных хребтов на северо-восточной окраине Тибета.
Движение по Чантангу до Нагчу заняло у экспедиции 40 дней, не считая стоянок. В Нагчу она пришла 15 марта. «Радостный день, — отметил А. Ч. Чапчаев. — Я быстро стал на ноги. Врач тибетской медицины умер через несколько дней»[452].
Последний отрезок пути экспедиция преодолела без каких-либо трудностей. По воспоминанию М. Т. Бимбаева, «от заставы Нагчу до Лхасы мы шли на ишаках. Приблизительно километров за 30 до Лхасы караван встретили 2 тибетца, специально посланные Далай-ламой»[453]. Они-то и привели его в Запретный город, что произошло, по-видимому, во 2-й половине апреля 1927 г. В британских источниках содержится более подробный рассказ о въезде монгольской миссии в тибетскую столицу. Так, согласно Ф. М. Бейли, в Нагчу монголы заявили уездному начальнику («дзонгпену»), что их поездка связана со смертью Великого Ламы из Урги. Дзонгпен сообщил об этом Далай-ламе, и тот распорядился пропустить монгольский караван в Лхасу. Однако, когда открылось, что монголы являются переодетыми «большевистскими эмиссарами», он уволил дзонгпена за сообщение ему ложных сведений[454]. Таким образом, монгольское посольство оказалось не только нежданным, но и нежеланным для Далай-ламы, и въехать в Лхасу оно сумело лишь под видом сугубо религиозной миссии. Версия Ф. М. Бейли вполне согласуется с тем, что нам известно о пребывании А. Ч. Чапчаева в Лхасе и по сути не противоречит сообщению М. Т. Бимбаева — Далай-лама, узнав от дзонгпена о религиозной цели монгольской делегации, вполне мог выслать ей навстречу проводников, что не являлось какой-то особой почестью.
В Лхасе монгольское посольство сразу же столкнулось с большими трудностями. Так, Далай-лама принял его участников на другой день во дворце Потала как обычных богомольцев, пришедших получить его благословение, не пожелал вести с ними какие-либо переговоры и в дальнейшем всячески уклонялся от новой встречи. Правда, посольство получило разрешение поздравить Далай-ламу по случаю дня рождения, но это была опять-таки публичная аудиенция. Своим приближенным Далай-лама также настрого запретил встречаться с «красными монголами». В целом отношение главы Тибета к посланцам народной Монголии можно характеризовать как настороженно-подозрительное и вовсе лишенное симпатии, на которую не без оснований рассчитывала Москва. Об этом свидетельствуют многие документы британских архивов. Из них мы, в частности, узнаем, что за руководителями миссии — Гомбодчийном (Гомбо Еше), Амулангом и А. Ч. Чапчаевым (Цепаг Доржи) велась постоянная слежка[455]. Дом, в котором разместилось посольство, — двухэтажный каменный особняк в центре Лхасы, так называемый «Дом Китьепа», охранялся нарядом полицейских, которые являлись тайными осведомителями Далай-ламы. По признанию М. Т. Бимбаева, всякий раз, когда он и А. Ч. Чапчаев отправлялись по каким-либо делам в город, за ними по пятам следовал тибетский «охранник».
Англичане, со своей стороны, проявляли не меньшее внимание к «советским агентам». Ф. М. Бейли, как только до него дошли слухи о прибытии в Лхасу «красной» монгольской делегации, немедленно отправил туда из Гартока своего личного помощника Норбу Дхондупа, поручив ему убедить Далай-ламу выпроводить «русскую миссию» из Тибета. Далай-лама, однако, не последовал совету Ф. М. Бейли, что объяснялось несколькими причинами: во-первых, нежеланием нанести обиду монахам самого крупного в Тибете Дрепунгского монастыря, давно уже фрондировавшего с лхасскими властями, тем более что в одной из его школ — Гоман-дацане обучалось большинство выходцев из Халха-Монголии, Бурятии и Калмыкии. Во-вторых, опасением, что монгольское правительство могло бы ответить на такой шаг репрессиями против проживавших в Монголии тибетцев. И, в-третьих, боязнью потерять свои сбережения (около 200 тысяч рупий), хранившиеся в созданном им в Урге в 1905 г. «тибетском банке»[456].
Норбу Дхондуп находился в Лхасе до октября 1927 г. и все это время регулярно снабжал своего шефа разнообразной информацией о «большевистской миссии». Так, из его писем к Ф. М. Бейли[457] мы знаем, что А. Ч. Чапчаеву очень долго не удавалось добиться частной аудиенции у Далай-ламы. Устроить ее обещал Кушо Кхенчунг — «тибетский торговый агент» в Гьянтзе, доверенное лицо Далай-ламы, но А. Ч. Чапчаев сразу же заподозрил его в связях с англичанами и потому отказался от этого посредничества. Неприемлемым условием для калмыка стало то, что Кхенчунг намеревался выступить в роли переводчика на переговорах. Тогда А. Ч. Чапчаев попробовал найти подступ к властителю Тибета через лиц из его ближайшего окружения, но и здесь его подстерегала неудача. Прошло много месяцев, прежде чем Далай-лама милостиво согласился принять А. Ч. Чапчаева для деловой беседы, но это произошло уже после отъезда Н. Дхондупа, по-видимому, в октябре месяце. 9 декабря 1927 г. монгольская миссия покинула Лхасу[458].
Результаты беседы А. Ч. Чапчаева с Далай-ламой оказались неутешительными как для советской, так и для монгольской стороны. Далай-лама отказался от обмена дипломатическими представителями между Тибетом и МНР и не проявил интереса к идее заключения дружественного договора между обеими странами. Таким образом, главная цель миссии не была достигнута. Единственное, что удалось А. Ч. Чапчаеву, так это решить вопрос о торговле. Далай-лама заверил его, что не станет возражать против торговых операций СССР в Тибете при условии, что они будут осуществляться «неофициально». В то же время имеются сведения, что Далай-лама послал с ним письмо А. Доржиеву для советского правительства, в котором заявлял о своих дружеских чувствах по отношению к СССР и МНР и задним числом выражал готовность заключить договор о закупке оружия и пороха у России, а также о создании промежуточных почтовых станций между МНР и Тибетом[459]. Возможно, своим письмом он просто хотел несколько сгладить то негативное впечатление, которое могло создаться у советских руководителей после рассказов А. Ч. Чапчаева о его не слишком любезном приеме в Лхасе.
Чем объяснить неуспех миссии Гомбодчийна — Чапчаева? По прогнозам НКИД ситуация в Тибете благоприятствовала советским планам. Донесения военной разведки в начале 1926 г. также свидетельствовали об утрате англичанами своих позиций в Тибете и переориентации Далай-ламы с Англии на Китай[460]. Строго говоря, последнее утверждение не совсем точно отражает положение дел, поскольку определенное потепление в тибетско-китайских отношениях наметилось лишь в 1930-е годы при Нанкинском правительстве Чан Кайши. Хотя надо признать, что во второй половине 1920-х значительно усилились китаефильские настроения среди тибетского ламства — не только высшего, но и рядового, недовольного отсутствием Панчен-ламы и стремившегося вернуть его в Тибет. Можно предположить, что основной причиной неудачи скорее всего был синдром «красной опасности». Особенные опасения внушали успехи китайской революции, постепенно приближавшейся к границам Синьцзяна и восточного Тибета. Так, Н. Дхондуп в письме к Ф. М. Бейли от 1 сентября 1927 г. писал: «Далай Лама неожиданно позвал меня вчера. Он сказал, что получил информацию о 19 большевистских агентах (имеется в виду монгольская миссия — А. А.). Он выражал беспокойство и говорил: Фэн Юйсян, китайский командир, являющийся другом красных русских, одерживает победу, и он может объединиться с красными русскими и создать неприятности для Тибета»[461].
Фэн Юйсян — главнокомандующий Гоминьдзюня (Национальной армии) пользовался советской поддержкой в годы китайской революции пока не совершил предательство (с точки зрения Москвы), перейдя на сторону Чан Кайши, в лагерь «гоминьдановской контрреволюции», летом 1927 г. На момент прихода экспедиции А. Ч. Чапчаева в Лхасу его северо-западная армия прочно контролировала территории провинций Шэньси, Ганьсу и Западной Хэнани. В ближайшем будущем ожидалось ее дальнейшее продвижение на запад, в направлении Синьцзяна и Тибета. В марте-апреле 1926 г. маршал Фэн, проездом в Москву для консультаций с советским руководством, останавливался в Улан-Баторе, где встречался с П. М. Никифоровым. В то время он вынашивал планы объединения провинций, занятых его армиями, и отделения их от Центрального Китая. П. М. Никифоров, однако, не поддержал этой идеи. «Отделение провинций Англия может учесть как нашу агрессию на Западный Китай, — писал полпред генконсулу в Калгане Фесенко, — и, пользуясь создавшимся положением, усилить свою агрессию на Тибет, что осложнило бы нашу политику в Тибете, которую мы полагаем проводить»[462]. Москва, тем не менее, была заинтересована в наведении мостов между Фэн Юйсяном (и другими лидерами Китайской революции) и лхасским правительством. Так, тот же П. М. Никифоров писал в своем приветственном послании «вождю Народно-революционной армии» Фэн Юйсяну 11 февраля 1927 г.: «Было бы весьма полезно, если бы Вам удалось сговориться с тибетцами о границе. Это успокоило бы их и создало бы на Вашем фланге и [в] тылу спокойную обстановку, что для вас крайне необходимо»[463].
Другим источником беспокойства для Далай-ламы стала религиозная политика Москвы. Так, в начале сентября 1927 г. он получил перевод заметки из Бурят-Монгольской Правды («Бурят-Монгол Унэн») о суде в поселке Агинском над 88 ламами, руководителями и участниками так называемого Борзинского движения[464]. Суть этого движения состояла в том, что в начале 1927 г. ламы Цугольского и Агинского дацанов в Читинской области агитировали своих соплеменников, бурят, проживавших на территории Бурят-Монгольской АССР, за переселение в Борзинский уезд в Читинской области, мотивируя это тем, что как нацменьшинство они не будут испытывать там национального и религиозного угнетения. Согласно Норбу Дхондупу, заметка из бурятской газеты произвела отрицательное впечатление на Далай-ламу и членов Кашага. Некоторое время спустя (предположительно в сентябре) Далай-лама неожиданно получил секретное письмо от Агвана Доржиева, доставленное из Улан-Батора тибетским купцом. «Я старый человек и скоро умру, — писал А. Доржиев. — Монголия — не мирная страна, какой она была прежде. Правительство настроено крайне враждебно против религии и монахов и с этим ничего нельзя поделать. Прошу Вас, избегайте общения с людьми [монгольской] миссии. Я был вынужден написать письмо Вашему Святейшеству под их диктовку, которое эти агенты большевиков взяли с собой, но я прошу не придавать значения этому письму»[465].
Далай-лама показал письмо А. Доржиева Кхенчунгу, который затем пересказал его содержание Норбу Дхондупу, а тот, в свою очередь, Ф. М. Бейли[466]. Далай-лама и Кхенчунг, как кажется, были очень довольны, получив от Доржиева столь откровенное послание, разительно отличавшееся от его письма «под диктовку», в котором он расточал похвалы монгольскому правительству и советовал принять предложения его посланцев. Именно это секретное послание А. Доржиева, по-видимому, и предрешило отрицательный исход переговоров Далай-ламы с А. Ч. Чапчаевым.
Во время их беседы с глазу на глаз, по сообщению калмыка, владыка Тибета дважды заводил речь о гонениях на буддийскую религию в СССР, утверждая, что он «об этом имеет самые точные сведения». О своей озабоченности судьбой российских буддистов он просил довести до сведения советского правительства, в частности Г. В. Чичерина, давая понять, что подобное «обстоятельство» должно быть «устранено» в интересах дружбы между Россией и Тибетом[467]. Особую тревогу буддийского первосвященника вызывал закон, запрещавший бурятам и калмыкам отдавать своих несовершеннолетних детей в монастырские школы. А. Ч. Чапчаев, конечно же, пытался разуверить его в этом, не зная, что состоявшийся в его отсутствие в январе 1927 г. Всесоюзный Буддийский Собор в Москве утвердил, под давлением «сверху», 18-летний возрастной ценз для приема в «хувараки» (буддийские послушники). По возвращении в Москву А. Ч. Чапчаев, естественно, довел пожелание Далай-ламы до сведения советских руководителей. Так, летом 1928 г. в ходе «собеседования» в Восточном отделе ОГПУ по результатам поездки в Тибет он заявил следующее:
«Для того чтобы наладить хорошие отношения с Тибетом, нужно <…> отменить или несколько смягчить закон об ограничении возрастной нормы приема в хувараки, конечно, если исходить из интересов нашей большой, международной политики, а не внутренних интересов. Без этого на Буддийский Восток, особенно на Тибет, хоть не смотри. Тем более, что Далай-Лама мне говорил, что „китайцы и англичане его протекторат в религиозных делах над буддистами признают, а Россия, считающаяся более близкой к Тибету <…> еще не признала“»[468].
Несмотря на безрезультатность переговоров с Далай-ламой, семимесячное пребывание монгольского посольства в Лхасе не прошло даром. Во всяком случае, советские эмиссары немало потрудились, чтобы выполнить остальные «неофициальные» пункты своей тибетской программы. Судя по рассказам М. Т. Бимбаева, он и А. Ч. Чапчаев много общались с тибетцами. Особенно часто посещали дом одного молодого любителя фотографии, где собирались лица, симпатизировавшие Советской России. Очевидно, они принадлежали к представителям «русофильской национальной группы», которой, согласно инструкциям НКИД, следовало оказывать поддержку. Костяк кружка лхасских русофилов составляли торговцы, среди которых, возможно, имелись и индийские купцы. Так, из показаний Ш. Тепкина мы узнаем, что А. Ч. Чапчаев вез от него письмо двум индийским купцам-родственникам. Один из них, Бутта Родна, имевший отделение своей торговли в Калькутте, пользовался расположением Далай-ламы[469]. Таким образом, через этих купцов А. Ч. Чапчаев мог установить связь с индийскими буддистами, что, как мы знаем, являлось одним из его заданий. Любопытно, что тибетцы-русофилы, по сообщению М. Т. Бимбаева, в большинстве своем относились к сторонникам Панчен-ламы и, следовательно, можно предположить, что они, в той или иной степени, находились в оппозиции к Далай-ламе.
Отдельные визиты члены миссии нанесли тибетским министрам и другим высокопоставленным чиновникам, которые, по словам М. Т. Бимбаева, охотно шли на контакте «красными русскими». Эти встречи, скорее всего, состоялись уже после аудиенции А. Ч. Чапчаева у Далай-ламы, на заключительном этапе миссии. М. Т. Бимбаев объяснял это тем, что принимавшие их чиновники были «падки до подарков», которые обычно делались им в таких случаях.
Встречались они и с соплеменниками-калмыками, учащимися монастырских школ-дацанов, среди которых большинство составляли астраханские калмыки. Однако, посещение монастырей было сопряжено с некоторыми трудностями. По заведенному обычаю, гостям следовало заказать ламам молебствие, сделать общее приношение монастырю, затем устроить обед для служивших лам. Все это требовало немалых расходов.
Во время поездки в Дрепунгский монастырь, сразу же по приезде в Лхасу, А. Ч. Чапчаев познакомился с Замбо Хаглышевым (Халдиновым). Довольно неожиданно З. Хаглышев обратился к нему с просьбой — помочь ему вернуться на родину в Калмыкию. Возможно, он слышал об амнистии, объявленной советским правительством калмыкам-эмигрантам. А. Ч. Чапчаев, помня о данном ему НКИД поручении, согласился снабдить З. Хаглышева рекомендательным письмом в советское посольство в Пекине, при условии, однако, что он передаст ему всю свою переписку с Чарльзом Беллом. (Ч. Белл помог З. Хаглышеву выехать в Тибет из Турции через Индию в 1921 г.) В результате состоявшейся сделки З. Хаглышев вручил А. Ч. Чапчаеву письма Белла, после чего покинул Лхасу. О дальнейшей его судьбе известно следующее: несмотря на рекомендации А. Ч. Чапчаева, З. Хаглышеву не удалось получить советскую визу, но в Тибет он уже не вернулся, а остался в Пекине. Продолжал переписываться как с Ч. Беллом, так и с Ф. М. Бейли, и в то же время не оставлял надежд на возвращение на родину. Из этой переписки мы узнаем, например, что Ф. М. Бейли материально помогал З. Хаглышеву, который сильно бедствовал в китайской столице. Последние известия о калмыке относятся к началу 1937 г. В то время он проживал в буддийском монастыре Юнг Хо Кунг в Пекине[470].
Не менее успешно справился со своим «секретным заданием» и М. Бимбаев, собравший весьма ценные сведения о тибетской армии и ее вооружении. В Лхасе ему удалось установить контакт с Царонгом и, по всей видимости, также с новым главнокомандующим Догпа Томба. По признанию М. Т. Бимбаева, он дважды присутствовал на учебных стрельбах, много фотографировал. Из составленной на основе его отчета, очевидно, аналитиками Разведуправления, записки «Военное дело в Тибете» мы узнаем, что в одном из случаев речь идет об опытных стрельбах из 10 новых мортир тибетского производства, устроенных публично на окраине Лхасы. «По этому поводу, — говорится в записке, — правящие круги Тибета устроили большое ликование»[471]. М. Т. Бимбаев, однако, не смог побывать на трех оружейных заводах в окрестностях Лхасы. Особенно его заинтересовал завод, расположенный у перевала Голан-дабан в 7 верстах севернее Лхасы по пути в Нагчу, оснащенный европейским оборудованием. Здесь же производилась и чеканка тибетской монеты (по-видимому, имеется в виду новый арсенал и одновременно монетный двор в Доте). Однажды отважный калмык-разведчик попытался проникнуть на территорию этого завода, предварительно познакомившись с его директором, но у ворот его остановила стража. Чтобы избежать скандала, М. Т. Бимбаеву пришлось спасаться бегством[472].
6. «Посольство Западных буддистов» Н. К. Рериха, 1927–1928
В середине апреля 1927 г., когда караван Гомбодчийна-Чапчаева приближался к Лхасе, в том же направлении выступила еще одна столь же таинственная миссия, возглавляемая Н. К. Рерихом. О последней до сих пор принято говорить преимущественно как о научно-художественной экспедиции, хотя по существу это была религиозно-политическая миссия — «посольство Западных буддистов к главе буддистов Востока», как называл ее сам Н. К. Рерих.
Идея подобного посольства родилась у Н. К. Рериха в начале 1920-х, вскоре после его эмиграции с семьей в Америку. Вернее, ее внушили или подсказали ему Гималайские Учителя — Махатмы (в реальности которых последователи Н. К. Рериха ничуть не сомневаются), через ряд телепатических посланий жене, Елене Ивановне Рерих. В дневнике ближайшей сподвижницы семьи Рерихов (члена совета директоров Музея Н. К. Рериха в Нью Йорке) Зинаиды Фосдик (З. Г. Лихтман) есть любопытная запись, датированная 21 декабря 1922 г.: «Е. И. рассказала, что у них был накануне [спиритический] сеанс и им было сказано, как они поедут посольством к Далай-ламе и „У нашего посла знак Малой Медведицы на щеке“ (бородавки образуют в точности это созвездие). Также им было сказано, что рука М. опустится на их плечи, когда посольство будет у Далай-ламы и Щит засверкает над ними»[473]. Задуманное путешествие в Лхасу являлось по сути частью «Великого Плана» Рериха (также инспирированного Махатмами) с целью объединить буддийские народы Азии именем Будущего Будды Майтрейи и создать новое буддо-коммунистическое государство — Священный Союз Востока — на территории от Алтая до Гобийской пустыни, посредством реализации идеи мировой Общины — краеугольного понятия в философской системе Н. К. Рериха. Ключ к этому Плану мы находим в книге Алтай-Гималаи, где Н. К. объясняет: «Каждое столетие Архаты (т. е. существа достигшие духовного совершенства, иначе говоря Махатмы — A. A.) делают попытку просвятить мир общиною. Но до сих пор ни одна из этих попыток не удалась. Неудача следовала за неудачей. Сказано: до тех пор, пока лама не родится в западном теле и не явится как духовный завоеватель для разрушения векового невежества, до тех пор будет мало успеха в рассеянии козней Запада»[474].
Лама «в западном теле», которому суждено «просвятить мир общиною» и разрушить царящее в нем невежество — это ни кто иной как Н. К. Рерих, ибо те же самые Махатмы признали его — по узору бородавок на щеке — воплощением 5-го Великого Далай-ламы! В дневнике З. Фосдик читаем: «Н. К. — воплощение 5-го Далай-ламы. Н. К. добровольно воплотился после того, как был Далай-ламою в Тибете, сказал М. М. (Махатма Мория — А. А). Он — великая душа и у него громадная миссия в России будущего»[475].
Известно, что Н. К. Рерих, как и многие другие представители русской творческой интеллигенции, поначалу был настроен крайне враждебно по отношению к Советской власти. Он полностью разделял точку зрения своего друга, писателя Леонида Андреева, считавшего, что большевики это «дикари Европы, восставшие против культуры, законов и морали»[476]. Однако под влиянием Махатм и «Великого Плана» Н. К. Рерих отбрасывает свой антибольшевизм и поворачивается лицом к «Московии». Теперь все, что делают Советы, вызывает у него не чувства возмущения и протеста, но искреннее сочувствие и энтузиазм. Но это и понятно, ибо осуществить задуманное без содействия большевистской России было немыслимо, тем более что Н. К. Рерих собирался начать строительство своей «Новой Страны» с приобретения у советского правительства сельскохозяйственных и горно-промышленных концессий на юге Алтая. Здесь же, в живописной Уймонской долине у подножия горы Белуха, он мечтал построить и столицу будущей «страны Майтрейи» — Город Знания, Звенигород.
В 1923 г. Н. К. Рерих, его жена и сын Юрий отправились в большое путешествие по Центральной Азии, которому суждено было стать прологом к их исторической миссии. Началось оно в Восточных Гималаях, в Дарджилинге. Там Рерихи поселились в доме, где некогда проживал после бегства из Лхасы 13 Далай-лама («Талай Пхо-бранг»); именно в этом доме весной 1924 г. пришедшие из лхасского монастыря Морулинг ламы опознали русского художника и мистика как воплощение 5-го Далай-ламы (подтвердив тем самым «информацию» Махатм). В конце года Н. К. Рерих неожиданно покинул Дарджилинг и уехал в Европу и Америку. В Берлине он посетил советское представительство, где имел долгую беседу с полпредом H.H. Крестинским и его секретарем Г. А. Астаховым. Об этом визите Н. Н. Крестинский доложил в Москву, Г. В. Чичерину:
«Десять дней тому назад был у меня художник Рерих. С 1918 г. он живет в Америке, а весь прошлый год прожил с семьей на границе Индии и Тибета, куда его командировала для писания картин одна американская художественная корпорация. Сейчас, пробыв недолго в Америке и Европе, Рерих снова на целый год уезжает на север Индии, уже в другое место. Настроен он совершенно советски и как-то буддийско-коммунистически. С индусами, и особенно с тибетцами, с которыми объясняется при помощи сына, знающего 28 азиатских наречий, у него, по его словам, очень хорошие отношения. Он осторожно агитирует там за Совроссию, обещает через своих американских корреспондентов (Лихтмана и Бородина) присылать нам оттуда информацию»[477].
Сообщение H.H. Крестинского заинтересовало Г. В. Чичерина. В ответном письме полпреду от 31 марта 1925 г. он настоятельно просил «не упустить того полубуддиста-полукоммуниста, о котором Вы мне в свое время писали… У нас до сих пор не было такого серьезного мостика в эти столь важные центры. Ни в каком случае не надо потерять эту возможность. Как именно мы ее используем, это требует весьма серьезного обсуждения и подготовки»[478].
По возвращении в Индию Н. К. Рерих, однако, исчез из поля зрения Москвы почти на целый год. За это время его экспедиция совершила первый круг странствий по Центральной Азии, пройдя древними караванными тропами через Пенджаб, Кашмир, Ладак (Малый Тибет), Хотан, Яркенд, Кашгар и Турфан. Повсюду, в памятниках древности, встречавшихся ему на пути, Н. К. Рерих видит знаки Великого Будущего, связанного с приходом Будды Майтрейи и «исполнением сроков» Шамбалы. Но в то же время он и сам творит легенду, пытаясь приблизить это время — называя себя Махатмой Акдорже, Н. К. Рерих, с помощью присоединившегося к его каравану в Ладаке ламы Рамзана, распространяет среди местных жителей «тибетские грамоты» со словами «Майтрея идет!»
В апреле 1926 г. экспедиция Н. К. Рериха достигла Урумчи, столицы Синьцзяна. Здесь он незамедлительно вступил в контакт с советским представителем — генконсулом А. Е. Быстровым. Ему художник раскрывает свои сокровенные планы — о том, что он собирается ехать в Москву для переговоров с советскими вождями, а оттуда через Монголию в Тибет, вместе с Таши-ламой (Панчен-ламой)! Об этой встрече А. Е. Быстров так рассказывает в своем рабочем дневнике:
«Сегодня приходил ко мне Рерих с женой и сыном. Рассказывали много интересного из своих путешествий. По их рассказам, они изучают буддизм, связаны с махатмами, очень часто получают от махатм директивы, что нужно делать. Между прочим, они заявили, что везут письма махатм на имя т. Чичерина и Сталина. Задачей Махатм будто бы является объединение буддизма с коммунизмом и создание Великого Восточного Союза Республик. Среди тибетцев и индусов буддистов ходит поверье (пророчество) о том, что освобождение их от иностранного ига придет именно из России от красных (Северная Красная Шамбала).
Рерихи везут в Москву несколько пророчеств такого рода. Везут также индусские и тибетские картины, написанные в этом роде. Из слов Рериха можно понять, что их поездки по Индии, Тибету и Зап. Китаю — выполнение задач махатм и для [этого] они должны направиться в СССР, а потом якобы в Монголию, где они должны связаться с бежавшим из Тибета в Китай „Таши-ламой“ и вытащить его в Монголию, а уже оттуда двинуться духовным шествием для освобождения Тибета от ига англичан»[479].
Подружившись с А. Е. Быстровым, Н. К. Рерих и его спутники (Е. И. и Ю. Н. Рерихи, ламы Рамзан и Церинг) без труда получили въездные визы в СССР и уже через месяц неожиданно объявились в Москве. 13 июня Н. К. Рерих встретился с Г. В. Чичериным, которому тут же изложил свою грандиозную программу переустройства Азии. Состояла она из следующих 9 пунктов:
«1) Учение Будды есть революционное движение; 2) Майтрейя является символом коммунизма; 3) Миллионы буддистов в Азии немедленно могут быть привлечены к мировому движению в поддержку идеалов Общины; 4) Основной закон, или простое учение Гаутамы, должно легко проникнуть в народ; 5) Европа будет потрясена союзом буддизма с ленинизмом; 6) Монголы, тибетцы и калмыки признают сроки пророчеств о Майтрейе и готовы приложить их к текущей эволюции; 7) Отъезд Таши-ламы из Тибета дает небывалый повод к выступлению на Востоке; 8) Буддизм объясняет причину отрицания Бога как закономерное явление; 9) Требуется предпринять немедленные действия согласованно с Советским правительством, полностью учитывая местные условия и пророчества Азии»[480].
Н. К. Рерих, как посланец Гималайского Братства, также передал Г. В. Чичерину ларец со священной гималайской землей с места, рождения Будды, якобы посланной махатмами на могилу своего собрата, Махатмы Ленина, и два послания тех же махатм — одно Московским коммунистам, а другое лично наркому. Их авторы (скорее всего сами Рерихи, судя по стилистике писем) приветствовали все свершения большевиков, направленные на уничтожение старого мира, во имя эволюции Общины, и обращались с конкретным предложением: «Если Союз Советов признает Буддизм учением коммунизма, то наши Общины могут подать деятельную помощь, и сотни миллионов буддистов, рассыпанных по миру, дадут необходимую мощь неожиданности»[481].
Беседа с Н. К. Рерихом, очевидно, произвела большое впечатление на Г. В. Чичерина, поскольку нарком в тот же день проинформировал о ее содержании секретаря ЦК ВКП(б) В. М. Молотова, а также позаботился о том, чтобы копии его письма были разосланы членам Политбюро и Коллегии НКИД, равно как и другим авторитетным «московским коммунистам» — И. С. Уншлихту (Реввоенсовет), М. А. Трилиссеру (ОГПУ), К. Б. Радеку. В этом письме Г. В. Чичерин, между прочим, дает свою, вполне марксистскую характеристику таинственным гималайским общинам махатм, пославшим Н. К. Рериха в Москву: «Там (в северной Индии — А. А.) имеются буддийские общины, отвергающие официальный ламаизм и стоящие на точке зрения первоначального учения Будды с его примитивным потребительским коммунизмом. Это способствует их симпатиям к коммунистической программе и к СССР»[482].
Вопреки ожиданиям, Н. К. Рерих, однако, не получил ни от Г. В. Чичерина, ни от руководства большевистской партии какого-либо ответа на сделанные им — от лица Махатм — предложения за те шесть недель, что он пробыл в Москве. Но можно ли было реально ожидать, что советские вожди — члены Политбюро ЦК — согласятся «признать буддизм учением коммунизма» и примут высокое наставничество гималайских водителей мира? А ведь именно в этом, по мнению петербургского исследователя В. А. Росова, и состояла главная цель московской миссии Рериха. Правда, его довольно тепло принимали А. В. Луначарский, Л. Б. Каменев и Н. К. Крупская; более того, его планы определенно заинтересовали начальника иностранного отдела ОГПУ М. А. Трилиссера (чье ведомство занималось внешней разведкой). По воспоминанию З. Г. Фосдик, в стенах этого учреждения на Лубянке произошла «самая замечательная встреча», где «были произнесены имена Майтрейи и Шамбалы» и где «предложения о сотрудничестве были встречены с энтузиазмом»[483]. В то же время Н. К. Рериху удалось успешно завершить переговоры с Главконцесскомом (начатые в 1925 г. его американскими представителями Луисом Хоршем и Морисом Лихтманом, возглавлявшими корпорацию «Белуха») и получить концессию на разработку полезных ископаемых на Алтае (в районе горы Белуха).
Несомненно, Н. К. Рерих серьезно обсуждал в Москве (с Г. В. Чичериным и М. А. Трилиссером) и свои тибетские планы — прежде всего довольно щекотливый вопрос о возможном возвращении в Тибет Панчен-ламы. С одной стороны, такое возвращение было весьма желательным поскольку контролировавший северо-восток Китая генерал Чжан Цзолин и стоявшая за его спиной милитаристская Япония стремились использовать Панчен-ламу для расширения своего влияния во Внутренней и Внешней Монголии (МНР), что представляло косвенную угрозу для СССР. Но с другой стороны, поскольку разногласия Далай-ламы и Панчен-ламы не были урегулированы, самовольное возвращение последнего вместе с хорошо вооруженным отрядом своих сподвижников могло спровоцировать столкновение между сторонниками двух высших перерожденцев в Тибете (национальной и китаефильской группировками) с совершенно непредсказуемыми последствиями. Г. В. Чичерин, конечно же, более всего опасался английского вторжения в страну в случае возникновения в ней беспорядков и смуты, что в конечном счете могло привести к полной аннексации Тибета Британской Индией. Поэтому он не торопился поддержать столь заманчивую на первый взгляд инициативу своего «американского гостя». Ведь для Н. К. Рериха, как мы знаем, возвращение Панчен-ламы означало прежде всего исполнение древних пророчеств о войне Шамбалы, во время которой должны были быть повержены «воинством Майтрейи» угнетатели Тибета — англичане и англофильствующие тибетцы во главе с Далай-ламой, олицетворявшие «силы зла». В книге Н. К. Рериха «Алтай-Гималаи» мы читаем: «Духовный водитель Тибета вовсе не Далай-лама, а Таши-лама, о котором известно все хорошее. Они (тибетцы — А. А.) осуждают теперешнее положение Тибета сильнее нас. Они ждут исполнения пророчествах) возвращении Таши-ламы, когда он будет единым главою Тибета и Драгоценное Учение при нем процветет снова»[484].
22 июля (в день похорон Ф. Э. Дзержинского), так и не дождавшись ответа от советского руководства, Рерихи покинули «Московию». После недолгой остановки на Алтае они проследовали в столицу народной Монголии Улан-Батор (город Красного Богатыря), куда прибыли в сентябре 1926 г., в самый канун экспедиции Гомбодчийна-Чапчаева. Здесь Н. К. Рерих немедленно приступает к организации своей собственной экспедиции, вернее «посольства», в Тибет, пытаясь подключить к своим планам монгольское правительство. Имеются сведения, что власти МНР, а также руководство МНРП, обсуждали в конце 1926 г. возможность приглашения Панчен-богдо (Панчен-ламы) в Монголию и предоставления ему в стране временного убежища — идея, за которую особенно ратовал Цыбен Жамцарано (бурят-эмигрант, возглавлявший Ученый Комитет в правительстве МНР). В декабре П. М. Никифоров сообщал Г. В. Чичерину:
«Нужно полагать, что дальнейшее пребывание Богдо в Китае может иметь для нашей политики во Внутренней и даже Внешней Монголии нежелательные последствия: Панчен Богдо может быть легко использован Японией в своих интересах, взамен предоставления Панчен Богдо средств для его дальнейшего благочестивого существования. Этот вопрос меня давно заботил, но я его не поднимал, пока он не выявил своего угрожающего состояния. <…> Я полагаю, что настало время установить по отношению к Богдо активное отношение с нашей стороны. Считаю, что его необходимо возможно скорее изъять из обихода японской и английской политики совершенно.
По некоторым справкам, уже настало время Панчену Богдо вернуться в Тибет и Далай-лама весьма этого хочет. Нужно полагать, что вынужденная изоляция Богдо от Тибета вызывает политическую тревогу Далай-ламы. Негласный представитель Далай-ламы в Улан-Баторе намекнул мне, что очень плохо, если Панчен Богдо не сумеет скоро вернуться в Тибет, что ему в Китае очень тяжело, и что он сам хочет вернуться, но ему в этом мешают китайцы.
Я полагаю, что может быть нам пора вмешаться в это дело в смысле содействия возвращению Панчена Богдо в Тибет и, если нужно, то помочь ему бежать из Китая»[485].
Свой замысел П. М. Никифоров непосредственно увязывал с планами Н. К. Рериха, хотя и не вполне был уверен в политической лояльности последнего. («Я полагаю, что Рерих на кого-то работает, что я пытаюсь сейчас выяснить…») Какой ответ П. М. Никифорову дал Г. В. Чичерин неизвестно. Мы знаем только, что попытки Н. К. Рериха «вытащить» Панчен-ламу в Монголию не увенчались успехом. Хотя Панчен-лама действительно помышлял о возвращении в Тибет и даже предпринял для этого некоторые шаги. Так, весной 1927 г. он отправил большой караван через Алашань-ямынь в монастырь Кумбум в Амдо (в восточном Тибете)[486]. (Н. К. Рерих узнал об этом в самом конце августа уже находясь в Цайдаме — на пол-пути в Лхасу, и эта новость необычайно обрадовала его.) Таким образом, Рерих был вынужден внести коррективы в свои планы.
Поскольку «поход» Панчены-ламы на Лхасу задерживался по срокам (но не отменялся в принципе!), он ограничивает свою миссию переговорами с Далай-ламой о воссоединении восточных и западных буддистов под его (Далай-ламы) высоким началом[487]. Но зачем ему такое «воссоединение»? Ведь еще недавно Н. К. Рерих относился к Лхасе и царящим там порядкам довольно негативно и даже собирался низвергать буддийского первосвященника — с помощью Панчен-ламы. Вероятнее всего, он хотел побудить Далай-ламу к реформированию тибетского буддизма (ламаизма) — в том духе, как это происходило в 1920-е гг. в СССР (в Бурятии и Калмыкии) под руководством Агвана Доржиева, что должно было бы привести к сближению коммунизма и буддизма. В случае его отказа Н. К. Рерих собирался провозгласить себя главой западных буддистов — Западным Далай Ламой, при этом его ни чуть не смущало то, что в действительности он представлял лишь горстку своих последователей в Нью-Йорке — членов буддо-теософского кружка («ложи»), созданного им в 1923 г. в стенах своего художественного музея. (С теологической точки зрения такой шаг оправдывался тем, что тибетские ламы фактически признали его воплощением Далай Ламы.)
Тибетское путешествие Рериха началось 13 апреля 1927 г. Несмотря на не участие в нем Панчен-ламы, внешне оно весьма напоминало духовное шествие, возглавляемое «Послом западных буддистов», выступавшим под «знаменем Шамбалы» в виде иконы-тангки Майтрейи и звездно-полосатым флагом Северо-Американских Соединенных Штатов. В пути Николай Рерих (или Рета Ригден, согласно выданному ему в Улан-Баторе «тибетскому паспорту») регулярно проводил духовные беседы со своими спутниками, которые по вечерам, во время бивуаков, собирались в палатке Елены Ивановны. В этих спонтанных беседах-проповедях, он, подобно гуру Нового Века, Говорил о грядущей эволюции мира и ближайших «великих судьбах» Азии, о приходе шестой расы духовных людей, о мировой Общине Майтрейи и мировом правительстве Гималайского Братства, об объединении азиатских народов и создании общеазиатского языка, о кооперации, о теории относительности Эйнштейна, об индийской йоге и т. д. Поучения Махатмы Рериха, как правило, сопровождались чтением отрывков из произведений наиболее духовных восточных и западных авторов — Свами Вивекананды, Ауробинда Гхоша, Ромена Роллана. Во время перехода через безлюдную и унылую Цайдамскую равнину путешественники для поднятия духа слушали на маленьком американском граммофоне энергичную музыку Вагнера — любимого композитора Рерихов — «Полет Валькирий» и «Парсифаля». Со своей стороны, Е. И. Рерих, на протяжении всего пути, столь же регулярно общается при помощи Агни-йоги с «Тонким миром» и Учителями, незримо направляющими Посольство Н. К. Рериха в Державу Шамбалы.
В Цайдаме к Рерихам неожиданно присоединился «Далай-ламский караван» тибетца Чимпы (доверенного лица Донира), вышедший из Улан-Батора в конце ноября 1926 г. (т. е. месяц спустя после отъезда монгольского посольства Гомбодчийна-Чапчаева). Из разговора с Чимпой выяснилось, что он в пути тяжело заболел и шедшие вместе с ним буряты-паломники бросили его на произвол судьбы, прихватив с собой большую часть караванного груза, а это в основном были винтовки, закупленные тибетским представительством (лично Дониром)… у советского полпредства в Монголии (!), как об этом свидетельствует секретное донесение монгольского резидента ОГПУ Я. Г. Блюмкина[488]. Некоторое время Чимпа шел вместе с отрядом Н. К. Рериха, развернув желтый (далай-ламский) стяг, однако вскоре Чимпа скончался и Н. К. Рериху пришлось взять на себя труд по доставке «спец. груза» Далай Ламе[489].
Н. К. Рериху, однако, не удалось дойти до Лхасы. Его посольский караван был остановлен тибетцами на подступах к Нагчу, и все попытки Н. К. Рериха добиться разрешения на въезд в священный город оказались тщетными. Простояв около 7 месяцев на Тибетском плато в условиях необычайно суровых зимних холодов и потеряв большую часть караванных животных, Н. К. Рерих отказался от идеи переговоров с «Желтым Папой» и, обойдя Лхасу стороной, вернулся в Индию. Главным виновником случившегося, как мы знаем теперь, был сиккимский резидент Ф. М. Бейли, информировавший тибетское правительство о том, что «профессор Рерих» является «красным русским»[490]. Этого оказалось достаточно, чтобы тибетские власти, и без того напуганные затянувшимся присутствием в Лхасе «красного монгольского посольства», запретили въезд в столицу еще одной группе «подозрительных иностранцев».
К сожалению, многие обстоятельства Рериховской миссии в Тибет до сих пор остаются окутанными тайной. Нам неизвестны подробности переговоров Н. К. Рериха с руководителями Наркоминдела и ОГПУ летом 1926 г., равно как и его переписка с Г. В. Чичериным и Б. Н. Мельниковым (главой ОДВ НКИД) по приезде в Улан-Батор. Не знаем мы и того, какие инструкции были даны в ОГПУ Я. Г. Блюмкину в связи с экспедицией Н. К. Рериха. Из собственных показаний Я. Г. Блюмкина после его ареста в 1929 г. известно лишь, что он имел какие-то «резидентские задания» в ряде стран, в том числе во Внутренней Монголии и Тибете, на весну — осень 1927 г.[491] Не менее загадочными представляются и возможные контакты Н. К. Рериха с Панчен-ламой или кем-то из его доверенных лиц перед началом экспедиции.
Сохранилось любопытное свидетельство Ю. Л. Кроля о поездке Н. К. Рериха в Пекин и встрече там с Б. И. Панкратовым, в то время служившим переводчиком в советском полпредстве в Китае (впоследствии крупным ученым-синологом). «Познакомились они в 1927–28 гг.», сообщает Ю. Л. Кроль. «Н. К. прибыл в Пекин с границ Тибета, куда попал, проехав по Монголии через Ургу. Художник хотел въехать в Тибет как 25-й князь Шамбалы, о котором говорили, что он придет с Севера, принесет спасение всему миру и станет царем света. Носил он по этому случаю парадное ламское одеяние»[492]. Ю. Л. Кроль, рассказавший эту историю со слов своего учителя Б. И. Панкратова, однако, ошибается в датировке, поскольку Н. К. Рерих после окончания Тибетской экспедиции, Пекин не посещал. Но в таком случае остается предположить, что поездка имела место осенью 1926 г., когда Панчен-лама еще находился в китайской столице, поскольку позднее он переехал в Мукден. Свободно владевший китайским и тибетским языками Б. И. Панкратов вполне мог выступить в роли посредника между буддийским иерархом и Н. К. Рерихом и одновременно контролера последнего.
Главный итог беспрецедентной буддийской миссии для Н. К. Рериха — полное разочарование в Тибете как духовной метрополии Северного буддизма и «удаление» с его территории священного Гималайского Братства. А также разочарование Москвой, не принявшей судьбоносных предначертаний махатм. В 1929 г. Рерих утратил свои концессионные права в СССР, однако не отказался от идеи строительства «Новой Страны». Правда, ему пришлось перенести сроки наступления золотого века Шамбалы с 1927 на 1936 г., но теперь для осуществления Великого Плана он будет искать покровительства и поддержки другой великой державы Запада — Соединенных Штатов Америки.
7. Последние попытки привлечь Далай-ламу на советскую сторону
Неудача, постигшая в 1927 г. обе Тибетские миссии — Гомбодчийна-Чапчаева и Рериха, — как кажется, ничуть не обескуражила советских руководителей. В следующем году Москва наметила еще одну акцию по оказанию воздействия на несговорчивого Далай Ламу с помощью лояльных режиму лам-обновленцев, последователей реформаторского (обновленческого) движения бурятского и калмыцкого духовенства. Составленная из них делегация под руководством главы бурятской буддийской церкви бандида хамбо-ламы Данжи Мункужапова намеревалась отправиться в Лхасу в октябре 1928 г., после проведения очередных буддийских соборов в Калмыкии (в июле) и в Бурят-Монголии (в августе), имея на руках соответствующие их постановления. Идея посещения Лхасы советской религиозной миссией по сути принадлежала самим буддистам — лидерам обновленцев А. Доржиеву и Ш. Тепкину, впервые высказавшим ее еще в начале-1927 г. в связи с состоявшимся в Москве 1-м Всесоюзным Буддийским Собором. Правда, оба они, втайне от советских властей, связывали с этим визитом совсем иные надежды. Вот как об этом впоследствии рассказывал Ш. Тепкин: «В 1927 г. после Всесоюзного Собора буддистов в Москве, решением которого было ограничение возрастной нормы при приеме в духовенство — с 18 лет, а не с 7 лет, как это было до этого, мы подняли вопрос о посылке делегации в Тибет к Далай-Ламе для религиозной связи. Ставя формально этот вопрос перед НКИД таким образом, что делегация наряду с установлением религиозной связи с Далай-Ламой будет информировать последнего о свободе и процветании буддийской религии при Советской власти, что было отмечено в обращении, принятом Собором, фактически же мы имели в виду еще тогда рассказать Далай Ламе о начавшемся нажиме Советской власти на нашу религию, и как результат этого нажима — ограничение нормы для духовенства. НКИД тогда дал согласие на посылку делегации в Тибет, в связи с чем как в Бурятии, так и в Калмобласти проводилась большая подготовительная работа, собирались средства, была закуплена парча для подарков и т. д.»[493].
Это свидетельство Ш. Тепкина красноречиво говорит о том, что обновленцы перестали быть послушными исполнителями замыслов Москвы и пытались, еще в 1927 г., установить свой собственный канал связи с Лхасой, по примеру лам-консерваторов. С другой стороны, оно может служить косвенным подтверждением рассказа Кхенчунга о «секретном письме» А. Доржиева Далай-ламе, имевшем негативные последствия для монгольской миссии.
Решение о посылке буддийской делегации в Лхасу, принятое 27 февраля 1928 г. антирелигиозной комиссией ЦК ВКП(б), возглавляемой Е. М. Ярославским, произошло еще до возвращения А. Ч. Чапчаева в Москву. Четыре месяца спустя (29 июня) группа советских руководителей: Е. М. Ярославский, П. Г. Смидович, М. А. Трилиссер и Л. М. Карахан — направила письмо генеральному секретарю ВКП(б) И. В. Сталину, в котором информировала его о намеченной поездке буддистов в Тибет и запрашивала на ее организацию необходимые средства в 50 тысяч рублей. Основная цель этой новой «тибетской экспедиции» формулировалась как «контрвоздействие на Лхасу через буддистов-обновленцев, возглавляемых Доржиевым», для устранения последствий «систематической отрицательной обработки» тибетского религиозного центра «реакционным» бурятско-калмыцким ламством[494]. Обновленцам предстояло убедить Далай-ламу в том, что буддисты в СССР не испытывают каких-либо притеснений со стороны властей, на что постоянно жаловались посещавшие Лхасу ламы-консерваторы — противники церковных реформ. «Необходимость установления более крепкой связи обновленческого движения среди наших буддистов с Далай-Ламой, именно с целью подкрепления обновленцев авторитетом последнего, — говорилось в письме, — диктуется еще и тем обстоятельством, что в Мукдене, в сфере японского воздействия, последнее время живет бежавший из Тибета антагонист Далай-Ламы, Банчен-Богдо, первое после Далай-Ламы лицо в буддийском мире по значению. Китайская реакция в лице Чжан-Цзолиновской клики и японцы успешно используют имя Банчена во Внутренней Монголии, а также все время пытаются завязать через него связи с ламством Внешней Монголии и СССР. Теперь эта последняя работа, конечно, еще более усилится, в связи с чем нужно поспешить с принятием соответствующих контрмер»[495]. В состав делегации предполагалось также включить несколько представителей НКИД и ОГПУ — «надежных наших работников» — для контроля за рациональным использованием средств и для ведения в Тибете «соответствующей политической разведки»[496].
19 июля 1928 г. Политбюро ЦК, заслушав на своем заседании сообщение Л. М. Карахана по вопросу о посылке буддийской делегации в Тибет, вынесло решение: «принять предложение Наркоминдела»[497].
Летом того же года, очевидно в связи с предстоящей поездкой в Лхасу делегации советских буддистов, Восточный отдел ОГПУ составил аналитическую записку «О буддийских районах». В ней давалась оценка политической ситуации в странах буддийского Востока: в двух Монголиях (Внешней и Внутренней), Бурятии и Тибете. Основной акцент в записке делался на опасности, которую представляла для СССР и МНР консолидация всех контрреволюционных элементов на территории Внутренней Монголии, при активной поддержке Японии и ее ставленника в Северном Китае, генерала Чжан Цзолина[498].
Здесь необходимо отметить, что обострение военно-политической обстановки на Дальнем Востоке, приведшее летом 1929 г. к вооруженному конфликту на КВЖД, внушало большое беспокойство советскому руководству. Еще в декабре 1927 г., выступая на XV съезде. партии, И. В. Сталин заявил, что одним из основных факторов международного положения является «усиление интервенционистских тенденций в лагере империалистов и угроза войны»[499]. Рост военной опасности, хотя и явно преувеличенный И. В. Сталиным, побудил ОГПУ, так же, как и штаб РККА, приступить в эти годы к разработке подготовительных мероприятий на случай войны на восточных границах СССР, прежде всего в отношении таких стран, как Персия и Афганистан, где столкновение с англичанами казалось неизбежным[500]. Подобные же мероприятия, по-видимому, разрабатывались и в отношении Тибета. Так, в уже упоминавшейся записке «Военное дело в Тибете», составленной по результатам экспедиции А. Ч. Чапчаева предположительно летом 1928 г., рассматривалась возможность «действия европейских войск» на Тибетском плато с северного направления (раздел «Оценка тибетского театра»). «Переход через горы с севера легче [чем переход через Гималаи с юга], хотя воду и корм для верблюдов там можно находить во всякое время года, — утверждал советский военный аналитик. — Крутизна карнизов, скал, и ущелий на юге и востоке много больше, чем на севере. Запад Тибета, пожалуй, является не менее трудным для доступа, чем юг и юго-восток. По мнению источника (очевидно, М. Т. Бимбаева — А. А.), войска, сосредоточенные к северу от Тибета, могли бы двигаться крупной массой и, вероятно, достигли бы столицы без сопротивления»[501]. О каких европейских войсках «к северу от Тибета» могла идти речь в документе, если не о советских?!
ВО ОГПУ в своей записке также уделял большое внимание Тибету. Анализируя политическую ситуацию в стране, составитель записки помощник начальника Восточного отдела X. С. Петросьян отмечал, что «основные слои населения и ламства настроены против англичан». Недавние события в Лхасе — разгром англофилов, — с его точки зрения, указывали на «начало решительного отмежевания Далай Ламы и его сторонников от влияния англичан». В то же время X. С. Петросьян констатировал изменения в отношениях Далай-ламы и большинства тибетского населения к СССР и МНР:
«Большие сдвиги в отношении к СССР наблюдаются в настоящее время в связи с разгромом… англофильской военной группировки.
Насколько Далай-лама благоприятно относится к СССР и МНР, видно из его писем на имя хамбо Агван Доржиева, в которых он выражает согласие на заключение договора о предоставлении им (тибетцам — А. А.) оружия и пороха, создания промежуточных (почтовых) станций между МНР и Тибетом и выражает свое удовлетворение по поводу непритеснения буддийской религии в СССР»[502].
Письма Далай-ламы А. Доржиеву — адресованные фактически советскому правительству, — посланные с А. Ч. Чапчаевым в конце 1927 г., очевидно, ввели в заблуждение и в большой степени дезориентировали советское руководство. В действительности СССР вызывал у Далай-ламы и его окружения отнюдь не симпатии, но откровенный страх. Подобное заблуждение, однако, позволило X. С. Петросьяну далее сделать следующий прогноз:
«Учитывая заинтересованность Англии в Тибете, нужно предположить, что усиление симпатий Тибета к СССР может повести к усилению агрессивности англичан в Тибете, вплоть до возможной постановки вопроса об аннексировании его — в этом отношении усиленная обработка англичанами Панчен Богдо — противопоставление его Далай Ламе, говорит за некоторую вероятность английского плана аннексирования Тибета»[503].
Отношение самой Москвы к Панчен-ламе на этот момент можно характеризовать как неопределенное. С одной стороны, имелся ряд фактов, таких, как отказ Панчена от участия в паназиатской конференции, в съездах князей Внешней Монголии, и в то же время его «исключительное внимание к советскому представителю в Китае», позволявших ОГПУ утверждать, что «Панчен не является англофилом, что, наоборот, симпатии его направлены к СССР и что только условия, в которые Панчен-Богдо поставлен, не дают ему возможности декларировать свое отношение к СССР». С другой стороны, ОГПУ располагало сведениями, что Панчен-лама собирался совершить поездку в Долоннор, находившийся неподалеку от границы с МНР. Эти сведения вызывали определенную тревогу, поскольку на границе против Долоннора проживали «реакционные монгольские князья», такие, как Югодзер Хутухта, и «реакционное ламство», которые, как полагал Петросьян, попытались бы использовать его приезд «для усиления борьбы с МНР, а через нее и с нами»[504].
В заключительной части записки содержались предложения ОГПУ конкретно по каждой из буддийских стран. В отношении Тибета главной задачей, как и два года назад, являлось установление «постоянной связи с Далай-ламой», для чего предполагалось «учредить» при нем «неофициального информатора» из числа участников буддийской делегации или же послать в Лхасу «специального человека» — инструктора по пороховому делу[505]. X. С. Петросьяном намечались и другие мероприятия с целью сближения СССР и Тибета, которые в основном повторяли пункты тибетской программы А. Ч. Чапчаева, такие, как учреждение советского представительства (торгагенства) в Ланьчжоу-фу, обучение тибетской молодежи в советских учебных заведениях, создание цепочки почтовых станций от Юмбейсе до Лхасы. В отдельном разделе давались рекомендации относительно Панчен-ламы. Здесь ОГПУ в первую очередь считало необходимым выявить отношение высокого буддийского иерарха к СССР. Для этого, по мнению X. С. Петросьяна, к свите Панчена следовало приставить осведомителя — одного из просоветски настроенных авторитетных монгольских лам или князей[506].
Осенью 1928 г., на заключительном этапе формирования делегации и подготовки ее к отъезду, однако, неожиданно возникли серьезные финансовые трудности. 29 сентября заместитель председателя СНК СССР и СТО Я. Э. Рудзутак направил в Политбюро записку:
«По сообщению НКФ СССР, НКИД, ссылаясь на решение Политбюро от 19/7 с. г., просит отпустить 50 000 р. (из них 15 000 в инвалюте) на организацию поездки спец. делегации в Тибет.
Ввиду тяжелого положения с инвалютой прошу пересмотреть Ваше решение в том смысле, чтобы на год отложить эту поездку в Тибет»[507].
Политбюро еще трижды возвращалось к вопросу о буддийской делегации — в заседаниях от 4, 11 и 18 октября (докладывали его соответственно Литвинов, Карахан и Карахан и Менжинский). Окончательное решение гласило: «Считать целесообразным отложить поездку делегации в Тибет. В крайнем случае, если это окажется совершенно невозможным, поручить тт. Менжинскому и Карахану войти в Политбюро с докладом»[508]. Но такой необходимости не возникло, и потому поездку, с согласия руководства НКИД и ОГПУ, отложили до весны 1929 г. Представителям же буддистов (А. Доржиеву и Ш. Тепкину) пересмотр решения объяснили внешними обстоятельствами — чумой в Монголии и волнениями в Китае, делавшими опасным проезд делегации по территории этих стран. Но, возможно, главная причина была в другом: НКИД и ОГПУ в конце концов стало известно о «двойной игре» А. Доржиева и Ш. Тепкина.
Такой поворот событий, однако, не устраивал лидеров обновленцев, являвшихся одновременно и представителями Тибета в СССР. Согласно показаниям Ш. Тепкина, А. Доржиев, получив отрицательный ответ из НКИД, предпринял в конце 1928 г. шаги к отправке в Тибет нелегально трех калмыков, первоначально включенных в состав буддийской делегации: Черека Очирова, Арабсала Санджиева и Бадму Амулангова — которым поручалось информировать Далай-ламу о действительном положении советских буддистов. Но в Улан-Баторе монгольские власти арестовали его эмиссаров. (А. Доржиеву, впрочем, удалось добиться их освобождения и возвращения в Калмыкию.)
В конце 1928 г., как рассказывал Ш. Тепкин, А. Доржиев получил письмо из Лхасы от бурята Демба — «учащегося в Тибете и одновременно исполняющего обязанности переводчика при Далай Ламе». В этом письме Демба сообщал, что «Далай Лама высказал желание для поддержания связей с буддистами, находящимися в СССР, и Советским правительством видеть человека, уполномоченного на это из России»[509]. С этим письмом А. Доржиев и Ш. Тепкин вновь обратились в НКИД к Л. М. Карахану, ходатайствуя о разрешении послать в Тибет по крайней мере одного человека в качестве представителя советских буддистов. Л. М. Карахан, однако, их просьбу отклонил, мотивируя это тем, что «едва ли будет целесообразным посылать человека теперь зимой, лучше всего и целесообразней этот вопрос отложить до весны 1929»[510].
В дальнейшем, в 1929–1930 гг., А. Доржиев и Ш. Тепкин неоднократно обращались в НКИД с той же просьбой, но всякий раз, под тем или иным предлогом, получали отказ. Не добились они удовлетворительного ответа и на свое ходатайство во ВЦИК о пересмотре «возрастной нормы» для хувараков (подавалось дважды: летом 1928 г. ив январе 1929 г.). По всей видимости, в Москве в конце концов оставили идею «воздействия» на Далай-ламу через лам-обновленцев, тем более, что само обновленческое движение практически сошло на нет на рубеже 1930-х.
Отказавшись от посылки к Далай-ламе буддийской делегации или по крайней мере одного делегата от лам-обновленцев, Москва тем временем отправила в Лхасу своего человека. По сведениям британской разведки, осенью 1928 г. в столице Тибета появился новый советский агент — бурят по имени По-ло-те или Кухи-чи-та[511], также известный среди лхасцев под прозвищами «Бурятский нойон» и «Толстый монгол». Очевидно, речь идет о Булате Мухарайне, имевшем довольно тучную фигуру (П. К. Козлов в путевом дневнике своей последней экспедиции называет его «толстый Мухрайн»). Последний по возвращении из Лхасы осел в Улан-Баторе, где устроился на службу в каком-то монгольском учреждении и в то же время поддерживал тесные контакты с советским полпредством. В июле 1926 г. П. М. Никифоров отправил Б. Мухарайна на разведку для обследования торгового, главным образом шерстяного, рынка в районе Кукунора-Цайдама[512]. Из поездки Б. Мухарайн вернулся в мае 1927 г. Вполне возможно, что позднее — в 1928 г., — когда НКИД стало известно, что Далай-лама не будет возражать против советских торговых операций на территории Тибета, бурята решили отправить с тем же заданием в Лхасу, где он пробыл, если верить британской разведке, до 21 февраля 1930 г., т. е. почти полтора года(!). О результатах его поездки нам ничего не известно. По донесениям же сиккимского резидента Дж. Л. Уиера, По-ло-те неоднократно встречался с Далай-ламой и, как кажется, сумел произвести на него благоприятное впечатление. Он также нанес ряд визитов тибетским сановникам, но особенно часто По-ло-те видели в Дрепунгском монастыре, где проживал его помощник, монгол по имени Цультим[513]. Одним из главных информаторов Дж. Л. Уиера являлся Хан Сахиб Файзула, глава ладакских торговцев в Лхасе, с которым Б. Мухарайн, очевидно, также свел знакомство.
Здесь важно отметить, что успех советской политики в Тибете П. М. Никифоров связывал прежде всего с установлением взаимовыгодных торгово-экономических отношений между двумя странами. В 1929 г., уже в качестве председателя Госплана в Средней Азии, он задумал организовать научно-торговую экспедицию в Тибет для обследования сырьевых, преимущественно шерстяных, районов в северо-западной и центральной части страны (шерсть была основной статьей тибетского экспорта). Кроме этого, экспедиции предстояло заняться поиском доступных автомобильных путей между Западным Китаем и Лхасой, географическим и геологическим обследованием малоизученных областей Тибета, а также «наброской возможных воздушных путей»[514]. (Идея воздушного сообщения между Улан-Батором и Лхасой особенно занимала в эти годы П. К. Козлова, который даже собирался отправиться в Тибет на дирижабле!)[515] Все прежние русские научные экспедиции в Тибет, включая экспедиции Пржевальского, Цыбикова и Козлова, П. М. Никифоров оценивал весьма негативно, поскольку, с его точки зрения, они не уделяли достаточного внимания экономике страны. «Экономика у наших исследователей всегда была на последнем месте, — писал он в проекте докладной записки по организации новой тибетской экспедиции, — и поэтому в отношении познания Тибета мы оказались совершенно разоруженными, что указывает [на то], что наши связи с Тибетом до сих пор не имеют маломальских реальных оснований»[516]. П. М. Никифоров также отмечал плохую изученность путей в Тибет: «мы ничего не знаем, может ли быть применен автомобиль для передвижения по Тибету, возможно ли устройство бензиновых баз и т. д.». Недостаточными, по его мнению, являлись и сведения о географии Тибета.
«Единственно правильной и реальной связью нашей с Тибетом, — писал П. М. Никифоров в проекте докладной записки по организации экспедиции, — может служить установление неофициальной, на первых порах, торговой связи с тибетским рынком, т. е. необходимо под фирмой частных лиц, купцов начать проникновение с нашими товарами на тибетский рынок. На основании заявления Далай Ламы нашему агенту Чапчаеву нужно полагать, что наши торговые операции встретят в Тибете со стороны тибетского правительства благоприятное отношение…»[517].
Что мы могли бы вывозить из Тибета? — спрашивал П. М. Никифоров. Это прежде всего всевозможные виды сырья — шерсть, ячью кожу и волосы, лучшие «сорта» золота индийского национального банка, тибетские мерлушки и в большом количестве пушнину — таких животных как сурок, тигр, волк, лисица, леопард, дикая кошка, рысь. При этом пушнину в Тибете можно закупать по гораздо более низкой цене, чем в Монголии[518]. Что же касается советского импорта в Тибет, то среди «товаров», наиболее необходимых тибетцам, П. М. Никифоров называет слитковое золото и серебро, выделанную кожу, парчу и шелк, карманные часы, перочинные ножи, разноцветные камни и, конечно же, русское стрелковое оружие — винтовки, револьверы, наганы, браунинги с боеприпасами[519].
Говоря об организации торговых операций в Тибете, П. М. Никифоров предлагал использовать в этих целях прежде всего буддистов-паломников. По его оценке — заметим, весьма завышенной, — ежегодно из СССР и МНР в Тибет прибывало около 10 тысяч богомольцев — некоторые из них оставались там на всю жизнь, другие жили годами, однако большая масса паломников, поклонившись святыням, возвращалась на родину. «Если бы этот фактор реализовать, он несомненно послужил бы могучим орудием нашего влияния в Тибете. <…> Использовать же эту массу людей можно в качестве торгово-заготовительного аппарата и пропагандиста среди тибетцев в развитии торговых отношений с ними», — писал он[520].
К посылке новых дипломатических экспедиций в Тибет П. М. Никифоров относился отрицательно, поскольку предшествующие визиты в Лхасу «секретных политических агентов» С. С. Борисова и А. Ч. Чапчаева практических результатов не дали. Единственным достижением этих поездок он считал «заявление» Далай-ламы А. Ч. Чапчаеву, позволявшее СССР завязать торговые отношения с Тибетом.
22 сентября 1929 г. П. М. Никифоров подал в Политбюро докладную записку по тибетскому вопросу, в которой призывал руководителей советского государства активизировать политику в Тибете:
«Я считаю, что настало время отказаться нам от политики сохранения „равновесия“ в Тибете и что пора перейти к политике активной, тем более, что Англия равновесие это фактически давно нарушила. Для нашей активности в Тибете имеется большое поле: сырьевые рынки обладают достаточной мощностью и несомненно представляют для нас даже с экономической точки зрения огромный интерес»[521].
Экономическое проникновение в Тибет П. М. Никифоров предлагал совершить с территории провинции Ганьсу, изолированной от иностранного влияния как со стороны Центрального Китая, так и со стороны Британской Индии, и в то же время открытой «для наших торговых и политических, в настоящее время нелегальных, а в дальнейшем полулегальных и легальных мероприятий». Обосновавшись в Ганьсу, «мы уже сравнительно легко можем оттуда распространять наше регулярное влияние и на Тибет, к его сырьевым рынкам, где мы должны во что бы то ни стало экономически закрепиться». При этом П. М. Никифоров был убежден, что «наши враги», т. е. англичане, «не могут оказать нам достаточного сопротивления, ни политического, ни экономического». Такая политика, с одной стороны, способствовала укреплению связи СССР с Китаем, но в то же время она преследовала и уже известные геостратегические цели: «Закрепившись в Тибете, — утверждал он, — мы будем обладать такой позицией в Центральной Азии, откуда нам всего легче вести наблюдение за колониальной деятельностью Англии и откуда мы можем с помощью нашего бурятского ламства проникнуть в приграничные с Тибетом английские владения»[522].
Предложения П. М. Никифорова, однако, не получили поддержки в Политбюро. Таким образом, поездка Б. Мухарайна в Тибет (если она действительно состоялась) явилась последним контактом Москвы с Лхасой. На этом отношения между двумя странами окончательно прерываются. Основной причиной, приведшей к свертыванию советско-тибетского диалога, вероятно, следует признать радикальные изменения во внутренней политике СССР, прежде всего переход к форсированной коллективизации, следствием которой стали массовые репрессии властей против бурятского и калмыцкого буддийского духовенства в 1930–1931 гг., в частности, арест ряда лиц, лично известных Далай-ламе, таких, как Ш. Тепкин, Г. Саперов, Д. Мункужапов. В то же время оставался нерешенным вопрос, крайне беспокоивший Далай-ламу и А. Доржиева, — о возрастном цензе для бурят и калмыков, стремившихся получить религиозное образование.
Другой причиной была, по-видимому, смена внешнеполитического курса страны. В 1930 г. ушел в отставку «ленинский нарком» Г. В. Чичерин, долгие годы придерживавшийся ориентации на Германию, и во главе НКИД становится его давнишний соперник М. М. Литвинов, сторонник сближения СССР с Англией, Францией и США[523]. М. М. Литвинов фактически руководил НКИД уже с 1928 г., когда Г. В. Чичерин уехал на лечение в Германию. В связи с курсом на улучшение англо-советских отношений Москве пришлось отказаться от активной политики в Тибете.
Наконец, следует отметить еще одну причину — поражение китайской революции. «Контрреволюционный» переворот Чан Кайши в апреле 1927 г. разрушил надежды Кремля на приход революции из Китая в Тибет. В дальнейшем, в начале 1930-х, нанкинское (чанкайшистское) правительство добилось определенных успехов в попытке завязать дружественный диалог с Лхасой, что практически оставляло Москве, предавшей анафеме своего недавнего друга Чан Кайши, мало шансов.
Несмотря на изменившиеся внешнеполитические приоритеты, в Восточном отделе НКИД — так же, как, вероятно, и в ВО ОГПУ и Разведупре Штаба РККА, — продолжали пристально следить за развитием ситуации в Тибете и вокруг него. Смерть Далай-ламы в конце 1933 г. неожиданно вызвала новый всплеск интереса у советского руководства к этой стране. В «Известиях» и «Правде» появились интригующие сообщения, в которых со ссылкой на китайскую прессу говорилось, например, о решении тибетского правительства передать верховную власть в стране Панчен-ламе, о намерении последнего вернуться в Тибет при условии, если нанкинские власти предоставят ему военный эскорт, а также о «новых интригах» Британии, якобы отправившей в Лхасу своего прежнего агента Ч. Белла[524]. Ч. Белл действительно побывал в Тибете летом 1934 г. Однако новое тибетское правительство не допустило его в Лхасу, желая тем самым показать, что оно не стремится возобновлять прежние отношения с англичанами. В то же время тибетскую столицу в 1934 г. посетила китайская делегация генерала Хуан Мусонга, отправленная Чан Кайши формально для выражения соболезнования тибетцам, но фактически для налаживания отношений с Лхасой.
Москва реагировала на эти сообщения довольно сдержанно, очевидно, осознав бесперспективность дальнейшей борьбы с Лондоном за влияние в Тибете. Сам же Далай-лама, насколько известно, вплоть до своей кончины не предпринимал попыток реанимировать прервавшийся диалог с СССР. В своем политическом завещании, составленном в 1932–1933 гг., он с нескрываемой неприязнью писал о «красной идеологии», приведшей к полному уничтожению буддизма во Внешней Монголии, называя ее «худшим из пяти видов упадка, присущих нашему времени»[525].
Эпилог
Несмотря на утрату советским руководством интереса к Тибету, неутомимый А. Доржиев в начале 1930-х продолжал добиваться от НКИД согласия на посылку в Лхасу представителя буддийского духовенства для поддержания религиозных связей с Далай-ламой. Он был убежден, что глава Тибета, если ему станет известно о тяжелом положении буддистов в СССР — о закрытии дацанов и хурулов и арестах лам в Бурят-Монголии и Калмыкии, смог бы повлиять на советское правительство, направив Кремлю «соответствующее письмо протеста». В этой связи представляет интерес рассказ Ш. Тепкина о последней из таких попыток. В конце марта 1931 г. Ш. Тепкин (с 1926 г. являлся главой буддийской церкви в Калмыкии) по просьбе А. Доржиева приехал в Ленинград. От А. Доржиева он узнал, что тот вместе с управделами тибето-монгольской миссии Жамсарановым недавно ездил в Москву, в НКИД, где встречался в Восточном отделе и беседовал с С. С. Борисовым. Довольно неожиданно С. С. Борисов заявил «тибетскому полпреду» о целесообразности посылки в настоящее время в Тибет советского представителя, обосновав это отсутствием в течение длительного периода связи с Тибетом, и просил его рекомендовать какого-либо «надежного во всех отношениях» человека, который взялся бы выполнить такое поручение. А. Доржиев посоветовал послать Ш. Тепкина, на что С. С. Борисов ответил, что «этот вопрос мы обсудим и в ближайшее время разрешим»[526].
Здесь, однако, возникает вопрос: действительно ли НКИД собирался весной 1931 г. — в разгар репрессий против буддистов — отправлять кого-либо в Тибет «для связи с Далай-Ламой»? Едва ли. Но в таком случае инициатива НКИД приобретает характер какой-то непостижимой для нас интриги. История эта, однако, имела продолжение. В мае 1931 г., не дождавшись ответа от С. С. Борисова, А. Доржиев вместе с Ш. Тепкиным выехали в Москву в НКИД. Здесь на этот раз их уже принял не С. С. Борисов, а замещавший его В. Д. Королев, старший референт по Монголии (тот самый В. Д. Королев, который некогда состоял членом «Единого Трудового Братства» А. В. Барченко). Он объяснил «тибетским представителям», что С. С. Борисов болен, поэтому вопрос о посылке в Тибет к Далай-ламе делегата от советских буддистов придется отложить до его выздоровления. Тогда А. Доржиев попросил разрешение на выезд в Калмыкию на лечение, где он и хотел дожидаться нового вызова в НКИД. В. Д. Королев обещал переговорить об этом с Л. М. Караханом и просил Ш. Тепкина зайти к нему позднее за ответом. В тот же день Ш. Тепкин вновь посетил НКИД, где В. Д. Королев передал ему ответ Л. М. Карахана: против поездки А. Доржиева на курорт для лечения он не возражает, однако просит его воздерживаться от публичных проповедей.
Воспользовавшись случаем, Ш. Тепкин обратился к В. Д. Королеву с просьбой продлить ему мандат заместителя представителя Тибета в СССР. В. Д. Королев принял документ и сказал, что сообщит о его просьбе Л. М. Карахану. После чего Ш. Тепкин вместе с А. Доржиевым отправились в Калмыкию. Но уже вскоре духовный глава калмыцкого народа вынужден был вернуться в Москву.
«Явившись в НКИД к Королеву, я объяснил ему, что прибыл за своим документом, т. к. в КАО (Калмыцкой автономной области — А. А.) отмечаются аресты некоторых лиц из духовенства, в связи с чем опасаюсь, как бы не получилось какого-либо недоразумения в отношении меня. Он сказал, что доложит Карахану и в конце дня даст мне ответ. После он передал, что Карахан ответил, что нет надобности в выдаче этого документа. Я был подавлен этим обстоятельством, т. к. почувствовал, что меня ожидает арест», — заявил Ш. Тепкин следователю во время допроса[527].
Предчувствия не обманули Ш. Тепкина — его арестовали по возвращении в Калмыкию 18 июня 1931 г. 2 декабря того же года в судебном заседании коллегии ОГПУ Ш. Тепкина приговорили к высшей мере наказания, которую затем заменили десятью годами концлагеря[528]. А в 1932 г. при переходе советско-монгольской границы была задержана еще одна тайная делегация А. Доржиева к Далай-ламе, состоявшая из 6 человек — троих бурят (ламы Эгитуевского дацана) и троих калмыков[529].
Активность А. Доржиева не могла не раздражать Москву, особенно его публичные проповеди в дацанах, по которым он много разъезжал в начале 1930-х, и тесные связи с «контрреволюционным» бурятским и калмыцким духовенством. Уже во время упоминавшегося выше посещения НКИД в феврале 1931 г. А. Доржиев имел довольно неприятный разговор с С. С. Борисовым. Согласно показанию Д. Жамсаранова (арестован в Ленинграде в январе 1937 г.), С. С. Борисов заявил А. Доржиеву, что «он переходит рамки, установленные для дипломатов, и занимается восстановлением населения Бурятии против Советской власти и что в связи с этим ему предлагается переехать на постоянное место жительства в Ленинград»[530]. Это сообщение отчасти подтвердил в своих показаниях Тепкин: «(Борисов) говорил, что мы в СССР строим социализм, в связи с чем идет обострение классовой борьбы. Вам я советую во избежание нежелательных последствий не вмешиваться в наши внутренние дела и прекратить всякую агитацию»[531]. Правда, Ш. Тепкин ничего не говорит о «дипломатической ссылке» А. Доржиева. Напротив, согласно его показанию, А. Доржиев после своего первого визита в НКИД в феврале 1931 г. уехал в Бурятию, откуда и вызвал его телеграммой в Ленинград, из чего можно заключить, что он по-прежнему пользовался свободой передвижения.
Как бы то ни было, в начале 1930-х над головой тибетского представителя уже стали сгущаться тучи. А в 1934 г. (вскоре после смерти Далай-ламы) прогремел первый гром: во время очередного приезда в Москву А. Доржиев был арестован ОГПУ. Однако уже через три недели его освободили, по-видимому, после вмешательства НКИД. Никаких конкретных обвинений ему предъявлено не было. Возможно, А. Доржиева просто хотели припугнуть. В архиве МИД (АВП РФ) хранится интересный документ — «Справка об А. Доржиеве» (предположительно составлена в 1934 г.), в которой дается достаточно позитивная оценка как дипломатической деятельности А. Доржиева, так и его личным качествам:
«Агван Доржиев — бурят, около 30 лет проживший в Лхасе, воспитатель недавно умершего Далай-ламы, — прошедший все ступени ламской иерархической лестницы (имеет звание „цанит-хамбо“ — нечто вроде сана митрополита).
В 90-е гг. Агван Доржиев подсказал Далай-ламе и правительству Тибета идею ориентации на Россию на основе формулы: Англия близка и грозит захватом Тибета, Россия территориально далека и потому покуситься на Тибет не сможет, но, в силу своего антагонизма с Англией, будет противодействовать английской экспансии.
В целях реализации этой формулы, Агван Доржиев в конце 90-х гг., к тому времени ставший фактическим диктатором Тибета, дважды ездил в Петербург и даже в Париж, а во время англо-бурской войны, в 1901 г., был официально и демонстративно принят в Ливадии Николаем II во главе тибетского посольства и получил определенные обещания поддержки.
Когда Далай Лама (бежавший в 1904 г., в связи с оккупацией Лхасы англичанами, в Ургу) не получил этой поддержки, вынужден был вернуться в Лхасу и пойти на компромисс с англичанами, Агван Доржиев остался в России, продолжая фигурировать в роли полуофициального представителя Тибета, и лишь время от времени наезжая в Лхасу.
<…> Человек очень большого ума и совершенно исключительной энергии и настойчивости, А. Доржиев в свое время до революции, пользовался среди бурят и калмыков огромным влиянием, остатки которого среди наиболее отсталых слоев, надо отметить, сохранились еще и поныне.
Во время революции Агван Доржиев возглавлял обновленческое движение в среде бурятского и калмыцкого ламства, пытаясь этим путем сохранить влияние последнего на массу и вместе с тем остаться на положении тибетского „полпреда“, хотя прежнее политическое влияние в Тибете он уже потерял, несмотря на все свои попытки поддерживать связь с Далай-Ламой и верхушкой тибетского ламства»[532].
По какому поводу была составлена справка, мы не знаем, но нельзя исключить того, что она имеет какое-то отношение к аресту А. Доржиева в 1934 г. Год спустя власти обрушили репрессии уже на лиц из ближайшего окружения А. Доржиева: в мае 1935 г. в Ленинграде была арестована группа лам, проживавших при буддийском храме под защитой «Тибето-монгольской миссии», как А. Доржиев с 1931 г. называл свое дипломатическое представительство.
В том же 1935-м при загадочных обстоятельствах погиб его заместитель, бурятский лама-«перерожденец», Ганжирвагеген Данзан Норбоев.
Весной 1936 г. дипломатический агент НКИД в Ленинграде Г. И. Вайнштейн, сообщая в Москву о намерении А. Доржиева поехать в Крым на лечение и о его просьбе выдать ему новый мандат, писал: «Было бы также желательно получить ответ на неоднократно поднимавшийся мною перед НКИД вопрос о буддийском храме и о положении Доржиева с его окружающими, которые продолжают по сие время именовать себя „Тибето-Монгольской миссией в СССР“»[533]. Мы не знаем, какие инструкции получил Г. И. Вайнштейн из центра, но крайне беспокоивший его вопрос уже вскоре разрешился сам собой: 1 сентября А. Доржиев передал ему письмо-завещание на имя внучатого племянника, сотрудника Института востоковедения АН СССР С. Д. Дылыкова. Этим шагом он добровольно слагал с себя полномочия «официального представителя» Тибета при Советском правительстве ввиду преклонного возраста[534].
В начале 1937 г., после того как НКВД окончательно ликвидировал Тибето-монгольскую миссию в Ленинграде как «контрреволюционную организацию», А. Доржиев выехал на родину в Забайкалье, в село Ацагат, где рассчитывал провести остаток жизни в молитве и созерцании, как подобает благочестивому буддийскому монаху. Но уже 13 ноября его арестовали как «японского шпиона». А. Доржиев обвинялся по пяти статьям УК РСФСР (58 п. 1а, 2, 8, 9, 11)[535]. На единственном допросе, состоявшемся 26 ноября, бывший тибетский представитель в СССР «признался» следователю, что являлся «одним из руководителей контрреволюционной, панмонгольской, террористической, повстанческо-шпионской организации»[536]. На другой день А. Доржиева перевели из камеры в тюремную больницу, где он и скончался от паралича сердца в возрасте 84 лет 29 января 1938 г.[537] Среди бурятских буддистов, впрочем, бытует мнение, что легендарный лама не умер, а «ушел в нирвану».
Подводя итоги недолгому советско-тибетскому диалогу, следует признать, что он оказался бесплодным для обеих сторон. Большевики не смогли завоевать доверия Далай-ламы и сделать его своим другом, с тем чтобы в дальнейшем использовать Тибет в качестве плацдарма для революционного проникновения в Британскую Индию. Но и тибетцы не сумели извлечь сколько-нибудь ощутимой выгоды из своего неумышленного «флирта» с возрождавшимся колоссом новой России — Советской империи. Правда, Лхасе удалось с помощью А. Доржиева отправить на учебу в Ленинград и Москву около десятка тибетских юношей, но нам ничего не известно о том, нашли ли приобретенные ими в России знания какое-то применение на их родине, как это имело место в случае с обучавшимися в Индии и Англии тибетцами. В целом создается впечатление, что Далай-лама в действительности не стремился к сближению с Советской Россией и даже опасался такого сближения. Сделав ставку в начале 1920-х на англичан, обещавших ему помощь в модернизации страны, прежде всего в создании боеспособной и сильной армии, он, как кажется, не имел серьезных намерений в то же самое время завязывать тесные дружеские отношения с их антагонистами-соперниками — «красными русскими». Поэтому его заявления, сделанные на этот счет В. А. Хомутникову, едва ли были искренними. И все же правитель Тибета не спешил отвергать «ухаживаний» эмиссаров Красной России, понимая, что в их лице он имеет дело с могучей и грозной державой, подчинившей своему влиянию Внешнюю Монголию и стоящую за спиной революционных сил в соседнем Китае. Положение Далай-ламы было особенно щекотливым и двусмысленным летом 1924 г., когда Лхасу одновременно посетили английская и русская миссии. Оказавшись «между двух огней», Далай-лама, возможно, надеялся втайне, что англичане и русские рано или поздно сговорятся между собой по тибетскому вопросу, как это уже имело место в начале века. И для этого, действительно, имелись некоторые основания.
Почему тайная дипломатия большевиков потерпела фиаско в Тибете? Ведь после «переворота» в Лхасе весной 1925 г. у Москвы, казалось, появилась реальная возможность перехватить инициативу у англичан и привлечь Далай-ламу на свою сторону. Однако этот крайне благоприятный момент был упущен: НКИД слишком затянул с организацией новой экспедиции в Тибет, а когда она прибыла туда два года спустя, при дворе Далай-ламы преобладали уже не столько антибританские, сколько антирусские настроения, так что ни о каком политическом альянсе между Лхасой и Москвой не могло быть и речи.
В целом же надо сказать, что шансы большевиков «отвоевать» Тибет у англичан с самого начала были весьма невелики. Сближению Советской России и Тибета в значительной степени препятствовал как естественно-географический фактор — огромное расстояние, разделявшее обе страны, — так и параллельная активность британской дипломатии в отношении Тибета. В этой связи особенно важную роль сыграл визит в Лхасу Чарльза Белла (в 1920–1921), давший мощный толчок к экономическому и политическому англо-тибетскому сближению. Москва запоздала со своими инициативами ровно на один год, так что можно говорить, что первый раунд ее невидимого дипломатического поединка с Лондоном был безусловно проигран ею. Но значит ли это, что советско-тибетский диалог был изначально обречен на неудачу? Думается, что нет, ибо хотя большевики и были поставлены в очень трудные условия двумя вышеназванными обстоятельствами, у них, тем не менее, имелось достаточно сильное оружие против англичан. Это, во-первых, согласившийся работать на НКИД Агван Доржиев, к мнению которого все еще прислушивались Далай Лама и кое-кто из влиятельных тибетских сановников в его окружении, и, во-вторых, бурятско-калмыцкое ламство, традиционно поддерживавшее тесные связи с Лхасой. Нельзя сбрасывать со счетов и антибритански настроенных тибетских лам (составлявших треть населения Тибета), которые при умелом подходе к ним также могли бы до некоторой степени содействовать планам большевиков. НКИД, однако, не сумел использовать в полной мере столь выгодный для него «религиозный фактор». Объясняется это, с одной стороны, расколом среди буддийского духовенства в России после революции — позитивное «воздействие» на Далай-ламу с помощью лояльных режиму лам-обновленцев систематически подрывалось «контр-воздействием» на него «консервативно-реакционной» части ламства, посылавших в Лхасу своих делегатов с жалобами на притеснение буддистов советской властью. С другой стороны, целенаправленная антирелигиозная политика самих большевиков в конце концов оттолкнула от них лидеров обновленческого движения, таких как А. Доржиев и Ш. Тепкин, немало сделавших для сближения СССР и Тибета.
НКИД не использовал и еще одной возможности — «воздействия» на Далай-ламу с помощью научных экспедиций. А между тем посещение Лхасы русскими учеными, особенно Ф. И. Щербатским и П. К. Козловым, к которым Далай-лама испытывал дружеские чувства, могло благотворно повлиять на отношение тибетского правительства к Советской России и тем самым косвенно способствовать политическим целям большевиков.
Определенно отрицательную роль в деле налаживания связей с Лхасой сыграла и англофобия большевистских вождей, прежде всего Г. В. Чичерина, главного архитектора советско-тибетского сближения — следствие острого геополитического соперничества между СССР и Англией. Г. В. Чичерин, будучи дипломатом-революционером, имел явно искаженное представление о характере взаимоотношений Тибета с Англией. Англичане вовсе не стремились навязать Тибету свой протекторат, и тем более не вынашивали каких-либо аннексионистских планов в отношении его. В то же время Лондон рассматривал Тибет как законную сферу английского влияния и как политический буфер, прикрывающий подступы к своим владениям в Индии, в равной степени как от милитаризованного Китая, так и революционной России. Такая точка зрения определяла тибетскую политику Англии, сущность которой сводилась к удержанию Лхасы в своей орбите, но не путем прямого давления на нее, а через своего рода дружескую опеку — оказание помощи в модернизации страны и консультирование лхасской правящей верхушки, прежде всего Далай Ламы и его фаворита, главного тибетского реформатора Царонга по вопросам внутренней и внешней политики. В этом смысле нельзя не согласиться с выводом, сделанным ранее В. А. Богословским и А. А. Москалевым: «Она (Англия — А. А.) пользовалась значительным влиянием как на правительство, так и на отдельных представителей верхов Тибета, активно помогала и содействовала „модернизации“, в том числе созданию регулярной тибетской армии. Однако в Тибете (в отличие от многих других районов Китая) никогда не было английских концессий, консульств; таможенные сборы принадлежали исключительно тибетской казне… Говорить о Тибете как о „колонии“ в строгом смысле не приходится»[538]. В то же время следует подчеркнуть, что английская помощь Тибету в 1920-е гг. имела весьма ограниченный характер и была недостаточной для обеспечения независимого существования страны, как отмечает большинство западных исследователей[539].
Отличительная особенность советско-тибетского диалога — его чрезвычайная конспиративность. Москва пыталась сохранить свои дипломатические акции в тайне не только от Англии в силу того, что Тибет являлся ее сферой влияния, но также и от Китая. По этой причине она направляла в Лхасу своих эмиссаров под видом буддийских паломников, в соответствии с разработанным в НКИД сценарием. Несмотря на камуфляж, советские миссии 1924 и 1927 гг. почти сразу же попали в поле зрения английского политического агента в Сиккиме Ф. М. Бейли, благодаря его тибетским информаторам, что дало повод Лондону говорить о «большевистской интриге» в Тибете. О «рекогносцировочной» экспедиции 1922 г. англичане, как кажется, ничего не знали.
Необходимость прибегать к конспирации и камуфляжу вызывалась также и тем, что участники советских миссий выполняли задания не только НКИД, но и таких учреждений, как ОГПУ и Разведуправление Штаба Красной Армии. Во время пребывания в Тибете они занимались военной, экономической и политической разведкой и попутно вели антибританскую и просоветскую агитацию, хотя последняя не носила публичного характера, а служила преимущественно, средством индивидуальной идеологической обработки нужных им лиц. Тибетским экспедициям отпускались значительные средства для приобретения информации и подкупа влиятельных тибетских чиновников. Подобная, достаточно традиционная для Востока форма неофициального «воздействия» на лхасскую политическую элиту не привела, однако к желаемым результатам.
В то же время советское руководство допустило ряд ошибок принципиального характера, непосредственно отразившихся на его тибетской политике. К ним, в первую очередь, следует отнести расторжение, в большой степени в пропагандистских целях, в 1917 г. англо-русской конвенции по делам Персии, Афганистана и Тибета 1907 г. Это соглашение, в его тибетской части, во многом ограничивало свободу действий англичан в Тибете, и потому его следовало сохранить. В 1924 г. была также упущена возможность заключить новый договор с Англией по Тибету, чему опять-таки помешали идеологические соображения.
В целом, советско-тибетский диалог не оставил сколько-нибудь заметного следа в истории советской дипломатии, равно как и в истории взаимоотношений СССР со странами азиатского Востока. С политической и торгово-экономической точек зрения гораздо более содержательным и продуктивным явилось взаимодействие советского государства в 1920-е годы с его ближайшими восточными соседями — Турцией, Ираном, Афганистаном, Западным Китаем и Монголией. Поэтому советское руководство довольно легко и безболезненно устранилось от тибетских дел на рубеже 1930-х, тем более, что утрата контактов с Лхасой не отразилась ни на международном престиже СССР, ни на его внешней политике или народном хозяйстве. Советско-тибетский диалог сошел на нет как бы сам собой, полностью исчерпав свои потенциальные возможности.
Иллюстрации
Заставка из журнала «Новый Восток» художник В. С. Орлов (1924 г.)
Г. В. Чичерин
Нарком Г. В. Чичерин и его заместитель Л. М. Карахан. Нач. 1920-х гг. (Снимок из книги: В. Генис. Красная Персия. М., 2000 г.)
Ф. И. Щербатской (Урга, 1905 г.). Фото из архива А. А. Терентьева
Политическая карта Китая с указанием сфер влияния империалистических держав (1927 г). Тибет — одна из «сфер английского влияния». Отдел картографии РНБ, С.-Петербург
В. А. Хомутников (крайний слева), Б. X. Кануков (в центре). Нач. 1920-х гг. HAPK (Элиста)
В первом ряду слева направо: Б. X. Кануков, X. Чойбалсан, М. Бимбаев. HAPK (Элиста)
С. С. Борисов. РГАСПИ. А. Ч. Чапчаев
Члены Монгольского посольства в Тибет, осень 1926 г. Сидят (слева направо): Гомбодчийн, Б. Н. Мельников (заведующий восточного отдела НКИД СССР), А. Ч. Чапчаев. Стоят: М. Т. Бимбаев, Амуланг (?). ГАРФ
Тибетский представитель («донир») В Уpгe, сер. 1920-x гг. Архив Музея-квартиры П. К. Козлова
Обучение тибетской армии. 1915 г.
Тибетские офицеры во главе с Царонгом Шапе (в центре), 1915 г.
Военный министр Тибета Царонг Шапе (в центре), с женой (справа), 1936 г.
Девятый Панчен-Лама (Из книги М. Goldstein. A History of Modern Tibet 1913–1951 гг.)
Здание русского посольства в Урге. Архив Русского Географического Общества
Слева направо: П. М. Никифоров, Никифорова (его жена), А. М. Соловьев (секретарь советского посольства в МНР), П. К. Козлов, Улан-Батор, 1926 г. Архив Музея-квартиры П. К. Козлова
Гоман-дацан в Дрепунгском монастыре (современный вид). Фото Андре Александра (Германия), 1995 г.
Н. К. и Ю. Н. Рерих, сер. 1920-x гг.
Н. К. Рерих со «знаменем» Шамбалы — тангкой будущего Будды Майтрейи. Улан-Батор, 1927 г.
А. Доржиев. Сер. 1920-х гг.
А. Доржиев с группой востоковедов на балконе Буддийского храма, 1925 г. Слева направо: Б. Я. Владимирцов, П. И. Воробьев (ректор ЛИЖВЯ), И. Н. Бороздин, А. Доржиев, В. М. Алексеев, лама Бадма Очиров. Фото из архива М. В. Баньковской
Слева направо: А. Доржиев, Д. Норбоев, Ш. Тепкин у дверей Буддийского храма. Ленинград, 1931 г.
А. Доржиев, конец 1930-х гг. Фото из следственного дела А. Доржиева (Архив Министерства безопасности Республики Бурятия)