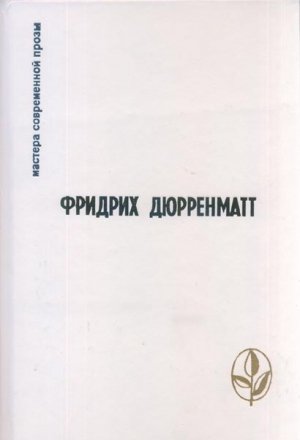
Дельфийская жрица Панихия XI, длинная и тощая, как и почти все ее предшественницы, раздраженная глупыми выходками собственных пророчеств и легковерием греков, внимала юному Эдипу: еще один из тех, кто хотел знать, являются ли его родители на самом деле его родителями, как будто так просто разобраться с этим в аристократических кругах; ну действительно, ведь были супружницы, уверявшие, что совокуплялись с самим Зевсом, и даже мужья, верившие им. Правда, пифия в подобных случаях отвечала очень просто — и да, и нет, поскольку вопрошавшие и без нее сомневались, но сегодня все казалось ей ужасно глупым, может потому, что бледный юноша приковылял после пяти, собственно, ей пора было уже закрывать святилище, и тут она в сердцах напредсказала ему такого — отчасти чтобы излечить юношу от слепой веры в могущество прорицаний, а отчасти потому, что ей в ее дурном настроении взбрело в голову позлить чванливого коринфского принца, и она выдала ему самое бессмысленное и невероятное пророчество, на какое только была способна и в несбыточности которого была абсолютно уверена; ну кто, думала Панихия, в состоянии убить отца и лечь в постель с собственной матерью, ведь напичканные кровосмешением истории богов и полубогов она всегда считала пустыми выдумками. Правда, неприятное ощущение слегка закралось ей в душу, когда нескладный юноша, услышав ее пророчество, побледнел, она заметила это, хотя треножник ее был окутан клубами испарений; молодой человек поистине был чрезмерно наивен и доверчив. И когда он потом медленно покинул святилище и, оплатив прорицание верховному жрецу Меропсу XXVII, лично взимавшему плату с аристократов, стал удаляться, Панихия еще какое-то время смотрела Эдипу вслед, качая головой: молодой человек не пошел дорогой на Коринф, где жили его родители. Панихия гнала от себя мысль, что, возможно, породила своим вздорным прорицанием очередную беду, и, отгоняя от себя прочь неприятные предчувствия, она выкинула Эдипа из головы.
Состарившись, она однообразно влачила свою жизнь через бесконечно тянувшиеся годы, постоянно грызясь с верховным жрецом, загребавшим благодаря ей баснословные деньги: ее пророчества становились с годами все смелее и вдохновеннее. Она не верила в них, более того, изрекая их, она насмехалась над теми, кто верил в пророчества, но получалось так, что она лишь пробуждала еще более неотвратимую веру в тех, кто верил в них. Так Панихия все предсказывала и предсказывала, об уходе на заслуженный отдых не могло быть и речи. Меропс XXVII был убежден: чем старее и слабоумнее становилась очередная пифия, тем лучше она предсказывала, а идеальной была та, которая стояла на пороге смерти; самые блистательные свои прорицания предшественница Панихии Кробила IV выдала на смертном одре. Панихия решила про себя ничего не предсказывать, когда придет ее смертный час, по крайней мере умереть она хотела достойно, не занимаясь всякой чепухой; одно уже то, что ей на старости лет все еще приходилось заниматься этим фиглярством, было для нее достаточно унизительным. А если к тому же учесть невыносимые рабочие условия? Святилище было сырым, по нему гуляли сквозняки. Снаружи оно выглядело великолепно — чистейший ранний дорический стиль, а внутри — обшарпанная, плохо законопаченная каменная дыра. Единственным утешением Панихии были пары´, поднимавшиеся из расселины в скале, над которой стоял ее треножник, они смягчали ее ревматические боли, вызванные сквозняками. Все, что происходило в Греции, давно уже не волновало ее; ей было безразлично, трещит по швам семейный союз Агамемнона или нет, и с кем сейчас спит Елена — тоже наплевать; она прорицала наобум, что в голову взбредет, но, поскольку ей слепо верили, никого не волновало, что предсказания ее сбывались лишь изредка, а когда такое все-таки случалось, то воспринималось как должное — по-другому и быть не могло. Разве был у Геракла, обладавшего силищей быка и не находившего себе достойного противника, иной выход, кроме как подвергнуть себя сожжению на костре, и все только потому, что пифия шепнула ему на ушко, что после такой гибели его ждет бессмертие? А кто же мог проверить, стал он на самом деле бессмертным или нет? А тот факт, что Ясон женился на Медее, вообще уже сам по себе достаточно красноречиво объяснял, почему он в конце концов покончил жизнь самоубийством, ведь, когда он со своей невестой объявился в Дельфах, чтобы слезно вымолить для себя прорицание богов, пифия инстинктивно выпалила с молниеносной быстротой, что лучше ему сразу проткнуть себя мечом, чем жениться на такой фурии. При подобных провидениях ничто уже не могло остановить растущую популярность Дельфийского оракула, включая и его экономический расцвет. Меропс XXVII вынашивал планы колоссальных новостроек — гигантский храм Аполлона, огромный зал Муз, высоченную Змеиную колонну, банки в виде многочисленных сокровищниц и даже театр. Теперь он общался только с царями и тиранами, а то, что со временем неприятности стали громоздиться одна на другую и боги, казалось, все халатнее относились к своим обязанностям, давным-давно уже перестало его беспокоить. Меропс хорошо знал своих греков — чем несусветнее тот бред, что несла старуха, тем лучше, пифию ведь так и так уже почти невозможно было стянуть с треножника; закутавшись в черную хламиду, она дремала там, одурманенная парáми. Когда святилище закрывалось, она еще сидела некоторое время перед боковым порталом, а потом ковыляла в свою халупу, варила там себе бурду и, не притронувшись к ней, засыпáла на ходу. Она ненавидела любую перемену в заведенном ею распорядке текущих дней. Очень неохотно появлялась она иногда в конторе Меропса XXVII, ворча и проклиная все на свете, если верховный жрец вызывал ее, он делал это теперь только в тех крайних случаях, когда один из провидцев затребовывал для своего клиента сформулированное им самим пророчество из уст дельфийской прорицательницы. Панихия ненавидела провидцев. Пусть она сама не верила в прорицания, но она не видела в них ничего дурного, они все были для нее глупостью, вожделенной для людей, а вот пророчества, составленные провидцами, которые она должна была по их заказу произносить, были чем-то совсем иным, они преследовали определенную цель, за ними скрывалась коррупция, если не политика; а что там замешаны и коррупция, и политика, она тотчас же подумала в тот летний вечер, как только Меропс, потягиваясь за своим письменным столом, объявил ей в своей елейно-приторной манере, что от провидца Тиресия поступил заказ.
Панихия тут же поднялась, не успев сесть, и заявила, что она не желает иметь никаких дел с Тиресием — она слишком стара и память у нее на тексты уже не та, чтобы заучивать наизусть пророчества и декламировать его рифмы. Всё, она пошла. Минуточку, сказал Меропс и кинулся вслед за Панихией, задержав ее в дверях, минуточку, вовсе не стоит так волноваться, и ему этот слепой порядком надоел, он тоже знает, что Тиресий величайший в Греции интриган и политикан и, клянусь Аполлоном, продажен до мозга костей, но однако же он лучше всех платит, а то, что он просит, не лишено смысла — в Фивах опять гуляет моровая язва. Она там без конца гуляет, проворчала Панихия, если принять во внимание антисанитарную обстановку вокруг крепости Кадмеи, то и ничего удивительного, что болезнь в Фивах, так сказать, эндемична, то есть не переводится. Именно так, поспешил заверить Панихию XI Меропс XXVII, Фивы — жуткое место, грязная клоака во всех отношениях, не случайно ведь ходит легенда, что даже могучие орлы Зевса с трудом перелетают Фивы, потому что махают только одним крылом, а другим зажимают ноздри, чтоб не дышать, а уж обстановочка при царском дворе не приведи господи. Тиресий предлагает дать ответ его клиенту, он зайдет к нам завтра, что болезнь исчезнет тогда, когда будет найден убийца фиванского царя Лая. Панихия удивилась банальности прорицания, Тиресий, по-видимому, страдает старческим слабоумием. Только ради проформы она еще спросила, когда же было совершено убийство. Да когда-то, несколько десятилетий назад, не имеет значения, найдут убийцу, хорошо, разглагольствовал Меропс, не найдут, тоже неплохо, болезнь так и так пройдет сама по себе, а жители Фив будут верить, что боги, во имя помощи им, жестоко покарали убийцу где-то там, в его уединении, где он сокрылся от их глаз, и тем самым собственноручно восстановили справедливость. Пифия, радуясь, что вот-вот снова очутится в теплых парáх, фыркнула только да спросила, а как зовут клиента Тиресия.
— Креонт, — ответил Меропс XXVII.
— В жизни не слыхала, — сказала Панихия.
Он тоже нет, поддакнул ей Меропс.
— А кто царем в Фивах? — спросила опять пифия.
— Эдип, — ответил Меропс XXVII.
— Тоже не знаю, — произнесла Панихия XI, она на самом деле забыла Эдипа.
— И я нет, — опять поддакнул Меропс, довольный, что сейчас избавится от старухи, и протянул ей записку с искусно составленным Тиресием текстом пророчества.
— Ямбы, — вздохнула пифия, уходя, бросив мельком взгляд на записку, — ну конечно, со стихоплетством он никак не может расстаться.
И когда на другой день, незадолго перед закрытием святилища, пифия, сидя на треножнике и блаженно раскачиваясь, укутанная в клубы паров, услышала робкий, набожно смиренный голос некоего Креонта из Фив, она выдала ему заученное наизусть пророчество, правда, не так бойко, как прежде, в одном месте ей даже пришлось начать сначала:
— Не мудрствуя велит тебе прекрасный Аполлон изгнать убийцу, забвенью не предав кровь пролитую… Не мудрствуя велит тебе прекрасный Аполлон изгнать убийцу, забвенью не предав кровь пролитую, сбирающую в землях сих обильно дань: изгнать его, иль пусть он кровью кровь искупит. Кровь запятнала эту землю. За Лая смерть приказывает Феб отмстить царя убийцам. Таков его ответ.
Пифия умолкла, довольная, что справилась с текстом, размер стиха оказался не так уж прост, она вдруг очень возгордилась собой, а о том, что она запнулась в одном месте, она уже и думать забыла. Фиванец — как его там звали? — давным-давно ушел, и Панихия опять задремала.
Иногда она покидала стены святилища. Взору ее открывалась огромная строительная площадка — храм Аполлона, внизу под ней виднелись три колонны зала Муз. Жара стояла невыносимая, а ее знобило. Эти скалы, леса и море — все один обман, ее постоянный сон, но когда-нибудь и он кончится, и ничего от всего этого не останется, она знала, все выдумка и ложь, и она, пифия, тоже, ее выдавали за жрицу Аполлона, хотя она на самом деле всего лишь обманщица, изрекающая в зависимости от своих капризов безумные пророчества. И вот она наконец состарилась, стала стара как пень, превратилась в древнюю-предревнюю старуху, не помнит даже, сколько ей лет. Рядовые пророчества делает теперь ее преемница, пифия Гликера V; Панихии осточертели эти вечные испарения, ну время от времени куда еще ни шло, может, разок в неделю, она взбиралась для платежеспособного наследного принца или самого тирана на треножник и произносила свои бессвязные слова, к чему даже Меропс относился с пониманием.
И вот как-то раз сидит она, блаженствуя на солнышке, погрузившись в себя и закрыв глаза, чтоб не глядеть на китч вокруг, во что превратился дельфийский ландшафт, прислонившись к стене святилища у бокового его портала, напротив наполовину уже возведенной Змеиной колонны, и чувствует вдруг, что перед ней что-то стоит, и, пожалуй, уже несколько часов, что-то такое, что имеет непосредственное касательство к ней и тревожит ее в ее оцепенении, и когда она открыла глаза, не сразу, медля еще, у нее было такое ощущение, что ей вначале придется освоиться, прежде чем она сможет смотреть на свет, но как только она стала различать предметы, она сразу увидела странную, невероятных объемов фигуру, опиравшуюся на другое не менее странное существо, и пока Панихия XI всматривалась в них попристальнее, обе чудовищные фигуры съежились до нормальных человеческих размеров, и она узнала в них нищего в тряпье и лохмотьях, опиравшегося на маленькую ободранную нищенку. Нищенка оказалась молодой девушкой. А сам нищий таращился на Панихию в упор, но глаз у него не было, на их месте — две дыры, залитые черной запекшейся кровью.
— Я — Эдип, — сказал нищий.
— Не знаю тебя, — ответила пифия и заморгала, взглянув на солнце, медлившее с закатом над ослепительно синим морем.
— Ты мне предсказывала, — прохрипел нищий.
— Возможно, — сказала Панихия XI, — я предсказывала тысячам таких, как ты.
— Твое пророчество сбылось. Я убил своего отца Лая и женился на своей матери Иокасте.
Панихия XI стала рассматривать нищего, потом девушку в лохмотьях, с удивлением обдумывая, что все это могло бы значить, так еще ничего и не припоминая.
— Иокаста повесилась, — тихо сказал Эдип.
— Кто? — переспросила Панихия.
— Моя жена и мать, — ответил Эдип.
— Сочувствую, примите мои соболезнования.
— И тогда я выколол сам себе глаза.
— Так, так. — И тут пифия показала на девушку. — А это кто? — спросила она, не столько из любопытства, сколько лишь чтоб что-нибудь сказать.
— Моя дочь Антигона, — ответил ослепивший себя, — или моя сестра, — добавил он смущенно и рассказал запутанную историю.
Пифия, широко раскрыв глаза, слушала лишь вполуха, уставившись на стоящего перед ней нищего, опиравшегося на свою дочь и сестру в одном лице, а за ними вдали виднелись скалы и леса, внизу шло начатое строительство театра, нестерпимо синело море, и над всем этим висело стальное небо, слепящая бездна пустоты, куда люди, чтобы не потерять рассудка, чего только не проецировали — и богов, и свои судьбы, и когда Пифии открылась эта взаимосвязь, она мгновенно вспомнила, как хотела, предсказывая Эдипу, всего лишь чудовищно созорничать, чтобы навсегда отбить у него охоту верить в прорицания, и тут Панихия XI неудержимо расхохоталась, смех ее становился все громче и неуемнее, и она все еще смеялась, хотя нищий, ковыляя, давно уже удалился отсюда прочь вместе со своей дочерью Антигоной. Пифия умолкла так же неожиданно, как и рассмеялась, — все это не могло быть чистой случайностью, промелькнуло вдруг у нее в голове.
Солнце село за стройплощадкой храма Аполлона — пошлое и безвкусное, как спокон веков; пифия ненавидела солнце, надо бы как-нибудь разобраться с ним, подумала она, все эти сказки про его золотую колесницу и крылатых коней просто смехотворны, она готова поспорить — ничего там нет, кроме массы вонючих огненных газов. Панихия направилась в архив, она хромала. Как Эдип, мелькнуло у нее в голове. Она полистала книгу пророчеств, поискала в ней, здесь были записаны все выданные в святилище Аполлона прорицания. Она наткнулась на одно из них, провозглашенное некоему Лаю, царю Фив: Сын как будет у него, примет он смерть от руки его.
Ужасающее пророчество, подумала пифия, не иначе как моя предшественница Кробила IV стоит за ним, Панихия знала о ее готовности уступать пожеланиям верховных жрецов. Она порылась в бухгалтерии и нашла квитанцию на пять тысяч талантов, уплаченных Менекеем, потомком древнего рода спартов, тестем фиванского царя Лая, с краткой припиской: «За прорицание по поводу сына Лая, составленное Тиресием». Пифия закрыла глаза, самое лучшее на свете быть слепым, как Эдип. Она сидела в архиве за письменным столом и размышляла. Одно ей стало ясно: если ее сбывшееся пророчество — гротесковая случайность, то Кробила IV предсказала так когда-то, чтобы помешать Лаю произвести на свет сына, а тем самым и наследника, шурин Креонт должен был стать после него царем. Первое пророчество, побудившее Лая выключить Эдипа из игры, родилось вследствие коррупции, второе произошло по воле случая, а третье, приведшее к расследованию этого дела, опять было сформулировано Тиресием: чтобы посадить Креонта на трон в Фивах. Я уверена, что он там сейчас и сидит, подумала она. В угоду Меропсу, чтобы только от него отделаться, я произнесла новое пророчество Тиресия, бормотала взбешенная Панихия, да еще вдобавок составленное в бездарных ямбах, я еще хуже Кробилы IV, та хотя бы предсказывала только в прозе.
Она поднялась из-за стола и покинула заросший пылью архив — так давно никто не заходил сюда и не рылся в нем, да и кому теперь до него дело: в Дельфийском оракуле царили неряшливость и халтура. Правда, архив тоже будут перестраивать — на месте старой каменной развалюхи поднимется помпезное сооружение, уже запланировали канцелярию архива со штатом жрецов, чтобы заменить стихийную халтуру четко организованной.
Пифия смотрела на стройплощадку в сумраке ночи — кругом валялись тесаные каменные глыбы и колонны, ей казалось, что перед ней руины; когда-нибудь так и будет: одни лишь руины. Небо слилось с морем и скалами, на западе над грядой черных облаков ярко горела красным светом звезда, зловещая и таинственная. Пифии казалось, будто оттуда сверху ей грозит Тиресий, тот самый, что вечно навязывал ей свои стратегические пророчества, которыми он, провидец, так гордился, хотя они были такой же глупостью, как и ее собственные прорицания, тот Тиресий, что был еще старее ее и жил уже тогда, когда пифией была Кробила IV, а до Кробилы — Мелита, а до той — Бакхия. И вдруг, пока она, ковыляя, шла по огромной стройплощадке храма Аполлона, ее как током ударило: пришел ее смертный час, да по правде уж и давно пора. Она швырнула палкой в недостроенную Змеиную колонну — еще один китч вместо порядочного монумента — и пошла, не хромая. Она переступила порог святилища: смерть — торжественный акт. Ее интриговало, как это произойдет: предстоящее любопытное событие целиком завладело ею. Она оставила главный вход открытым, уселась на треножник и стала ждать смерти. Испарения, поднимавшиеся из расселины в скале, окутывали ее слегка красноватыми клубами, и сквозь их туман она видела светло-серую ночь, пучками света проникавшую в святилище через главный портал. Она чувствовала приближение смерти, любопытство ее росло.
Сначала появилась мрачная приплюснутая физиономия землистого цвета, с темными волосами, низким лбом и тупым взглядом. Панихия не взволновалась, должно быть, речь шла о предвозвестнике смерти, но тут вдруг она поняла, что это лицо Менекея, происходившего от древних спартов. Землистое лицо смотрело на нее. Взывало к ней, хотя и безмолвствовало, но так, что пифия без слов понимала потомка спартов.
Он был мелким крестьянином, коренастый такой, поехал потом в Фивы, работал там до седьмого пота, сначала поденщиком, затем десятником, наконец стройподрядчиком, и, когда ему подкинули заказ на перестройку крепости Кадмеи, он не прозевал своего счастья: боги милостивые, какая крепость получилась! А то, что он обязан таким везением исключительно своей дочери Иокасте, это все сплетни: конечно, царь Лай взял ее в жены, но Менекей не кто-нибудь, а знатного происхождения, он от спартов — древних воинов, выросших на глинистой фиванской пашне, куда Кадм посеял зубы убитого им дракона. Сначала из земли показались только острия копий, потом гребни шлемов, за ними головы, с ярой ненавистью плевавшие друг в друга; они выросли из земли еще только по грудь, а уже потрясали копьями, и наконец, поднявшись над пашней, где взошли, они набросились друг на друга, как хищники; но прадед Менекея Удей пережил кровавую бойню и спасся от той обломленной скалы, что обрушил Кадм на разивших друг друга мечами и копьями спартов. Менекей верил в древние героические сказания и потому ненавидел Лая, этого чванливого аристократа, ведшего свой род от брака Кадма с Гармонией, дочерью Ареса и Афродиты, ну конечно, там наверняка был сногсшибательный свадебный пир — однако все же задолго до него Кадм убил дракона и засеял поле его зубами, это доподлинно известно; Менекей, спарт, чувствовал свое превосходство над царем Лаем, ведь зачатие рода Менекея более древнее и сопряжено с большими чудесами, Гармония вкупе с Аресом и Афродитой не тянут против них, эка важность, и, когда Лай женился на Иокасте, гордой ясноокой девушке со жгуче-рыжими волосами, в Менекее забрезжила надежда — он или по крайней мере его сын Креонт придут наконец когда-нибудь к власти; тот черноволосый, мрачный, рябой Креонт, от чьего вкрадчивого голоса цепенели раньше рабочие на стройке, а теперь содрогались солдаты, потому что сегодня Креонт — шурин царя, главнокомандующий армии. Лишь дворцовая охрана не подчинялась ему. Но Креонт был до ужаса предан царю, горд своим зятем Лаем, верноподданнически благодарен ему, и к своей сестре он тоже был привязан, всегда брал ее под защиту, несмотря на мерзкие слухи вокруг нее со всех сторон; ждать радикальных действий с его стороны не приходилось. С ума можно было сойти, как хотелось Менекею порою крикнуть Креонту: да взбунтуйся же наконец, стань царем! Но он так ни разу и не решился на такое и уже совсем оставил свои надежды, пока не встретил в корчме Полора — тоже правнука одного из спартов того же имени — Тиресия, огромного, неприступного, ведомого мальчиком слепого провидца. Тиресий, лично знакомый с богами, оценил шансы Креонта на трон без всякого пессимизма: никому не ведомо, каково будет решение богов, зачастую они еще и сами его не знают и иногда пребывают в такой нерешительности, что даже радуются, если от людей поступают кое-какие подсказки — правда, в его, Менекея, случае такая подсказка обойдется ему в пятьдесят тысяч талантов. Менекей ахнул, испугавшись даже не столько баснословной цены, сколько самого факта, что эта гигантская сумма точно соответствовала его огромному состоянию, сколоченному им на строительстве Кадмеи и прочих царских подрядах, хотя Менекей всегда указывал к обложению налогом только пять тысяч, и он заплатил Тиресию.
Перед закрытыми глазами пифии, ритмично раскачивавшейся в сгустившихся клубах паров, возникла высокомерного вида фигура, без сомнения царского обличья, вся такая меланхоличная, светловолосая, холеная, томная. Панихия поняла, что это Лай. Конечно, тиран был удивлен, когда Тиресий передал ему ответ Аполлона: его сын, если Иокаста однажды родит такого, убьет его. Но Лай знал Тиресия, цены заказанного у Тиресия пророчества были неслыханными, только богатые люди могли себе позволить обратиться к услугам Тиресия, большинство же других сами отправлялись в Дельфы, чтобы испросить ответа у пифии, надежность которого, правда, была значительно ниже; если Тиресий вопрошал пифию, то тогда, во что свято верили, сила провидца перекидывалась на пифию, бред, конечно, Лай был просвещенным тираном, вопрос весь в том, кто подкупил Тиресия поспособствовать столь коварному прорицанию, кто-то должен был быть заинтересован в том, чтобы у Лая с Иокастой не было детей, — либо Менекей, либо Креонт, унаследовавший бы трон в случае их бездетного брака. Но Креонт по своей принципиальной тупости оставался преданным ему, его невежество в политических интригах было вопиющим. Значит, Менекей. Тот уже, пожалуй, спал и видел себя отцом царя, Зевс тому свидетель, неплохо он подзаработал на государственной казне, цены, что заламывал Тиресий, далеко превосходили размеры состояния Менекея, обкладываемого налогом. Ну ладно, этот потомок спартов все же его тесть, не стоит и говорить о его махинациях, но швырнуть огромное состояние за одно лишь прорицание, когда его можно было иметь почти за так… К счастью, в Фивах вокруг Кадмеи вспыхнула, как и каждый год, маленькая эпидемия моровой язвы, прибрав к рукам несколько десятков людишек — все больше никчемный народец: философов, рапсодов и прочих сказителей. Лай послал своего секретаря в Дельфы — с определенными предложениями и десятью золотыми: за десять талантов верховный жрец сделает все, потому что одиннадцать он уже обязан был оприходовать в книге. Ответ, доставленный секретарем из Дельф, гласил: болезнь, а она тем временем уже ушла из Фив, утихнет, если один из спартов принесет себя в жертву. Теперь оставалось только дождаться новой вспышки болезни. Полор, хозяин корчмы, заверял всех, что он вообще происходит не от того Полора, никакой он не спарт, все это злые козни. И Менекею, единственному из еще оставшихся в живых спартов, не оставалось ничего другого, как подняться на городскую стену и броситься вниз, но он, собственно, был даже рад принести себя в жертву городу: встреча с Тиресием разорила его, он оказался неплатежеспособным, рабочие ворчали недовольно, поставщик мрамора Капий давно уже прекратил все поставки, и кирпичный завод тоже; восточная часть городской стены была муляжом из дерева, а статуя Кадма на площади Собрания из гипса, выкрашенного бронзовой краской, Менекею так и так при первом же ливне пришлось бы кончать жизнь самоубийством. Он бросился вниз с южной части городской стены и падал, как обмершая ласточка, а акустическим фоном действу было торжественное песнопение хора юных девственниц из благороднейших семейств. Лай сжал руку Иокасты, Креонт отдал честь. А потом Иокаста родила Эдипа, и тут Лай встал в тупик. Само собой он не верил в прорицание, тем более что оно было абсурдно — якобы он погибнет от руки собственного сына, но, Гермес свидетель, он бы дорого дал, чтобы узнать, действительно ли Эдип его сын, нет, он не отрицает, что что-то мешало ему спать со своей женой, их женитьба так и так была браком по расчету, он обручился с Иокастой, чтобы приблизиться к народу, потому что, Гермес свидетель, Иокаста с ее вольным образом жизни до замужества была очень популярна в народе, полгорода было тесно связано через нее с Лаем; конечно, может, простое суеверие мешало ему спать с Иокастой, однако же сама идея, что его сын может убить его, действовала на него как-то отрезвляюще, да и, откровенно говоря, Лай вообще не любил женщин, он предпочитал им молоденьких новобранцев, но выходило, что по пьянке он все же переспал с ней разок-другой, так по крайней мере утверждала Иокаста, а сам он точно не помнил, да и потом еще этот проклятый офицер из его охраны — лучше всего, конечно, вывести из игры этого бастрюка, вдруг оказавшегося в царской люльке.
Пифия поплотнее закуталась в свой хитон, снизу вдруг повалили ледяные испарения, она стала мерзнуть и, дрожа от холода, снова увидела перед собой ободранного нищего с запекшейся кровью на лице, но вот кровь в глазницах исчезла, и на нее глянули голубые глаза — одичавшее, все в ссадинах, негреческое лицо; перед нею стоял юноша, как и тогда, когда Панихии захотелось подурачить его и она произнесла свое пророчество, взятое с потолка. Он уже тогда знал, подумала она сейчас, что не был сыном коринфского царя Полиба и жены его Меропы, он обманул меня.
— Конечно, — донесся голос юного Эдипа сквозь пары´, все плотнее окутывавшие пифию, — я всегда знал об этом. Рабы и придворные служанки всё мне рассказали, да и пастух, нашедший меня на склонах Киферона — беспомощного новорожденного младенца с проколотыми булавкой лодыжками и связанными ногами. Я ведь знал, что именно в таком виде передали меня коринфскому царю Полибу. Не отрицаю, Полиб и Меропа были добры ко мне, но никогда не были до конца честны, они боялись открыть мне правду, потому что у них были свои виды на меня, им хотелось иметь сына, и тогда я отправился в Дельфы. Аполлон был единственной инстанцией, куда я мог обратиться. Я откроюсь тебе, Панихия, я верил Аполлону, я и сегодня все еще верю ему, я не нуждался в посредничестве Тиресия, но я задал Аполлону неискренний вопрос, ведь я же знал, что Полиб мне не отец. Я пришел к Аполлону, чтобы выманить его из его божественного укрытия, и выманил: его прорицание, грозно обрушившееся на меня из твоих уст, было поистине ужасающим, какой, пожалуй, и бывает всегда правда, и так же ужасно оно и исполнилось. Уходя тогда от тебя, я рассуждал так: если Полиб и Меропа мне не родители, то, согласно пророчеству, ими будут те, с кем оно сбудется. И когда в том месте, где сходились пути, я убил вздорного честолюбивого старца, я понял — еще прежде, чем убил, — что он мой отец, а кого же еще я мог убить, как не своего отца, ведь кроме него я убил еще только одного, и это произошло позднее, какого-то нестоящего офицера дворцовой охраны, я даже имени его не запомнил.
— Нет, ты еще кое-кого убил, — бросила реплику пифия.
— Кого же? — удивился Эдип.
— Сфинкс, — ответила Панихия.
Эдип помолчал немного, будто вспоминая, и улыбнулся.
— Сфинкс, — сказал Эдип, — была чудовищем с лицом и грудью женщины, телом льва, змеей вместо хвоста и крыльями орла, она задавала всем дурацкую загадку. Сфинкс кинулась с горы Фикион и разбилась насмерть, а я женился в Фивах на Иокасте. Знаешь, Панихия, я должен тебе кое-что сказать, ты скоро умрешь и потому можешь все узнать: больше всего на свете я ненавидел своих родителей, ведь они хотели бросить меня на растерзание диким зверям. Я только не знал, кто они, и вот пророчество Аполлона принесло мне избавление от мук — встретив в тесном ущелье между Дельфами и Даулем Лая, я в неистовом бешенстве, охватившем меня, скинул его с колесницы и, увидев, что он запутался в поводьях, хлестнул коней, те понеслись, волоча моего родителя по пыли, а когда замолкли его предсмертные хрипы, я увидал в придорожной канаве его возницу, пронзенного ударом моего посоха. Как звали твоего господина? — спросил я его. Он уставился на меня и молчал. Ну?! — прикрикнул я на него. Он произнес его имя: я отправил на погибель царя Фив, а потом, когда я в нетерпении спросил про фиванскую царицу, он вымолвил и ее имя. Он назвал мне имена моих родителей. Свидетелей оставаться не могло. Я вытащил свой посох из его раны и поразил его еще одним ударом. Возница испустил дух. И пока я вытаскивал свой посох из его мертвого тела, я заметил, что на меня смотрит Лай. Он все еще был жив. Я молча пронзил его. Я хотел стать царем Фив, и боги желали того же, и с триумфом возлег я на свою мать, и еще и еще раз, со злорадством зачал я в ее чреве четверых детей, потому что на то была воля богов, тех богов, которых я ненавижу еще больше, чем моих родителей, и каждый раз, когда я ложился на свою мать, я ненавидел ее пуще прежнего. Боги приняли чудовищное решение, и оно должно было осуществиться, а когда Креонт возвратился из Дельф с ответом Аполлона, что болезнь в Фивах утихнет, как только будет найден убийца Лая, я наконец понял коварство богов, замысливших столь чудовищную по жестокости судьбу, понял, кого они хотели затравить себе на потеху — меня, того, кто выполнил их волю. И с тем же триумфом я сам провел против себя расследование, уличившее меня в убийстве, с триумфом нашел в покоях повесившуюся Иокасту и с триумфом выколол себе глаза — ведь боги подарили мне величайшее из всех, какие только могут быть, мыслимых прав: сверхвысшую свободу ненавидеть тех, кто производит нас на свет — родителей, предков, произведших на свет моих родителей, а через них и богов, породивших и предков, и родителей, и теперь я брожу по Греции слепым и нищим вовсе не для того, чтобы славить всемогущество богов, а лишь для того, чтобы подвергать их хуле и осмеянию.
Панихия сидела на треножнике. Она ничего больше не чувствовала. Может, я уже мертва, подумала она, и только очень постепенно до ее сознания дошло, что в клубах испарений перед ней стояла женщина, светлоокая, с буйными рыжими волосами.
— Я Иокаста, — сказала женщина, — я все знала сразу после брачной ночи, Эдип рассказал мне свою жизнь. Он ведь был так доверчив и искренен и, клянусь Аполлоном, так наивен и горд тем, что смог избежать веления богов, не возвратившись в Коринф, и не убив Полиба, и не женившись на Меропе, которых он все еще принимал за своих родителей, как будто так просто ускользнуть от воли богов. Я еще раньше подозревала, что он мой сын, уже в первую ночь, едва он только вошел в Фивы. Я даже еще не знала, что Лай мертв. Я узнала его по рубцам у него на лодыжках, когда он голый лежал подле меня, но я ничего ему не открыла, да и зачем, мужчины всегда такие чувствительные, и именно поэтому я не сказала ему также, что Лай вовсе не его отец, как он, конечно, до сих пор думает. Его отцом был дворцовый офицер Мнесип, совершенно пустоголовый болтун с удивительными способностями в той области, где много говорить не требуется. Того, что он напал на Эдипа в моей спальне, когда мой сын, а впоследствии и супруг впервые посетил меня, коротко и почтительно поздоровавшись со мной и тут же поднявшись ко мне в постель, по-видимому, избежать того нападения было нельзя. Очевидно, он хотел защитить честь Лая, именно он, Мнесип, который сам-то не очень считался с его честью. Я только успела вложить в руку Эдипа меч, последовал короткий бой, но Мнесип никогда не умел хорошо драться. Эдип приказал выбросить его труп на поругание коршунам, не из жестокости, нет, просто Мнесип катастрофически плохо провел бой, исходя из судейских оценок спортивных состязаний. Ну да, они были ниже всякой критики, спортсмены ведь строгий народ. И вот, поскольку я не осмелилась открыться Эдипу, чтобы не противиться воле богов, я не могла помешать ему и жениться на мне, охваченная ужасом, что твое пророчество, Панихия, исполнилось и я оказалась бессильна как-либо воспрепятствовать ему: сын ложится в постель к собственной матери, Панихия, я думала, я лишусь чувств от ужаса, а я лишилась их от сладострастия, никогда не испытывала я большего наслаждения, чем отдаваясь ему. Из моего чрева появился на свет прекрасный Полиник, рыжая, как я, Антигона, нежная Исмена и герой Этеокл. Отдаваясь по воле богов Эдипу, я мстила Лаю, за то, что он велел отдать моего сына на растерзание диким зверям и я годами лила горькие слезы, оплакивая моего сына, и поэтому каждый раз, когда Эдип заключал меня в объятия, я была едина с решением богов, пожелавших, чтобы я отдалась насильнику сыну и принесла себя в жертву. Клянусь Зевсом, Панихия, я принадлежала бесчисленному количеству мужчин, но любила одного Эдипа, которого боги определили мне в мужья, чтобы я, единственная из смертных женщин, подчинилась не чужому, а рожденному мною мужчине: себе самой. Мой триумф в том, что он меня любил, не ведая, что я его мать, и то, что самое противоестественное стало самым естественным, составило мое счастье, предопределенное мне богами. В их честь я и повесилась — то есть, собственно, я повесилась не сама, это сделал преемник Мнесипа, первый офицер из дворцовой охраны Эдипа Молорх. Когда он прослышал, что я мать Эдипа, он в бешенстве от ревности ко второму офицеру дворцовой охраны Мериону ворвался в мою спальню и с криком: горе тебе, кровосмесительница! — вздернул меня на дверной перекладине. Все думают, я повесилась сама. И Эдип так думает, и раз он по велению богов любил меня больше, чем собственную жизнь, он и ослепил себя. Настолько сильна его любовь ко мне — его матери и жене в одном лице. Хотя Молорх, может, приревновал меня вовсе и не к Мериону, а к третьему офицеру дворцовой охраны Мелонфу — забавно, имена всех моих дворцовых офицеров начинаются по велению богов на М, — но это вот уж действительно не имеет никакого значения, главное, я думаю, что по велению богов я сумела устроить так, чтоб жизнь моя кончилась в радости. Во славу Эдипу, моему сыну и супругу, Эдипу, которого я любила по велению богов сильнее, чем всех остальных мужчин, и во хвалу Аполлону, возвестившему твоими устами, Панихия, чистую правду.
— Ах ты шлюха! — закричала хриплым голосом Панихия. — Потаскуха этакая! Ты с твоим велением богов… Какая там еще чистая правда моими устами? Все пророчество было сплошным обманом!
Но крика не получилось, раздался лишь хриплый шепот, а из расщелины поднялась огромная тень, перед пифией встала стена, не пропускавшая слабый свет сизой ночи.
— Знаешь, кто я? — спросила тень, когда на ней проступило лицо с серыми глазами и холодным льдистым взглядом.
— Ты Тиресий, — ответила пифия, она ждала его.
— Ты знаешь, зачем я явился тебе, — сказал Тиресий, — хотя и чувствую себя довольно неуютно в этих испарениях, я ведь не страдаю ревматизмом.
— Я знаю, — сказала пифия с облегчением, болтовня Иокасты окончательно отравила ей жизнь. — Я знаю, ты пришел, потому что я должна сейчас умереть. Я это уже давно поняла. Задолго до того, как начали подниматься тени — Менекей, Лай, Эдип, потаскуха Иокаста и вот теперь ты. Спускайся вниз, Тиресий, я устала.
— И я сейчас тоже умру, Панихия, — сказала тень, — нас обоих не станет в один и тот же момент. Я только что, приняв свое подлинное обличье, напился, разгоряченный, из холодного источника Тельфусы.
— Я ненавижу тебя, — прошипела пифия.
— Перестань злиться, — засмеялся Тиресий, — давай помиримся и спустимся вместе в аид. — И тут вдруг Панихия заметила, что огромный, древний-предревний провидец вовсе не был слепым, его светло-серые глаза подмигнули ей. — Панихия, — молвил он отеческим голосом, — лишь одно неведение того, что ждет нас в будущем, заставляет нас примириться с настоящим. Меня всегда безмерно удивляло, как падки люди до того, чтобы узнать свое будущее. Казалось, они готовы предпочесть своему счастью несчастье, лишь бы только знать, что их ждет. Ну хорошо, мы жили за счет этой навязчивой зависимости людей от судьбы, я, признаюсь, гораздо лучше, чем ты, хотя разыгрывать из себя в течение семи жизней, подаренных мне богами, слепого было вовсе не так легко. Но людям вынь да положь слепого провидца, а разочаровывать своих клиентов не дело. Что же касается первого заказанного мною в Дельфах пророчества, связанного с судьбой Лая и так разгневавшего тебя, то не суди слишком строго. Провидцу тоже нужны деньги, мнимая слепота чего-то стоит, мальчику, водившему меня, ведь нужно было платить и каждый год менять его, потому что он непременно должен был оставаться семилетним, а спецслужба, а доверенные люди по всей Греции, и тут приходит этот Менекей… Знаю, знаю, ты нашла в архиве квитанцию только на пять тысяч талантов, уплаченных мною за пророчество, хотя Менекей дал мне за него пятьдесят — но, по сути, оно даже и не было пророчеством, а всего лишь предостережением, ведь у Лая, которому было сделано предостережение, что его сын убьет его, не только не было сына, но и не могло его быть чисто физически, я же, в конце концов, учел его роковую для продолжения династии предрасположенность.
Панихия, — продолжил примиряюще Тиресий, — я, так же как и ты, человек разумный и тоже не верю в богов, но я верю в разум, и поскольку я верю в разум, я убежден, что неразумную веру в богов нужно разумно использовать. Я демократ. Я же вижу, что наша старинная аристократия, ведущая свое происхождение от олимпийских богов, дошла до ручки и погрязла в трясине разврата, все они насквозь продажны и подкупны, готовы на любое грязное дело, а их моральное разложение не поддается никакому описанию. Достаточно только вспомнить вечно пьяного Прометея, налево и направо рассказывающего сказки, что орлы Зевса исклевали ему печень, тогда как у него цирроз на почве алкоголя, или возьми законченного обжору Тантала, впавшего теперь в другую крайность: не ест, не пьет, ссылаясь на строгости диеты для диабетиков. А посмотри на наши царские династии, я тебя умоляю. Фиест поедает на пиру своих сыновей, Клитемнестра убивает секирой мужа, Леда занимается любовью с лебедем, жена Миноса с быком. Благодарю покорно. А уж как представлю себе спартанцев с их тоталитарным государством — прости меня, Панихия, мне не хотелось бы обременять тебя политикой, — но спартанцы тоже ведут свое происхождение от спартов, от Хтония, одного из тех пяти бешеных воинов, что остались в живых, а Креонт происходит от Удея, отважившегося вылезти из земли, когда вся резня уже была позади. Моя дорогая Панихия, Креонт — преданная душа, согласен, преданность есть нечто чудесное и в высшей степени порядочное, и с этим согласен, но без преданности не состоялась бы ни одна диктатура, преданность — это та твердыня, на которой зиждется тоталитарное государство, без преданности оно рухнет, рассыпавшись в прах; демократия же нуждается в некоем умеренном отступничестве и непостоянстве, в некоей ветрености и легкомыслии, в аморфности мысли и избытке фантазии. А есть ли у Креонта фантазия? Из него вылупится чудовищный государственный деятель, Креонт из спартов, как и спартанцы тоже их потомки. Мой намек Лаю, он должен остерегаться своего сына, иметь которого он не мог, было предостережением ему не сделать своим наследником Креонта, Лай неминуемо привел бы его к власти, если бы не принял заблаговременно мер: в конце концов, одним из его генералов был Амфитрион, самый лучший и благороднейший воин высокородного происхождения, его жена Алкмена еще более высокого рода или его, а может, и не его сын Геракл — оставим эти бабские сплетни. Роду Кадма пришел конец, Лай это понимал, помня о своих неотвратимых пристрастиях, а ведь я всего только и хотел подсказать ему своим пророчеством, что было бы умно с его стороны усыновить Амфитриона, но он не усыновил его. Лай оказался не столь умен, как я думал.
Тиресий умолк, помрачнел, посуровел.
— Все лгут, — сказала, как припечатала, пифия.
— Кто лжет? — спросил Тиресий, все еще погруженный в свои мысли.
— Тени, — ответила пифия, — никто не говорит правды до конца, за исключением Менекея, но тот слишком глуп, чтобы лгать. Лай лжет, и потаскушка Иокаста лжет. Даже Эдип не во всем честен.
— Ну, в общем и целом да, — согласился Тиресий.
— Может, конечно, все и так, — сказала пифия с горечью, — но только про Сфинкс он врет. Чудовище с лицом и грудью женщины и телом льва. Смех один.
Тиресий долгим взглядом посмотрел на пифию.
— Ты хочешь знать, кто такая Сфинкс? — спросил он.
— Ну кто? — спросила Панихия.
Тень Тиресия приблизилась к ней, накрыла ее, заслонив собой почти по-отечески.
— Сфинкс, — начал рассказывать Тиресий, — была столь прелестна, что я вытаращил глаза, когда увидел ее впервые в окружении ручных львиц, это было перед ее гротом на горе Фикион близ Фив. «Иди сюда, Тиресий, ты, старый мошенник, прогони своего мальца в кусты и сядь рядом со мной», — заворковала она. Я был рад, что она не произнесла этих слов при мальчике, она знала, что я только разыгрываю из себя слепого, но сохранила мою тайну. И вот я сел подле нее на расстеленную шкуру, львицы так и кружили, мурлыкая, вокруг нас. Пряди ее длинных, мягких, белокурых волос делали Сфинкс таинственной и лучезарной, она была просто чем-то совсем настоящим. И только когда она застыла словно камень — я испугался, Панихия, один только раз видел я ее такой: когда она рассказывала мне про свою жизнь. Ты ведь знаешь несчастную семью Пелопса. Высочайшего происхождения, от героев. Так вот, юный Лай, не успев стать царем Фив, соблазнил знаменитую Гипподамию, тоже особу высокородную. Ее супруг отомстил за себя в стиле этой семейки: Пелопс оскопил Лая и отпустил повизгивающим восвояси. Дочь, родившуюся у Гипподамии, сама мать в насмешку назвала Сфинкс, «душительница», и посвятила ее в жрицы Гермесу, проклиная и обрекая ее на вечную девственность, но с расчетом, чтобы Гермес, бог торговли, покровительствовал экспорту на Крит и в Египет, чем жили Пелопсы; и при всем при этом Гипподамия совратила и Лая, не то чтобы в ответ, а, как все аристократы, она тоже умела совмещать приятное с жестоким и жестокое с полезным. А вот почему Сфинкс осадила на горе Фикион своего папашу в Фивах и отдавала каждого, кто не мог отгадать ее загадку, на растерзание своим львицам, она мне не открыла, может потому, что догадалась, что я пришел к ней по поручению Лая выпытать у нее ее намерения. Она передала мне только приказ — Лай должен покинуть Фивы вместе со своим возницей Полифонтом. К моему великому удивлению, Лай повиновался.
Тиресий задумался.
— То, что случилось потом, — сказал он, — тебе, пифия, самой известно: роковая встреча в тесном ущелье между Дельфами и Даулем, убийство Лая и Полифонта Эдипом и его встреча со Сфинкс на горе Фикион. Ну хорошо. Эдип разрешил загадку, и Сфинкс бросилась с горы вниз.
Тиресий умолк.
— Что ты болтаешь, старый, — сказала пифия, — зачем рассказываешь мне эту байку?
— Эта история мучает меня, — сказал Тиресий. — Можно я сяду с тобой? Я озяб, холодный источник Тельфусы сжигает мне нутро.
— Садись на треножник Гликеры, — ответила пифия, и тень Тиресия взгромоздилась рядом с ней над расщелиной. Повалившие пары´ сгустились и окрасились в алые тона.
— А почему она тебя мучает? — спросила пифия почти по-дружески. — Что такое история этой Сфинкс, как не побочное свидетельство того, каков был конец жалкого рода Кадма? Кастрированный царь и прóклятая на вечную девственность жрица.
— Что-то в этой истории не сходится, — сказал Тиресий задумчиво.
— Да в ней ничего не сходится, — подтвердила пифия, — это и неважно, что в ней ничего не сходится, потому что для Эдипа никакой роли не играет, был ли Лай гомиком или кастратом, так или иначе он не был его отцом. А история Сфинкс сама по себе совершенно второстепенна.
— Вот именно это и беспокоит меня, — пробормотал Тиресий, — не бывает никаких второстепенных историй. Все взаимосвязанно. Стоит только потрясти в одном месте, как зашатается все целиком. Панихия, — замотал он головой, — как получилось так, что именно ты своим пророчеством предрекла то, что произошло потом? Ведь без твоего прорицания Эдип не женился бы на Иокасте и сидел бы сейчас преспокойно на троне в Коринфе. Нет, я не собираюсь тебя обвинять. Больше всех виноват я. Эдип убил своего отца, ладно, бывает, переспал со своей матерью. Ну и что? А вот то, что все это вылезло как беспримерный прецедент наружу, уже чистая катастрофа. Будь проклято мое последнее провидение по поводу этой вечной моровой язвы! Вместо того чтобы сделать приличную канализацию, подавай им опять очередное пророчество.
При этом я же был в курсе. Иокаста мне во всем покаялась. Мне было известно, кто настоящий отец Эдипа: какой-то нестоящий офицер дворцовой охраны. И я понимал, на ком он женился — на своей матери. Ну хватит, подумал я, пора наводить порядок. Кровосмешение кровосмешением, но у Эдипа с Иокастой как-никак четверо детей, их брак надо спасти. Единственный, кто еще мог угрожать ему, был до ужаса честный Креонт, преданный своей сестре и своему зятю, и если бы он дознался, что его зять ему племянник, а дети его зятя ему племянники, равноправные его племянникам от его племянника, у него от этого свихнулись бы набекрень мозги и он свергнул бы Эдипа, уже из-за одной только преданности моральным устоям. И мы получили бы в Фивах такое же тоталитарное государство, как в Спарте — бесконечные войны с потоками крови, ликвидация неполноценных детей, ежедневная военная муштра на плацу, геройство как гражданская повинность, и тогда я инсценировал величайшую в своей жизни глупость: я был убежден, Креонт убьет Лая в тесном ущелье между Дельфами и Даулем, чтобы самому стать царем, из преданности, конечно, на сей раз своей сестре, отомстя за ее сына, потому что он свято верил, что устраненный с дороги Эдип — сын Лая, наивная простота Креонт даже мысли не допускал о супружеской неверности сестры; и всю эту комбинацию я сконструировал так только потому, что Иокаста скрыла от меня, что Эдип убил Лая. Я склонен теперь думать, она знала об этом. Я уверен, что Эдип рассказал ей о случае, происшедшем с ним в тесном ущелье между Дельфами и Даулем, и что она только сделала вид, что не знает, чьей жертвой пал Лай. Иокаста должна была сразу обо всем догадаться.
Ну почему, Панихия, люди раскрывают только подобие правды, как будто в правде детали не самое важное? Может, потому, что люди сами — лишь подобие. Эта проклятая неточность. В данном случае она, пожалуй, вкралась потому, что Иокаста просто обо всем забыла, ведь смерть Лая ничуть не тронула ее, она выпустила из виду этот пустячок, и все тут, но этот пустячок, он открыл бы мне глаза и помешал бы направить подозрение на Эдипа как на убийцу Лая, мне следовало бы так сформулировать твое пророчество: Аполлон повелевает вам построить канализацию, и тогда Эдип по сей день был бы царем в Фивах, а Иокаста, как и прежде, царицей. А вместо этого? Теперь в Кадмее восседает преданный им Креонт и трудится над возведением своего тоталитарного государства. Случилось то, чему я хотел воспрепятствовать. Пошли вниз, Панихия.
Старуха взглянула на открытый вход в святилище. В клубах красноватых испарений ясно вырисовывался светлый проем портала, за ним простиралась вся еще во власти ночных красок земная твердь; и вдруг возник неопределенного вида клубок, постепенно принимавший все более ясные очертания, став потом желтым и оформившись наконец во львиц, терзающих мясной оковалок; затем львицы исторгли из себя проглоченные куски назад, и из их лап вырвалось человеческое тело; разодранные клочья тонкой ткани срослись, львицы отступили, и в проеме портала появилась женщина в белом одеянии жрицы.
— Не надо мне было приручать львиц, — произнесла она.
— Мне очень жаль, — сказал Тиресий, — но конец твой поистине ужасен.
— Это только так выглядит со стороны, — успокоила его Сфинкс, — даже досада берет, что ничего не чувствуешь. Ну а теперь, когда все уже позади и вы оба скоро тоже станете лишь тенями — пифия тут и Тиресий сначала тут, в пещере, а потом уже у источника Тельфусы, — вы должны узнать правду. Клянусь Гермесом, какой тут сквозняк! — Она стала поспешно подхватывать свои тонкие прозрачные одежды.
— Ты всегда удивлялся, Тиресий, — продолжила она свою речь, — почему я осадила со своими львицами Фивы. Так вот, мой отец был не тем, за кого он себя выдавал и кем ты его считал для успокоения своей совести. Он был коварным и суеверным тираном. Он прекрасно знал, что любое тиранство становится тогда невыносимым, когда опирается на принципы; нет ничего невыносимее для человека, чем тупая справедливость. Именно ее он воспринимает как несправедливую. Все тираны, основывающие свою власть на принципах — на всеравенстве или всеобщности, — будят в тех, над кем они властвуют, несравненно более сильное ощущение их угнетенности, чем тираны, которые, вроде Лая, ленивы на всякого рода увертки и довольствуются тем, что просто пребывают в тиранах, даже если они по сути своей более гнусные правители: поскольку их тиранство капризно и непредсказуемо, у их подданных создается иллюзия некоторой свободы. Они не ощущают, что над ними довлеют постоянный диктат и произвол, не оставляющие им ни малейшей надежды, нет, им кажется, они подвержены капризам произвола, и в промежутках между ними они усматривают лазейки для собственных надежд.
— Черт побери, — воскликнул Тиресий, — а ты умна.
— Я много думала о людях, расспрашивала их, прежде чем загадать им свою загадку и отдать их на растерзание моим львицам, — ответила Сфинкс. — Меня интересовало, почему люди позволяют властвовать над собой: от лени и тяги к покою, заходившими зачастую так далеко, что они выдумывали безумные теории ради чувства собственного единения со своими властителями, а те в свою очередь тоже измышляли такие же безумные теории ради собственной веры, что они не подчиняют себе тех, кем правят. Но только моему отцу все это было безразлично. Он принадлежал еще к тем авторитетам, которые гордились быть носителями неограниченной власти. Он не считал нужным прибегать к уверткам для проявления своего деспотизма. Его мучило только одно — его роковая судьба: то, что его кастрировали и тем самым положили роду Кадма конец. Я чувствовала его грызущую тоску, его злобные мысли, коварные планы, ворочавшиеся в его голове, когда он навещал меня, часами сидя передо мной и тайком следя за мной, и я стала бояться своего отца, вот тогда-то я и начала приручать львиц. И мои страхи оказались не напрасными. Умерла жрица, воспитавшая меня, и я осталась жить одна со своими львицами в святилище Гермеса в горах Киферона. Панихия, тебе я хочу рассказать об этом, да и ты, Тиресий, пожалуй, тоже можешь послушать: вот тогда ко мне и пришел Лай со своим возницей Полифонтом.
Они появились из леса, где-то в стороне пугливо ржали их кони, рыкали львицы, и у меня родилось предчувствие чего-то дурного, но меня как сковало. Я впустила их в святилище. Мой отец запер на засов дверь и приказал Полифонту изнасиловать меня. Я сопротивлялась. Мой отец помог Полифонту — он обхватил меня сзади, и Полифонт приступил к выполнению его приказания. Львицы с ревом носились вокруг святилища. Мощные удары их лап обрушивались на дверь. Она не поддалась. Я закричала, когда Полифонт овладел мною; львицы умолкли. Они дали Лаю и Полифонту беспрепятственно уйти.
В то же самое время, когда Иокаста родила от своего офицера дворцовой охраны сына, я тоже произвела на свет мальчика — Эдипа. Мне ничего не было известно про глупое пророчество, сформулированное тобой, Тиресий. Я знаю, ты хотел предостеречь моего отца и помешать приходу Креонта к власти и ты хотел обеспечить мир. Но, не говоря уже о том, что Креонт пришел к власти и начинается затяжная война, потому что против Фив выступило семь вождей, ты еще жестоко ошибся в Лае. Я знаю его пышные фразы: он выдавал себя за просвещенного правителя, а сам прежде всего верил в пророчества и больше всего испугался, когда ему предсказали, что его сын убьет его, Лай отнес это пророчество на счет моего сына, его внука; то, что он заодно избавился, подстраховавшись, еще и от сына Иокасты и ее офицера дворцовой охраны, было само собой разумеющимся: игры диктатора, зачем искушать судьбу.
И вот однажды вечером передо мной появился пастух Лая с младенцем на руках, лодыжки ног мальчика были проткнуты и связаны вместе. Пастух передал мне послание, в котором Лай приказывал мне бросить моего сына, своего внука, вместе с сыном Иокасты львицам на съедение. Я поднесла пастуху вина, и тот, охмелев, признался мне, что Иокаста подкупила его: он должен передать ее сына знакомому пастуху коринфского царя Полиба, не раскрывая тому происхождение ребенка. Когда пастух заснул, я бросила сына Иокасты львицам, проколола своему сыну лодыжки, и на следующее утро пастух отправился с запеленутым детенышем дальше, не заметив подмены.
Не успел он уйти, явился мой отец с Полифонтом; львицы лениво потягивались, около них на земле лежала детская ручонка с обескровленными пальчиками, бледненькая и маленькая, как цветок. «Львицы разорвали обоих детей?» — хладнокровно спросил мой отец. «Обоих», — ответила я. «Я вижу только одну ладошку», — сказал он, перевернув ее копьем. Львицы зарычали. «Львицы разорвали обоих, — сказала я, — но оставили только одну ладошку, и тебе придется этим довольствоваться». — «Где пастух?» — спросил мой отец. «Я отослала его», — ответила я. «Куда?» — «В одно святилище, — сказала я, — он был твоим орудием, но он — человек. У него есть право очиститься от своей вины, что он стал твоим орудием, а теперь ступай». Мой отец и Полифонт помедлили еще, но тут поднялись разгневанные львицы, прогнали обоих и не спеша вернулись назад.
Мой отец не отважился больше появляться у меня. Восемнадцать лет я не давала о себе знать. А потом я начала со своими львицами осаду Фив. Наша вражда вылилась наружу, однако мой отец не осмелился раскрыть причину этой войны. Раздосадованный и все еще напуганный пророчеством, ведь наверняка он знал только, что один ребенок был мертв, а что, если другой жив, и он не знает какой, он опасался, что где-то в живых остался его внук и я нахожусь с ним в заговоре. Он послал ко мне тебя, Тиресий, чтобы выпытать у меня.
— Он не сказал мне правды, и ты тоже не открыла мне ее, — с горечью произнес Тиресий.
— Если бы я сказала тебе правду, ты бы опять инсценировал очередное пророчество, — засмеялась Сфинкс.
— А почему ты приказала своему отцу покинуть Фивы? — спросил Тиресий.
— Потому что я знала, что смертельный страх обуял его и он собрался в Дельфы. Я же не могла предвидеть, какую кашу заварила там тем временем Панихия со своим гениальным пророчеством, я думала, придет Лай, там пороются в архиве во избежание несовпадений и повторят ему старый ответ, что повергло бы его в еще больший страх и трепет! А теперь одним только богам известно, что произошло бы, если бы Лай обратился с вопросом к Панихии, и что бы она ему там насочиняла и во что бы он поверил. До этого дело не дошло, Лай и Полифонт столкнулись в тесном ущелье между Дельфами и Даулем с Эдипом, и сын не только заколол своего отца Полифонта, но и замучил до смерти своего деда, хлестнув коней, понесшихся вскачь.
Сфинкс умолкла. Пары΄ рассеялись, треножник рядом с пифией опустел. Тиресий опять превратился в огромную тень, сливавшуюся с глыбами тесаного камня, громоздившимися друг на друга перед главным порталом, в проеме которого белел силуэт Сфинкс.
— А потом я стала возлюбленной своего сына. Многого не расскажешь о тех его счастливых днях, — произнесла после долгого молчания Сфинкс, — счастье не терпит лишних слов. До Эдипа я презирала людей. Они изолгались и, утратив естественность, не догадывались, что загадка — у какого из всех живущих на земле существ меняется в течение его жизни число ног: утром оно ходит на четырех, днем на двух, а вечером на трех, и когда оно ходит на четырех ногах, тогда меньше всего у него сил и оно медленнее всего двигается — имела в виду их самих, потому-то я без числа и отправляла их, не сумевших дать разгадку, на растерзание своим львицам. Они кричали о помощи, когда львицы рвали их на части, я не помогала им, я только смеялась.
Но когда пришел Эдип, хромая, из Дельф и ответил мне: Это человек, который ползает, пока он мал и слаб, на четвереньках, ходит в зрелом возрасте прочно на двух ногах, а в старости опирается на палку, — я не бросилась вниз с горы Фикион. Ради чего? Я стала его возлюбленной. Он никогда не спрашивал меня о моем происхождении. Он заметил, конечно, что я жрица, и, будучи набожным человеком, помнил о запрете сожительства с одной из них, но, поскольку он все же жил со мной, он притворялся неведущим и не задавал мне никаких вопросов относительно моей былой жизни, а я не расспрашивала его, даже не интересовалась его именем, чтобы не повергнуть его в смущение. Я хорошо понимала, что, открыв мне свое имя и свое происхождение, он стал бы опасаться Гермеса, в чьи жрицы я была посвящена и кому отныне стало бы известно и его имя, ведь, как все набожные люди, он считал богов ужасно ревнивыми, а может, у него было предчувствие, что, выпытав у меня о моем происхождении, о чем он, собственно, должен был бы полюбопытствовать, как всякий любящий, он наткнулся бы на то, что я его мать. А он боялся узнать правду, и я боялась того же. Так он не знал, что он мой сын, а я — что я его мать. Счастливая, что у меня есть любимый, которого я не знаю и который не знает меня, я вернулась со своими львицами назад в свое святилище в горах Киферона; Эдип приходил ко мне все чаще и чаще, наше счастье было непорочным, как и сама сокровенная тайна.
Только львицы становились все неспокойнее и злее, но не к Эдипу, а ко мне. Они рычали на меня, возбуждаясь все сильнее, все больше выходя из повиновения и все чаще поднимая на меня свои когтистые лапы. Я отбивалась от них кнутом. Они опускались на землю с грозным рычанием, и, когда Эдип перестал появляться, они набросились на меня, и я мгновенно поняла, что произошло нечто непостижимое — ну вот, вы видели, что случилось тогда со мной и бесконечно случается в преисподней. И когда сквозь расщелину, над которой сидит Панихия, до меня донесло ветром ваши голоса, я вняла истине, услышав ту правду, которую мне положено было знать давным-давно, но и она не в силах уже больше ничего изменить: мой возлюбленный был моим сыном и ты, Панихия, провозгласила тогда истинную правду.
Сфинкс начала смеяться, как смеялась прежде пифия при появлении Эдипа. И смех ее тоже становился все неудержимее, и, даже когда львицы опять набросились на нее, она все смеялась, и когда они в клочья изодрали ее белое платье и начали рвать ее на части, она все еще смеялась. Ну а потом уже ничего нельзя было разобрать, осталось ли там что после желтых бестий, смех отзвенел, львицы подлизали языками кровь и исчезли. Из расщелины вновь повалили испарения. Алые, как маковый цвет. Умирающая пифия осталась одна с едва различимой тенью Тиресия перед входом.
— Удивительная женщина, — произнесла тень.
Ночь отступила перед свинцово-сизым утром, оно как-то стремительно заполнило весь каменный свод святилища. Но то было еще не утро, но уже и не ночь — нечто неосязаемое неудержимо вторгалось, переливаясь снаружи вовнутрь, ни свет, ни темень — без теней и без красок. Как всегда в эти самые первые ранние часы, испарения опустились холодной изморосью на каменные плиты, осели на стенах в скале, повисли черными каплями, падающими постепенно под собственной тяжестью, повисая длинными тонкими нитями, исчезающими в расщелине скалы.
— Только одного я не понимаю, — сказала пифия. — То, что мое пророчество сбылось — пусть и не так, как представляет себе Эдип, — всего лишь невероятнейшее случайное совпадение. Но если Эдип с самого начала верил в прорицание и первый человек, кого он убил, был возница Полифонт, а первая женщина, ставшая его любовью, Сфинкс, почему он тогда не заподозрил, что его отцом был возница, а его матерью Сфинкс?
— А потому, что Эдип хотел лучше быть сыном царя, чем возницы. Он сам себе выбрал свою судьбу, — ответил Тиресий.
— Мы с нашими прорицаниями, — застонала пифия в ярости, — только благодаря Сфинкс узнали мы правду.
— Не знаю, — произнес в задумчивости Тиресий. — Сфинкс — жрица Гермеса, бога воров и плутов.
Пифия умолкла; испарения не поднимались больше из расщелины, и она мерзла.
— С тех пор как они начали строить театр, — заявила она, — испарений стало намного меньше. — Помолчав, она еще добавила: — Сфинкс, пожалуй, только в отношении фиванского пастуха сказала неправду. Она вряд ли послала его в святилище, скорее отдала на съедение львицам, как и Эдипа, сына Иокасты. А своего Эдипа, своего сына, того она собственноручно передала коринфскому пастуху. Сфинкс действовала так, чтобы ее сын наверняка остался в живых.
— Не думай об этом, старушка, — засмеялся Тиресий, — выкинь из головы, что там было не так и еще не раз окажется не так, чем дольше мы будем в этом разбираться. Не ломай больше голову, а то из преисподней поднимутся новые тени и не дадут тебе спокойно умереть. Откуда ты знаешь, может, есть еще и третий Эдип? Нам же неизвестно, а вдруг коринфский пастух вместо сына Сфинкс — если это вообще был сын Сфинкс — отдал царице Меропе своего сына, также предварительно проколов ему лодыжки, а настоящего Эдипа, который, может, и не был настоящим, отдал на съедение хищным зверям, или, может, Меропа бросила третьего Эдипа в море, а своего собственного сына, рожденного ею тайно — может, тоже от офицера дворцовой охраны, — предъявила доверчивому Полибу как четвертого Эдипа? Истина сокрыта от нас, и давай оставим ее в покое.
Забудь старые истории, Панихия, они не столь важны, во всей этой катавасии мы с тобой главные действующие лица. Мы оба столкнулись с чудовищной действительностью, которая сама по себе такая же тайна за семью печатями, как и человек, порождающий ее. Может, боги, если бы они существовали, пребывая за пределами этого гигантского клубка фантастически переплетенных друг с другом фактов, способствовавших тому, что имели место те беспрецедентные по бесстыдству случаи, составили бы себе некоторое, хотя и поверхностное, представление обо всем, а мы, смертные, варясь в котле этой невиданной неразберихи, только беспомощно барахтаемся в ней. Мы оба надеялись, изрекая пророчества, привнести в нее робкую видимость порядка, хоть малую толику законности в тот мутный, грязно-похотливый и зачастую кровавый поток событий, обрушивавшихся на нас и затягивавших нас, и именно потому, что мы пытались — пусть хоть и в малой дозе — обуздать их.
Ты предсказывала с фантазией, по настроению, из озорства, пожалуй, даже отчасти с беспардонным нахальством, короче: шалила кощунственно и остроумно. Я формулировал свои пророчества трезво, с холодным рассудком, железной логикой, или короче: по законам разума. Согласен, твое пророчество — полное попадание. Был бы я математиком, я бы точно рассчитал, какова вероятность того, что твое пророчество сбудется: оно было фантастически невероятным и вероятность его мала до бесконечности. Но, несмотря ни на что, оно сбылось, тогда как мои наиболее вероятные, построенные на разумных расчетах, преследовавшие цель вершить политику и изменить мир в духе разумного начала, оказались холостым выстрелом. Я глупец. Подчинив все разуму, я высвободил цепную реакцию причин и поступков, приведших к результатам, противоположным тому, к чему я стремился. И тут вмешиваешься ты, такая же безрассудная, как и я, с твоей неуемной раскованностью, и начинаешь напролом, с бухты-барахты вещать, чем коварнее и злее, тем вдохновеннее, почему так — давным-давно уже неважно, а кому во зло, тебя тоже абсолютно не волновало; и вот однажды чисто случайно ты предсказываешь бледному хромающему юноше по имени Эдип. Какая польза тебе, что твое прорицание попало в самую точку, а я ошибся? В нанесенном нами чудовищном ущербе мы виновны поровну. Выбрось свой треножник, пифия, твое место там, внизу, в преисподней, да и мне пора в могилу, источник Тельфусы сделал свое дело. Прощай, Панихия, но не надейся, что пути наши разойдутся. Как я, стремившийся подчинить мир своему разуму, противостою сейчас тебе в этой промозглой дыре, тебе, пытавшейся обуздать мир своими спонтанными фантазиями, так и те, для кого мир — воплощение порядка, будут на веки вечные конфронтировать с теми, для кого мир — непредсказуемое чудовище. Одни будут считать, что этот мир можно критиковать, другие будут принимать его таким, каков он есть. Одни будут считать, что мир можно изменить, как можно изменить камень, придавая ему резцом заданную форму, другие будут высказывать опасения, что мир со всей его непредсказуемостью, изменяясь, будет, подобно чудовищу, гримасничать, корча все новые рожи, и что мир можно критиковать только в тех пределах, в каких тончайший слой человеческого разума способен влиять на сверхмощные, тектонические силы человеческих инстинктов. Одни будут обзывать других пессимистами, а те высмеивать их как утопистов. Одни будут утверждать: история вершится по определенным законам, а другие говорить: эти законы существуют только в человеческом воображении. Противоборство между нами двоими, Панихия, вспыхнет во всех сферах, противоборство провидца и пифии; пока еще оно носит эмоциональный характер и в нем мало конструктивного, но уже строят театр, уже в Афинах неизвестный поэт слагает рифмы, описывая трагедию Эдипа. Однако Афины — провинция, и Софокла забудут, а Эдип будет жить вечно, как материал и тема, задавая нам все время Эдипову загадку. Боги ли предрешили его судьбу или он сам — тем, что согрешил против принципов, на которых зиждется общество своего времени, от чего я пытался оградить его своим провидением, или, может, он пал жертвой случая, вызванного к жизни твоим причудливым пророчеством?
Пифия ничего больше не ответила, ее вдруг вовсе сразу не стало, пропал и Тиресий, а с ним и свинцово-сизое утро, тяжелым бременем придавившее Дельфы, тоже погрузившиеся в вечность.