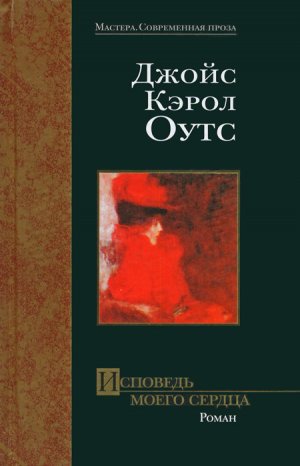
Пролог
Принцесса, которая умерла в Старом Мюркирке[1]
Она не была уроженкой Лондона, судя по выговору, она скорее всего не была даже англичанкой. Сара Уилкокс. Сара Худ. Девятнадцати лет от роду, хрупкая и шустрая, как хорек, — ни особого блеска в глазах, ни особой красоты волос, тем не менее она была любимой служанкой госпожи, самой прилежной служанкой госпожи; она внимательно прислушивалась к тому, что проходили хозяйские дети на уроках французского, латыни, музыки, математики, истории королей старой Англии и Франции; к тому, как дети молились; пристально наблюдала за друзьями хозяйки в великолепных домах и королевских дворцах: как склонять голову, как слегка повышать голос, как томно поднимать очи горе, словно сам Господь взирает на тебя со своего небесного трона: ах, всего лишь невинное кокетство! Сара умела исполнять любое распоряжение госпожи прежде, чем оно было отдано, повиноваться приказам хозяина безропотно, без единого звука; казалось, она была начисто лишена собственной воли и, разумеется, какой бы то ни было хитрости, хотя даже само имя Сара не было ее настоящим именем, а по ее выговору было легко понять, что она родилась не в Лондоне и даже, похоже, не была англичанкой.
Однажды, нарядившись в самое изысканное шелковое платье хозяйки, украсив себя ее баснословно дорогими драгоценностями и вплетя в волосы хозяйкин шиньон, Сара торжественно подплыла к ее зеркалу в золотой оправе и даже осмелилась точь-в-точь хозяйкиным голосом произнести: Кто это там такой великолепный — маленькая Сара или ее хозяйка? На что зеркало со смехом ответило: Твоя хозяйка, маленькая Сара, никогда не выглядела так великолепно. А вскоре после этого хозяйка в сопровождении свиты собралась посетить королеву Шарлотту, жену короля Георга III, в ее роскошном дворце в Уорикшире. На сей раз золотые монеты осели в глубоких потайных карманах Сары и вырезе платья на ее изящной маленькой груди, и она молила Бога: Благослови меня, Господь! Бог услышал мольбу, и ему ничего не оставалось делать, как повиноваться. На ее изящные тонкие пальчики слетелось множество перстней, шею обвили золотые цепочки, ожерелья из жемчуга, изумрудов, сапфиров, бриллиантов, рубинов; бархат и кружева, шелка и атласы задрапировали ее маленькую грациозную фигурку. Она смотрела на себя и улыбалась, смотрела — и плакала от радости, в ее миндалевидных глазах искрились лукавство и озорство, губы были сладкими, словно перезревшие, уже треснувшие сливы, ее детское еще тело — ловким и гибким, как тело угря, и все зеркала в личных покоях королевы Шарлотты кричали: «ВОТ САРА, БЛАГОСЛОВЛЕННАЯ БОГОМ!»
Она отправилась на восток, где ее никто не знал. Потом — на запад, где ее никто не знал. Огромная лязгающая почтовая карета пронесла ее на север, а оттуда Сара метнулась на юг, где ее никто не знал. И все же, когда над Дуврской дорогой взошла Венера, полиция опознала Сару по отороченному горностаями плащу королевы Шарлотты, ее высокому белому парику, шелковому платью, а также по жемчужному ожерелью хозяйки; Сара захлебнулась от яростных слез, когда грубые шершавые руки посмели прикоснуться к ней, — ибо разве не была она особой королевских кровей и не направлялась ли к своему горячо любимому отцу, который, прощаясь с жизнью по другую сторону Ла-Манша, призвал Сару к своему скорбному одру, чтобы благословить ее прежде, чем смерть приберет его?
Неужели ее, любимую служанку своей хозяйки, могли принять за обыкновенную воровку, отвезти обратно в Лондон и предать в руки палача?..
Но вот уже предательским звоном выдали себя все ее золотые монеты, и сверкающие перстни соскользнули с пальцев; цепочки, жемчуга, ожерелья из драгоценнейших камней содраны с шеи (за исключением припрятанного благодаря ее нечеловеческой ловкости единственного золотого медальона на тоненькой золотой цепочке, принадлежавшего самой королеве); из глаз Сары, словно маленькие камешки, покатились злые непрошеные слезы, когда хозяйка в порыве раздражения изо всех сил ударила по лицу ее, знавшую прежде лишь хвалу и ласку. Сара кинулась в ноги хозяйке, моля о пощаде, она в кровь расцарапала себе грудь, предавалась самому жалобному раскаянию, возводила очи горе, твердила о своем умирающем во Франции отце, и наконец хозяйка смилостивилась, замолвила за нее словечко, попросив, чтобы Сару, вместо того чтобы повесить как обычную воровку на рыночной площади, на Чипсайде, отправили в Америку в качестве рабыни. Шел 1771 год.
После выпрошенного для нее любимой хозяйкой помилования Сара погрузилась в долгое забытье, но очнулась с жестокими проклятиями на устах. Чтобы покарать, Бог забросил ее в открытое море на корабле «Мэйхью», в самую глубину темного трюма, где сам воздух, казалось, колебался от зловонных миазмов, где мужчины, женщины, дети, новорожденные непрерывно умирали в собственных испражнениях. И Сара Уилкокс, осужденная воровка, умирала среди них в возрасте всего-то двадцати лет. Умирала, захлебываясь собственной блевотиной. Умирала от дизентерии. От оспы, от тифа, от менингита, от муки, зараженной ядовитыми личинками, от отравленной воды. Губы ее покрылись язвами, веки слиплись от гноя. Она умирала, давая жизнь существу, слишком слабому и тщедушному, чтобы выжить. Умирала, зная, что грудь ее слишком мала, чтобы давать молоко, и что ее дитя обречено на смерть. Куда подевалось все ее обаяние? Ни один мужчина и прикоснуться теперь не захотел бы к этому гниющему телу. Тем не менее сердце Сары было сжато, словно кулак, и глаза тускло мерцали из-под слюдяной пелены, когда она, преклонив колена, со слезами возносила молитву: Господи, неужели у Тебя нет сострадания? Ведь я — раба твоя Сара, всегда Тебе повиновавшаяся, — заброшена одна-одинешенька в мир дьявола.
Но во мне течет королевская кровь, упрямо шептала она, независимо от того, куда забросила меня сейчас злая судьба.
И Бог в бесконечной милости своей счел возможным превратить Сару в пронзительно кричащую морскую птицу, большую белокрылую чайку со злыми желтыми глазами, выклевывающую отбросы из кильватерной пены. Голод сделал ее алчной, самой быстрой и жестокой в огромной стае, она, Сара, всегда наедалась досыта и набивала желудок впрок, похваляясь: Во мне течет королевская кровь, среди какого бы смрада ни приходилось сейчас выживать.
Дни сменялись ночами, солнце и луна играли на небе в догонялки, а в ней неотступно бушевала ярость, пока воздух над «Мэйхью» не стал черным из-за обилия птиц и многие недели плавания через океан не слились в один долгий час.
В Массачусетсе, в городке Марблхед, ее под именем САРЫ УИЛКОКС продали некоему Иеремии Худу, колониальному чиновнику, согласно договору — на 28 лет. Она смиренно склонила голову и возблагодарила Бога и мистера Худа за милосердие. Спала она на тряпье, брошенном поверх угольной кучи, но во сне видела себя восхитительной золотисто-бронзовой змейкой, ловко вползающей на брачное ложе хозяина. Вскоре язвы и гнойники на ее губах исчезли, волосы снова стали густыми и светлыми, маленькие невыразительные глаза засветились лукавством, ибо Новый Свет оказался не нов, равно как не был старым Свет Старый — и кто еще мог претендовать на королевское достоинство здесь, где все были переселенцами?
Ее хозяйка Элиза Худ умерла морозным утром 1773 года; какой-то внутренний огонь, поднявшись к самому горлу, спалил ее, и теперь милая благочестивая Сара спала в широкой, с пологом, кровати хозяина, а Бог умильно взирал с высоты на молодоженов.
Монеты снова зазвенели в карманах Сары; когда она говорила, в ее речах слышалось нечто царственное, когда возводила глаза к небу, в них светилось королевское достоинство, когда она читала Библию, собрав вокруг себя всех слуг, она была королевой, и все благоговейно трепетали, глядя на нее. Старый Иеремия восхищался ее безупречным чистым сопрано, а во чреве у нее росло дитя, вскоре превратившееся, однако, в камень, и тогда старик раскаялся в своем грехе и попросил прощения у Бога, ему не была больше нужна ни ее латынь, ни ее французский, ни умение изящно вышивать, ни ее слезы; и вот уже Иеремия умирает от огня, сжигающего ему горло, а Сара незаметно исчезает из Марблхеда на исходе зимы 1775 года и скитается под фамилиями Йорк, Уинтроп, Тэлбот, ее длинные светлые волосы надежно упрятаны под мужской шляпой, а стройная женская фигурка умело облачена в мужской костюм. В Род-Айленде она азартно играет в карты, в Делавэре спускается на юг по реке, направляясь к умирающему отцу, — чего ты ищешь, Сара? чего и где? — в Мэриленде она демонстрирует восхищенной публике умение танцевать все придворные английские танцы, легко перебирая маленькими быстрыми ножками и высоко держа прелестную головку, ее сверкающие глаза излучают очарование юной женственности. В огромных зеркалах бальных залов Виргинии многократно отражается грациозная фигурка принцессы Сюзанны Кэролайн Матильды, и могла ли столь обаятельная английская гостья не очаровать хозяев рассказами о своей сестре-королеве, шурине-короле и — ну, конечно же! ах! — о бесконечных придворных интригах?! Могла ли она не обворожить каждого, кто слышал ее безупречно чистое сопрано, ее искусную игру на фортепиано, ее очаровательный французский, правильную латынь, кто видел изысканность ее манер, ее царственную повадку?
Несмотря на то что был женат, сам галантный губернатор штата Виргиния стал ухаживать за принцессой Сюзанной, которая, не любя ни одного мужчины, любила их всех, а любя всех, не любила ни одного. Весь 1775 год и начало 1776-го она переезжала из одного дома в другой в качестве почетной гостьи, намеками суля надежду на свое королевское покровительство тем немногим счастливцам, которым удавалось угодить ей. Мы из тех королевских родов, что поддерживают себя сами, со скромным достоинством заявляла принцесса Сюзанна всем богачам незнатного происхождения, великодушно даруя им привилегию осыпать свою гостью милыми дамскими подарками (чаще всего жемчугами, драгоценными камнями и золотыми безделушками), хотя никто не осмеливался, опасаясь оскорбить, открыто предложить ей взятку.
Но вот — это случилось весной 1776 года в одном из самых блестящих домов Чарлстона — в принцессе Сюзанне кто-то узнал Сару Уилкокс, находящуюся вне закона рабыню, подозревавшуюся также и в убийстве.
Мог ли теперь оказаться полезным ее французский язык? Конечно, нет. А латынь? Не более французского. Равно бесполезными стали и ее изящная маленькая Библия в переплете белой кожи и медальон на шее (с портретом королевы внутри), и ее чистое ровное сопрано, и все ее придворные сплетни. Однако, хоть на нее надели наручники, хоть она ослабела и была подавлена, хоть неизъяснимо страдала от грубых оскорблений тюремщиков, пленница все же сбежала, пока ее везли на север, и никто не знал, где она скрылась — разве что растворилась в воздухе!..
Теперь Господь являл милость Свою то бедному юноше по имени Дерхэм, то бледной белошвейке Бетани, то вдове Сюзанне Шепард, то Саре Лихт, тоже вдове двадцати шести лет от роду, бездетной, приехавшей из Буш-Крика, что в штате Мэриленд, и вышедшей осенью 1776 года замуж за молодого британского офицера, лейтенанта 16-го летучего драгунского полка Уильяма Уорда, вскоре погибшего под Трентоном. Любила ли его Сара? Нет. Горевала ли о нем? Не более часа. Потому что у нее было кого оплакивать в тот момент — свое умирающее, пожираемое лихорадкой дитя с деформированной головкой, крохотными пальчиками и перепончатыми, словно утиные лапки, ступнями. Спасаясь бегством из Контракэуера от вооруженной факелами, вилами, винтовками пьяной толпы, преследовавшей и убивавшей предателей, выступавших против отделения американских колоний от Англии, обезумев от беспрестанно льющихся слез, она кричала: «Гори огнем этот Новый Свет!» — словно то был Старый Свет! Потом вдовствующая миссис Уильям Уорд объявилась в одном из домов Вандерпоэла в качестве гувернантки, однако через полгода была уволена за «высокомерие, нечестивость и по подозрению в воровстве». О миссис Саре Уорд, деревенской акушерке, искусной и умевшей держать рот на замке, говорили, будто она — дьявольское отродье, потому что она не ведала неудач в родовспоможении, но никогда не радовалась рождению нового человека, крестя роженицу и новорожденного горькими черными слезами.
Чего ищешь ты, Сара? И почему ищешь так страстно? — укоризненно спросила ее собственная мать, явившаяся ей как-то ночью.
Но Сара не обратила на ее слова никакого внимания, ибо не настал еще ее час. Распушив редеющие волосы, похлопав себя по щекам, чтобы вызвать румянец, она отдала свое сердце удалому молодцу по имени Макреди — чернобородому конокраду из Филадельфии. Иди со мной, Сара Уилкокс, и исполняй мою волю, Сара. Глаза у него были такие же хитрые и раскосые, как у самой Сары, лицо светилось любовью, при желании он мог поднять Сару одной рукой, задушить ее в объятиях, и Сара, словно ребенок, свернувшись клубочком у него на груди, радостно кричала ему в ответ: Да, да!
Отрежет ли она ради него свои блестящие светлые волосы? Да. Переоденется ли для него мужчиной? Да. Последует ли за ним в деревню, в горы в поисках добычи, где бы та ни скрывалась? Да, да, со слезами радости твердила она. Сара отдала ему все золото, какое имела, она следовала за ним, куда бы он ни вел ее, — по пятам англичан в Вэлли-Фордж, по пятам американцев в Джоки-Холлоу, — повсюду, где можно было найти отбившихся от табуна лошадей, поймать и продать их за наличные. Война за независимость заключала в себе множество войн, и лошади не ведали лояльности — ни к королю, ни к генералу Вашингтону, — почему же Сара со своим любовником должны были проявлять ее? Глупо подыхать с голоду, когда можно пировать, глупо умирать, когда можно жить, и к чему кормить войну, когда можно кормиться войной, как говаривал Макреди? Такие прекрасные, легкодоступные кони, пусть оголодавшие, пусть примороженные, пусть шарахающиеся от выстрелов и уставшие от людей!.. И Сара прилепилась к своему высокому разудалому чернобородому любовнику, как никогда не прилеплялась ни к одному другому мужчине. Да, да! — со слезами радости повторяла она, следуя за ним в Морристаун, в Поухатасси, в Порт-Орискани, на обреченные лагерные стоянки англичан. Но однажды сраженный пулей Макреди истек кровью у Сары на руках.
Неужели возможно, чтобы он умер вот так, словно бездомная собака, несмотря на безграничную любовь Сары, несмотря на то что она готова была сама умереть вместо него? Оказалось, возможно. И он истек кровью у нее на руках, а Бог бесстрастно взирал со своей высоты на агонию любовников.
Сара бежала на север, бежала на юг. Минул 1780 год, настала зима 1781-го. Спасаясь от преследований, она очутилась в Старом Мюркирке, здесь, посреди диких топей, ей предстояло умереть. Давным-давно потеряла она золотой медальон принцессы Сюзанны, давным-давно у нее не было золотых монет, которые она прежде, бывало, вплетала в лошадиные гривы; умолять солдат на латыни было бессмысленно, и никому не была интересна ее очаровательно-шепелявая французская речь. Сам Бог стал глух к ее молитвам. Выстрелил первый лейтенант. Выстрелил второй. И вот Сара — цапля, машущая огромными серыми крыльями, чтобы взлететь, но следующий чудовищный выстрел разрывает ей грудь, она бежит прихрамывающей зайчихой, но пуля пробивает ей горло. Неужели не осталось у Тебя милосердия, Господи, к королевской крови! — но еще одна пуля пронзает ей сердце. Солдаты дивятся живучести этой женщины и не решаются преследовать ее на болоте — ни верхом, ни пешим ходом. Как быстро бегает эта конокрадка! Как она живуча, какую силу придает ей отчаяние! Даже когда ноги у нее начинают заплетаться и кровь струями хлещет из ран, даже когда вся спина ее изрешечена пулями, Сара Уилкокс, которую невозможно убить, Сара Лихт, которую невозможно загнать в нору, Сара Макреди, все еще живая, лишь медленно погружается в черную вязкую жижу. Какая живучая! Какая живучая! Словно сам дьявол! — возбужденно бормочут солдаты, стреляя по распростертому телу снова и снова.
И что же, теперь Сара мертва? В самом деле? Умерла весной 1781-го?
Необозримая, без единой тропинки топь поглощает ее.
Часть первая
«Полуночное Солнце»
«Сомневаюсь ли я? Нет, не сомневаюсь. Дрожит ли моя рука? Нет, не дрожит. Таков ли я, как другие мужчины? Нет, я не таков».
Он улыбается своему румяному отражению в зеркале — образец мужественности, джентльмен в расцвете сил, его глубоко посаженные глаза — словно кусочки слюды, в них таится много секретов, они светятся пылающим внутри его огнем; он улыбается — и это особая улыбка, он доволен собой, хотя румяные упругие щеки его яростно напряжены и разомкнувшиеся в улыбке губы обнажают слишком много крепких влажных белых зубов. Да, слишком много крепких влажных белых зубов.
«Вызываю ли я доверие? — Да, вызываю. Джентльмен ли я? — Да, я джентльмен».
Его взгляд скользит по пышущей здоровьем коже лица, он осматривает себя в полупрофиль (слева его лицо выглядит особенно значительно), мурлычет несколько тактов из Моцарта (Дон Жуан под маской дона Оттавио), снова изучает свою улыбку — сдержанную, строго отмеренную; чуть-чуть притушить блеск глаз, сделать взгляд скромнее, а также чуть опустить подбородок — джентльмен, непринужденно несущий свое достоинство, никогда нарочито не привлекающий к себе внимания, джентльмен-самец (отнюдь не кастрированный), в меру расточающий свои чары, — такова суть «А. Уошберна Фрелихта, доктора философии».
«Таков ли я, как другие мужчины? Нет, я не таков».
Завершив туалет, он широким жестом отбрасывает полотенце, с удовольствием отмечает легкий румянец на гладко выбритых щеках — следствие постоянно горящего внутри огня, с благоговением — твердую, очень твердую линию скул, свое наследственное достояние, прочные кости, подпирающие плоть — его плоть. Конечно, его, чью же еще? Это все — его.
«Сомневаюсь ли я? Нет, не сомневаюсь. Дрожит ли моя рука? Нет, не дрожит. Готов ли я приступить к делу? Да, да, стократ да!»
То был легендарный день, или день вселенского позора.
День, о котором будут говорить, писать, размышлять, вспоминать и бесконечно спорить, день, который и в XXI веке будет входить в анналы истории американских скачек (и скаковых ставок): дерби, состоявшееся 11 мая 1909 года на великолепном ипподроме Чатокуа-Даунз, одной из первых «игровых площадок для богатых».
В тот день в клубной раздевалке Чатокуа все разговоры вертелись либо вокруг таинственного игрока, некоего «игрока-астролога» по фамилии Фрелихт, точнее, «доктор Фрелихт» — на таком именовании настаивали он сам и его сподвижники, — либо на том, какая из двух знаменитых лошадей — Мощеная Улица или Ксалапа — завоюет приз.
Фрелихт. А. Уошберн Фрелихт, доктор философии. В Чатокуа-Фоллз, штат Нью-Йорк, он был человеком новым, но его имя казалось смутно знакомым в имеющих отношение к скачкам кругах на востоке: не он ли, или кто-то с очень похожей фамилией, придумал «списки ипподромных „жучков“», столь обожаемые азартными игроками, сколь и презираемые честными любителями скачек и не далее как в прошлом сезоне запрещенные на ипподромах Чатокуа, Белмонта и Саратоги? Не имел ли мистер Фрелихт некоего отдаленного касательства к «барону» Барракло из Буффало, железнодорожному спекулянту, а также к опозорившему себя конгрессмену Джасперу Лиджесу из Вандерпоэла; не был ли он, или кто-то с очень схожей фамилией, замешан в тайной торговле акциями «внезапно обнаруженного» состояния некоего наследника Наполеона по линии его ранее неизвестного незаконного сына?
В дни, предшествовавшие скачкам, эти слухи, в сущности являвшиеся злобной клеветой, открыто циркулировали в Чатокуа-Фоллз. Люди, никогда в глаза не видевшие А. Уошберна Фрелихта, высказывали о нем вполне определенные суждения, среди них был и сам владелец ипподрома полковник Джеймсон Фэрли, который осмелился заговорить о Фрелихте даже с Уорвиками (братом и сестрой, престарелым холостяком Эдгаром и вдовой Серафиной, бывшей женой Исаака Доува, банкира из Олбани), которые были друзьями Фрелихта и его решительными сторонниками. С привычной прямотой полковник предостерег Серафину: как бы ей не влипнуть в аферу, которая обесчестит имя бедного покойного Исаака. На это вдова, резким движением сложив свой черный лакированный японский веер и одарив полковника ледяным взглядом, ответила тоном, обычно предназначавшимся для особо тупых слуг: «Поскольку мистер Доув мертв, он едва ли может стать „бедным“, каковым, впрочем, он никогда не был и при жизни; а к моим нынешним делам он имеет не более отношения, чем вы, полковник».
Этот обмен репликами также вскоре вошел в летопись того легендарного дня, или дня вселенского позора.
Мощеная Улица, Ксалапа, Сладенькая, Шотландская Шапочка, Полуночное Солнце, Колдун, Красавица Джерси, Метеор, Свободный Час — эти девять великолепных чистокровных лошадей (в порядке убывания их вероятных шансов) принимали участие в Двадцать третьем дерби на ипподроме Чатокуа-Фоллз; они и девять жокеев-негров в ярких шелковых костюмах, с маленькими хлыстами в руках, при шпорах и прочих жокейских атрибутах: самый легкий из жокеев весил восемьдесят восемь, самый тяжелый — сто двенадцать фунтов. Победитель получал приз в шесть тысяч долларов («самый высокий призовой фонд в Америке») и весьма ценный гравированный серебряный кубок; за второе место причиталась тысяча долларов, за третье — семьсот. Однако, как всегда, по-настоящему серьезные деньги вращались там, где заключались пари, ибо что такое лошадиные скачки, особенно такие престижные, без денег, переходящих из рук в руки, а также без клубных сплетен и слухов? У Шотландской Шапочки, кажется, распухло колено, а у Красавицы Джерси — колики. Колдун очень плохо начал сезон в Прикнессе, а владелец Полуночного Солнца слишком часто выставляет его на соревнованиях. У Метеора — трещинка на заднем левом копыте… или это у Ксалапы? А Сладенькая, говорят, в прошлом месяце в Белмонте была «напичкана кокаином по самую макушку» или одурманена каким-то слабым болеутоляющим из-за воспаления уха. Между жокеем Полуночного Солнца Пармели и Малышом Бо Тенни, выступающим на Ксалапе, продолжается жесткое соперничество. И со ставками творится нечто невообразимое: то фаворитом считается Мощеная Улица, то Ксалапа, то на Полуночное Солнце ставят по два к пятнадцати, то ставки на Свободный Час, принадлежащий ферме Хенли, падают до соотношения один к тридцати… Если характер ставок становился слишком уж эксцентричным — например, вдруг резко возрастало количество ставок на какую-нибудь «темную лошадку», отнюдь не числящуюся среди фаворитов, — судья-наблюдатель имел право объявить все ставки недействительными, перетасовать жокеев и отложить начало скачек на час, чтобы дать возможность всем желающим перезаключить пари, однако в этом случае все делалось в жуткой спешке, и большинство коннозаводчиков и игроков молили Бога, чтобы этого не случилось, ибо, если оставить в стороне превратности случая, чистопородная лошадь — это всего лишь лошадь, а исход скачек во многом зависит от жокеев.
(Хотя полковник уверял себя, что эти жокеи и это дерби будут безупречно честными.)
Принадлежал ли Уошберн Фрелихт, сидевший в собственной ложе своих хозяев Уорвиков, к той породе игроков, которые по мере приближения начала забегов становятся все более беспокойными, нервно жуют свои сигары, без конца поглядывают на золотые брегеты и лишь вежливо делают вид, что слушают, как оркестр вдохновенно исполняет «Голубой Дунай»? Сторонний наблюдатель не смог бы отличить едва заметные признаки, время от времени выдававшие особое знание ситуации, которым располагал этот благообразный господин в щегольской соломенной шляпе, с черной шелковой повязкой на левом глазу и тщательно подстриженной пегой бородкой, имевший вид самоуверенного патриция, от вполне понятного в ожидании начала соревнований волнения, которое испытывали остальные зрители. Сторонний наблюдатель мог бы предположить, что столь азартный игрок, как этот джентльмен с непроницаемой улыбкой, застывшей в серо-стальных глазах, с влажными белыми зубами и ярко-красными губами, поставил крупную сумму, вполне вероятно, на какую-нибудь «темную лошадку», но ему ни за что бы не догадаться, что на самом деле джентльмен этот тайно поставил 44 000 долларов из своих денег и денег своих клиентов на поджарого черного жеребца по имени Полуночное Солнце, чьи шансы должны были, по его подсчетам, составить соотношение девять к одному.
(То есть: если Полуночное Солнце выиграет дерби, а доктор Фрелихт надеялся, что так оно и будет, он, Фрелихт, получит от дюжины букмекеров и частных лиц, принимавших ставки, беспрецедентный выигрыш в 400 000 долларов, каковой будет в неравных долях поделен между ним самим и Уорвиками; доля Фрелихта, соответственно его скромному вкладу в 1000 долларов, будет наименьшей. А если Полуночное Солнце не оправдает астрологического прогноза доктора Фрелихта, если знаки зодиака подведут предсказателя, тогда доктор Фрелихт потеряет всего 1000 долларов, в то время как остальные 43 000 долларов составят потери Уорвиков — для них перспектива оказывалась куда более рискованной, поэтому Фрелихт о ней и думать не хотел.)
Нет, в его поведении никто не заметил бы и намека на волнение. Вульгарное волнение — удел остальной публики.
В тот безумный день дул порывистый холодный ветер, и высокие облака, словно парусные шхуны, стремительно неслись по синевато-серому, очень, очень высокому небу. А здесь, внизу, на далекой от вечности суетной земле, царило радостное столпотворение великолепных экипажей, сверкающих краской новеньких автомобилей, пеших зрителей, заполонивших узкие улицы и переулки, ведущие к беговым дорожкам полковничьего ипподрома. Вся клубная территория — террасы, газоны лужаек, тщательно подстриженные, словно крикетные поля, и окантованные кустиками рододендронов и красных гераней, и частные ложи, обшитые светлым деревом и украшенные искусной лепниной, — была забита разодетыми в пух и прах дамами и джентльменами. На главной трибуне, заново выкрашенной темно-зеленой краской, сидело шумное большинство зрителей-горожан. Так называемый же «простой люд» обеих рас устроился прямо на земле у кромки поля, на низких крышах строений и на склонах холмов, обрамлявших ипподром. Потому что в Чатокуа в день дерби все были страстными поклонниками скачек, и, сколь бы бедны ни были люди, как бы ни погрязли они в долгах, никто не мог отказать себе в удовольствии поставить последний доллар на одну из этих восхитительных чистокровных лошадок; даже детей захлестывала лихорадка азарта. Ибо любому человеческому существу свойственны слабости, как говаривал доктор Фрелихт с загадочным выражением на резко очерченном румяном лице, это выражение одни называли философским, стоическим, даже меланхолическим, другие — по-детски нетерпеливым. А американцев больше, чем каких бы то ни было иных жителей земли, отличает простодушная непосредственность.
Оркестр грянул бурную польку, запряженные мулами тележки, развозившие прохладительные напитки, тронулись в свой неторопливый путь вдоль лож и трибун. По гордым подсчетам полковника Фэрли, на Двадцать третьем дерби присутствовало около сорока пяти тысяч зрителей, съехавшихся в Чатокуа-Фоллз из таких мест, как Нью-Йорк, Чикаго, Сент-Луис, Канзас-Сити и, разумеется, из Кентукки, а также Техаса, Калифорнии и даже из-за границы по наземным дорогам, по воде и по рельсам. С тех пор как слава Кентуккийских дерби пошла на убыль, скачки в Чатокуа стали самыми престижными в Америке соревнованиями чистопородных рысаков. Из начального списка, включавшего сто восемьдесят четыре лошади, девять лучших, принадлежавших к самым знаменитым в стране конюшням, должны были вот-вот вступить в соперничество на заключительном этапе. Все гостиницы в городе были переполнены, в том числе и роскошный отель «Чатокуа армз», в котором целый этаж занимал лорд Гленкрейн из Шотландии (страстный любитель скачек, намеревавшийся, по слухам, приобрести гнедую красавицу Ксалапу); «Пенденнис-клаб» был сдан представителям Восточной ассоциации по разведению улучшенных пород. Специалисты по разведению прибыли с женами и компаньонами. Такие знаменитые любители, как Джеймс Бен Али Хейгин из Кентукки, Блэкберн Шоу с Лонг-Айленда и Элиас Шриксдейл из Филадельфии, приехали в сопровождении своих свит в персонально арендованных пульмановских вагонах. У букмекеров, к их вящей радости, работы было по горло (хотя полковник по такому поводу и поднял клубный взнос до 140 долларов), не простаивали и автоматы для заключения пари. За полчаса до начала скачек у конюшен собралась толпа газетных репортеров, «экспертов-любителей», конновладельцев и специалистов по разведению лошадей, тренеров, жокеев, грумов и ветеринаров. Предоставленные самим себе мальчишки, белые и цветные, устроили дикую беготню по кромке поля и под трибунами, за ними гонялись охранники. Хотя «списки „жучков“» на респектабельных скачках были запрещены, судя по всему, они все же имелись у некоторых зрителей, которые из-под полы ими торговали; шла также бойкая торговля календарями скачек, невесомой розовой сладкой «ватой», лимонадом в бумажных стаканчиках и разноцветным мороженым. Украшенные лентами зонтики и тенты, мужские соломенные шляпы-канотье, туфли, начищенные до ослепительного сияния, накрахмаленные белые накладные воротники, цепочки брегетов, прогулочные трости, перчатки, дамские шляпы с вуалями, белые фланелевые костюмы мужчин… А. Уошберн Фрелихт, или доктор Фрелихт, как он предпочитал именоваться, взирал на всю эту толпу своим единственным здоровым глазом. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма[2].
Нервный, словно чистопородный жеребец, доктор Фрелихт предпочел бы отхлебнуть глоток из плоской серебряной фляжки, спрятанной во внутреннем кармане сюртука, но вместо этого он с благодарной улыбкой кладет в рот английскую ириску из жестяной коробочки, которую любезно протягивает ему миссис Доув; Уорвики обожают сласти, как, по правде сказать, и доктор Фрелихт, хотя конфеты губят зубы, а от этого портится улыбка. Частокол крепких зубов, обнаженных в широкой улыбке Тедди Рузвельта, воспроизведенной на тысячах портретов, породил среди простонародья моду на крепкие зубы, упругие щеки и взволнованно сжатые кулаки, однако леди и джентльменам столь энергичный стиль не по душе. Они считают, что Тедди Р. похож на мальчишку, эдакого мальчика-мужчину, который может вызывать разве что насмешку и презрение. Нет, куда предпочтительнее грубого частокола крепких зубов небрежная, сдержанная улыбка мужского достоинства, думает доктор Фрелихт. Вот такая.
Исполнение оркестром бравого марша времен Гражданской войны прерывается объявлением, что заезды начнутся не в 16.30, как ожидалось, а в 16.50.
Но почему? Никаких объяснений предложено не было. Над ипподромом взмывает гулкая волна разочарования, удивления и высказываемых опасений.
Доктор Фрелихт поглаживает свою пегую аккуратную бородку, к которой лишь недавно начал привыкать, и небрежно промокает лоб белоснежным носовым платком из ирландского льна с монограммой АУФ. Благородный профиль, подбородок слегка вздернут, мерцание золотой цепочки брегета. Доктор Фрелихт не имел намерения прослыть в здешних кругах остроумцем, он предпочитал, чтобы его считали астрологом-мистиком, однако сейчас он не видит особого вреда в том, чтобы невзначай, самым обыденным тоном заметить так, чтобы это услышали не только его хозяева Уорвики, но и остальные члены клуба, — ах какое нервное напряжение требуется, чтобы точно выразить сиюминутное настроение: «О, будь конец всему концом, все кончить / Могли б мы разом»[3].
И все дамы и джентльмены откликаются на эту реплику радостным смехом, давая понять, что узнали цитату: «Это из Шекспира, да? Кажется, из „Гамлета“». Тучная немолодая миссис Доув хохочет до слез, словно легкомысленная девчонка, потому что и богатым свойственно волноваться, когда на карту поставлены деньги, а выигрыш зависит от случая.
Эдгар И., получивший в наследство состояние, вложенное в асбестовую промышленность, производство типографской краски и плантации сахарного тростника (на Гавайях), и его сестра Серафина, владеющая не меньшим наследством, да еще и ценными банковскими бумагами своего покойного мужа, — не самые богатые, однако вполне состоятельные жители Чатокуа-Фоллз. Джентльмену всего шестьдесят, но выглядит он явно старше: лысый череп, запавшие глаза, плоский нос с ноздрями-пещерами, тревожно темнеющими на лице, в отличие от тонущих в жирных складках кожи невыразительных глаз. Дама, вдова, туго затянутая в корсет, пышет здоровьем, взгляд ее бесцветных глаз холоден, маленькие губки поджаты. Эдгар И. Уорвик славится своим лютеранским рвением (это он успешно провел в восемьдесят восьмом году кампанию за лишение духовного сана контракэуерского пастора). Серафина Уорвик-Доув известна своим сутяжничеством (не далее как в июне прошлого года она подала в суд на свою только что овдовевшую невестку, чтобы оспорить «позорное» завещание собственного сына)… Как скупые Уорвики познакомились с А. Уошберном Фрелихтом, человеком, совершенно неизвестным в долине Чатокуа и весьма сомнительным, никто в их социальном кругу не ведал; почему они стали его в своем роде учениками, яростными приверженцами и с какой стати ринулись финансировать «военные хитрости» доктора Фрелихта, было более понятно: они учуяли выгоду, жирный и столь желанный куш. Ибо доктор Фрелихт убедительно заверил их, что проиграть они не могут. Его метод — строго научный — не подведет. Имя победителя Дерби — 1909 было ясно начертано знаками зодиака, как это неоднократно случалось и в предшествующие годы, надо только уметь прочесть небесные иероглифы. «На небесах нет ни „будущего“, ни „прошлого“, — горячо убеждал Фрелихт, — там все — единая сущность, непрерывно текущее настоящее».
Услышав подобное утверждение, Эдгар И. и Серафина обменялись взглядами. Едва заметно искривившиеся губы означали улыбку братско-сестринского соучастия. Поскольку Уорвики сурово осуждали азартные игры, их следовало убедить, что, по сути дела, это — вовсе не азартная игра, более того, как утверждал доктор Фрелихт, они получат восхитительную возможность посрамить игроков на их собственном поле. А что может быть приятнее, чем…
Куда бы ни были званы Уорвики весной 1909-го, считалось само собой разумеющимся, что «игрок-астролог» тоже должен получить приглашение. Иначе они, особенно Серафина, сочли бы себя оскорбленными.
Полковник Фэрли, нехотя включая Фрелихта в число приглашенных на клубный ужин, который должен был почтить своим присутствием лорд Гленкрейн, жаловался, что Фрелихт невыносимо действует ему на нервы. Кто такой этот Фрелихт, откуда он взялся и есть ли у него какое-нибудь более пристойное занятие, чем самоприсвоенная миссия игрока-мистика? Действительно ли он так простодушен, как прикидывается? Или, напротив, слишком хитер? Эдгар И. и Серафина нарочно разжигали любопытство знакомых, намекая на везение, сопутствовавшее Фрелихту на предыдущих скачках, но деталей не раскрывали, так как успех метода Фрелихта зависел от умения держать его в секрете; а будучи всего лишь простыми смертными, брат с сестрой желали сохранить свою находку только для себя. Тем не менее по отдельным оговоркам и иносказаниям можно было предположить, что некогда Фрелихт был актером, выступавшим в шекспировских пьесах, а может быть, певцом (в пользу этой догадки говорил его сильный, красивого тембра голос), что он сделал кое-какую карьеру в науке (отсюда и докторское звание); в юности он, вполне вероятно, был семинаристом; музыкантом; земледельцем; железнодорожным агентом; путешественником-первопроходцем; журналистом. (Журналистом-то он был наверняка, потому что на ужине у полковника Фэрли, когда мужчины уединились, чтобы выпить бренди и выкурить по сигаре, Фрелихт, вступив в доверительную беседу с Блэкберном Шоу, поведал ему в порыве откровенности, что потерей глаза обязан «врагу-испанцу» и случилось это во время взрыва на «Мэне»… «Нью-Йорк джорнэл» заказал ему серию статей о кубинской революции — в русле американских интересов, разумеется, — и он в качестве особого друга и советника капитана Чарлза Сигсби находился на борту «Мэна», когда корабль бросил якорь в пользовавшейся дурной славой гаванской бухте. Представьте только: там было загублено двести шестьдесят шесть американских жизней! По сей день, сообщил Фрелихт, он вынужден опасаться за собственную жизнь, поскольку некие испанские агенты поклялись убить его.)
Есть ли у него жена? Нет. Ее нет в живых.
Есть ли у него дети? Живых — нет.
А где же его дом?
«Там, где меня уважают и чтут, — ответил он, прямо глядя собеседнику в глаза, — и где я могу оказаться полезным».
Беседка, увитая спускающимися с потолка тропическими цветами, орхидеями — пурпурными, бледно-лиловыми, жемчужно-белыми, черными. Столы, покрытые льняными скатертями с орнаментом из подков, развернуты к пруду, в котором плещутся маленькие золотистые рыбки, и молодые лебеди, черные и белые, плавают, быстро и взволнованно перебирая лапками. Молодая арфистка из Дублина… Розоватые тени над свечами в старинных канделябрах… Официанты-негры в красных форменных куртках с золотыми галунами, красных фесках с черными кисточками и безукоризненно белых перчатках обслуживают шестьдесят с лишним гостей полковника с семи вечера до полуночи… Лорд Гленкрейн с супругой — почетные гости; очаровательная польская актриса Алисия Зелински со своим спутником; чета Вандербильтов; супруги Джеймс Бен Али Хейгины; супруги Блэкберн Шоу; сенатор Гарднер Симм с женой; Элиас Шриксдейл; чета Коун-Петти; Эдгар Уорвик с сестрой Серафиной, вдовой Исаака Доува, и множество других гостей, в том числе и «А. Уошберн Фрелихт» в белом фраке и при белом галстуке. Догадываясь, к его чести, о том, что он не слишком желанный гость в полковничьем клубе (он здесь единственный мужчина, не являющийся членом Жокейского клуба, и единственный, у кого в петлице не красуется бриллиантовая булавка — дар полковника), ест и пьет весьма умеренно и, склонив набок свою красивую голову, больше слушает, чем говорит. Осознает ли он в промежутках между многочисленными тостами, провозглашаемыми с бокалами шампанского в руках, между сменами целой вереницы блюд: от свежих моллюсков, лукового супа, лосося, молодых голубей, ростбифа и запеченной в тесте виргинской ветчины до — в самом конце — разноцветного мороженого, из которого лошадиные фигурки (Мощеной Улицы, Ксалапы, Сладенькой, Шотландской Шапочки, Полуночного Солнца, Колдуна, Красавицы Джерси, Метеора и Свободного Часа) вылеплены так искусно, что всем жалко их есть, — осознает ли он, как снобистски игнорируют его остальные гости, как самодовольно-насмешливо звучат обращенные к нему вопросы, касающиеся его «астрологической науки»?..
Отнюдь. Потому что в лице А. Уошберна Фрелихта мы имеем джентльмена. Обаятельного. Дружелюбного. Хорошо информированного. Исповедующего умеренные взгляды как в политике, так и в остальных сферах жизни. Он не поклонник ни Тафта, ни снижения тарифов. Разумеется, он не является поклонником сенатора Ла Фоллетта — висконсинского бунтаря, которого республиканская пресса обливала грязью за поднятую им кампанию против железных дорог. Доктор Фрелихт учтив и остроумен с дамами; у него изощренный ум, но он никогда не позволит себе никого оскорбить; с мужчинами он безупречно почтителен. Он делает вид, что не замечает колкостей, презрения, едва сдерживаемых смешков у себя за спиной. И если его мускулистые плечи напряжены под красивой тканью фрака, если подбородок порой чуть приподнимается и выдается вперед, словно бы для того, чтобы предупредить неосторожное слово, если его единственный здоровый глаз излучает ледяной холод, несмотря на румянец, свидетельствующий о бушующем внутри огне, то разве кто-нибудь в этой компании способен это увидеть?
Одиночество пилигрима. Оно позволяет нам оставаться невидимыми в этом мире.
Постепенно за столом полковника Фэрли все убеждаются, что Фрелихт свято верит в свою теорию ставок — «в непогрешимость зодиака», как он несколько раз повторяет с важным видом. Этот человек глуп — но он джентльмен. И в некотором роде мистик. Детали, касающиеся пари, заключенного им вместе с Уорвиками, вложенная ими сумма, имя лошади, которой суждено выиграть скачки, разумеется, не разглашаются; но Фрелихт говорит открыто, даже восторженно, о небесах, астральной плоскости, о «самосознании звезд, в котором прошлое, будущее и настоящее сливаются, словно огонь, поглощающий огонь, или вода, поглощающая воду». Речи этого человека волнуют, они красивы, хоть и бессмысленны, иллюзорны, но так поэтичны, что многие дамы (по правде сказать, даже Белинда, жена полковника) невольно увлекаются ими. Великая Туманность Ориона… Королева Плеяд… Как Андромеда соотносится с Рыбами и самой отважной и яркой звездой Овна… Как кольца Сатурна содрогаются от электрических зарядов… Как Луна исподволь влияет на человеческую психику…
В заключение Фрелихт с почтительной улыбкой говорит, что ему жаль тех, кто сомневается в изложенных им теориях, так же, как он сам до недавнего времени в них сомневался; они подобны родственнику шекспировского Кассио, который с воодушевлением утверждал, будто судьба человека заключена не в звездах, а в нем самом. «Но теперь мне совершенно очевидно, что любой мужчина и любая женщина, — здесь он бросает взгляд на сияющую Серафину, сидящую напротив, — в достаточной мере посвященные в науку неба, одновременно постигают и науку Земли. „Что на небе, то и на земле“ — это очень древняя мудрость».
К счастью, полковнику удается перевести разговор на другую тему прежде, чем один из сидящих за столом сердитых господ успевает задать Фрелихту какой-нибудь грубый вопрос — например: почему это небеса избрали именно его, Фрелихта, своим «переводчиком», — чем непременно нанес бы оскорбление Серафине.
Тем не менее, когда мужчины собираются в обшитой дубовыми панелями курительной комнате полковника, потягивая бренди и попыхивая кубинскими сигарами, шансы Фрелихта неожиданно повышаются, да, повышаются.
Ибо девяностолетний Блэкберн Шоу, владелец знаменитой фермы Шоу, всеми уважаемый в скаковых кругах патриарх, покровительственно положив руку на плечо молодого Фрелихта, начинает сердито жаловаться на упадок, начавшийся после войны в деле разведения и соревнований чистокровных лошадей. Нет уже таких знаменитых лошадей, какие были во времена его деда. Диомед, Аристид, Тен Броек, Лексингтон, Индус. («О, Индус! Вот это был конь! Знаете, доктор Фрелихт, ведь эта Мощеная Улица — из потомства Индуса, величайшего производителя всех времен!») Теперь все не так, даже джентльмены разводят лошадей не ради красоты и спорта, а на продажу, да, в сущности, и джентльменов-то в Америке становится все меньше и меньше. Знает ли мистер Фрелихт, что в старые времена в чистопородной лошади выше всего ценились резвость, выносливость, кураж, истинное упорство характера — если лошадь не была способна проскакать три четырехмильных забега меньше чем за восемь минут, ее отправляли обратно на выгон вместе с ее тренером. А теперь, после войны, с началом нового века… Теперь ценится только умение совершить «рывок». Скачки заканчиваются, едва успев начаться. В былые времена и производители были куда как мощнее, чем нынешние: например, Индус до двадцати лет покрывал кобылиц, был так неутомим и так похотлив, что срывался из конюшни, как рысак от стартового столба! И обслуживал всех кобыл, бывших в его распоряжении, с неослабным рвением, производя победителей одного за другим. «А теперь, — с сожалением констатировал Шоу, — похоже, у кобыл в пятидесяти процентах случаев получаются выкидыши; а жеребцы утрачивают свою мужскую силу так же быстро, как резвость ног». При этом Фрелихт сокрушенно хмурился, соглашаясь с собеседником.
Поглаживая бородку, он печально бормотал, что и не знал, насколько плохо обстоят дела.
А еще хуже то, что больше нельзя доверять жокеям: ах, где теперь те шустрые легкие цветные юноши, которые так виртуозно делали свое дело?! И грумам нельзя доверять, ни белым, ни черным. И тренерам. Всем известно, что призовые места на скачках повсеместно покупаются и продаются, что лошадей, этих несчастных бессловесных тварей, пичкают лекарствами, чтобы замедлить или стимулировать их сердцебиение, прибегают к самым грязным трюкам, чтобы спутать шансы на ставках, теперь ставки — всему голова! Жокеи умышленно придерживают лошадей, и чем ловчее жокей, тем больше вероятность, что его трюк останется незамеченным. Или они безжалостно гонят своих лошадей, угрожая друг другу, порой оскорбляя друг друга, появляются в конюшне пьяными или накачанными наркотиками. Но самое ужасное то (в этом месте старик притягивает Фрелихта к себе и яростно шепчет ему в ухо), что больше нельзя доверять владельцам лошадей, даже тем, которые кичатся своим благородством. «Даже некоторым „уважаемым“ членам Жокейского клуба».
Подобное обвинение, впрочем, Фрелихт мягко и уважительно отвергает; хотя сам он не принадлежит к числу любителей лошадей и не является членом этого престижного клуба, тем не менее он не может и мысли допустить, что… (Он говорит серьезно, спокойно, задумчиво поглаживая свою бородку и делая вид, что не замечает, как большинство присутствующих джентльменов прислушиваются к их разговору.)
Туговатый на ухо патриарх предпочитает пропустить это замечание мимо ушей и продолжает свои ламентации еще в течение нескольких минут, ностальгически вспоминая старые времена, стабильность Союза, существовавшую до того, как демагог Линкольн развязал войну, и людей, хотели они того или нет, заставили верить, что они произошли от обезьяны! В заключение, однако, дымя сильно ароматизированной сигарой, предложенной ему хозяином, и довольный почтительным вниманием А. Уошберна Фрелихта, мистер Шоу протягивает молодому человеку свою визитную карточку и заручается его обещанием погостить на лонг-айлендской ферме Шоу сколь угодно долго в ближайший же раз, когда дела приведут Фрелихта в Нью-Йорк.
Благодарю вас, мистер Шоу, сердечно благодарю, я постараюсь.
Теперь события развиваются быстро, словно и впрямь были предопределены.
На земле, привязанной ко времени, смертным только и остается, что вспоминать о будущем.
Оркестр заканчивает по-военному торжественное исполнение «Звездно-полосатого флага»; у финишной ленточки подвешивают тяжелые белые шелковые кошельки с призовыми деньгами, которые жокеи-победители должны будут сорвать в конце скачки; сразу же после 16.50 горнист возвещает начало забега. И вот они, лошади — девять участниц дерби! — наконец-то рысцой выбегают из загона на скаковые дорожки ипподрома, церемониальным парадным шагом проходят направо, затем, у здания клуба, поворачивают и направляются к стартовому столбу; уши подняты, хвосты подергиваются от нервного возбуждения; жокеи в ярких шелковых костюмах стоят в стременах. Вот Шеп Тэтлок на высоком гнедом жеребце Мощеная Улица. Вот Бо Тенни на прекрасной гнедой Ксалапе. Вот Пармели на Полуночном Солнце — и ездок, и лошадь черны как смоль. Вот Малыш Дженк Уэбб на Шотландской Шапочке, а Малыш Мозес Уайт — на Сладенькой… Жокеям сообщают, кто по какой дорожке бежит, лошади топчутся у стартовой линии, кружа и толкаясь. Мощеная Улица явно нервничает, Полуночное Солнце месит копытами грязь, вопреки всем правилам приходится придержать его за хвост, Свободный Час ведет себя неприлично, мотая головой из стороны в сторону…
(Компаньоны Фрелихта кажутся такими же невозмутимыми, как он сам, хотя, несомненно, сердца у них колотятся так же быстро, как у него: действительно ли исход скачек предрешен? Действительно ли на небесах начертано, что вложенные 44 000 долларов через какие-нибудь пять минут земного времени обернутся 400 000 долларов?)
Нестерпимо ярко сверкающее, словно преломляющееся сквозь алмазную призму солнце. Холодный майский ветер, дующий с обрамляющих ипподром гор Чатокуа. Сухие, идеально утрамбованные беговые дорожки. Теперь лошадей выстроили за натянутой стартовой сеткой. Полуночное Солнце вдруг нервно вскидывается на дыбы, прорывается сквозь заграждение, и его приходится отводить назад, а также успокаивать остальных лошадей. Но вот поднят красный флажок, стартовая сетка резко взлетает вверх, и скачки начинаются.
Бегущий по одной из центральных дорожек Мощеная Улица мгновенно рвет с места, Ксалапа почти не отстает от него, Сладенькая наступает им на пятки, остальные на миг замешкались, столпившись и мешая друг другу. Хитрый маленький Пармели дает полную свободу своему Полуночному Солнцу (это показалось или Пармели действительно движением, таким молниеносным, что никто и заметить не успел, дернул чепрак Шотландской Шапочки, чтобы сбить ее с шага?), Колдуна прижимают к ограде, Красавица Джерси, Метеор и Свободный Час уже на корпус отстают, они больше не соперники фаворитам. Вот лидеры скачки проходят мимо трибуны, вот они поравнялись со зданием клуба, но что это с Мощеной Улицей? Какой странно петляющий стал у него шаг… Ксалапа и Сладенькая быстро догоняют и перегоняют его… Полуночное Солнце скачет по крайней дорожке, Пармели подгоняет его хлыстом, между Пармели и наездником Сладенькой возникает какая-то перебранка. Теперь фавориткой зрителей становится Ксалапа, когда они завершают первый круг, она обгоняет Мощеную Улицу и выходит в лидеры; вдруг становится совершенно очевидно, что Шеп Тэтлок то ли пьян, то ли одурманен наркотиками, то ли болен, потому что он начинает дергать уздечку, заставляя лошадь вертеть головой из стороны в сторону, и, отставая, мотаясь поперек дорожек, перемещается на третье место, потом на четвертое, на пятое…
Полдистанции пройдено, пройдено три четверти дистанции, гнедая Ксалапа лидирует, Шотландская Шапочка отстает от нее на полкорпуса, за ней идет шелковисто-черный Полуночное Солнце, длинноногий, с широкой грудью конь, его резвые с белой перевязью ноги словно бы летят над землей… Вот он минует стартовый столб, а вот мощным шагом боевого коня уже несется мимо восторженно приветствующих его трибун… Вдруг неожиданно… нет, этого не может быть! Ксалапа внезапно словно бы спотыкается, она продолжает бежать, но видно, что у нее какая-то травма… С громким топотом ее обгоняет Шотландская Шапочка, за ней — Полуночное Солнце, Пармели пригнулся к самой шее коня, подгоняя его хлыстом и шпорами, он резко бросает его в сторону, чтобы обойти падающую Ксалапу; теперь — обогнать Шотландскую Шапочку, сделать бурный рывок, чтобы оторваться от нее, и пересечь финишную прямую с преимуществом в полтора корпуса!
Итак: Полуночное Солнце, Шотландская Шапочка, Сладенькая…
(Мощеная Улица на последнем этапе, рыская из стороны в сторону, словно пьяный, перебегает дорогу Метеору, кони сталкиваются, Шеп Тэтлок — то ли пьяный, то ли под кайфом, то ли больной? — выпадает из седла и лежит на дорожке недвижим, отныне дорога на какой бы то ни было ипподром ему будет заказана.
А что же с гнедой красавицей Ксалапой? Зрители стоя в немом ужасе наблюдают за ней. Раздается объявление, что она сломала переднюю левую ногу в щиколотке; ветеринарная «скорая» увозит ее на свалку позади конюшни, где ее пристреливают единственным точным выстрелом между глаз. Все это занимает времени меньше, чем требуется, чтобы осмыслить это печальное событие.)
Мы победили! Мы победили! Мы победили!
Негоже демонстрировать свой безудержный восторг, в то время как многие тысячи зрителей переживают горечь поражения, только дурно воспитанный человек может торжествовать, когда остальные зрители охвачены единой волной разочарования.
Будучи исключительно хорошо воспитанны, Эдгар Уорвик и его сестра Серафина прячут ликующие улыбки, но, словно дети, не могут удержаться и, дергая Уошберна Фрелихта за рукав, шепотом повторяют снова и снова: свершилось, мы победили!
Фрелихт сдержанно улыбается, Фрелихт изящно промокает лоб чистым носовым платком, Фрелихт тихо отвечает: ну, разумеется.
О Полуночном Солнце и этих безумных, безумных скачках будут спорить еще много недель и даже месяцев.
Будут вспоминать прекрасную Ксалапу, у которой, оказывается (так объявили впоследствии), была трещина в переднем левом копыте. Ее хозяин знал об этом, но не придал значения.
Будут судачить об опозорившемся Шепе Тэтлоке, тридцати двух лет от роду, которому до конца жизни возбранялось отныне выступать на скачках в Америке, поскольку он вышел на соревнования пьяным (именно такое обвинение против него выдвинули) или одурманенным каким-то зельем без его ведома (такова была собственная версия жокея).
И конечно же, еще много месяцев, даже лет, будут говорить о таинственном игроке «А. Уошберне Фрелихте», который выиграл для себя и своих клиентов рекордную сумму в 400 000 долларов 11 мая 1909 года; а потом, в тот же вечер, во время празднования победы в отдельном кабинете ресторана гостиницы «Чатокуа армз»…
Грабителем был молодой чернокожий.
Грабителем был молодой чернокожий мужчина в черной маске-домино, с длинноствольным пистолетом в руке.
Грабитель тихо вошел в кабинет через балкон, открыв дверь и впустив внутрь прохладный ночной воздух.
Один прыжок — и он уже в нескольких ярдах от стола, за которым сидят Уорвики и Фрелихт… Он стоит, слегка согнув ноги в коленях, его темная кожа лоснится от пота, сквозь прорези в маске сверкают белки глаз: леди и джентльмены, буду вам чрезвычайно признателен, если вы тихо останетесь на своих местах, вы, мадам, и вы, джентльмены. Ваши деньги, будьте добры. Благодарю вас за любезность. Мягкий насмешливый голос, акцент — предположительно выходца из Вест-Индии. И не вздумайте огорчить меня, джентльмены и дорогая мадам!
Чернокожий молодой человек строен, он целится прямо в грудь доктора Фрелихта. Он точно знает, зачем пришел, знает, что лежит в душистой шкатулке из тропического дерева. Ничто не выдает его волнения, презрительная улыбка — мгновенный проблеск золотого зуба впереди слева: благодарю вас, леди и джентльмены, за содействие!
Черная маска-домино, широкополая соломенная шляпа с лентой в горошек вокруг тульи, кремовая куртка, кремовые брюки, накрахмаленная белая рубашка, галстук в красно-белую полосу… В долине Чатокуа сроду не видывали таких цветных. Щегольские маленькие усики над дерзко очерченной верхней губой (как вспоминал впоследствии Эдгар Уорвик), тонкий кривой шрам на правой щеке — печать дьявола (как вспоминала впоследствии Серафина Уорвик), ужасное оружие в твердой руке, направленное на вздымающуюся грудь доктора Фрелихта. Спокойно! Никакого шума! Мадам, джентльмены, я вас предупредил!
И пяти минут не прошло с тех пор, как, отмечая победу шампанским, Фрелихт, подняв бокал над благоухающей шкатулкой Серафины, своим глубоким красивым баритоном начал произносить тост: «Бог правду видит!..» — и вот чернокожий юноша в ослепительных бело-кремовых одеждах целится смертельным оружием прямо ему в сердце, в его бедное, выпрыгивающее из груди сердце; и куда подевалась его способность говорить, дышать, протестовать? Вы, сэр, говорит грабитель Фрелихту, в пароксизме детского восторга втягивая голову в стройные плечи, вы, сэр, не злите меня! Советую вам делать то, что я велю!
Фрелихт пытается что-то сказать, но у него ничего не выходит: побелевшие губы отказываются повиноваться.
Эдгар И. Уорвик тоже пытается что-то сказать, но и у него ничего не получается: откуда-то изнутри поднимается волна острого животного страха, ему кажется, что он умирает.
Несчастная Серафина, взволнованная гораздо больше, чем она была взволнована у смертного одра мистера Доува, пытается что-то сказать, но безуспешно: слова гневного протеста, которые она намеревается произнести, превращаются в бессмысленные звуки, мычание, всхлипы, потому что она видит перед собой черного молодого человека, который не является слугой, который не обязан повиноваться ей, но которому обязана повиноваться она.
Отдать свой выигрыш какому-то грабителю-ниггеру!..
Тем не менее именно это, видимо, было предначертано небесами: отчаянный черный мужчина в маске-домино и щегольской соломенной шляпе шоколадно-коричневыми пальцами ловко перекладывают 400 000 долларов в ассигнациях в элегантный чемоданчик из крокодиловой кожи на глазах у съежившихся от страха жертв ограбления… Ни жертвы, ни три свидетеля из ресторанной обслуги — два официанта (черных) и стюард-официант по винам (французского происхождения, белый) — не решаются оказать сопротивление.
Чудом обретенные деньги — самый большой выигрыш в истории чатокуаских скачек, пачки преимущественно стодолларовых купюр, хотя было там и несколько пятисот- и пятидесятидолларовых банкнот — были украдены нечестивой рукой 11 мая 1909 года в 9 часов 25 минут вечера в Кристальном кабинете ресторана шикарного старинного отеля «Чатокуа армз» у застигнутых врасплох счастливцев, праздновавших победу (устрицы в половинках раковин, фазан в винном соусе, трюфели, французское шампанское), у Эдгара И. Уорвика, шестидесяти лет, коренного жителя Чатокуа-Фоллз, миссис Серафины Уорвик-Доув, пятидесяти восьми лет, коренной жительницы Чатокуа-Фоллз, и у А. Уошберна Фрелихта, приблизительно сорока восьми лет, сообщившего полиции несколько своих адресов (в том числе последний — резиденция миссис Доув). А теперь прошу вас в течение некоторого времени не двигаться! Не сметь звать на помощь — иначе я разозлюсь! Не пытайтесь меня преследовать! Не вынуждайте меня, не пролившего в жизни ни капли чужой крови, превратиться в убийцу!
Компания выслушала эту речь, не шелохнувшись, словно окаменев, после чего проворный, как танцор с большим сценическим опытом, грабитель повернулся и, последний раз нацелив (злобно? насмешливо?) в грудь Уошберна Фрелихта свой пистолет с длинным стволом, выпрыгнул в окно и исчез, растворившись в ночи.
Серафина потеряла сознание и грузно рухнула лицом в розетку с растаявшим розовым шербетом. Эдгар И. попытался встать, но ему не хватило сил. Посеревший лицом доктор Фрелихт, от которого можно было ожидать большего, просто сидел, словно внезапно постаревший и сломленный человек, в его остекленевшем «здоровом» глазу застыло выражение недоумения, будто он все еще не мог поверить, что какой-то неизвестный грабитель лишил его выигрыша, предназначенного ему самими знаками зодиака и ставшего кульминацией всех его астрологических расчетов, а быть может, и кульминацией всей его жизни, — так описывали эту сцену впоследствии свидетели. Застывшим взглядом он смотрел в пустой проем открытых дверей, словно — несчастный глупец! несчастный трус! — надеялся, что судьба передумает и вернет ему с таким трудом доставшиеся деньги руками того же грабителя, который унес их в ночь.
Теперь все это стало достоянием истории и кажется столь же невероятным, сколь и вероятным.
Малыш Шеп Тэтлок до конца жизни (наступившего вскоре, в 1914 году) утверждал, что утром в день дерби кто-то «отравил» его.
Прекрасный труп Ксалапы был отправлен на корабле ее безутешному хозяину на ферму в Эйлсбери, штат Пенсильвания, где и был погребен с большими почестями, включая салют из пяти орудий.
Полуночное Солнце, заработавший своему сомнительному хозяину значительную сумму денег, больше ни разу в жизни не проявлял себя на скачках столь вдохновенно; а равно и его наезднику Пармели никогда больше не довелось праздновать столь впечатляющей победы.
Уорвики, Эдгар И. и Серафина, публично униженные их лютеранским Богом, в качестве наказания (так утверждала раскаявшаяся в содеянном Серафина) за участие в азартных играх в одночасье отошли от какой бы то ни было светской жизни. А «игрок-астролог» А. Уошберн Фрелихт, навсегда сломленный, к разочарованию местных дам, исчез из Чатокуа-Фоллз через день или два после того, как дал показания полиции, и имени его в кругах любителей скачек больше никто никогда не слышал.
Ну а что же с Черным Призраком, как величали его склонные к словесным красотам журналисты, или Негритянским Дьяволом, как с особой ненавистью называли его в газетах мистера Уильяма Рэндолфа Херста? Эта загадочная личность, похоже, тоже исчезла, несмотря на широкую огласку, которую приобрело дело, усилия полиции, искавшей преступника в пяти штатах, и всеобщую бдительность.
400 000 долларов так никогда и не были возвращены законным владельцам.
«Авьеморская дева»
Это случилось через восемь дней после потрясшей всех смерти мистера Стерлинга, когда дом на Гринли-сквер был все еще погружен в траур. Девушка в поношенном черном бархатном плаще подошла к парадной двери и постучала маленьким кулачком так слабо (наверное, бедное дитя не имело понятия о том, что существуют дверные колокольчики и кованые молоточки в виде традиционного американского орла), что нижняя горничная в течение нескольких минут не слышала стука. Ах, какой резкий порывистый ветер дул в то майское утро, как холодно светило солнце, можно было подумать, что это не весна, а зима на исходе…
Кем была эта девушка? Еще одной запоздалой скорбящей? (Ведь изысканно обставленное бдение у гроба, еще более изысканные отпевание и погребение и несколько дней, в течение которых в дом стекался нескончаемый поток посетителей, желавших выразить соболезнования, уже закончились.) Или ее визит вообще не имел никакого отношения к похоронам мистера Стерлинга? И почему она, такая юная — ей, разумеется, было не больше семнадцати лет, — без провожатых, одна ходила по такому большому городу, как Контракэуер? Странно было и то, что она долго мешкала, прежде чем решилась наконец робко отодвинуть щеколду на калитке и, проследовав по вымощенной плиткой дорожке, подойти к входной двери; ее лицо было почти полностью скрыто под свободно ниспадающим капюшоном, словно она боялась, что кто-то наблюдает за ней и, не дай Бог, может узнать.
По случайности, как это часто бывает, за ней действительно наблюдали из окна верхнего этажа: девятнадцатилетний Уоррен Стерлинг-младший, романтически настроенный сын покойного, изнуренный оплакиванием отца, в последнее время приобрел привычку подолгу печально смотреть из окна на площадь, наблюдая за наемными конными экипажами, автомобилями и пешеходами, монотонно движущимися внизу то прибывающим, то убывающим потоком. Так же и его мысли, непостоянные, окрашенные то меланхолией, то гневом на несправедливость утраты, монотонно текли неуправляемым потоком. Почему-то они вертелись не столько вокруг отца, сколько вокруг смерти как таковой. И почему-то, пытаясь думать об отце, которого уважал и любил, он вспоминал лишь шок, испытанный при виде призрачного воскового лица в гробу; его потрясло превращение живого человека в свое оцепеневшее подобие, словно бы спящее среди белых шелковых подушек и удушливых охапок мертвенно-белых лилий. Бдение у гроба; заупокойная служба; погребение; толпы скорбящих; бесчисленное множество заплаканных лиц; объятия, рукопожатия, невнятные слова сочувствия… А потом — дни траура: его эмоциональное состояние менялось каждый час, и каждый час таил в себе опасность, потому что иногда Уоррену Стерлингу удавалось скрывать свое горе, как подобает взрослому мужчине, а иногда он, словно слабый ребенок, не мог сдержаться. Почему Бог покарал отца смертью? Почему смерть была такой неожиданной, такой жестокой? Ведь отцу было всего пятьдесят два года, казалось, что он совершенно здоров; он был счастлив в семье, в работе, тверд в вере. Мистер Стерлинг был исключительно хорошим человеком, его любили, им восхищались многие. И тем не менее сердечный приступ убил его прежде, чем Уоррен, вызванный матерью, успел прибыть домой из своего Уильямс-колледжа; внезапность этой смерти казалась Уоррену особенно жестокой и несправедливой.
— Не дал мне даже попрощаться с отцом, — полным муки голосом жаловался Уоррен. — Не могу простить этого Богу, хотя понимаю, что должен.
Там, в Уильямстауне, штат Массачусетс, у себя в колледже, Уоррен подпал под влияние некоторых профессоров, отличавшихся свободомыслием и исповедовавших дарвинизм, и по собственному почину читал таких оказывавших на него дурное влияние авторов, как Томас Хаксли, Уолтер Пейтер, Сэмюэл Батлер, а также этого рифмоплета Алджернона Чарлза Суинберна; его болезненно волновал роман Томаса Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», а еще больше — «Джуд незаметный». Теперь, вместо того чтобы делать физические упражнения на свежем воздухе, он запирался у себя в комнате, часами сидел у окна, вглядываясь в мощенную булыжником улицу и маленький сквер за ней, где давным-давно, в детстве, он с невинным восторгом носился под неукоснительным присмотром няни. «Пусть Бог покарает меня смертью, — в порыве чувств поклялся себе Уоррен, — если я еще когда-нибудь позволю себе быть столь бездумно счастливым».
Тем не менее в то утро помимо своей воли он живо заинтересовался таинственным явлением в сквере молодой девушки. Она была явно ему незнакома, не походила она ни на гувернантку (поскольку возле нее не было никаких детей), ни на служанку (потому что ни одна служанка не могла свободно разгуливать в десять часов утра в будний день), судя по скромному платью и нерешительному поведению, а также по тому, что пришла одна, девушка не принадлежала к его социальному кругу. Минут десять-пятнадцать она, несмотря на холодный ветер, медленно бродила по дорожкам, словно готовясь к чему-то, и робко поглядывала на дом Стерлингов. Решится ли она перейти улицу и позвонить в дверь? Прижавшись лбом к оконному стеклу, Уоррен внимательно наблюдал за девушкой. Имея слабое представление о моде, он все же догадался, что ее плащ с большим свободным капюшоном старомоден; более того, он явно был с чужого плеча: подол волочился по земле. Поношенный наряд деревенской девушки, быть может, по-своему и милый, здесь, на Гринли-сквер, выглядел неуместно. Так же как и робкое поведение девушки казалось здесь неуместным и старомодным. Наконец она решилась перейти улицу. Взволнованный, Уоррен отпрянул от окна, чтобы она случайно не увидела его. У него создалось впечатление, что девушка очень молода, очень мила и очень испуганна, как человек, стоящий на краю обрыва. В тот момент, когда ветер приподнял капюшон ее не по фигуре огромного бархатного плаща, она болезненно напомнила ему одну из любимых картин отца: писанное маслом полотно шотландского художника XVIII века, с незапамятных времен висевшее в гостиной родителей и называвшееся «Авьеморская дева». На нем было изображено грозовое небо, перемежающиеся лесом скалы, а на переднем плане — стройная девушка в широком иссиня-черном плаще, сцепившая руки и поднявшая к небу глаза в истовой молитве. Очень бледная, почти бесплотная, девушка излучала невинную, ангельскую красоту. Художник придал ее взгляду неземное сияние, на щеках играл легкий болезненный румянец; бархатный капюшон соскользнул с ее головы, и ветер трепал струящиеся светлые локоны. Неподалеку от девушки был изображен серый каменный крест. Что крылось за названием картины «Авьеморская дева» — старинная легенда? баллада? какая-то шотландская историческая драма?
Никто в семье, даже сам мистер Стерлинг, любитель-коллекционер предметов шотландской старины, этого, похоже, не знал.
Мина Раумлихт? Из деревни Иннисфейл?
Она, несомненно, была деревенской девушкой, оробевшей при виде роскошного дома Стерлингов, — горничная поняла это с первого взгляда и решила, что с подобной посетительницей нечего церемониться.
Она, видите ли, хочет видеть мистера Стерлинга!
И говорит таким испуганным детским голоском!
Поскольку мисс Раумлихт, как представилась девушка, ничего не слышала о смерти хозяина, она едва ли могла быть сколько-нибудь важной персоной; разумеется, ни родственницей, ни приятельницей Стерлингов она не являлась; равно как и бывшей здешней служанкой — словом, никем, кого следовало бы принимать всерьез. Поэтому горничная весьма неприветливо заявила ей, что это невозможно, нет, она не может видеть мистера Стерлинга; и никого из членов его семьи — тоже, поскольку в настоящий момент они «не принимают». Но если хочет, она может оставить для миссис Стерлинг свою визитку. Или написать письмо и отправить его по почте…
Смущенная негостеприимным тоном горничной, Мина Раумлихт чуть попятилась назад, однако с детским упрямством как вкопанная застыла у самой двери. Ее ресницы трепетали от собственной дерзости, губы дрожали, но она настойчиво твердила, что ей необходимо видеть мистера Стерлинга, мистера Мейнарда Стерлинга, потому что у нее дело чрезвычайной важности, совершенно неотложное, и она проделала ради этой встречи долгий путь.
Долгий путь? Это из Иннисфейла-то? Голос горничной звучал почти презрительно, ибо Иннисфейл, крохотное селение у подножия ближних гор хребта Чатокуа, находилось всего в каких-нибудь двенадцати милях от Контракэуера.
Глаза девушки наполнились слезами. Она стояла, взволнованная, задыхающаяся, словно человек, отчаянно решившийся на дерзкий поступок, потребовавший от него невероятной храбрости и напряжения всех душевных сил, а посему не могущий позволить себе отступить. Снова спросив, не может ли она все же повидать мистера Стерлинга, она снова услышала краткий и бесцеремонный ответ: нет, не может. Сцепив руки, девушка поинтересовалась, «не на работе ли сейчас Мейнард» — что прозвучало весьма странно — и услышала еще более резкое: нет, не «на работе». Может быть, он в отъезде? — потому что она знает (эти слова девушка пробормотала едва слышно, опустив глаза), что он много путешествует. На это горничная нарочито вызывающе отчеканила: нет, «хозяин не в отъезде».
Тогда можно оставить ему записку? Лично для него?
К этому времени девушка в черном бархатном плаще почти всхлипывала от отчаяния, и горничная засомневалась: быть может, она зашла слишком далеко, слишком много на себя взяла? Впрочем, «Мина Раумлихт из Иннисфейла» не могла быть важной персоной — в лучшем случае продавщица или служанка, — и вряд ли горничная могла получить из-за нее нагоняй от хозяев, а посему решила больше не миндальничать и с суровостью старшей сестры, презирающей капризы младшей, двинулась вперед с явным намерением выставить девушку за дверь, повторяя при этом, что нет, та не может оставить записку хозяину, потому что это не разрешается.
— Не разрешается?! — прошептала мисс Раумлихт. — Как это может быть?
— А вот так — не разрешается и все, мисс.
Но как ни странно, девушка не собиралась сдаваться и ни на шаг не отступила с того места, на котором стояла; непокорно подняв свое нежное детское личико, она шепотом произнесла слова, которые так поразили горничную, что она запомнила их на всю жизнь:
— Вы лжете. Вы лжете, я это точно знаю; и я пожалуюсь Мейнарду на то, как грубо вы со мной обошлись.
Вся спесь вдруг слетела с заносчивой служанки, она подумала, что, в конце концов, эта девушка не ее младшая сестра, а некто, кто, вопреки видимости, может оказаться-таки весьма важной персоной, с которой шутки плохи, несмотря на ее юный возраст, а посему, смягчившись, сказала, что мисс Раумлихт может войти и подождать в гостиной, а она пойдет спросит у хозяйки, сможет ли та поговорить с ней.
— Но я хочу говорить с хозяином… — уже менее решительно заметила девушка.
Разумеется, это какая-то ошибка. Кто-то неправильно проставил имя в документе: то ли клерк, то ли секретарь, то ли кто-то из младших помощников адвоката. Мейнард Стерлинг — умер?!
Хотя фирма «Стерлинг, Стерлинг и Педрик» чуть ли не каждый день имела дело с кончиной своих клиентов и последствиями подобного события и хотя Мейнард Стерлинг как ответственный глава семейства и недурной юрист-профессионал уже несколько лет назад составил собственное завещание, для него фраза «Земля к земле, прах к праху» имела не столько реальный, сколько отвлеченный смысл — нечто вроде поэтической метафоры.
И вот — умереть таким заурядным, нелепым, негероическим образом: в будний день, в разгар очередного раунда длившихся уже девятый месяц переговоров относительно дополнительных документов по чрезвычайно запутанному делу, в котором «Стерлинг, Стерлинг и Педрик» (представлявшая интересы невероятно богатого фабриканта из Чатокуа, одного из основателей Национальной ассоциации фабрикантов) насмерть сцепилась со своим давним соперником фирмой «Бейгот, Буши и Грин» (представлявшей интересы владельцев медных рудников в южной части штата), запнувшись на середине латинской фразы — кажется, pro tempore? Ему казалось жизненно важным закончить эту фразу, словно от того, сможет ли он произнести ее до конца, несмотря на приступ стенокардии, швырнувший его лицом на стол совещаний и через несколько часов убивший, зависело его собственное спасение и спасение всей Вселенной.
Но он так и не смог договорить ее до конца. Постыдно запинаясь и извиваясь от боли, он не смог договорить ее до конца. Будто он, Мейнард Стерлинг, не был одним из самых выдающихся адвокатов штата Нью-Йорк.
Что так отчаянно пытался произнести мистер Стерлинг?
Полагаю, это было некое послание семье.
Нет, это наверняка была молитва. Он молил Бога о спасении души.
В момент своей внезапной смерти Мейнард Стерлинг являл собой поразительную фигуру: он был крепко сбит, но отнюдь не тучен; крупную и круглую, как луна, голову украшала серебристая шевелюра струящихся седых волос; близко поставленные добрые глаза проницательно смотрели из-под полуприкрытых век. Он был одним из тех джентльменов, в ком бурлила жизнь, ибо он знал, знал всегда, кто он есть; он отдавал себе полный отчет в своей миссии на земле как ревностного христианина (он являлся дьяконом Первой пресвитерианской церкви Контракэуера) и носителя почтенной профессии юриста (каковыми были также его отец и дед). Он был пламенным республиканцем, верившим, как и экс-президент Тедди Рузвельт, что опасное распространение социализма в настоящее время есть результат «недальновидности и безрассудства наиболее богатых граждан страны»; хотя по роду службы мистеру Стерлингу приходилось защищать интересы именно этих богатых граждан, благодаря чему процветала его фирма, он не боялся открыто исповедовать некоторые умеренно критические взгляды… разумеется, он считал бы социализм злейшим врагом, если бы дело дошло до открытой войны. Но прежде всего он был преданным мужем и отцом, надежным другом, человеком безукоризненного поведения и неподкупной честности. Бог, казалось, всегда благоволил к нему и… нет, это, конечно же, какая-то ошибка — он не должен был умереть. Вот так, в разгар переговоров, в расцвете сил, на пятьдесят третьем году жизни!
Он прожил беспримерно цельную жизнь. Хотя было в ней, хранимое в тайне от семьи, нечто тревожное… таинственное… какая-то неясная тень… чего именно? Чего-то, что в день похорон мистера Стерлинга не то чтобы обнаружилось, а так, неопределенно забрезжило. Среди кучи визиток с выражением соболезнований почтальон принес письмо:
Мистер СТЕРЛИНГ, умоляю, не сердитесь на свою Мину за то, что она нарушает Ваш запрет, но в последнее время меня одолевает такой страх, меня так ПУГАЮТ происходящие во мне перемены, в которых я не смею признаться своей тетушке. МНЕ НЕОБХОДИМО ПОСКОРЕЕ ПОГОВОРИТЬ С ВАМИ. О, прошу Вас, не осуждайте меня за слабость, ибо в последнее время я сама не своя, Я БОЛЬШЕ НЕ ПОНИМАЮ, КТО Я, страх делает меня малодушной.
Обожающая Вас Мина.
Это короткое послание было написано темно-синими чернилами, крупным, по-детски круглым почерком, на простом листке белой почтовой бумаги. На конверте стоял штемпель почтового отделения Иннисфейла, штат Нью-Йорк, — расположенной на берегу реки Нотога деревеньки, что находится неподалеку, к западу от Контракэуера. Но кто такая эта «Мина», не говоря уж об «обожающей Вас Мине»?..
Таинственное и тревожное письмо было доставлено в дом на Гринли-сквер с утренней почтой и вскрыто убитой горем миссис Стерлинг в конце дня. Она читала и перечитывала его, потрясенная, ничего не понимающая, стоя посреди обшитой деревянными панелями библиотеки покойного мужа в траурном платье, отделанном черными кружевами, в котором ходила с самого утра, сейчас она сняла лишь черную шляпу с вуалью. Заметив, как вдруг неподвижно застыла с испуганно-недоуменным выражением лица его невестка, Тайлер Стерлинг, младший брат Мейнарда, быстро подошел, чтобы узнать, что это за письмо, но поскольку Фанни Стерлинг лишь взволнованно бормотала, что ничего не понимает, он осторожно забрал его из ее дрожащих пальцев. Быстрым, наметанным взглядом пробежав оскорбительную записку и ничем не выдав ни удивления, ни огорчения, ни недоверия, со свойственным всем Стерлингам профессиональным спокойствием он сложил листок и сунул его во внутренний карман для сохранности. (С таким же невозмутимым видом Мейнард Стерлинг в свое время прочел принесенную ему во время судебного заседания записку, извещавшую о рождении Уоррена, поскольку в этот момент он как раз готовился обратиться к жюри присяжных от имени своего клиента — истца по некоему мучительному делу: на его лице не отразилось никаких эмоций, он начал речь с обычной уверенностью, говорил, как всегда, убедительно и выиграл дело своего клиента.)
— Что это за письмо? Кто такая Мина? И как она смеет обращаться в столь интимной манере к Мейнарду? — взволнованно спросила Фанни Стерлинг. И Тайлер ответил ей с полной уверенностью:
— На конверте неправильно написан адрес, и его принесли сюда по ошибке. Советую тебе раз и навсегда выбросить все это из головы, Фанни.
Но загадка обожающей Вас Мины из Иннисфейла продолжала терзать ее.
Охваченная горем, она тем не менее неотступно возвращалась мыслями к написанной детским почерком записке, которую Тайлер отобрал у нее и о которой не желал говорить. А больше о письме никто в семье не знал. Это предзнаменование. Дурное предзнаменование. Боже, помоги мне! Шок, вызванный смертью Мейнарда, почти начисто лишил Фанни способности связно мыслить и говорить; врач прописал ей «лекарство от нервов» в весьма щедрых дозах, от которого она постоянно пребывала в одурманенном состоянии и плохо соображала, что происходит, словно в полусне силилась собрать остатки здравого смысла. А ведь приходилось выдерживать натиск полчищ стерлинговых родственников, свойственников, друзей и знакомых, деловых партнеров и политических единомышленников! И так же, как сыновья, Уоррен и Феликс, считали своим долгом утешать ее, Фанни чувствовала себя обязанной утешать их, равно как и престарелую мать и тетушек Мейнарда, которые его обожали. Вдова прекрасно отдавала себе отчет в том, что находится под прицелом десятков глаз своих контракэуерских приятельниц, и боялась сделать неверный шаг: горечь утраты постепенно вытеснялась более насущным страхом оказаться не соответствующей требованиям, которые общество предъявляло к даме в ее положении. Фанни Стерлинг принадлежала к числу благополучных, но неуверенных в себе светских дам, которые больше болезней и смерти боятся, что о них станут судачить за спиной.
В момент внезапной смерти мужа Фанни Стерлинг, урожденная Нидерландер, родившаяся в семье бондаря из Буффало, штат Нью-Йорк, в свои пятьдесят лет оставалась, в сущности, ребенком. Характер у нее был скорее девичий, нежели женский; ее манеры — то, как она наклоняла голову, улыбалась, суетливо перебирала пальцами во время разговора, — свидетельствовали о недостатке зрелости; но в роду Стерлингов мужчины не любили волевых женщин и женщин с беспокойным, критическим или склонным к теоретизированию складом ума, каким обладали они сами. Мейнарда всегда умиляло и заставляло еще больше любить жену то, что она постоянно пыталась — и всегда безуспешно — понять суть его работы. «Готов поклясться, что сейчас Фанни соображает в юриспруденции меньше, чем соображала, когда мы с ней познакомились», — с улыбкой говаривал Мейнард. Не могла Фанни разделить и других интересов мужа, поскольку ничего не смыслила ни в бильярде, ни в гольфе, в которых Мейнард был мастак, ни в коллекционировании английской и шотландской живописи, редких марок, монет и старинных рукописей (преимущественно латинских и древнегерманских), имеющих отношение к юриспруденции. Если Мейнард был крупным и самоуверенным, имел профессиональную привычку говорить медленно, с неопровержимой логикой, наступая на собеседника, словно локомотив, сметающий все на своем пути, то Фанни Стерлинг была чувствительна и при этом тщеславна и скромна одновременно. Она очень походила на свою добродушную, но нервную мать, которая так боялась стать объектом пересудов, что предпочла умереть, чем признаться в том, что у нее злокачественная опухоль «по женской части». Она страшилась не только сплетен, но и того, что во время операции, под наркозом, у нее могут вырваться какие-нибудь непотребные слова, добропорядочным христианкам не подобающие. Если бы люди знали, какая я на самом деле, меня нельзя было бы любить. Помоги мне Господь!
Поэтому в то майское утро, спустя восемь дней после смерти Мейнарда, когда нижняя горничная явилась к Фанни Стерлинг с очень многозначительным выражением на нахальном маленьком личике и сообщила, что молодая женщина, которая называет себя мисс Мина Раумлихт, просит, фактически требует встречи с мистером Стерлингом, по-видимому, не зная о смерти хозяина, Фанни сразу же закрыла Библию, которую читала, и скованно поднялась, зная только одно: скандала нужно избежать любой ценой!
Когда Фанни Стерлинг, цепляясь за перила, чтобы не упасть, спустилась по лестнице в холл, она испытала небольшой шок: ее сын Уоррен стоял на пороге открытой двери кабинета Мейнарда, разглядывая не решавшуюся сделать ни шага в глубь дома посетительницу. Откуда он про нее узнал? Так быстро? Фанни, как мать, внутренне запаниковала. Когда Уоррен посмотрел на нее, она увидела в его взгляде недоумение, но и заметную взволнованность.
— Кто это, мама? — спросил он вполголоса.
Нахмурившись, Фанни ответила:
— Не твоя забота, Уоррен. К тебе это не имеет никакого отношения.
Деверь Фанни, Тайлер, быстро подошел к ней, они обменялись взглядами — как быстро эти двое поняли друг друга — и, ни слова не сказав Уоррену, проскользнул в кабинет.
— Но, мама… — попытался протестовать юноша. Однако Фанни, быть может, более резко, чем хотела, произнесла:
— Она не из тех, кого мы знаем или хотим знать.
— Тогда зачем она здесь? Я видел, как она подходила к дому. У нее такой испуганный вид.
Голосом, предвещавшим истерику, а женских истерик мужчины в роду Стерлингов очень боялись, Фанни ответила:
— Уоррен, иди к себе. Именем твоего покойного отца я запрещаю тебе совать нос в дела, не имеющие к тебе никакого отношения.
Помощница белошвейки. Семнадцати лет от роду. Приехала в Контракэуер в прошлом году в поисках работы, живет у старшей родственницы на другом, восточном, конце города — «в конце дороги, ведущей из Контракэуера в Буффало».
Выяснение предварительных сведений о девушке продолжалось весьма долго. Втроем они закрылись в обшитом деревянными панелями кабинете Мейнарда. Ставни были наполовину притворены, чтобы защитить комнату от слишком яркого, слишком назойливого весеннего солнца, от которого у Фанни Стерлинг болели провалившиеся от слез глаза. Через некоторое время ситуация, столь ужасная для всех взрослых людей, прояснилась. Оттого, что наивная девочка была, как приходилось с горечью признать, абсолютно невинна, она представляла собой ничуть не меньшую угрозу для семейных устоев Стерлингов и безупречной репутации Мейнарда. Это было хуже всего.
Застенчивая, съежившаяся, чувствующая себя здесь, среди напористых взрослых людей иного социального круга, словно рыба, выброшенная из воды, мисс Мина Раумлихт, похоже, поначалу никак не могла взять в толк, что «мистер Стерлинг скончался», — казалось, она не слышала этих слов, она лишь, часто моргая и бессмысленно улыбаясь, с болезненным напряжением смотрела на Тайлера, которому пришлось повторить свои слова. В это время Фанни, измученная мигренью и отчаянием, старалась ожесточить свое сердце против этого робкого деревенского воробышка, незваной гостьи, которая в иных обстоятельствах вызвала бы у нее лишь христианское сострадание. (В течение нескольких лет Фанни Стерлинг со своими приятельницами вела довольно активную работу по сбору средств и строительству Пресвитерианского дома для незамужних матерей Контракэуера.) У Мины Раумлихт были огромные голубовато-серые глаза, от усталости покрывшиеся сейчас сеточкой кровеносных сосудов и обрамленные темными кругами; на ее щеках играл лихорадочный румянец — признак повышенной температуры или чего-нибудь похуже; лицо с мелкими, кукольными чертами осунулось и казалось больным. Светло-каштановые волосы были заплетены в косу, туго уложенную короной вокруг головы. Плащ, сильно поношенный, казавшийся непомерно большим на ее стройной фигурке, был сшит из какой-то дешевенькой бархатистой ткани такого темно-красного цвета, что выглядел почти черным, он был аккуратно подшит, но подол начинал уже обтрепываться. Из-под него виднелось простое темное хлопчатобумажное платье с квадратной кокеткой и узкими рукавами с рюшами на манжетах, спускавшимися до самых пальцев. Кисти рук у нее были загрубелыми. Широкая присборенная юбка топорщилась, ее неприятное шуршание напоминало приглушенный шепот, обвисший на плечах жакет на животе распирал застежку. Догадываясь, насколько дурно одетой она выглядит в глазах богатой матроны с Гринли-сквер, мисс Раумлихт сидела, смущенно ссутулившись, положив руки на колени и плотно сцепив пальцы. Фанни Стерлинг с удивлением отметила, что девушка пришла без перчаток; на пальцах у нее не было колец, а жалкие, короткие ногти, судя по всему, были обкусаны. Вот так же и я когда-то обкусывала ногти в ужасе перед окружавшей меня мужской тайной.
Наконец Мина, похоже, осознала, что мистер Стерлинг, которому она недавно писала и которого столь дерзко и отчаянно искала теперь, был мертв.
— Но как Бог мог такое допустить? — прошептала она. — В такой момент!..
Бросив предупреждающий взгляд на невестку, Тайлер произнес тоном, вероятно, более холодным, чем намеревался:
— Боюсь, мисс Раумлихт, не нам судить, что может и чего не может допускать Бог в Своем мире и в Своем времени.
Воцарилась тишина. Неподалеку начали отбивать время мрачноватые, но невыразимо прекрасные колокола церкви Святой Марии Магдалины. В болезненном наплыве проносящихся перед мысленным взором картин, словно находясь на грани бреда, Фанни Стерлинг плакала, не в силах сдержать слезы. Теперь слезы покатились и из глаз Мины. Так они и плакали обе: одна, изможденная горем, и другая, несравненно более молодая, по-детски всхлипывающая, — слезы струились из ее прекрасных глаз и, словно капли едкой кислоты, падали на маленький кулачок, прижатый к губам.
Тайлер, с видом, выражавшим любезность и досаду одновременно, попытался успокоить женщин. Как быстро мужчина устает от женской слабости, особенно если женщина горюет о другом мужчине! Но когда он встал со стула, маленькая помощница белошвейки отпрянула от него, словно испугавшись, что он может ее ударить; глаза у нее закатились, лицо мертвенно побелело, она прошептала: «О, помогите мне!» — и лишилась чувств, тяжело рухнув на ковер, прежде чем кто-нибудь из Стерлингов успел ее подхватить. И в этот момент Фанни и Тайлер с ужасом увидели под бесформенным платьем ее небольшой, но определенно округлившийся, раздавшийся живот.
Он выглядел так гротескно, до конца своей несчастной жизни вспоминала Фанни Стерлинг, потому что был диспропорционален детскому тельцу, только злодей мог сделать с ней это.
Разумеется, опасаясь скандала, они не решились послать за доктором или хотя бы позвать кого-нибудь из слуг.
Хотя Фанни Стерлинг, дрожащими пальцами расстегивая тесный в талии жакет девушки и поднося к ее носу флакон с нашатырным спиртом, воскликнула:
— Помоги нам Бог, если она умрет!
Тайлер, у которого дрожала нижняя челюсть, немного сердито возразил:
— Уверен, что женщины такого сорта не умирают от пустяков.
Вдвоем они неловко перенесли девушку на диван, где она медленно начала приходить в себя, хотя потребовалось не меньше часа, чтобы она очнулась окончательно и вспомнила, где она, кто эти люди рядом с ней и зачем она сюда пришла. Одеревеневшими губами она шептала, что ей очень неловко, так неловко и так страшно, что она понимает: нужно уйти, но как она может вернуться домой, в Иннисфейл, или хотя бы к тетке — до сих пор она скрывала от нее свое положение, но дальше скрывать не сможет, Мейнард обещал помочь ей, ах каким добрым человеком был Мейнард и как это жестоко, что Бог прибрал его!.. Она была в таком отчаянии, что Фанни посчитала нужным прервать ее излияния с заботливой тревогой, с какой могла бы говорить с одним из своих сыновей.
— Нет, моя дорогая! Никогда так не говорите. Мы должны верить, что Бог милостив.
— Ничего он не милостив, — рыдала Мина Раумлихт, корчась на набитом конским волосом диване. Ее аккуратно уложенные волосы растрепались, от маленького раздавшегося тела шел неприятный влажный жар. — Бог причинил всем нам такое жестокое страдание.
Тайлер отошел, чтобы принести девушке немного виски, но она вдруг впала в глубокий сон или в транс: покрасневшие глаза были полуприкрыты, губы, на которых виднелся след от зубов, по-детски обмякли. Стерлинги стояли, склонившись над ней и не зная, что делать. Даже Тайлер, понимавший в жизни гораздо больше, чем его невестка, казалось, был поставлен в тупик. Глубоко шокированный в душе, он сердился на покойного брата — каков лицемер был этот пресвитерианский дьякон! В какую ярость пришел Мейнард, по крайней мере на людях, когда двадцать дней назад кандидат в президенты от Демократической партии Гровер Кливленд был разоблачен в общедоступной прессе: оказалось, что у него есть незаконный ребенок — словно незаконные дети не рождаются на свет каждый день от таких, с позволения сказать, джентльменов, как Мейнард Стерлинг и Гровер Кливленд.
— Она права, — устало сказала Фанни Стерлинг. — Бог причинил нам всем такое жестокое страдание.
— Но он же укажет нам и выход, Фанни. Никогда не сомневайся в Нем.
Тайлер Стерлинг тоже обучался юриспруденции; не обладая репутацией старшего брата, всегда находясь в тени великолепного Мейнарда, он тем не менее не был лишен некоторых способностей. В течение того часа, что Мина Раумлихт крепко спала, Тайлер в дальнем углу кабинета совещался с невесткой, они решали, что делать.
— Замечательно то, что девушка не выдвигает никаких обвинений. И ничего не требует. Похоже, она не осознает своих преимуществ и предоставляет дело нам. Ее даже можно пожалеть, — шептал Тайлер. И Фанни горячо поддерживала его:
— Мне действительно жаль ее и всех нас. Кого я не могу простить, так это Мейнарда.
— Вероятно, девчонка лжет, — неуверенно предположил Тайлер, — и Мейнард здесь ни при чем. Если бы он сам был здесь…
— Но его здесь нет, — напомнила Фанни и со странным чувством добавила: — Если бы он был здесь, мы бы никогда не встретились с мисс Раумлихт, мы бы даже не узнали о ее существовании; все было бы очень тихо и тайно улажено. О, я начинаю понимать, как такие вещи делаются в мире мужчин!
Чтобы успокоить нервы, они потягивали бренди; Фанни, не привыкшая к крепким напиткам, тем более в столь ранний час, снова наполнила опустевший бокал и поднесла его к дрожащим губам. Резкие винные пары замечательным образом прочистили ей голову: словно кто-то вымыл давно не мытое окно. Она даже почти развеселилась, вдруг почувствовав себя свободной! Если честно признаться, любила ли она вообще Мейнарда? То, что она была его женой, не в счет. Она смутно припомнила давние обиды и пренебрежение, с каким он порой к ней относился, особенно тогда, после рождения Уоррена, когда Фанни была еще относительно молодой женщиной, а муж отказывался «прикасаться» к ней, как это случалось и прежде; не то чтобы Фанни, как истинная пресвитерианка, не чувствовала от этого даже некоторого облегчения, разумеется, чувствовала и даже благодарила Бога за то, что он освободил ее на время от супружеских обязанностей, но в то же время не ощущала ли она себя… брошенной? оскорбленной? отвергнутой? Зная ненасытные аппетиты мужа, она даже терзалась мыслью, что он, вероятно, тайно утоляет на стороне свою «супружескую неудовлетворенность», как это называлось в учебниках, подобных «Медицинскому руководству для жен».
Конечно же, она ни с кем не делилась своими мучительными догадками. Даже с другими замужними женщинами семейства Стерлингов, даже со своими замужними сестрами; есть постыдные темы, которые женщине ни с кем не пристало обсуждать.
Видя, что Фанни одолевают непредсказуемые чувства, Тайлер сказал ей, что предпочел бы наедине поговорить с девушкой, когда та придет в себя. Он заключит с ней финансовое соглашение и позаботится, чтобы она подписала документ, официально обязывающий ее хранить тайну.
— В соглашении мы оговорим, что деньги ей будут переданы наличными. Вознаграждение назначим весьма щедрое. И ничего больше — никаких контактов в будущем. Это обязательное условие.
Глядя в другой конец комнаты, где лежала похожая во сне на ангелочка девушка, Фанни сказала:
— И все же, если это ребенок Мейнарда… Знаешь, нам ведь так хотелось иметь девочку. (Так ли это было на самом деле? Фанни действительно мечтала родить третьего ребенка, дочку; но Мейнарда, похоже, вполне удовлетворяли два сильных здоровых сына.) Это как волшебная сказка: принцесса, вернувшаяся домой. Она и сама была бы желанной дочерью, и родила бы дочь. О, Тайлер, ты понимаешь? Разве не может так быть, что это тайная Божья воля?
Тайлер никогда не был высокого мнения об интеллекте и характере своей невестки, хотя относился к ней хорошо, с нежной снисходительностью, с какой относился к собственной матери и сестрам. Сейчас он чувствовал, что Фанни находится на грани нового приступа дамской истерии, посему поспешил успокоить, сжав ее ледяные ладони в своих руках, и уверил, что Божья воля состоит единственно в том, чтобы Стерлинги обошлись с девушкой как подобает добрым христианам.
— Вряд ли Бог хочет, чтобы мы принесли себя ей в жертву, потому что это навлечет несчастье и позор на всю семью, в том числе и на Нидерландеров.
Фанни содрогнулась и допила остатки бренди из своего маленького низкого бокала. Да, это правда. Мученичество — не для нее, в отличие от ее бедной матери.
— Хорошо, но при условии, что мы будем щедры, — с горячностью заявила она.
Остаток дня и начало вечера Тайлер Стерлинг потратил на переговоры с мисс Раумлихт и добился наконец успеха, убедив ее подписать составленный им документ в обмен на «кругленькую сумму».
Какова именно была эта сумма, Фанни Стерлинг так никогда и не узнала.
Тайлер отправил ее наверх, где она легла в постель с чудовищным приступом мигрени, и принялся за работу, которую про себя раздраженно назвал стиркой грязного белья своего старшего брата и за которую он не получит никакой благодарности, потому что никто, кроме Фанни, не будет о ней знать. И даже Фанни не узнает, чего ему это стоило.
Потому что оказалось отнюдь не легко убедить маленькую помощницу белошвейки принять деньги «от имени Мейнарда Стерлинга» и подписать документ, в котором содержалось обещание больше никогда не вступать ни в какие контакты с кем бы то ни было из семейства Стерлингов. Тайлер был удивлен упрямой добродетельностью Мины Раумлихт, так отличающейся от всего того, с чем ему приходилось сталкиваться в своей юридической практике. «Невероятная девушка! Смешная! Но такая хорошенькая даже в нынешнем своем положении, что понятно, почему Мейнард клюнул на нее».
Мина Раумлихт заявила, что не желает брать никаких денег. Не хочет марать себя, принимая их. Она пришла в дом на Гринли-сквер не для того, чтобы «торговать своей честью», а просто хотела в последний раз увидеть мистера Стерлинга, своего любимого Мейнарда; и сделала это от отчаяния, потому что он не давал о себе знать последние восемь дней, хотя за все тринадцать месяцев их знакомства никогда не проходило больше трех-четырех дней, чтобы он не прислал ей записочку или маленький подарочек или не пришел сам повидать ее. «Тринадцать месяцев!» — с завистью подумал Тайлер. Он не мог отвести взгляда от напряженного, но такого кукольно-прелестного личика, от этих голубовато-серых, глубоко посаженных глаз, взгляд которых, несмотря на всю скорбь и растерянность девушки, был исключительно умным. Хотя ее стройная, пусть и немного раздавшаяся сейчас фигура была скрыта под бархатным плащом, Тайлер испытывал невыразимое волнение, представляя себе… юную трепещущую плоть, которую его похотливому брату Мейнарду не было нужды представлять себе.
— Он-то удобно устроился, — сказал Тайлер, и в его голосе прозвучала горечь. — Чего нельзя сказать о вас.
Но Мина Раумлихт горячо возразила:
— Нет, мистер Стерлинг был прав, он был хороший. Это я плохая перед Богом и людьми, и меня не следует вознаграждать за мои грехи.
Тайлер разве что зубами не скрежетал, оттого что его старший брат каким-то невероятным образом заслужил столь безоговорочную преданность этой красивой молодой девушки. По всеобщему мнению, Мейнард вполне удачно женился, однако легко забывал о жене, когда ее не было рядом, да он и не делал вида, что когда-либо пылал к ней страстью, даже когда они были молодоженами. Тайлер сказал девушке, что понимает ее чувства и уважает их. Но в сложившихся обстоятельствах она обязана думать о будущем; его брат, безусловно, хотел бы того же. (Интересно, подумал Тайлер, указана ли в многочисленных замысловатых дополнительных распоряжениях к завещанию Мейнарда — документу, содержащему множество страниц, — щедрая сумма, причитающаяся мисс Мине Раумлихт как третьему лицу; но он никак не мог это проверить, не возбудив подозрений, поскольку не являлся душеприказчиком Мейнарда. В любом случае, пока завещание вступит в законную силу, пройдет несколько месяцев.)
— Хотел бы, чтобы я продала свою честь? В это я никогда не поверю, — печально ответила девушка.
Тайлер стал разубеждать ее, тщательно подбирая слова.
— Мисс Раумлихт, вы должны воспринимать это как возможность позаботиться о будущем, о благополучии вашего ребенка, который скоро родится.
Вашего ребенка, который скоро родится. Глядя на нее, Тайлер снова испытал сильное волнение; все застыло у него внутри, ведь, если бы захотел, он мог положить руку на живот беременной и почувствовать ее внутренний, тайный жар… «Нет, это абсурд, — подумал он с упреком в собственный адрес. — Я же не как мой брат, я человек честный».
Он позвал слугу и велел принести чаю для мисс Раумлихт и для него самого; крепкий терпкий напиток освежил обоих.
К тому времени — день уже катился к вечеру — Тайлер снял пиджак, он был взволнован, и ему стало жарко. В 16.40 наконец удалось убедить девушку взять перо, чтобы подписать составленный им короткий документ; она задумалась, нахмурилась и, казалось, собиралась уже поставить подпись, но передумала; в 16.48 она с видом упрямого ребенка, не желающего есть ненавистную кашу, отбросила перо. Тайлер снова принялся терпеливо и ласково уговаривать ее. Был момент, когда его рука случайно коснулась плеча Мины Раумлихт, и другой, когда он, ничего не имея в виду, отеческим жестом убрал со лба девушки выбившуюся прядь.
Как необычны заплетенные в косу и уложенные короной вокруг головы волосы Мины Раумлихт — золотистые, светло-каштановые, цвета поздней осени; какая у нее дерзкая верхняя губа, покрывшаяся сейчас бусинками пота. Какое редкое зрелище, подумал Тайлер, и какое очаровательное — увидеть, как эти бусинки выступают на лице женщины; он был уверен, что никогда прежде не видел, чтобы у кого-либо из знакомых ему женщин над верхней губой выступал пот; впрочем, может быть, он просто не обращал внимания.
В 17.12 Мина Раумлихт снова взяла перо, старательно перечитала документ, обмакнула перо в чернила и, казалось, собиралась уже расписаться, но ее лицо исказили муки совести, и, отшатнувшись от стола, она покачала головой, бормоча:
— О нет! Не могу. Это неправильно.
Теперь Тайлер заскрежетал-таки зубами и вдруг импульсивно решил, что следует удвоить сумму. Он взял документ, перечеркнул прежнюю и быстро проставил новую цифру, с удовлетворением отметив, что у девушки округлились глаза.
— Мисс Раумлихт, ради нашего общего блага вы должны.
Однако в 17.35 Мина Раумлихт снова отложила перо и, закрыв лицо руками, заплакала, повторяя еле слышно:
— …но, принимая так много денег, я усугубляю свой грех… разве не так?
— Разумеется, нет, мисс Раумлихт. — Лицо Тайлера раскраснелось от волнения; на шее ощутимо пульсировала жилка, он был на пороге триумфа. — Это говорю вам я. Теперь вы не имеете возможности посоветоваться с Мейнардом, он больше не может вам ничем помочь, вы должны слушаться меня.
Тем не менее лишь в 18.13 маленькая помощница белошвейки из Иннисфейла снова взялась за перо и, к невыразимой радости Тайлера, храбро поставила под документом свое имя: Мина Раумлихт. 13 мая 1909 г.
Если Тайлер пребывал в приподнятом настроении и испытывал бурный восторг от итога этих долгих переговоров, то Мина Раумлихт казалась окончательно выдохшейся и раздавленной. Как будто мы боролись с ней не интеллектуально, а физически. И я победил!
Тем не менее Мина Раумлихт заставила себя вежливо поблагодарить своего благодетеля и приняла из рук Тайлера солидную сумму (8000 долларов в купюрах разного достоинства, в основном крупных, которые Стерлинг извлек из сейфа: семья не доверяла банкам после паники, случившейся в здешних местах, когда в январе 1898 года затонул «Мэн»), сумму, которую она унесла в принадлежавшей Фанни красивой дорожной сумке из натуральной кожи (с радостью подаренной ей Фанни, испытавшей едва ли не большее облегчение, чем Тайлер, от удачно завершившихся переговоров с Миной).
— Благодарю вас, миссис Стерлинг, — скромно сказала, уже стоя в холле, мисс Раумлихт, и сделала неловкий, но очаровательный книксен. — И вам спасибо, мистер Стерлинг. Я всегда буду вспоминать вас с таким же глубочайшим почтением, с каким буду помнить о нем. «Что в небесах, то и на земле» — это выражение вселяет в меня мужество, ибо напоминает: все, что претерпеваем мы здесь, на земле, предначертано небесами, и если не на земле, то на небе нам, скитающимся в потемках, отпустятся наши грехи.
Удивительная маленькая речь, особенно в устах семнадцатилетней помощницы белошвейки, тем более — с трудом стоявшей на ногах под грузом своей восьмимесячной беременности! Онемевшие от неожиданности, Тайлер Стерлинг и его невестка Фанни обменялись растерянными взглядами.
К этому времени подоспел заранее оплаченный наемный экипаж, который должен был доставить мисс Мину Раумлихт на контракэуерский вокзал. Тайлер не стал терять времени на проводы девушки к экипажу и, как он надеялся, из жизни Стерлингов навсегда.
Итак, Бог избавил нас, ликовала в душе Фанни, от ужасного публичного скандала, по сравнению с которым и адское пламя показалось бы благодатью!
Кто она? Откуда пришла и куда направляется?
Втайне от матери и дяди Уоррен Стерлинг выскользнул из дома на Гринли-сквер и пешком последовал за экипажем. Быстрым шагом он миновал немало кварталов, пока, к его крайнему удивлению, кеб не остановился на Хайленд-бульваре. Таинственная девушка в темном плаще, с которой его дядя секретничал за закрытой дверью большую часть дня, грациозно спустилась по ступенькам и отпустила экипаж. Как прелестно она выглядела теперь, когда капюшон не скрывал ее лица и золотисто-каштановая коса, короной уложенная вокруг головы, сияла на солнце! С кожаной сумкой в руке — кажется, это была сумка его матери, — без сопровождения, девушка шла теперь вдоль запруженного людьми тротуара быстро и решительно, не выказывая никаких признаков робости. Она миновала мрачный портик пресвитерианской церкви, прихожанами которой были многие поколения Стерлингов, красивый новогреческий фасад отеля «Контракэуер» и, опять же к великому удивлению Уоррена, повернула на суматошную Коммерс-стрит. И здесь неожиданно к ней присоединилась, вернее, приблизилась поистине удивительная личность: высокий, гибкий, изящно одетый джентльмен-негр, судя по седоватым, словно припудренным волосам, эспаньолке и чуть сутулым плечам, — средних лет; на джентльмене были очки без оправы и черная шляпа-котелок, он шел чопорной походкой, опираясь на трость. Как отличался этот благовоспитанный негр от тех негров — рабочих и слуг, — с которыми приходилось постоянно встречаться; должно быть, он священник, подумал Уоррен. И все же как странно: не глядя друг на друга, девушка в дорожном плаще и негр тем не менее определенно шли в ногу. Негр держался на почтительном расстоянии от девушки — шагах в пяти, и они, словно привязанные друг к другу, быстро следовали по Коммерс-стрит, так быстро, что Уоррен, футболист, длинноногий юноша в хорошей физической форме, с трудом за ними поспевал.
Утром того же дня он прочел в «Контракэуер пост» статью о Черном Призраке, за несколько дней до того совершившем сенсационное ограбление в Чатокуа-Фоллз и скрывшемся с неразглашавшейся суммой денег (по слухам, она достигала нескольких сот тысяч долларов); Уоррен внимательно изучил карандашный набросок портрета грабителя, напечатанный в газете: обезьяноподобное лицо молодого негра с усиками, в черной маске-домино; видимо, для особой эффектности художник изобразил его с поднятым длинноствольным пистолетом, не говоря уж о надменном выражении лица. НАГРАДА 12 000 ДОЛЛАРОВ! РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЧЕРНЫЙ ПРИЗРАК! ДЕРЗКИЙ НЕГР ГРАБИТ ДАМ И ГОСПОД В ЧАТОКУА-ФОЛЛЗ ПОД ПРИЦЕЛОМ ПИСТОЛЕТА! Глядя теперь на этого пожилого негра, явно сопровождающего девушку в дорожном плаще, Уоррен невольно вспомнил о Черном Призраке — разумеется, между ними не было никакой связи, так как этот негр был благовоспитанным господином лет пятидесяти с небольшим, в то время как Черный Призрак — простой парень двадцати с чем-нибудь лет.
Однако действительно ли эти двое — негр и девушка — связаны друг с другом, Уоррен решить не мог. Несомненно, никто другой, глядя на них, этого бы не сказал. Уоррен был заинтригован и взбудоражен, как любой, кто является свидетелем чего-то таинственного. Неотрывно наблюдая за ними, он не замечал ничего вокруг и постоянно натыкался на встречных пешеходов; а на Грант-стрит, неподалеку от вокзала, вообще чуть не погиб, едва не столкнувшись с лязгающим автомобилем.
К своему удивлению и растерянности, Уоррен потерял их в кружащей вокзальной толпе и вынужден был прекратить погоню. Но мимолетно открывшееся ему девичье лицо, ее лицо, неотступно преследовало его еще много лет; он искал его, вступая в романтические отношения с молодыми женщинами, — всегда тщетно; однако воспоминания о нем неизменно приводили его в состояние приятного возбуждения и возрождали надежду в душе.
«Авьеморская дева», — беззвучно шептал он тогда с благоговением. Хотя, по его мнению, эта девушка была несравненно прекраснее, чем красавица с картины в золоченой раме, висевшей все эти годы в доме, принадлежавшем еще его деду Стерлингу.
«Птица в золотой клетке»
И откуда эта безрассудная, эта головокружительная юношеская бравада у Элоизы Пек, урожденной Ингрэм, внучки знаменитого настоятеля епископальной церкви? От французского шампанского в полночь на террасе отеля «Сен-Леон», что в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси; от шампанского в полдень в люксе, в роскошной спальне; от русской икры, щедро намазанной на тосты (хотя он, сохранивший вкусы ребенка-переростка, предпочитает джем или арахисовое масло), от фазаньего паштета с коньяком, ромовых булочек с маслом, круассанов — от всего того, что жадно поглощается прямо в постели?..
Кристофер!.. ты спишь?
Нет, мэм.
Я тебя разбудила?
О нет, мэм.
Нет, разбудила, правда?.. Прости, я не хотела.
О нет, мэм, я не спал… я бодрствовал.
Но, Кристофер, дорогой, почему ты называешь меня «мэм»?.. Разве я не просила тебя называть меня Элоизой?
…Элоиза.
Разве ты не любишь меня, Кристофер?
О да… люблю… Элоиза.
Тогда почему ты так робок, глупый мальчик?.. Теперь-то почему?.. после стольких дней счастья… когда ты уже знаешь, что я тебя обожаю?
…Прости, Элоиза.
Теперь, когда я — твоя невеста и нам остается лишь дождаться решения суда, а тогда… О, сладкий мой Кристофер! Мы поженимся.
Да, Элоиза… мэм.
Да! Разве она не молода?.. Разве Элоиза Пек, урожденная Ингрэм, недостаточно молода?.. после двадцати трех лет замужества за стариком, который все никак не умрет?
Кристофер!
Да, мэм?
Мы ведь обязательно поженимся, как только я стану свободной, это не пустые мечты? Не похмелье после шампанского?
Конечно, нет, мэм. То есть, я хотел сказать — да.
И ты любишь свою Элоизу?
О да.
И ты будешь с ней нежен?
Ода.
И тебе наплевать на людскую молву?
Абсолютно, мэм.
И ты не боишься моего мстительного мужа?
Ничуть, мэм.
И ты не сожалеешь о своем неосуществленном призвании?
Ведь ты, милый Кристофер, мог стать таким красивым, таким… таким влиятельным священником!
Ну, вообще-то… да, мэм… Элоиза, я сожалею… кое о чем.
Но твое сердце не разбито?
О нет.
Твое сердце полностью… полностью… принадлежит мне?
О да.
И мы будем мужем и женой, пока смерть не разлучит нас?.. в горе и в радости, в богатстве и бедности?
О, разумеется, да, мэм.
Так ты любишь свою Элоизу? И больше никого?
И больше никого?.. О да.
Посреди воскресной толчеи, царящей на дощатом променаде, тянущемся вдоль великолепного широкого пляжа, Элоиза Пек прогуливается со своим молодым рослым любовником-блондином (говорят, прежде он был фермером… или семинаристом?) и со своими шпицами-двойняшками (Принцессой и Сан-Суси), и головы прохожих сами собой поворачиваются, чтобы рассмотреть ее украшенный плюмажем шелковый тюрбан, ее колье из сапфиров и бриллиантов, ее платье в стиле ампир от Пуаре из набивного шелка (с широкими развевающимися рукавами, облегающим лифом и V-образной горловиной)… Она держит над головой шифоновый зонтик от солнца, кисти затянуты в белые сетчатые перчатки, сквозь ромбовидные ячейки которых просвечивает нагая плоть. Лицо скрыто под белой тюлевой вуалью, но нет в Атлантик-Сити человека, который не знал бы, кто она: кто же еще, как не сбежавшая жена старика Уоллеса Пека?
Кристофер!
Да?
Дай мне руку, дорогой, и не делай такие широкие шаги… я задыхаюсь на этом ветру.
Простите, мэм. Хорошо, мэм.
Элоиза, дорогой.
О да: Элоиза, дорогая.
И ты слишком сильно натягиваешь поводок, ошейник впивается Принцессе в горло, прошу тебя, дорогой, поосторожнее.
Да, конечно, Элоиза, дорогая.
Вот это уже лучше.
Правда?
В течение двадцати трех лет она была хорошей, и вдруг — какое восхитительное ощущение: быть плохой; в течение двадцати трех лет она была миссис Уоллес Пек в своей золотой клетке, и вдруг — снова почувствовать себя просто… Элоизой, какое пьянящее чувство! Пить шампанское, французское бургундское, швейцарский шоколадно-миндальный ликер в освещенном свечами Хрустальном зале отеля «Сен-Леон» и тайно сжимать под столом колено своего по-юношески краснеющего Кристофера: «Ты действительно любишь меня, Кристофер, дорогой, или все это только… фантазия?» В просторном вестибюле епископальной церкви Святого Иоанна вероотступница миссис Пек принимает надменный вид, прежде чем прихожане успевают сообразить и окатить презрительными взглядами ее, стареющую сестру Вандевентер; в помещении клуба при ипподроме Атлантик-Сити миссис Пек позволяет себе беспечно пофлиртовать со стариком Элиасом Шриксдейлом, другом ее покойного отца и пока еще законного мужа. Она довольно много пьет в последнее время (как сама же первая и признает!), но не теряет контроля над собой, разве что слишком расточительно раздает чаевые да слишком много откровенничает, посвящая парикмахера, массажистку, гостиничного администратора, приемщика телеграмм, владелицу чайного салона, а пуще всех свою служанку-филиппинку… в грандиозные планы на будущее (свадебное путешествие на греческие острова, обновление обстановки в старой усадьбе Ингрэмов в Ньюпорте), планы, которые начнет осуществлять, как только официально станет миссис Кристофер Шенлихт.
Порой она плачет, это правда. Но только от радости. Ибо она вот-вот унаследует много денег (в соответствии с долго откладывавшимся после смерти ее отца соглашением сторон) и получит свободу от брачных уз, связывавших ее со страдающим диспепсией старым тираном Уоллесом Пеком (который мстил своей молодой жене за два выкидыша, мертворожденного ребенка и неизвестную инфекцию, от которой в конце концов удалось избавиться благодаря гидротерапии и ртутным мазям).
Но почему Любовь должна прятать свое лицо?
Почему она сама должна прятать лицо? — вопрошает Элоиза, объясняя кузинам, друзьям, скептически настроенным знакомым с Манхэттена, что она и юный Кристофер любят друг друга, что она и юный Кристофер уважают друг друга, и совершенно не важно, что он, да, почти на двадцать лет моложе ее, что он происходит из скромной деревенской семьи, живущей в штате Нью-Йорк, что, кроме года, проведенного в библейской школе в Маунт-Чаттарой, он нигде толком не учился; вовсе не важно — здесь она вскидывает на собеседника сердитый взгляд, — что светское общество открыто выражает сомнение в благоразумии поведения миссис Пек, влюбившейся в миленького, но глуповатого деревенского паренька или использующей его.
И откуда столь неоспоримая уверенность, что она безумно любит этого мальчика, что она готова умереть за него, что, хотя он не первое, не второе и даже не третье из ее «увлечений», он вытеснил из ее сердца все предыдущие — память о них вмиг померкла. Откуда в ней такое пренебрежение к условностям, столь нехарактерное для Ингрэмов, да и для кого угодно, особенно для женщин ее круга, такое пренебрежение, что ей совсем не стыдно и она решительно намерена все сделать по-своему… хотя здесь, в Атлантик-Сити, где ее, конечно же, все знают, она ведет себя весьма осмотрительно: сняла люкс для себя и смежный номер для него, чтобы не давать пищи для пересудов праздным болтливым языкам и служащим отеля «Сен-Леон». Откуда это лихорадочное желание? Это безумное возбуждение при виде сильных, жилистых, мускулистых ног, покрытых светлыми вьющимися волосками… этой туповатой робкой кривой улыбки… густого румянца, поднимающегося от шеи и заливающего его щеки, когда Элоиза, слегка подвыпившая Элоиза, слишком уж безудержно восхищается им или ласкает его слишком уж нетерпеливыми неловкими руками: милый мальчик! Милый невинный мальчик!.. Любишь ли ты меня больше всего на свете?
Летом 1909 года все разговоры в фешенебельном Атлантик-Сити были о скандалах: о скандале в политической жизни, скандале, случившемся на бегах, о скандальном поведении «сбежавшей от мужа» жене Уоллеса Пека.
Никто не мог припомнить, чтобы женщина из хорошей семьи когда-либо так открыто пренебрегала светскими условностями, чтобы она появлялась на променаде, в той или иной гостиной, салоне или ресторане в сопровождении долговязого костистого юнца, которого она называла бы своим женихом, — этот мальчишка ей в сыновья годится, возмущались добропорядочные дамы.
И это в тот момент, когда ее престарелый муж там, дома, на Манхэттене, тяжело болеет… (Стало известно, что слово «уоллеспекнуть» получило широкое хождение среди членов избранных клубов и завсегдатаев светских салонов, злое выражение, ибо означало оно — откровенно и постыдно наставить рога.) Все знали, что бракоразводный процесс еще продолжается и Пек якобы умыл руки, не желая иметь с женой ничего общего, но все же — какой скандал! Элоиза Пек в своих дорогих нарядах от лучших модельеров (в этом сезоне она предпочитала спорные модели парижского кутюрье Пуаре, который проповедовал отказ от корсетов), со своими красно-каштановыми, неумеренно крашенными хной волосами, со щедро напудренным лицом и насурьмленными веками, выставляла себя напоказ, улыбаясь и жеманничая с каждым встречным-поперечным, словно верила, что все желают ей добра.
Элоиза Пек, вышедшая замуж в двадцать лет, превратилась теперь в пухлую кокетливую женщину с испуганным взглядом и суетливым, слишком уж жизнерадостным характером, готовую улыбаться чаще, чем это необходимо, и подверженную беспричинным приступам смеха… словно (как язвительно говорили ее хулители) она находила в этом мире много веселого. До недавних пор, пока ее стройная талия еще не начала раздаваться, а кожа на щеках и шее еще не стала дряблой, большинство джентльменов в тех кругах, где она вращалась, находили ее весьма привлекательной; у дам же мнения расходились, как это обычно бывает, когда речь идет об одной из них, — некоторые считали ее глупой, пустой, самодовольной, олицетворением «веселых девяностых», другие — женщиной таинственной и глубокой, чьи девичьи мечты были поруганы неудачным замужеством и кому, быть может, на роду написана трагическая судьба.
Ходили слухи, что свою популярную песню 1902 года Хэрри фон Тильзер посвятил Элоизе Пек:
И что же, теперь птичка решила улететь из клетки? Расправить свои храбрые крылья и лететь, лететь, лететь?
Она дура, говорит один наблюдатель.
Она обыкновенная прелюбодейка, говорит другой.
Шлюха — но заслуживает жалости.
Шлюха. Вероотступница. И предательница своего класса.
В политической жизни свежим скандалом было следующее: сенаторы Залмон Бриггс (республиканец, штат Огайо) и Денвер Коусби (демократ, штат Нью-Джерси) были разоблачены как платные лоббисты «Стандард ойл»! Кое-какие материалы, подтверждающие их продажность, были опубликованы на первой странице херстовского «Джорнэл», объявившего против них крестовый поход. (Потому что теперь настала очередь Уильяма Рэндолфа Херста отомстить за то, что несколькими месяцами раньше «Нью-Йорк уорлд» и «Харперс уикли» обвинили его самого в кое-каких темных делишках на Уолл-стрит.)
В кругах, близких к лошадиным бегам, свежим скандалом было следующее: провозглашенная победительницей в Прикнессе трехлетняя кобылка по имени Белладонна, по слухам, была накачана кокаином перед началом забега, каковое обвинение энергично отрицал ее владелец, грозивший подать в суд на устроителей прикнесских скачек «за клевету и типичную диффамацию». А честные любители скачек все еще, сокрушенно качая головами, вспоминали о катастрофе, случившейся в Чатокуа-Фоллз, где столь многие из них потеряли свои ставки, о красавице Ксалапе, которую пришлось пристрелить, и о вооруженном грабителе — Черном Призраке, который скрылся с сотнями тысяч долларов и, несмотря на интенсивные поиски и обещанную за его поимку награду в 12 000 долларов, все еще оставался на свободе.
Многие слышали, как миссис Элоиза Пек, одетая в модный наряд с отделкой из летних шкурок горностая, с несколькими нитками дорогого жемчуга на шее и, как всегда, вызывающе привлекавшая внимание к себе и своему юному спутнику Кристоферу, на бродвейской премьере оперетты «Мадемуазель модистка» со смехом заметила: «Мир перевернулся с ног на голову!» Как женщина наблюдательная, миссис Пек не могла не заметить, что иные из ее знакомых смотрят на нее с оскорбительным презрением, однако в этот новый период своей жизни, пребывая в эйфории от шампанского и любви, она, судя по всему, не обращала на это особого внимания. Во время перерыва, в вестибюле, она переговаривалась со своим молодым человеком в интимной манере, однако достаточно громко, чтобы быть услышанной всеми, словно они двое сами были участниками спектакля, заслуживавшими внимания аудитории.
Итак, Элоиза Пек со звонким смехом, одновременно выражавшим и озадаченность и сожаление, объявила, что в последнее время «мир перевернулся с ног на голову»; и находившиеся поблизости услышали, как ее жених робко, с деревенским акцентом ответил: «Мэм, не зря говорится: „Что на небе, то и на земле“ — это значит: какой бы дурной ни казалась нам жизнь, она предопределена небесами».
Улыбка сошла с лица миссис Пек, и она уставилась на своего сильного светловолосого спутника в официальном вечернем костюме так, словно видела его впервые. «Эй, Кристофер, — промолвила она наконец со смехом, — да ты, оказывается, еще и философ-метафизик?»
Элоиза Пек познакомилась с Кристофером Шенлихтом в… кажется, это было в Саратога-Спрингс? Или на каком-то другом морском курорте, где он был не то помощником конюха, не то гостиничным посыльным, не то официантом, не то… шофером? Одна знакомая из светского окружения Элоизы рассказывала, будто та утверждала, что Кристофер «в один прекрасный день был ниспослан ей небесами в ответ на ее молитву о спасении жизни», когда помог ей спуститься по ступенькам экипажа возле отеля «Уоддорф-Астория». А другая знакомая говорила, будто Элоиза поведала ей, что с Кристофером ее познакомил пастор ее церкви — Кристофер был несчастным юношей-христианином, который не смог закончить учебу в библейской школе, потому что после смерти его отца выяснилось, что тот был банкротом. «Мы надеемся, когда-нибудь Кристофер возобновит свои занятия, — говорила Элоиза, лукаво морща носик, — но мы также надеемся, что это произойдет не слишком скоро».
Вскоре пронесся шепоток, что жена Уоллеса Пека ушла от него и повсюду открыто разъезжает с неким таинственным молодым человеком, который не доводился ей ни племянником, ни каким-либо другим кровным родственником, ни даже членом ее экстравагантной свиты, которая включала в себя парижского парикмахера, канадского «доктора по нервным болезням», а также, в дополнение к служанке-филиппинке, японскую массажистку. Поначалу друзья Элоизы надеялись, что юный Кристофер — всего лишь мальчик на побегушках (потому что Элоиза время от времени действительно посылала его по разным делам — отправить телеграмму, принести ей шаль или меховую накидку, в плохую погоду выгулять беспрерывно тявкающих шпицев), но со временем эта надежда растаяла, поскольку через несколько недель, набравшись храбрости, мадам стала сама представлять его как своего жениха. И это при том, что она еще не была разведена!
Безусловно, не отличаясь ни утонченностью, ни особыми умственными способностями, Кристофер Шенлихт был достаточно сообразителен, чтобы понимать, что о них говорят; замечать, как в общественных местах люди украдкой бросают осуждающие взгляды на него и пышно разодетую миссис Пек; слышать, как шепчут разные колкости у них за спиной. В такие минуты он густо краснел и стискивал зубы, молча глотая то, на что Элоиза Пек, если бы она тоже все это замечала, ответила бы лишь злым вызывающим смехом. Молодому человеку было лет двадцать пять, хотя вид у него оставался мальчишеским; росту в нем было шесть футов два дюйма, широкие плечи, открытое, резко очерченное лицо с быстро растущей щетиной, требовавшей бритья дважды в день. («На ярмарке в Сиракузах такой экземпляр завоевал бы голубую ленту», — сухо заметил один из друзей Уоллеса Пека.) Кристофер был светлым блондином, такими же светлыми, как волосы на голове, были у него брови и ресницы, из-под которых глядели голубовато-серые глаза; он передвигался со своеобразной неуклюжей грацией медведя, который ходит на задних лапах (как остроумно заметил редактор отдела светской хроники из «Нью-Йорк пост», рассказывая о «птице, вылетевшей из золотой клетки», и ее новом компаньоне).
Миссис Пек, у которой никогда не было детей, одевала своего юного друга весьма своеобразно, хотя и со вкусом: сшитые на заказ клубные пиджаки, фланелевые костюмы, аскотские галстуки, шелковые рубашки с мелко плиссированными манишками, элегантные шляпы, введенные в моду бродвейским актером Джорджем М. Коханом; однако нельзя было сказать, что молодой человек носил все это непринужденно, и не один наблюдатель, говоря о юном Шенлихте, отмечал, что под ногтями у него грязь, а белье, несомненно, бывшее свежим с утра, к середине дня таковым уже не является. То ли от робости, то ли от стыда взгляд его чаще всего был потуплен, а его повадка была характерна для человека, который в детстве настрадался от жестоких шуток ровесников.
При всем при том Кристофер Шенлихт вовсе не был таким неразвитым, как считали критически настроенные приятельницы миссис Пек. Он обнаруживал удивительную компетентность, будучи посылаем по делам в качестве ее эмиссара; когда того требовала ситуация, говорил с хозяевами магазинов, мастеровыми, служащими отелей и тому подобной публикой весьма жестко. Миссис Диггетт, вдова адмирала, рассказывала, что видела, как он курил сигару, прогуливая шпицев по променаду вдоль берега, а также что молодой человек, оставаясь один, весьма грубо одергивал собак, когда их тявканье становилось слишком назойливым или когда они запутывали поводки вокруг его щиколоток. Миссис Эймос Селлик, молодая замужняя дама с Манхэттена, докладывала, что в ее присутствии он вел себя «учтиво», «по-джентльменски»; когда миссис Пек бывала в отлучке, он охотно помогал установить пляжный зонтик для детей миссис Селлик, часами играл и плескался с ними в прибрежных волнах, носил их на своих сильных плечах, строил замысловатые замки из песка. Уже через несколько дней после знакомства Кристофер был для детей старшим братом: воспитанный, добронравный, честный, как и подобает христианину, юноша, вовсе не похожий на аморального жиголо, открыто живущего с женщиной, годящейся ему в матери. «Он жертва этой бесстыдной соблазнительницы! — шепотом говорила миссис Селлик. — И как жаль, что, судя по всему, он лишен семьи, которая могла бы защитить его от нее».
Кристофер, ты слушаешь меня?
Да, мэм.
Да, Элоиза.
Да, Элоиза.
Так ты слушаешь или спишь наяву?.. Готова поклясться, что твои мысли где-то далеко!
Вовсе нет, Элоиза.
Тебе наскучил Атлантик-Сити? Ты счастлив? Может быть, нам податься куда-нибудь в другое место?
Как пожелаешь, Элоиза.
Несомненно, нам пора пожениться!
Да, несомненно.
Но ты любишь свою Элоизу? Больше всего на свете?
О да.
И тебя не тревожит будущее? Жестокая людская молва?
О нет.
И ты не жалеешь о несбывшемся предназначении? Пожалуйста, скажи мне, дорогой, что ты не жалеешь, потому что было бы очень дурно с моей стороны встать между тобой и надеждами, которые Бог на тебя возлагает.
Бог возлагает на меня надежды?
Ну, ты ведь должен был стать священником…
Но Бог совершенно очевидно желает, мэм, чтобы я не становился священником… поскольку он прибрал к себе моего отца и таким образом учебе моей настал конец.
Ну конечно, дорогой!.. Полагаю, ты совершенно прав.
И вы, мэм, не можете встать между мной и Богом… потому что Бог сказал мне, что вы — это то, что он мне предназначил. Если бы это было не так, разве мог бы я оказаться в таком месте?
Да, сладкий мой Кристофер: думаю, ты прав.
Как же я могу быть не прав, мэм, если сам Бог послал меня вам?.. Ведь все, что мы делаем, говорим, думаем, чего желаем, предопределено Им.
Да, следует признать: порой Кристофер пугает Элоизу. Чуть-чуть.
Заставляет ее дрожать. Заставляет шевелиться волосы у нее на затылке.
Когда он так по-деловому говорит о Боге, о Божьем промысле.
Как будто он верует! — доверительно сообщает Элоиза разведенной даме, с которой в последнее время сдружилась. Как будто то, что для других — пустая болтовня, для него есть действительно слово Божие.
Позднее утро в гостиничном люксе, наполненном тяжелым ароматом вчерашних цветов, смешанным с застоявшимся запахом несвежего шампанского, печеночного паштета и остатков сыра горгонцола. И еще: горячечное безумие скомканных в исступлении атласных простыней, смятых и испачканных косметикой Элоизы наволочек, отороченных кружевами, зеркал в золоченых рамах, ничего не отражающих, и где-то неподалеку, через несколько комнат, раздражающий скулеж Принцессы и Сан-Суси, обезумевших от ревности к новой хозяйкиной любви. Горячечное безумие при виде этих сильных мускулистых ног, жилистых ног, покрытых светлыми вьющимися волосками, и кустиков более темных и жестких курчавых волос под мышками, на животе, в паху. И не важно, что между пальцами ног у Кристофера — патина застарелой грязи, не важно, что на руках под ногтями — навечно въевшаяся чернота, не важно, что невежественный мир вопит: «Дура!.. Шлюха!.. Прелюбодейка и… совратительница!»
Потому что Элоиза Пек может всем заткнуть рот одним-единственным словом — Любовь.
Посмеет ли она сейчас, когда он спит?.. сейчас, когда его дыхание напоминает хриплое похрапывание, а тело излучает влажный прогорклый жар? Посмеет ли она сейчас, после выпитой бутылки шампанского, когда весь мир у нее в голове словно бы накренился, поцеловать своего возлюбленного в эти запретные, но самые восхитительные места?
Тайный поцелуй; но, как только она касается застывшими от собственной дерзости губами теплокровной плоти, притаившейся в паху Кристофера, плоть эта оживает, словно просыпающаяся змея.
Отец учил: к Игре нельзя относиться только как к игре.
И к трофеям, которые мы собираем, — только как к трофеям.
Поэтому Кристофер, утомленный любовью, спит по-настоящему; и когда он просыпается, он просыпается по-настоящему; и «любит» всерьез… ибо было бы жестоко с его стороны встать между миссис Пек и Божьей волей, явленной этой расточительной даме.
Однако вечером 23 июня 1909 года за каких-нибудь четверть часа планы любовников оказываются полностью разрушенными, словно Атлантик-Сити подвергся сокрушительному землетрясению, которое сровняло с землей элегантный «Сен-Леон».
А какие великолепные планы лелеяли любовники: стать мужем и женой перед лицом Господа, как только завершится бракоразводный процесс с мистером Пеком; а если говорить о более ближних планах — поужинать в этот день пораньше и отправиться на музыкальный вечер (на нашумевшую оперетту «Предсказатель») в новый Увеселительный театр.
Лениво просидевшая на берегу весь день и уставшая от праздного времяпрепровождения миссис Пек прилегла соснуть на роскошную кровать с балдахином; она спала урывками, то задремывала, то просыпалась, то задремывала вновь… Вот она опять проснулась… или не проснулась, и этот разговор на повышенных тонах в соседней комнате ей лишь приснился?
— Кристофер? Это ты? — шепотом спросила она.
Голоса притихли, и она некоторое время лежала, приятно расслабившись, так и не поняв, действительно ли слышала голоса или это ей почудилось, и размышляя, не рано ли еще вызывать служанку, чтобы та приготовила ей ванну. Вечер в Увеселительном театре при большом стечении публики обещал быть веселым: их с Кристофером, разумеется, будут разглядывать исподтишка, так что ее туалет должен выглядеть безупречно.
Голоса снова зазвучали громче, это были мужские голоса. Один, безусловно, принадлежал Кристоферу. Но кому принадлежал другой?
«Мой милый мальчик с кем-то ссорится? Неужели такое возможно?»
Взволнованная, заинтригованная, Элоиза быстро накинула на плечи новый изумрудно-зеленый крепдешиновый пеньюар, напудрила, к сожалению, отекшее от сна лицо и попыталась пригладить спутанные волосы. Некогда! Некогда! У двери она остановилась, прислушиваясь, потому что голос Кристофера звучал сердито, она никогда еще не слышала, чтобы он говорил в таком тоне; но кто мог отвечать ему столь вызывающе? Уж во всяком случае, не гостиничный служащий.
Элоиза вслушалась. Кристоферу кто-то угрожал?
О нет: это Кристофер кому-то угрожал.
Вот снова чей-то чужой голос, то по-детски хныкающий, неразборчивый, как у пьяного, то угрожающе-требовательный и в то же время выдающий близкое знакомство с собеседником; по-братски увещевающие интонации чередуются со злобным запугиванием.
Разговор, судя по всему, шел о деньгах.
Кто-то требовал у Кристофера денег.
Кристофер приглушенным голосом отвечал, что, черт возьми, нет у него денег. Пока — нет.
Другой, неизвестный, собеседник, хрипло смеясь, твердил, что не уйдет из этого треклятого отеля, пока не получит хоть что-нибудь — не меньше двухсот долларов. Он совсем на мели, его балтиморские планы сорвались, хорошо еще удалось ноги унести!..
Элоиза была шокирована, услышав, как Кристофер кроет собеседника на чем свет стоит, потом он велел ему убираться прочь, пока женщина не услышала их разговора и все не пошло прахом.
— Я сказал — две сотни? Черта с два! Я имел в виду три!
Кристофер снова забормотал, что пока нет никаких денег… ничего существенного.
— У старой суки ведь есть драгоценности, разве не так? Ну, давай же! Пока у меня не лопнуло мое гребаное терпение.
Так неосмотрительно, видимо, с застарелой бешеной враждой ссорились два молодых человека; даже Кристофер, казалось, забыл, где находится. Элоиза Пек стояла по другую сторону двери, словно парализованная; ее прелестный крепдешиновый пеньюар распахнулся, обнажив печальную картину дряхлеющей плоти, на лице застыла маска ужаса, похожая на те, что пародируют, а порой и предвещают смерть, глаза наполнились слезами.
Вот как случилась эта катастрофа.
Миссис Пек знала, что Кристофер во второй половине дня отправился в одиночестве на отдаленный пустынный, продуваемый ветрами участок пляжа в четверти мили от «Сен-Леона», чтобы поплавать. Потом он вернулся в гостиничный люкс, но, поскольку миссис Пек спала, с удовольствием выкурил сигару и выпил пару рюмок швейцарского шоколадно-миндального ликера на балконе, любуясь пенистым мерцающим прибоем. В 17.25 его отвлек от мечтаний тихий стук в дверь, и, даже не задумавшись о том, кто бы это мог быть, — наверняка кто-то из гостиничных лакеев, принесших миссис Пек какую-нибудь безделицу, которую она заказывала, — он подошел, открыл и, к великому своему удивлению, увидел на пороге своего младшего брата Харвуда в весьма растерзанном виде.
Прежде чем Кристофер успел вымолвить слово, Харвуд протиснулся внутрь мимо него и, увидев, что они одни, начал требовать денег. Твердил, что дела у него совсем плохи, что жизни его угрожает опасность, что ему нужны деньги, нужны немедленно, и что Терстон должен их ему достать.
Кристофер был так огорошен появлением этого своего брата, которого никогда не любил и которому никогда не доверял, в таком месте, где никто не должен был его видеть, что лишь промямлил: он, мол, никакой не Терстон, он Кристофер: «Меня зовут Кристофер Шенлихт». На что Харвуд ответил, что ему наплевать, как зовут или не зовут Терстона, ему нужны деньги, а то, что здесь они есть, — очевидно. Он все знает о связи Терстона с богатой старой бабой и желает получить свою долю.
— Удача временно изменила мне, — сказал он, — и теперь, «Кристофер», мне нужно чуточку твоей.
Кристофер все еще продолжал бубнить, что, должно быть, произошла какая-то ошибка, он не Терстон, а Кристофер, и если Харвуд немедленно не уберется, он будет вынужден вышвырнуть его вон.
— Вышвырнуть меня? Ну-ну! Неужели ты это сделаешь? Неужели? Только попробуй, любовничек! — рассмеялся Харвуд и, наклонив голову, словно бульдог, изготовившийся к нападению, стиснул кулаки. — Посмей только тронуть меня — увидишь, что будет.
На протяжении своей рано начавшейся карьеры молодому человеку, называвшему себя сейчас «Кристофером Шенлихтом», случалось попадать в трудные ситуации и порой удачно выкручиваться из них; даже в наиболее панические моменты он вспоминал любимое изречение отца: «Самое плохое длится не дольше, чем требуется времени, чтобы произнести: „Это самое плохое“», — хотя отец и не мог назвать источник изречения: то ли Библия, то ли Шекспир, то ли Гомер, то ли Марк Твен. Тем не менее, пока его пьяный брат Харвуд стоял перед ним в воинственной позе в том месте и в то время, где и когда, согласно всем правилам Игры, он не должен был находиться, Кристофер успел подумать: «Вот оно — самое плохое! Да, это оно».
Потому что прежде ни разу не бывало так, чтобы один Лихт подверг другого такому риску.
Братья по крови — братья и по душе.
Самообладание, самообладание и еще раз самообладание — и все призы будут нашими?
Последний раз Кристофер, или Терстон, разговаривал с братом несколько месяцев назад, в старинной деревенской усадьбе, как ее называли в семье, Мюркирке, что находится в долине Чатокуа, штат Нью-Йорк, незадолго до двадцатидвухлетия Харвуда. После этого братья, как обычно, разъехались в разные стороны, потому что у них были совершенно разные пункты назначения: Харвуд направлялся в Балтимор, к какому-то родственнику, отцовскому «кузену», с которым ему предстояло организовать беговую лотерею. А Кристофер, или Терстон, обладавший иными дарованиями, должен был вернуться на Манхэттен и завести скоропалительный роман с богачкой миссис Пек. Находясь вдали от своих братьев и сестер, Терстон редко думал о них, ибо чем сентиментальные семейные воспоминания могут помочь делу? — как говаривал их отец. Изредка он позволял себе помечтать, куря сигару и потягивая ликер, как только что на балконе гостиничного люкса; в такие минуты дом в Мюркирке представлялся ему убежищем; мысленно он вступал в беседу с отцом, чье духовное присутствие было ему так необходимо в сложные периоды жизни (например, в то время, когда он «предавался любви» с миссис Пек).
Мистер Лихт всегда наставлял детей: в трудный момент самое мудрое — спросить себя: Как бы поступил в этой ситуации отец, а вовсе не: Как должен поступить в этой ситуации я?
«Хотел бы я знать, как поступил бы отец в такой ситуации?» — думал Кристофер, или Терстон, пока его незваный братец Харвуд рыскал по роскошной комнате, принюхиваясь, словно собака, к любимым цветам миссис Пек — розовато-жемчужным розам, хватая и разглядывая разные вещи (например, кашемировый шарф-паутинку миссис Пек, привезенный из Индии), как бы оценивая их, потом отбрасывая в сторону и повторяя, будто обезумевший попугай, что ему нужны деньги, наличные, что он не уйдет, пока не получит денег, потому что знает: «богатая старая шлюха — как там ее зовут: Пик? Поук? Пиг?[4]» — дает Терстону деньги, уж наверняка дарит подарки, и он, Харвуд, желает получить свою долю.
Если бы Терстону, или Кристоферу, довелось повстречать брата где-нибудь на улице в Атлантик-Сити, он, пожалуй, не сразу бы узнал его: коренастый молодой человек явно несколько дней не брился и, похоже, с кем-то подрался — верхняя губа у него распухла, левый глаз отвратительно заплыл и стал совсем бесцветным. На нем была грязная кепочка для гольфа, которую Терстон никогда прежде не видел, и мятый габардиновый пиджак цвета морской волны, слишком туго обтягивавший мускулистые плечи; его плохо выстиранная белая рубашка была распахнута на груди, на ней не хватало пуговицы. Было совершенно очевидно, что он не первый день пьет.
Из всех детей мистера Лихта Харвуд всегда слыл наименее добрым, наименее талантливым и, уж конечно, наименее привлекательным: его лицо (как однажды почти с восхищением заметил мистер Лихт) напоминало обух топора; маленькие, подозрительные, близко посаженные глазки были почти бесцветны, вечно слезились и таили тревогу — словно глаза хищной рептилии. До двенадцати лет Харвуд рос неестественно быстро, а потом совсем перестал расти и теперь был на несколько дюймов ниже своего красивого брата-блондина: приземистый, весьма неуклюжий. Однако Терстон по опыту знал, что, если дело дойдет до драки, Харвуд его одолеет: его бойцовская манера была непредсказуемой, разнузданной, маниакальной и не подчинялась никаким правилам — ни удары по почкам, в пах или по горлу, ни выдавливание глаз, ни укусы, ни удушение он запретными не считал. Для Харвуда неписаным законом был закон зверя. Когда они в последний раз дрались на краю мюркиркской топи, Терстону удалось спастись только благодаря тому, что он окунул брата головой в воду и не давал ему вынырнуть до тех пор, пока — как ему показалось, через довольно долгий промежуток времени — смертельная хватка сомкнувшихся у него на горле стальных пальцев Харвуда не начала ослабевать.
Наконец Терстон сдался:
— Ну хорошо, давай встретимся где-нибудь сегодня вечером. Только сейчас, черт бы тебя побрал, ты должен немедленно убраться отсюда.
— Черта с два я отсюда уберусь, — упершись руками в бока, громко ответил Харвуд. — Я тебе что — коридорный, чтобы выполнять твои распоряжения?
Увы, ссора продолжилась самым катастрофическим образом. Пьяный, неистовствующий Харвуд снова и снова выкрикивал свои требования, Терстон пытался его утихомирить; они утратили всякую осторожность, их голоса звучали все громче, пока не перешли в откровенный крик, от которого задрожали тяжелые зеркала в золоченых рамах. Как оба впоследствии вспоминали, удивительным было то, что ни один не рискнул тронуть другого, опасаясь смертельного исхода схватки.
А в комнате рядом, словно вкопанная, стояла и слушала, что происходит, Элоиза Пек.
Ко всеобщему несчастью, миссис Пек не хватило хитрости или просто здравого смысла, чтобы немедленно покинуть сцену, на которой разворачивалось столь унизительное для нее действо, призвать на помощь кого-нибудь из служащих отеля или найти свою служанку-филиппинку и послать ее за подмогой.
Да что там говорить, если ей не хватило ума (вероятно, она и впрямь была так безумно влюблена, как рассказывала), чтобы понять, что никакого Кристофера Шенлихта не существует в природе, а если бы он существовал, то уж точно принадлежал бы не ей.
И вот, вместо того, чтобы действовать с осмотрительностью, как она действовала бы в своей предыдущей жизни, миссис Пек с рыданиями, словно героиня бродвейской мелодрамы, воскликнула: «Я предана — он меня не любит!» — и в пароксизме оскорбленной гордости, широко распахнув дверь, драматически застыла на миг на пороге; потом со сдавленным криком: «Кристофер!.. Мой Кристофер обманул меня!» — бросилась в глубь комнаты. Голосом обезумевшей фурии она приказала своему жениху и его брату-скотине (ибо даже в своем крайнем нервном возбуждении она понимала, что молодые люди, несмотря на всю непохожесть друг на друга, были родственниками) немедленно убираться из ее апартаментов.
— Или я позову полицию! Полиция!
Негодование, боль, ярость оскорбленной женщины, безусловно, были искренними, как и хлынувшие из глаз горячие слезы, но даже в тот момент, когда она подскочила к своему перепуганному жениху, чтобы расцарапать его красивое лицо, где-то в подсознании у нее шевелилась мысль, что вся эта зловещая сцена — лишь некое представление и что, как всякая пленительная героиня пьесы, она серьезно не пострадает. Разве не говорил о том весь ее жизненный опыт: детский, девичий, женский? И разве столь бурные чувства сами по себе не являются залогом благополучного разрешения?
Поэтому для нее явилось полной неожиданностью, когда Кристофер, всегда такой добродушный, такой преданный любовник, стал весьма грубо защищаться: схватил ее за запястья и велел успокоиться:
— Закройте рот, миссис Пек.
Еще больше удивило ее то, что неотесанный братец Кристофера с распухшим лицом, сощурив свои бесцветные, ядовито мерцающие глаза, посмотрел на нее с нескрываемым отвращением. В его взгляде не было ни грана жалости или уважения, ни малейшего страха перед ее угрозами. Поколебавшись не более секунды, он без единого слова грубо оторвал ее от брата и зажал ей рот жесткой шершавой ладонью, чтобы заставить замолчать.
— Вы слышали, мадам, что он сказал? Закройте свой рот.
Некоторое время они боролись: миссис Пек и жестокий Харвуд Лихт. Они перевернули стол, разбили фарфоровую лампу, смахнули на пол хрустальный подсвечник. Казалось, даже стены дрожали от их борьбы. Рука бандита так плотно зажимала ей рот, что она начала задыхаться. Что же это? Неужели он собирается ее убить? Эта тварь хочет ее убить? Разъяренная, словно дикая кошка, она колотила негодяя локтями, пыталась вонзить ногти ему в лицо, билась головой об его голову.
Как унизительно! Как нелепо! Элоиза Пек, полураздетая, со всклокоченными волосами, с румянами, размазавшимися по лицу до самых седых корней волос, сцепилась с незнакомцем, который — Боже милостивый! — грозит сломать ей шею! А Кристофер, милый Кристофер, ее Кристофер, которого она любила так страстно, пытается оттащить его от нее, вопя:
— Нет, Харвуд! Харвуд! Харвуд, нет!
Но пять секунд спустя шея миссис Пек хрустнула: через несколько минут ей предстояло умереть невыносимо мучительной смертью.
Женщина тяжело рухнула на пол, ее изумрудно-зеленый пеньюар распахнулся, явив взорам мужчин мягкую дряблую кожу цвета прокисшей сметаны. Несколько секунд в комнате стояла мертвая тишина, слышалось только тяжелое дыхание братьев да где-то поблизости — то ли плач, то ли смех, то ли писклявый детский лепет.
Налившиеся кровью глаза Харвуда в панике впились в глаза Терстона, но прежде чем он успел что-либо спросить, Терстон со спокойным презрением пояснил:
— Собаки.
Пока Харвуд мечется по комнате, хватая все, что только можно запихнуть в карманы, и отваживаясь заглянуть даже в соседний будуар в поисках денег, Терстон, бывший некогда «Кристофером Шенлихтом», опустившись на колени, неотрывно смотрит на мертвую женщину.
— Этого не может быть… — шепчет он. — Этого не должно было случиться, — шепчет он, и его душат рыдания.
Возвращается Харвуд, продолжая судорожно рассовывать добычу по карманам, от него несет прогорклым запахом грязной плоти, запахом возбужденного зверя. Он небрежно запихивает в карманы драгоценности (жемчужное ожерелье, колье из сапфиров и бриллиантов, пригоршню колец) и скомканные купюры — по двадцать, пятьдесят долларов и даже несколько однодолларовых бумажек.
Терстон никак не реагирует, когда он, хлопнув его по руке, говорит, что нужно уходить, уходить из отеля по одному, через разные двери — что толку здесь торчать: женщина мертва и уже не воскреснет…
Терстон медленно произносит:
— Харвуд. Ты этого не делал.
— А ты? — быстро откликается Харвуд.
Он ловко припудрил лицо персиково-бежевой пудрой покойницы, но не потрудился припудрить немытую шею; теперь он гримасничает перед зеркалом, то улыбаясь, то хмурясь, что-то бормоча, судорожно облизывая губы; ему до смерти хочется выпить; он поспешно завязывает на шее пестрый аскотский галстук (принадлежащий «Кристоферу Шенлихту»); хоть он уже полностью протрезвел, его качает, словно пьяного, ему кажется, что стены кренятся, он смеется и, пятясь к двери, швыряет брату комок смятых купюр. В слезящихся глазах Харвуда отражается паника, и это свидетельство того, что он не потерял рассудка, потому что отдает себе отчет в том, что наконец преступил грань: совершил убийство.
Он никогда не думал, что это может вызвать такой исступленный восторг: необходимость бежать, чтобы спасти себе жизнь.
В Старом Мюркирке
…Место, населенное призраками, место, пропитанное сладким запахом гниения, место, где топь булькает пузырями поднимающихся со дна газов, где деревья-пауки возвышаются над своими обнаженными корнями, где повсюду — когти, зубы, пронзительные вопли, извивающиеся рыжевато-коричневые змеи, мухи-однодневки, на лету скользящие по лицу, мягкая черная древесина, кишащая муравьями, чавкающие, гложущие звуки, полые стволы деревьев, серые от экскрементов, если случайно забрести слишком далеко, трясина затянет, если случайно забрести слишком далеко, можно утонуть, топь высосет из вас жизнь, вам лишь будет казаться, что вы дышите сами, что вы можете найти дорогу назад, не слушайте этого пения, этих голосов, ее голоса, пронзительных стонов совы, заячьего крика, жужжания мух, это не пение, это голос женщины, покоящейся на дне болота, вы не должны ее слушать, не должны идти на ее зов, Катрина не велит.
…место, где летний жар восходит от земли волнами, где смрад поднимается от покрытой грязной пеной зеленой воды, где мутные водоемы таят в себе Смерть, где воздух искрит вспыхивающими взглядами и мелькающими крыльями, место, неодолимо влекущее к себе детей, которые никогда из него не возвращаются, их косточки истлевают и превращаются в ил, устилающий дно, их блестящие яркие волосы плавают на поверхности болота, их глазами изукрашены змеиные шкуры, их зубами усеяны пасти детенышей ласк и лис, что это, музыка? — нет, не музыка, это плачут дети, плачут их души, запутавшиеся в корнях деревьев, в корнях водяных лилий, увязшие в мягкой черной жиже и ждущие, ждущие вас, ждущие, когда вы утонете, вы не должны слушать их всхлипов, вам нельзя к ним, Катрина не велит.
…место, где солнечный свет старится и блекнет, превращаясь в Ночь, место, где деревья — это сама Ночь. Ночь таится под их липкой влажной листвой, в шелковистой паутине, в ползучих растениях, оплетенных детскими волосами, в траве, в болотных водорослях, в дожде, трескучем, словно ружейная пальба, в поднимающихся от земли испарениях, в женщине, которая, бродя в тумане, расчесывает свои длинные волосы, она — высокая белая лилия, ядовитая лилия, она — сама Ночь, расчесывающая свои волосы, она — Ночь, поющая песни, которые Катрина запрещает слушать, это гиблое место, место навечно заблудившихся детей, мухи залепят вам глаза, если вы пойдете туда, мухи набьются вам в рот, пролезут сквозь ноздри и станут изнутри разъедать ваши головы, если вы пойдете туда, Катрина знает, Катрина видела беременную самку, чей плод был выеден из распоротого живота, а вытоптанная вокруг трава залита кровью, Катрина слышала жалобный детский плач, Катрина знает, на что способна эта хитрая женщина, Катрина знает.
…это место беспрерывно утоляемого голода, обиталище быстро клюющих клювов, когтей, липких ноздрей, маленьких сосущих ртов, москитов, рубиново-красных от выпитой крови, раздувшихся от крови пиявок, бульканья газовых пузырей, гниения, зловония, бледной, покрытой коричневыми пятнышками раздавленной и насухо вылизанной яичной скорлупы, фруктов, которые нельзя есть, вкусных черных плодов, которые нельзя есть, стоит вонзить зубы в сочную горячую черную мякоть — и рот обожжет огнем, а если проглотить кусочек, горло сомкнется намертво, слышите этот лакающий звук, слышите это громкое глотание, это звуки жажды, звуки стыда, в темноте не видно очертаний тела, не видно ее желтых глаз, ее волосы сплетаются с ветвями деревьев, ее ноги вросли в землю, превратившись в корни, ее песнь — это сам голод, сама Ночь, не слушайте, у нее нет имени, это всего лишь моросящий клубящийся дождь, дождь, падающий тяжелыми каплями, дождинки, на лету оборачивающиеся ледышками, Катрина вас предупредила.
…это место толстых, сочных зеленых листьев, слизняков, водоемов, насыщенных Смертью, маленьких белых червей, место желтых ирисов, мюркиркских фиалок, жаркого густого аромата зелени, пестрых змеиных спин, вам кажется, что вы сами дышите, сами думаете, но на самом деле это прислушивается к вам женщина, лежащая на дне трясины, это звук ее печали, звук Ночи, личинки поедают листья, тайно прядя свои коконы, вы слышите крики солдат, их смех, стрельбу, вопли, звук хлопающих крыльев, видите молниеносный взгляд диких глаз, кости, которые превращаются в прах, падающий с неба, чтобы раствориться в болотной жиже, а потом превратиться в пар, слышите ее голос, приглушенный снежным покровом, видите ее кровь, заледеневшую до белизны, Катрина знает.
…это место, благословенное для вашего отца, место, где будет могила вашего отца, кишащая живностью вода, в которой он купается тайком, булькающий смех, скатывающийся по его подбородку, серп луны, плавающий в болоте, жужжание летних насекомых, которые называются… как они называются? — это не ваше имя, не ваша музыка, это Ночь, это Смерть, это звуки женщины, бродящей в тумане, чьи волосы сплетаются с ветвями деревьев, чьи ноги запутались в корнях, это звуки женщины, лежащей на дне трясины, вы не должны их слушать, вам нельзя к ней ходить, Катрина любит вас, и она вам запрещает.
Эзопус, исчезнувшая деревня.
Основанная в 1642 году в излучине реки, там, где теперь стоит Мюркирк. Маленькая отдаленная голландская деревушка — приблизительно семьдесят пять мужчин и женщин, пришедших с низовьев реки, оттуда, где к югу от мест обитания индейцев чатокуа находились более многолюдные поселения. По свидетельству некоего Клаэса ван Хасброэка, который вел личный дневник в дополнение к подробным официальным докладам, посылавшимся им в голландскую Вест-Индскую компанию на протяжении 1840-х годов, когда агенты компании, исследуя окрестности Тахавос-Пасс выше по течению крупной реки Нотога, в 1647 году пришли в эти места, маленькой деревушки Эзопус уже не существовало. На берегу реки не осталось даже ее следов: ни домов, ни делянок, ни предметов, сделанных человеческими руками, ни даже могил найдено не было. Дикая природа еще не совсем отвоевала заново это место, оставались кое-какие прогалины, но и они по краям уже начинали зарастать.
В своем дневнике Клаэс ван Хасброэк риторически вопрошает: что сталось с отважными основателями Эзопуса — истребили ли их индейцы, или болезни, или жестокие зимы; страх ли вынудил их сняться с места и себе на погибель углубиться в дикие места; или просто Бог покинул их, оказавшихся в этой глуши? Но почему не осталось никаких следов человеческой деятельности, никакого намека на людское обитание?
Так или иначе, Эзопус исчез; исчез он и вторично, стершись из памяти людей, ибо то были стремительные времена, когда голландских искателей приключений охватил азарт поиска «невиданных» и «неисчерпаемых» медных рудников в южных районах Новой Голландии; и об Эзопусе вскоре забыли, от него осталось только название — некий курьез в исторической летописи тех времен.
С Робином, своим младшим сыном, мельник обращался жестоко, три старших брата над ним издевались, а мать умерла, и некому было любить его, поэтому сказал себе однажды Робин: уйду из дома и буду жить один на болоте. И отправился он пешком, и пришел к краю трясины, и ходил вдоль нее час, и другой, и третий, пытаясь найти место, где можно было бы перейти ее, ибо все знали, что много погибло в этих местах неудачливых бродяг, околдованных красотой гладких вод, болотных цветов, деревьев-великанов, ярких блестящих птиц и бабочек, обитавших там; так ходил Робин вдоль болота, пока наконец не появилась белая как снег птица величиной с лебедя, но на длинных ногах и с острым длинным клювом, и спросила птица Робина, куда он путь держит, и поведал ей Робин о своей жизни, и птица полетела впереди, указывая ему твердь, по которой он заспешил в глубь болота; и был он достаточно хитер — заметал за собой следы, чтобы никто не смог найти его и отвести обратно домой.
Три дня и три ночи шел он через топь, и глазам его открывалось множество диковинных видов, а на четвертый он заметил бродившую в тумане старуху с белыми волосами, белой кожей и белыми кружевами на голове; в руке она несла высокую белую свечу. Робину старуха показалась молодой и красивой, поэтому он без колебаний последовал за ней в ее дом на болоте, куда она повела его, чтобы накормить и дать приют. «Хочешь, я стану твоей женой, милый Робин?» — спросила старуха, и Робин ответил не задумываясь: «А я — твоим мужем», потому что он сразу влюбился, не заметив ни ее странных, похожих на опущенные капюшоны век, ни длинных ногтей, напоминавших загнутые когти, ни мелких морщин, избороздивших кожу, словно следы от полозьев — лед на реке, не видел он и того, что ее жилище, расположенное в самом сердце болота, было сырым и холодным, — ему казалось, что там тепло и уютно, как если бы в нем пылал жаркий камин, деревянный пол был до блеска отполирован и в воздухе витал аромат густого горячего бульона. Вот так и случилось, что Робин, сын мельника, стал мужем старухи, с которой мечтал прожить всю оставшуюся жизнь.
Но однажды братья нашли его, потому что отец их состарился, заболел и пожелал, чтобы младший сын вернулся домой. Так же, как и Робин, братья боялись идти через топь, потому что знали, сколько путников погибло в ней; но наконец и к ним прилетела большая белая птица и спросила, кого они ищут и не таят ли зла в душе, и ответили ей братья, что ищут они своего любимого брата Робина, которому не желают никакого зла. Тогда расправила птица свои широкие крылья и повела их по следам Робина, которые он так тщательно заметал. И так же, как Робин, шли они три дня и три ночи, а на четвертый набрели на жилище в самом сердце болота; удивились они, увидев, что брат их стал любящим мужем старухи, которую все в округе называли Белой Ведьмой Болот. Как могло случиться, изумились они, что Робин женился на ней и мирно спит подле очага, будто слыхом не слыхивал о ее черном колдовстве?
Поскольку не было иного способа одолеть ведьмины чары, кроме как убить ее, братья ворвались в дом, набросились на старуху без предупреждения, поразили ее в самое сердце острыми своими ножами и умертвили; а потом разбудили Робина. Робин боролся с ними так, словно были они его лютыми врагами, кричал: «За что убили вы мою молодую жену, прекраснее которой нет никого на свете?» Но одолели его братья, бросили на землю и стали вразумлять: Белая Ведьма Болот вовсе не молодая и красивая, как он думает, она — нечестивая старуха. С презрением указали они ему на бездыханное тело, чтобы увидел он ее белые волосы, морщинистую бледную кожу и звериные когти; но зачарованный Робин продолжал оплакивать любимую жену и умолял братьев пронзить ножами и его сердце.
Против его воли братья увели убитого горем Робина с болот и доставили к отцу, лежавшему на смертном одре. Раскаявшись в том, что был несправедлив к младшему сыну, мельник благословил его и завещал ему мельницу, братьям же наказал лишь помогать ему; и еще сказал мельник, что живет неподалеку от них юная девушка, на которой Робин должен жениться не позже чем через год. Ослепленный горем Робин исполнил отцовскую волю, потому что теперь ему было все равно, как жить дальше.
Жена Робина была красавицей, но не дал ей Бог детей; а о Робине шла молва по всей долине, будто прикосновение его пальцев холодно, словно лед, и кожа у него — что морозный узор на окне, сверкающий в лучах зимнего солнца, и что, хоть и нажил он кое-какое богатство, мирская жизнь ему безразлична и нет у него никаких желаний.
Давным-давно, на исходе английского правления, жил в Старом Мюркирке сэр Чарлз Харвуд, бывший здесь британским королевским наместником, и была у него любимая дочь, которую он звал Миной и дороже которой не было для него никого на свете. И такой хорошенькой, такой обходительной, такой веселой была Мина Харвуд, что мало у кого язык поворачивался упрекнуть губернаторскую дочку в том, что порой она проявляла гордыню и что из-за игривости ее характера не всегда можно было понять, говорит ли она всерьез или шутит.
Если сэр Чарлз или его жена подходили к Мине, чтобы ласково утереть ей слезы, она могла вдруг лучезарно улыбнуться и упрекнуть их в том, что они чересчур серьезно отнеслись к тому, что было всего лишь капризом; но если они, или жених Мины, или кто-нибудь из ее кузенов осмеливались посмеяться над вспышками ее настроения, она обвиняла их в жестокости, в том, что им дела нет до того, что творится у нее на душе. Уже в детстве Мина пугала любящих родственников побегами в свой «настоящий дом», как она это называла, и никто не мог понять, что она имеет в виду под этими словами, да Мина и сама не могла их объяснить. Где же может быть ее настоящий дом, если не здесь, в Мюркирке!
Однажды, в середине лета, восемнадцатилетняя Мина и ее жених в компании друзей отправились на берег реки, чтобы там, неподалеку от великой мюркиркской топи, устроить пикник; в какой-то момент, обидевшись, как подумали друзья, на невнимание со стороны жениха, Мина решила прогуляться в одиночестве и… исчезла на несколько часов. Друзья звали ее, искали повсюду, но нигде не могли найти, и не знали, заблудилась ли своенравная девушка на болоте или, по своему ребяческому характеру, просто прячется где-нибудь, чтобы напугать их.
В конце концов Мина вернулась, появившись внезапно, словно бы ниоткуда, раскрасневшаяся, улыбающаяся, и по-детски наивно спросила: «Зачем же вы меня искали? Разве вы не знаете свою Мину?» Если она и была задета случайным словом или жестом своего жениха, казалось, что теперь она простила расстроенного молодого человека (который действительно обожал ее); в руках она держала кучу подарков для друзей — фиалки, болотные лилии, пурпурные лобелии и странный сочный мясистый плод (величиной с крупное яблоко, но имеющий темный оранжево-красный цвет и неприятно мягкий на ощупь) — и начала все это радостно раздавать им. Весь остаток того дня и несколько последующих она с восторгом щебетала о «тайных чудесах» великой топи. Ей казалось чудовищно несправедливым, что столь изысканно прекрасное место внушает людям страх и ненависть… С самого детства Мина слышала, как о мюркиркской топи шепотом рассказывали ужасные вещи: будто оттуда приходит чума, будто там незамужние матери избавляются от плодов своего чрева; будто когда-то эта топь была ритуальным местом чудовищных пыток и казней, практиковавшихся индейцами племени могаук. Но Мина увидела там лишь «чудеса»: цветы и фрукты, которые принесла друзьям, высокие деревья с прямыми стволами и густой листвой (такие высокие, рассказывала Мина, что их кроны уходят за облака), черных и золотистых бабочек величиной с человеческую ладонь (на крылышках у них узор, похожий на «глазки»), неизвестных птиц, чье пение не сравнить по красоте с каким бы то ни было птичьим пением, которое ей доводилось слышать прежде (одна птичка размером с воробышка, но с ярким золотисто-сине-красным оперением, как утверждала Мина, совершенно бесстрашно села на протянутый ею палец), и много других диковин… Она смогла пройти там небольшое расстояние прямо по поверхности покрытой коркой планктона воды, утверждала она, — удивительное ощущение: словно бы для нее, и только для нее одной, для Мины Харвуд, общепринятые законы природы перестали существовать.
(Рассказывали, что все, кто отведал темный мясистый плод, в том числе сэр Чарлз и его жена, испытывали неприятное чувство тревоги, у них пропал аппетит, их рвало. Мина небрежно отмахивалась от подобных слухов и утверждала, что этот фрукт есть тайный «любовный плод», сок которого в свое время окажет на тех, кто его вкусил, благотворное воздействие.)
Прошло несколько недель, и все стали замечать, что дочь сэра Чарлза не в себе: она то испуганно отшатывалась от любого прикосновения любящих ее людей, то, напротив, с необъяснимой экзальтацией сама прижималась к ним; поведение ее было то игривым, то натянутым, то лихорадочным, нарочито веселым. Она из-за пустяков ссорилась с женихом и наконец со слезами объявила, что никогда не выйдет замуж ни за него, ни за кого-либо другого. Разве есть здесь, в этом мире, мужчина, достойный стать ее мужем? — вызывающе вопрошала она. Хоть Мина по-прежнему была хороша собой, красота ее стала какой-то дикой, неспокойной: длинные черные волосы спутались, свалялись и неприятно пахли солоноватой болотной водой; кожа стала влажной, липкой и очень бледной, она напоминала пленку, покрывающую шляпки некоторых видов растущих на болоте грибов; глаза выцвели и приобрели бледно-серебристый оттенок, а зрачки превратились в маленькие точки; даже пальцы у нее были теперь белыми и сморщенными, словно слишком долго мокли в воде…
Неужели это моя дочь? или мне ее подменили? — подумала как-то ее мать, глядя на Мину, рассказывавшую что-то в своей нынешней возбужденно-веселой, рассеянной манере, потому что было в девушке нечто странное — причудливый блеск в глазах? изгиб поднятой брови? мимолетная хмурость, от которой ее гладкое лицо словно бы покрывалось призрачными морщинами? Казалось, что какая-то более взрослая женщина хитро пряталась под ним. Но уже в следующий миг Мина смеялась и снова становилась самой собой.
— Почему ты так грустно смотришь на меня, мама? — сжимая своими холодными ладонями руки миссис Харвуд, с упреком говорила она. — В конце концов, я ведь здесь, с тобой.
Еще больше смущало то, что Мина стала кокетничать почти со всеми знакомыми мужчинами, в том числе и с местным священником, с престарелым епископом, с лордом главным судьей, с вице-губернатором и, что самое ужасное, с самим сэром Чарлзом! — казалось, само присутствие мужчины возбуждало в ней какую-то дикую животную похоть. Поначалу такое поведение сочли вполне безобидным, хотя оно и смущало; потом пошли слухи, будто девушка не дает прохода даже слугам, склоняя их к ночным свиданиям, будто она дошла до того, что «отдалась» нескольким молодым людям из своего окружения, но (из чистого каприза) только не своему жениху, даже прикосновение которого, как она утверждала, вызывало у нее теперь отвращение. Тем или иным способом манерничая, она постоянно привлекала внимание к своей «плотской оболочке» и, нимало не смущаясь, даже на людях, зевала, широко открывая свой прелестный ротик и являя взорам присутствующих влажный, шокирующе красный зев, напоминавший раскрытую змеиную пасть; точно так же, безо всякого смущения, посреди невиннейшего разговора она вдруг придавала обычным словам распутный оттенок то интонацией голоса, то похотливым телодвижением. И тут же, в следующую минуту, вдруг становилась прежней: милой, жизнерадостной, по-детски игривой, и обижалась, что родственники смотрят на нее с какой-то неловкостью… Казалось, эта Мина не отдавала себе отчета в том, какой была та, «другая», какие неприятности она доставляла не только своим домашним, но и всему местному обществу, более того, казалось, она даже не догадывалась о существовании «другой» Мины.
— Почему вы все так странно на меня смотрите? — часто спрашивала она с обиженно-недоуменным видом. — Вы что, не узнаете свою Мину?
Наконец в начале зимы выяснилось, что Мина беременна.
Причем беременна уже несколько месяцев. Как же умело скрывала она свое положение даже от собственной матери!
Это открытие потрясло домочадцев и повергло в отчаяние всех Харвудов, кроме самой виновницы — Мины, которая признала факт с удивительным высокомерием, будто речь шла всего лишь о детской шалости, за которой ее застукали.
— А что, собственно, такого произошло? Вы все — глупцы, — сказала она родственникам, которые смотрели на нее, онемев от ужаса, — если думаете, что Природой можно управлять в соответствии с вашими ничтожными желаниями, — и расхохоталась, обнажив кроваво-красный влажный зев.
На протяжении следующих недель порой казалось, что Мина раскаивается, тогда она запиралась в своей комнате, чтобы никого не видеть; но потом она надменно вытирала слезы и спускалась вниз как ни в чем не бывало или даже, более того, как будто осуждала Харвудов за то, что они пребывают в отчаянии и сердятся на нее. Разумеется, Мину неоднократно спрашивали, кто отец ребенка, но она с холодной улыбкой всегда отвечала, что ее партнер по «сладкому греху» — некто из очень близкого окружения, человек, хорошо известный Харвудам, быть может, даже кто-то из харвудских домочадцев, славящихся «строгостью нравов».
Слух о том, что красавица дочь сэра Чарлза ждет ребенка и нисколько в этом не раскаивается, быстро облетел всю колонию; судачили, будто отец ребенка — человек ее круга (хотя, как ни странно, и не ее жених — в этом сходились все); если, конечно, это не кто-нибудь из слуг Харвудов (худшими из которых считались работавшие по найму ирландцы, известные своим фривольным поведением) или даже не какой-нибудь черный раб или индеец; или (и такой слушок пронесся) — посланник дьявола. Самое удивительное, что Мине, казалось, придавали сил то горе и волнение, которое она сеяла вокруг себя; даже несмотря на то что отец ее повредился здоровьем и стал угасать, молодая женщина чувствовала себя превосходно. Щеки у нее были круглыми и румяными, а подернутые серебром глаза неестественно блестели. Если бывшая Мина ела, как подобает, очень деликатно, то Мина нынешняя пожирала все, что перед ней ставили, с превеликим аппетитом и, шутя, доедала за другими, со смехом поясняя, что, похоже, ее «физическая оболочка» вдруг стала бездонной прорвой, которую приходится насыщать.
Мина по-прежнему упрямо не желала назвать имя отца своего ребенка. Не имело никакого значения, сажал ли ее сэр Чарлз в наказание под замок или предоставлял в качестве подкупа некоторую свободу, угрожал ли, умолял, молился ли за нее или вообще отказывался говорить о ней. По мере того как увеличивался срок ее беременности и живот округлялся все больше, Мина все сильнее обижалась на то, что все делают из мухи слона и хотят доконать ее.
— И почему, если это всего лишь Природа? Если Мина, как и любой из вас, — всего лишь Природа?
Иногда, словно бы очнувшись, она осознавала всю глубину своего падения… В такие моменты, онемев от потрясения и горя, она уединялась и, преклонив колена, просила Бога помочь ей. Однажды в странном приступе такого раскаяния она сказала матери, что ее следует немедленно покарать — связать ей руки и ноги, отнести на болото и утопить ее грешное тело в трясине; однако не прошло и часа, как вернулась другая Мина, которая с еще большей горячностью, состроив презрительную гримасу, стала насмехаться над глупцами, принявшими всерьез ее «глупую болтовню».
Потом Мина начала намекать, что, когда ребенок родится, она отдаст его отцу, чтобы тайна наконец открылась.
— Тогда все поймут, сразу же, как только увидят это.
И она снова смеялась жестоким, режущим слух смехом.
Однако, будто бы в издевку, тайна так и не открылась, не получила своего разрешения, ибо накануне родов (по подсчетам врача) Мина сбежала из губернаторского дома вверх по реке, скрылась — одна или с сообщником — и больше никто никогда не видел ее в долине Чатокуа.
Дети долго молчали, потрясенные услышанным. Милли, Дэриан и шестилетняя Эстер. Потом вдруг, как если бы старая Катрина намеренно обманула их, Милли закричала:
— Нет, Катрина, неправда, ненавижу эту твою историю!
(Потому что, хотя Милли была уже почти взрослой, ей минуло семнадцать лет, и она сто раз, с тех самых пор, когда была еще крошкой, слышала сказку про дочь королевского губернатора, чувствительная натура ее была такова, что каждый раз она ждала другого, настоящего конца. Того, который должен был венчать эту историю.)
Но Катрина, оскорбленная, с достоинством встала со стула, стоявшего у очага, закутала худые плечи в теплую вязаную шаль и сказала со своей обычной загадочной интонацией:
— Едва ли у вас, мисс, есть право ненавидеть подобные истории, будто вы не одна из Лихтов и кровь этой обреченной девушки не течет в ваших жилах, — оставив Милли, Дэриана и малышку Эстер в недоумении ломать голову над ее словами.
«Адамов грех…»
В деревне Мюркирк мало что было достоверно известно об Абрахаме Лихте и его таинственной семье (если они действительно представляли собой «семью»); но, начиная с того осеннего дня 1891 года, когда Абрахам Лихт впервые объявился здесь верхом на лошади, чтобы неожиданно предложить свою цену на аукционе, где продавалась церковь Назорея, было выдвинуто и обсуждалось столько предположений, столько слухов скрупулезно анализировалось и выдавалось за истину, что едва ли не у каждого жителя в округе было собственное мнение по этому вопросу.
(Некоторые даже утверждали, что стремительно ворвавшийся в их жизнь мистер Лихт в тот день вернулся в Мюркирк, что на самом деле он был местным уроженцем, возвратившимся домой после многих лет отсутствия.)
Сколько же сказок рассказывали здесь об Абрахаме Лихте, сколько фантазий возникало по поводу его женщин, его детей, его «профессии»!..
Например.
Была у него когда-то жена по имени Арабелла, мать двоих его старших сыновей (не считая темнокожего сына Элайши, чья мать была неизвестна); потом у него была жена по имени Майра, или Морна, с которой никто в Мюркирке, за исключением доктора Дирфилда, принимавшего у нее дочь летом 1892 года, никогда и словом не обмолвился; его третьей женой была Софи, изящная блондинка, очень замкнутая, мать его младшего сына Дэриана и малышки Эстер, которую доктор Дирфилд принимал у нее в марте 1903 года. (И где теперь все эти обреченные женщины? Арабелла исчезла из Мюркирка, оставив сыновей их отцу, и никто ее здесь больше не видел; Майра, или Морна, исчезла из Мюркирка, оставив свою маленькую дочь ее отцу, и никто ее здесь больше не видел; бедняжка Софи умерла от послеродовой горячки через две недели после рождения дочери и была похоронена обезумевшим от горя Абрахамом Лихтом на старом церковном погосте позади дома настоятеля, в котором теперь жила семья Лихтов.)
Разумеется, больше всего разговоров было о темнокожем Элайше. Кем была его мать? Был ли Абрахам Лихт действительно его отцом? Все терялись в догадках, потому что Элайша, негритянский юноша, вел себя как белый, более того, вел себя так, словно в его жилах текла королевская кровь, — высокомерно и «бесцеремонно», как ни один негр, которого когда-либо доводилось видеть обитателям Мюркирка. Мистер Карр, банкир, с которым Лихт вел дела, утверждал, что Лихт однажды сказал ему, будто Элайша — его «камердинер», которому он не задумываясь «доверил бы свою жизнь», не говоря уж о деньгах. Преподобный Вудкок, методистский священник, занимавшийся с Дэрианом и Эстер и обучавший Дэриана игре на фисгармонии, был убежден, что Элайша — подкидыш, сирота, которого Абрахам Лихт взял в дом из христианского милосердия, потому что Дэриан рассказывал ему, будто «его брат Элайша» родился во время урагана и наводнения «на огромной реке за тысячу миль от Мюркирка». С годами темнокожий юноша стал даже походить на Абрахама Лихта, хотя это было не столько физическое сходство (потому что Элайша имел ярко выраженные негроидные черты: гладкую кожу цвета темного красного дерева, черные, обрамленные густыми ресницами глаза, широкие ноздри и одинаково толстые и широкие верхнюю и нижнюю губы), сколько сходство манер: он так же, как Абрахам Лихт, в любую погоду ходил стремительной походкой, с высоко поднятой головой и с военной выправкой; так же, как Абрахам Лихт, ловя чей-либо взгляд, отвечал на него широкой радостной улыбкой, словно актер, выходящий на сцену и приветствующий зал; так же, как Абрахам Лихт, всегда имел безукоризненный, холеный вид, был модно одет и излучал мужскую самоуверенность.
И все это несмотря на то что юноша был-таки черным, то есть не-белым.
К счастью, теперь, повзрослев, Элайша Лихт редко появлялся в Мюркирке. В течение нескольких лет все считали, что он уехал куда-то в Массачусетс «учиться в колледже». Если он и приезжал домой, то ненадолго, порой не больше чем на неделю, так что не успевал вызвать раздражение своим дерзким видом. А когда его посылали в деревню по делам — например, положить деньги в Первый банк Чатокуа, или отнести плату за уроки преподобному Вудкоку, или истратить за час 500 долларов в шорной мастерской, делая покупки «для мистера Лихта», — красивый юноша был обворожителен, а речь его так приятна и уместна в каждом конкретном случае, что даже самые яростные негроненавистники были вынуждены признать: «Элайша Лихт не такой, как другие негры».
Тем не менее. Был случай, года за полтора до момента этого повествования, когда Элайшу и его белых братьев Терстона и Харвуда видели в популярной таверне «Знак Овна» на Иннисфейлской дороге пьющими эль у стойки бара. Они то разговаривали серьезно, то громко смеялись и, казалось, не обращали никакого внимания на любопытные взгляды присутствующих, но в какой-то момент, в ответ на замечание собутыльника, вероятно, касавшееся его предков-негров или цвета его кожи, Элайша, сверкнув своей ослепительной лихтовской улыбкой, сказал: «Это правда, моя кожа черна; а моя душа — в сущности, моя душа тоже черна».
С тех пор как в 1891 году джентльмен, назвавшийся Абрахамом Лихтом, приобрел покинутую усадьбу, принадлежавшую церкви Назорея, бывали периоды, когда он не только заявлял, что удалился на покой и собирается постоянно жить в деревне («Здесь такая благословенная атмосфера, — говорил он соседям, — несмотря на близость загрязненного города»), но и всячески давал понять, прилагая все усилия, чтобы познакомиться с самыми влиятельными гражданами Мюркирка, что намерен сделать здесь и кое-какую карьеру, вероятно, политическую. Абрахам Лихт так умел найти со всеми общий язык, был так энергичен, так красноречив, что и республиканцы, и демократы (последние составляли в округе Чатокуа меньшинство) не сомневались: при желании он может далеко пойти. Но потом, не сказав никому ни слова, Лихт внезапно исчез из Мюркирка на несколько месяцев. Некоторых членов семьи он оставил дома, других взял с собой, но кто именно уехал, а кто остался, соседи так и не узнали.
Еще удивительнее было то, что по возвращении Лихт стал часто неуловимо менять облик: то поправлялся, то худел, то отращивал бороду, то сбривал ее, то выглядел старше, то моложе, то казался несокрушимо здоровым, то приболевшим и так далее. Иногда он одевался по самой последней моде, а иногда — аскетически строго, словно зажиточный бизнесмен-квакер. Порой он ездил на новом красивом автомобиле, порой — на стареньком «селден-багги», а порой — верхом, открытый всем стихиям, словно персонаж иллюстрированных сказок о Диком Западе. Но при этом он всегда сохранял свою торжествующую сущность, и принять его за кого-либо другого было невозможно, как полувосхищенно-полукритически признавали жители Мюркирка.
Сколько детей у Абрахама Лихта? — этот вопрос здесь нередко задавали друг другу озадаченным тоном, словно предлагали решить загадку. И что за отношения у него с этой старой женщиной, Катриной, которая, сколько можно упомнить, всегда вела у него хозяйство?
На протяжении многих лет его домочадцы столько раз приезжали и уезжали, что иногда создавалось впечатление, будто у него десять или одиннадцать детей. Но потом снова казалось, что их всего четверо. К лету 1909 года мюркиркцы пришли к единому мнению, что в доме у него живет шестеро молодых людей, не больше и не меньше. Это Терстон, старший (светлокожий блондин, похожий на викинга, ростом выше отца); Харвуд, года на два-три моложе Терстона (приземистый, мускулистый молодой человек среднего роста, с волосами цвета сточной воды); загадочный Элайша (которому давали лет двадцать); Миллисент, или Милли, семнадцати лет от роду (такая же светловолосая и светлокожая, как Терстон, с красивым нежным фарфоровым личиком и поразительными голубовато-серыми глазами); и двое младших детей, никогда не покидавших Мюркирка, — девятилетний музыкально одаренный Дэриан и шестилетняя Эстер.
А кем приходилась им Катрина? Именно она ходила в Мюркирк за покупками, и именно ее знали продавщицы и прочие женщины. В свои шестьдесят с лишком она имела потрясающую осанку, пронзительный взгляд и держалась с достоинством, разговаривала с отчетливым немецким акцентом и укладывала свои свинцового цвета косы в виде шлема. «Да, ссспасибо» — «Нет, ссспасибо» — «Достаточно, благодарю вассс» — так она разговаривала, когда возникала крайняя необходимость что-то сказать; людям, не принадлежавшим к семье Лихтов, улыбалась редко, даже лавочникам, с которыми имела дело много лет. Большинство жителей Мюркирка считали, что она домохозяйка Абрахама Лихта (которой он предоставлял неограниченные полномочия на время своего отсутствия), но были и такие, кто верил или, по вредности характера, утверждал, что верит, будто Катрина — мать Абрахама Лихта.
А чем занимался Абрахам Лихт? Или какова была его профессия? На что он содержал — и, судя по всему, весьма неплохо — себя и свою семью?
В течение долгого времени все недоумевали, почему джентльмен с такими очевидными способностями и таким прошлым, как Абрахам Лихт, похоронил себя в глухом углу долины Чатокуа, на краю болот, и устроил дом для себя и своих симпатичных детей в заброшенной каменной церкви. (Когда-то это была церковь евангелистов-назореев, последние адепты которой прекратили свое существование в Мюркирке несколько десятилетий назад. Однако церковь Назорея, основание которой датировалось 1851 годом, не была обычной деревенской церковью, построенной из бревен и обшитой вагонкой, она была сложена из подогнанных друг к другу камней и оштукатурена, балки были сделаны из необработанной древесины; островерхую крышу венчал простой, но благородный крест; окна были высокими и узкими; домик настоятеля состоял из четырех маленьких комнат; позади дома находился погост с потрепанными непогодой надгробиями и мемориальными досками, стершимися от времени. Внутреннее убранство церкви было простым, спартанским, «по-протестантски холодным», как говорил Абрахам Лихт: двенадцать дубовых скамей, скромных размеров кафедра, фисгармония, вырезанный из пеканового дерева крест, весьма впечатляющий, хотя имел не более трех футов в высоту. Этот интерьер казался скорее призрачным и размытым, чем благочестивым. Виной тому была атмосфера, насыщенная влагой близлежащих болот.) Со временем Абрахам Лихт значительно усовершенствовал усадьбу: сделал весьма обширную жилую пристройку к задней части дома, поставил конюшню и другие хозяйственные постройки. Но к чему тратить средства на такое жилье, почему не купить новый дом? Почему не вложить деньги в более дорогостоящую землю в каком-нибудь престижном районе долины? С этими вопросами, очень интересовавшими жителей Мюркирка, к самому Лихту никогда не адресовались.
Принимая во внимание подобную эксцентричность, кое-кто делал смутные предположения, будто Абрахам Лихт — лишенный сана священник, вероятно, принадлежавший к какой-нибудь евангелической секте. Потому что бывали случаи, когда поддерживаемый им публичный образ внезапно менялся; даже его голос, столь богатый, глубокий и самоуверенный, становился мрачным. Он нередко цитировал пессимистические пассажи из Иудейской Библии, как он ее называл («Но что это такое, мистер Лихт? Вы имеете в виду Ветхий Завет?» — спрашивали его с неподдельным недоумением), особенно учение пророка Екклесиаста; бормотал латинские выражения (vae victis, tempus fugit, caveat emptor, fiat justitia, ruat caelum[5]), что, судя по всему, должно было выражать его безграничную печаль, смешанную с гневом. Беседуя с преподобным Вудкоком у того в кабинете, Абрахам Лихт любил сослаться на кого-нибудь из Отцов Церкви, на американских пуританских проповедников вроде Коттона или Инкриса Мэзеров, и процитировать с видимой искренностью:
Преподобный Вудкок возражал: несомненно, жертва Иисуса Христа давно изменила подобное пессимистическое мировоззрение; Новый Завет смягчил, если не полностью отменил суровые требования Ветхого; так же как Новый Свет Северной Америки ушел далеко вперед от европейского Старого Света. «Наш Спаситель пришел в мир, чтобы изменить его, — убеждал Вудкок тихим, но прочувствованным голосом, — и принес нам благую весть о спасении». «О, принес ли? Так ли это?» — бормотал Абрахам Лихт, вглядываясь в лицо пожилого священника, словно надеялся увидеть в нем обещание собственного избавления.
У более практичных жителей Мюркирка сама мысль о том, что Абрахам Лихт, один из них, когда-то был священником, вызывала раздражение. Да нет же, Лихт, безусловно, был мирским человеком, вероятно, актером, игравшим в классических пьесах, преимущественно — в шекспировских; возможно, он и теперь оставался актером, который время от времени, оберегая свою частную жизнь, укрывался под вымышленным именем в деревне. Вы только посмотрите, как посреди зимней непогоды, когда над долиной Чатокуа висит бездушное, похожее на грязный снег небо и кажется, что утомленная Земля стала плоской, с каким надменным, самоуверенным видом шествует Лихт — словно какой-нибудь Гамлет, или Отелло, или король Лир! Посмотрите, как светится здоровьем его красивое широкое лицо, будто освещенное огнями рампы! И разве вы не замечали, что порой, после многозначительной реплики, он делает паузу, как бы ожидая аплодисментов?
И у Элайши (то ли его камердинера, то ли приемного, то ли незаконного сына) та же актерская манера и осанка, что у знаменитого Мастера Даймонда, который был в свое время самым прославленным негритянским актером. И у хорошенькой капризной Миллисент, очаровательной, хоть и непредсказуемой, — внешность бродвейской инженю. Жена владельца «Мюркирк джорнэл», обожавшая оперу и ездившая на поезде в Нью-Йорк специально, чтобы присутствовать на премьерах в «Метрополитен-опера», утверждала, что Абрахам Лихт «несомненно, учился на оперного певца», потому что однажды, в ясный июньский день, когда она, работая в своем розарии и полагая, что рядом никого нет, пропела несколько тактов арии Венеры из «Тангейзера», ей, словно с самих небес, ответил густой баритон! Сам Тангейзер подкрался к ней сзади, насмешливо аплодируя и сияя восторженным взглядом, — в облике Абрахама Лихта.
Не осталось незамеченным и то, как музыкально одарен был его сын Дэриан. Уже в четыре года этот удивительный ребенок с такими же, как у отца, темными блестящими глазами сочинял мелодии, а в восемь научился играть на фортепиано и фисгармонии, насколько позволяли его маленькие ручки.
Однако другие наблюдатели глумливо отвергали даже мысль о том, что Абрахам Лихт был «простым актеришкой… фигляром». Явная сдержанность манер, значительность личности и привычка ссылаться на, судя по всему, личные военные воспоминания (одним из любимых его сюжетов была недавняя война с Испанией и «маленькая грязная война» с варварами-филиппинцами) свидетельствовали о том, что он наверняка был отставным военным в офицерском звании. Однако, если к нему приставали с вопросами, Лихт уходил от ответа и менял тему разговора, что наводило мюркиркских ветеранов, старший из которых участвовал еще в войне между штатами за Союз, на мысль, что этот человек был с позором изгнан из армии или дезертировал. («Ибо с чего бы бывшему военному скрывать свое прошлое, если в нем не было ничего постыдного?» — рассуждали они.)
Доктор Дирфилд, единственный из обитателей Мюркирка, которому довелось побывать в таинственном жилище Лихта, не был согласен ни с одним из этих мнений и утверждал, что Абрахам — то ли коллекционер, то ли торговец антиквариатом самого разного рода: мебелью, предметами искусства и ремесел, одеждой, старинными книгами и картами. Хотя Дирфилд видел в основном лишь ту часть дома, в которой лежала в своей комнате прикованная к постели жена Лихта Софи, у него создалось определенное впечатление, что дом набит странными, разномастными предметами. «Иные из них откровенно уродливы, на мой вкус. Но с другой стороны, что я, деревенский врач, понимаю в антиквариате и предметах искусства?»
Однако существовало и еще одно мнение, принадлежавшее Эдгару Карру, президенту мюркиркского Первого банка Чатокуа, который, основываясь на имевшемся у него не понаслышке представлении о «резко колеблющемся» состоянии финансов Лихта, считал, что этот человек — либо профессиональный игрок (специализирующийся на бегах), либо один из печально известных уолл-стритских спекулянтов нового поколения, способных зарабатывать, терять и снова зарабатывать тысячи долларов за один день торгов на темных манипуляциях, в которых сам Карр никогда не позволял себе участвовать. Подобные господа, заявлял Карр, духовно родственны таким «темным гениям», как Джей Гулд, лорд Гордон-Гордон и иже с ними — личностям, которыми мы невольно восхищаемся, но с которыми никогда не желали бы иметь дела.
«Исходя их этого, — говорил Карр, подмигивая, — можно считать Лихта первым и выдающимся американским капиталистом, как бы он сам себя ни называл, чем бы ни занимался и каковы бы ни были результаты его деятельности! Кумир, притом единственный, которому он поклоняется, — деньги».
Пилигрим
Трагическая история церкви Назорея Воскресшего (ибо таково было полное название секты), по общему мнению жителей Мюркирка, во многом оказалась следствием ее неблагоприятного местоположения: неблагоразумно польстившийся на дешевизну земельного участка, граничившего с мюркиркской топью, молодой священник, глава секты, решил возвести церковь у находившейся в четверти мили от Иннисфейлского пика грязной дороги, представлявшей собой в ту пору не более чем разбитую тропу для скота, и в такой близости от болота, что местные жители в шутку говорили, будто церковь стоит прямо в болоте.
Жить этой церкви суждено было приблизительно девять лет, включая те два года, что ушли на ее строительство, и за это время самого священника, всю его семью и большую часть его паствы столько раз валили с ног всевозможные лихорадки, костные заболевания, инфлюэнца и прочие болезни, что некоторым казалось, будто сам Господь подвергает их веру тяжким испытаниям (как подвергал Он им многострадального Иова к вящей, впрочем, славе последнего); другие, однако, полагали, что поблизости, на болотах, обитает сам сатана, не желающий никого допускать в свои владения. Ибо с конца весны и до конца октября нездоровая атмосфера пропитывала все церковные постройки: тропическая могильная сырость, которая казалась почти видимой, почти осязаемой, дикое смешение запахов — густой, прогорклый запах пыльцы, разложившихся трупов животных, отвратительно-солоноватой воды, газов загрязненной природы — медленно разносились повсюду и оседали в виде неестественного жара, который, казалось, обладал способностью прилипать к человеческой плоти.
«Но Бог послал нас в эту глушь, чтобы мы победили ее и процветали» — так проповедовал восторженный молодой священник, невзирая ни на какие несчастья.
Увы, несмотря на его пылкую веру и добродетельность его паствы, Бог проявлял мало милосердия к церкви Назорея Воскресшего: здание разрушалось, покрывалось плесенью, стены подтачивали жуки, термиты, слизняки, влага, гнетуще насыщавшая нездоровый воздух; ветер срывал колпаки с дымоходов, и дождевая вода, заливаясь внутрь, разрушала полы; ядовитые змеи заползали в дом настоятеля; колодец отравляли проникавшие с кладбища подземные воды; община сократилась с шестидесяти до сорока человек, потом до тридцати, до десяти… Наконец летом 1890 года сам священник слег с тяжелейшей инфлюэнцей и умер, как говорили, обезумев и в бреду проклиная Бога за то, что Он предал поклонявшихся Ему в этом глухом уголке земли. По слухам, выглядел он к тому времени очень пожилым человеком, хотя ему не сравнялось еще и сорока.
И тогда церковь Назорея Воскресшего была объявлена банкротом и отдана на откуп многочисленным кредиторам; земля, постройки и все движимое имущество подлежали продаже с аукциона в ближайший же срок.
Вот тогда-то, теплым октябрьским днем, и собралась на аукцион небольшая компания — человек тридцать мужчин, пришедших не столько из заинтересованности в торгах, сколько из любопытства и от безделья; полагали, что едва ли отыщется в Мюркирке человек, который, зная историю церкви, пожелает купить ее. К тому времени ее камни густо заросли лишайником, крыша приобрела изумрудно-зеленый цвет из-за покрывшего ее мха, на полах стояли лужицы противной затхлой воды; большие белые коконы, влажные от слюны личинок, усеяли пекановый крест, придав ему омерзительный вид. Воздух в усадьбе был тяжелым, влажным и застоявшимся, словно сгусток тревоги: однако к чему могла относиться эта тревога? И от кого или от чего она исходила?
Вскоре после того, как начались вялые торги по отдельным предметам обстановки — участникам аукциона были предложены трехногий табурет, намокший псалтырь, детская коляска с тентом, — верхом на лошади галопом прискакал молодой человек, незнакомец, и напугал присутствующих тем, что звенящим, запыхавшимся голосом предложил свою цену за всю усадьбу: «Даю тысячу восемьсот долларов наличными».
Сумма показалась настолько превосходящей стоимость проклятой собственности, что ни у кого и мысли не возникло перебить ставку.
Вот таким чудесным образом через двадцать минут после начала торгов церковь Назорея Воскресшего, прилегающие к ней строения, движимое имущество и земля, вместе взятые, были проданы человеку, предложившему высшую ставку, — некоему Абрахаму Лихту, постоянно проживавшему в ту пору в Вандерпоэле.
Как и обещал, джентльмен расплатился наличными — стодолларовыми купюрами, которые показались потрясенным свидетелям сделки гораздо большими по размеру, чем какие бы то ни было другие отпечатанные в Америке денежные знаки, которые им доводилось когда-либо видеть, но которые, как объявил присутствовавший на аукционе представитель банка, были безоговорочно действительными.
На вопрос о роде его занятий Абрахам Лихт с улыбкой ответил, что он — «земельный спекулянт».
Какой это был обаятельный, симпатичный молодой человек — широкоплечий, находящийся в прекрасной физической форме, словно солдат, или атлет, или актер; на вид не старше тридцати одного — тридцати двух лет, он обладал уверенной и зрелой манерой поведения. При росте чуть больше шести футов Лихт казался выше; в густых рыжевато-коричневых курчавых и блестящих волосах виднелись то ли белокурые, то ли серебристые нити; взгляд дружелюбных глаз, цвет которых одним показался карим, другим — черным, третьим — небесно-синим, был быстр и проницателен. Бакенбарды и усы были аккуратно подстрижены в стиле покойного Джеймса Дж. Блейна, «Рыцаря с хохолком», как его называли в конгрессе; очертание скул, насколько можно было их видеть из-под бакенбард и усов, позволяло предположить в мужчине сильный, решительный, «железный» характер. Рукопожатие его было энергичным, хотя и холодноватым; под маской абсолютного самообладания угадывалось волнение или лихорадочное напряжение; мягкая шляпа была сдвинута набекрень небрежно или, можно было даже сказать, легкомысленно; его темный габардиновый «городской костюм» отличался модным покроем, но пропитался потом и запылился во время верховой езды. Красивый черный, с узкой белой полоской между глаз мерин Лихта имел впалую грудь, был взмылен от быстрой езды и явно миновал уже свою лучшую пору.
Почему Абрахам Лихт проскакал девяносто миль от Вандерпоэла и прибыл на этот нигде не объявленный аукцион, откуда у него такой интерес к Мюркирку, деревушке, в которой в те времена насчитывалось меньше двух тысяч жителей? На все эти прямо поставленные вопросы Лихт отвечал с простодушной, дружелюбной улыбкой, хотя, как все поняли лишь впоследствии, сумел так ничего и не рассказать; самого же его срочно интересовал только один вопрос: была ли церковь Назорея Воскресшего должным образом секуляризована?
Запреты
Кто он, с его всевидящим оком, с голосом, напоминающим звук охотничьего рога? И почему он преследует их?
Они взобрались на самый верх крутой крыши, чтобы спрятаться от него, скрючились за крошащейся кирпичной трубой, где гнездятся скворцы, — и теперь им остается лишь сделать шаг вперед, расправить крылья и лететь, лететь к верхушке самого высокого дерева…
Ку-ку, вы где, мои маленькие? Эй, я спрашиваю: где вы?
Кто он? Кажется, у него всего один глаз, блестящий, словно стеклянный, прищурившийся на солнце, а на месте другого — пустая глазница (может, другой глаз выклевали вороны?), прикрытая черной повязкой, похожей на кожаную. Громко топая, он бежит за ними, великан в огромных ботинках, в руке — трость с набалдашником из слоновой кости, которая стучит, стучит, стучит по земле, ку-ку, где вы, маленькие мои, эй, сладенькие маленькие птички, у него гладкие, без усов, пухлые мягкие красные губы, стиснутые белые зубы, на нем — черный плащ для верховой езды, который топорщится на спине (может быть, он — карлик-горбун, выросший до размеров великана, или тролль, одетый в костюм джентльмена?), на лоб низко нахлобучена красивая черная шляпа, какие носят на Западе, ку-ку, маленькие птички, куда вы улетели, старый сэр Эбенизер Снафф знает, сколько вас, старый сэр Эбенизер Снафф знает ваши имена, и ваше, маста Дэриан, и ваше, мистрис Эстер, никуда вы не денетесь, мои сладкие маленькие птички, старый Эбенизер Снафф видит все и на небе, и на земле, и в подземной тьме своим единственным всевидящим оком!
Действительно ли у него один глаз, действительно ли другой выклевали вороны?
Намеренно ли он говорит таким резким, рассекающим воздух голосом, чтобы напугать?
Они взлетают на самую верхнюю ветку дуба, чтобы удрать от него, они перелетают на самую верхнюю ветку самого высокого дерева на болоте… и вот впереди край облака, ребристого от пересекающих его теней, словно это ступеньки, но это и есть ступеньки, ведущие вверх, вверх, вверх — на небо…
Однако старый Эбенизер очень шустр, старый Эбенизер сгребает их своими огромными лапами, фыркая, клацая зубами, неужели они думали, что могут удрать от него? Наверное, они думали, что могут улететь на небо? Старый Эбенизер порывисто целует их, щекоча бакенбардами, ну что, маста Дэриан, ну что, мистрис Эстер, — те извиваются, как угри; разгоряченные, отбиваются яростно, бешено, их сотрясает смех, это вредно для больного сердца Дэриана (Катрина же предупреждала, предупреждала!), но ведь это старый Эбенизер, который так любит их, старый Эбенизер, который их обожает, мои сладенькие, мои милые, о, мои дорогие, вот я и дома! — сегодня Эстер, этой глупой птичке с острыми коготками, выпадает честь дрожащими пальчиками приподнять его шляпу, чтобы посмотреть на Знаменитую Серебристую Эспаньолку — и… ах! до чего же уморительно смешно вдруг увидеть гладко выбритый подбородок, знакомый подбородок, крупные сильные, шутливо кусающиеся челюсти и быстро-быстро щелкающие зубы. И куда же это вы собирались улететь, мои милые, куда направлялись, мои дорогие? — нежные горячие поцелуи, пылкая любовь — о, мои любимые, вот я и дома! Шляпа, сорванная с головы, отлетает в сторону и планирует, чтобы приземлиться, чтобы приземлиться… да где угодно; вьющиеся волосы пахнут пудрой, серебристо-белым порошком (это чтобы заставить их чихать); теперь Дэриану предоставляется привилегия заглянуть под страшную черную повязку и увидеть наконец, действительно ли пуста под ней глазница (но она не может быть пустой), действительно ли она выклевана дочиста (но она не может быть выклевана дочиста), — и вот — ах! — какое облегчение, какая радость, заставляющая сердце замереть: отцовский глаз на месте, отцовский глаз был там (должен был быть) все это время, как обычно, — он лукаво подмигивает и блестит… словно слепой.
Дети повисают на сильных плечах отца, высоко-высоко на его плечах — так высоко, что их головки касаются потолка, их головки касаются неба, мои ангелочки, мои сладенькие, сладенькие, невинные души, вы любите своего старого бедного сэра Снаффа? — о, здесь сейчас центр вселенной. Пока папа дома.
(Но ты снова уедешь? — О, никогда.
А ты возьмешь нас с собой, когда поедешь? — О, никогда.)
Подарки для всех — разумеется, отец всем привез подарки, ведь отчасти для этого он и уезжал так надолго, на этот раз слишком надолго: прошел март, апрель, май… и даже большая часть июня.
Не важно. Теперь папа дома, и дом теперь стал центром всего Божьего мира.
Для Эстер — красивая французская кукла с голубыми глазами, ее туловище сделано из дерева и папье-маше (это очень ценная кукла, хвастается отец, на ней даже подпись мастера имеется: некто «Жюмо, Париж, 1883»); для Дэриана — блестящая черная, инкрустированная слоновой костью гармоника, на которой он научается играть уже через несколько минут; для Катрины, подозрительной Катрины, новая кофемолка, смотри, я откручиваю старую и прикрепляю новую, вот здесь, рядом с раковиной, как раз на удобной для Катрины высоте.
Но это еще не все, конечно же, это не все…
Для Эстер, милой застенчивой Эстер, пара белых сетчатых перчаток, вышитых по краю фиалками; для Дэриана песенник в глянцевой обложке «Жемчужины от Эрина, том второй»; для Катрины — огромный черный шелковый зонт с резной ручкой из слоновой кости, смотри, как он открывается — раздается громкий хлопок!..
И еще: для Дэриана — карманные «солнечные часы»; для Эстер — подарочная шкатулка (эмаль, перламутр, кусочки цветного стекла, похожие на подмигивающие безумные глаза); а для Катрины — ароматическая смесь из сухих цветочных лепестков в вазе из волнистого стекла — этот подарок наконец-то заставляет растаять холодную маску на лице Катрины, и женщина улыбается.
А мы все аплодируем! Пронзительно визжим, топаем ногами и аплодируем!
Потому что папа теперь дома, и настало время быть счастливыми.
(Что нам действительно нужно, так это приличная одежда и еда, что нам нужно, так это починить крышу, говорит Катрина, и отец вполголоса отвечает: но, Катрина, ты же знаешь, что я все это обеспечу, разве я не обеспечиваю вас всегда всем необходимым, о, Катрина, мы снова богаты, богаты, как короли, не суетись! Но Катрина говорит: мы и прежде бывали богаты, разве не так? Поэтому-то у меня и есть основания суетиться.)
— Где Милли? — спрашивают дети.
— Скоро приедет, дорогие: завтра! — отвечает отец.
— Где Элайша? — спрашивают дети.
— Скоро приедет, дорогие: послезавтра! — отвечает отец.
— А где Терстон, где Харвуд?..
— Скоро, скоро! Скоро у нас будет торжественный банкет в честь победы!
Дорогие мои, мои любимые детки, ну, по ком я так скучал?
Белая отцовская рубашка расстегнута на шее, рукава закатаны выше локтей, он курит сигару, и дым вырывается из ноздрей, когда он смеется, пора, пора, пора заняться этой усадьбой, пора все заново обследовать: огород — епархию Катрины — перекопали дикобразы, в прошлом месяце ураган причинил много вреда, надгробия заросли колючим чертополохом, а как высоко поднялся вереск, как высоко, улитки, слизняки подтачивают крошащиеся стены, голубая цапля со своим спутником поселилась на краю пруда, филин устроил гнездо на мертвом дереве, а осы — под карнизом крыши, надгробия покрылись лишайником; отец высокий, он — великан, в шляпе, заломленной на затылок, они не видят, куда смотрят его беспокойные глаза, они слышат лишь отдельные слова: между могил… старый погост… мамина могила… он делает паузу, чтобы снять паутину с гранитного памятника, и замолкает, зажав в зубах сигару, склонив голову, прикрыв глаза… Ах, как он ее любил! И обещал ей никогда, никогда не брать ее детей с собой в тот мир! Пока Дэриан, присев над могилой, нервно выдергивает сорняки, а Эстер, дрожа, прячется за него (потому что знает — жестокая Катрина намекнула ей, — что это она, Эстер, виновата в маминой смерти, в том, что мама похоронена здесь, на этом церковном дворе, и что придет день — весь мир осудит Эстер), отец вдруг разражается хохотом, извергая из ноздрей табачный дым, потом сердито фыркает, настроение у него внезапно меняется, он дергает Дэриана, заставляя его подняться на ноги, хватает испуганную Эстер за маленькую ручку и шагает прочь по траве, высоко поднимая ноги. Размахивая их руками, которые сжимает в своих ладонях, он поет старую бодрую песенку:
Марш! Марш! Марш!
Шагают мальчишки!
Отец прижимает палец к губам, подмигивая, и, понизив голос, чтобы не слышала Катрина, поверяет своим младшим детям, своим ангелочкам, кое-какие секреты. Дети, землей владеют мертвые! Мертвых гораздо больше, чем живых, дети! Если не верите своему отцу, посчитайте сами, ребята! Сосчитайте их! Земля принадлежит им, дорогие мои детки, но — ах! — этот мир — наш. Глубокий вдох, его грудь вздымается, раздувается, глаза блестят, и напрягшиеся мускулы лица наконец расслабляются в улыбке.
Этот мир, дорогие детки, наш — до тех пор, пока мы этого желаем.
Пока нам достает храбрости, милые детки, желать этого.
Через некоторое время у отца снова резко меняется настроение, и он хочет побыть один.
Хочет один побродить по болоту.
Один, как всегда.
(До того в форме игры, однако серьезно он проверял их знания, задавал небольшие математические задачки; с интересом слушал, как поет Эстер своим тоненьким срывающимся милым голоском; слушал, как Дэриан играет «Рондо» Моцарта на фисгармонии, сурово дергая сына за пальцы и браня, когда маленьким ручкам не удавалось растянуться на октаву или когда он ударял не по той клавише. «Стыдись, сын. Когда Амадей Моцарт был в твоем возрасте, он не просто виртуозно исполнял подобные пьесы, он их сочинял». И вдруг отцу все опротивело — хватит на сегодня детей, даже таких ангелоподобных, любимых отпрысков Софи, он хочет побыть один, побродить в одиночестве по болотам, скрыться от их глаз, увильнуть даже от властного пронзительного взгляда Катрины, чтобы никто не плелся по его следам, не источал любовь и не называл папой.)
Следовать за отцом запрещается, поэтому удрученный Дэриан, конечно же, за ним не следует.
Он сидит, склонившись над клавиатурой, покинутый. Брошенный. Девятилетний мальчик с осунувшимся узким лицом, огромными блестящими карими глазами, трепещущим ревматическим сердцем. Тонкие пальцы блуждают по желтоватым клавишам из слоновой кости. Глубокое, громкое до, вялое, глухое до-бемоль… Резкое фа, терзающее слух. Клавиши, липкие от влаги, некоторые из них больше не звучат, громкое пыхтение педали, жужжание мух, вьющихся над головой, бьющихся об оконное стекло, горячий удушливый воздух внутри церкви, забитой старой мебелью, которая втиснута между церковных скамей, скатанными в рулоны и перевязанными узловатой веревкой коврами, стопками старинных книг в кожаных переплетах с золотым тиснением… Музыка — утешение Дэриана, музыка — его подруга; фисгармония, как и спинет, — лишь инструменты, делающие музыку слышимой; без них она звучала бы только в его голове, такая красивая, такая чистая и точная; его неуклюжие маленькие руки не должны насиловать такую музыку, такая музыка не терпит предательства со стороны какого бы то ни было слабого смертного. Я, никогда не жившая, переживу тебя, обещают простые аккорды моцартовского «Рондо», и в этом — высочайшее счастье. Хотя Дэриану всего девять и он мал ростом для своих лет, «ангел-коротышка», как иногда дразнит его отец, он знает, что это правда, и счастлив, когда его пальцы летают по скрипучей клавиатуре, извлекая из нее дискантовые звуки, басовые звуки, обратные гаммы, мощные аккорды. В такие моменты руки живут отдельной от него свободной жизнью. У них — собственная воля, собственные желания. Женщина на дне болота поет, женщина на дне болота зовет, женщина на дне болота приказывает: Иди ко мне! Иди ко мне! Иди ко мне! Он слышит и не слышит, трепетное сердце колотится в панике, словно птица, посаженная в его грудную клетку, оно бьется, как бьются об оконные стекла птицы, случайно залетевшие в церковь, но он этого не слышит, он ни за что не отвечает, сейчас он не отвечает даже за младшую сестренку, которую обожает, его пальцы каким-то чудом летают, где хотят; это как в сказках Катрины, в которых события происходят сами собой и никто не в состоянии остановить их, никто не в состоянии их направить, никто не в состоянии их предсказать, вот так же и уставшие маленькие руки Дэриана скачут и резвятся где желают, он слышит пение женщины из болота и знает, что отец пошел к ней, но Дэриану запрещено к ней ходить, ему запрещено даже знать о ней, тем более — чувствовать близость к ней, он склоняется над клавиатурой старенькой фисгармонии в церкви Назорея Воскресшего и, словно во сне, грезит о детстве Дэриана Лихта.
Самый жестокий из этих снов снится не только Дэриану. Им одержимы все домашние. Его видят все дети по очереди — будто у отца есть дети где-то еще.
И настанет день (если они разочаруют его, если будут неуклюжими, плохо соображающими, трусливыми), когда он не вернется в Мюркирк.
Разве сам отец не намекал им на это?
Тому существуют и свидетельства: найденные ими дагерротипы, миниатюры и рисунки других детей… таких же, как они сами, и почти взрослых, и совсем маленьких, запеленутых в белое, на руках у матерей или нянь… Миллисент как-то заявила своим звонким сердитым голосом, что не важно, кто эти дети, все равно они — не Лихты. Но как-то в другой день, изучая найденную в сундуке со старой одеждой выцветшую миниатюру, изображавшую девчушку с такими же прекрасными мечтательными глазами, как у нее самой, с такими же, как у нее, белокурыми локонами, она со вздохом сказала: «А что, если она — действительно моя сестра! И в один прекрасный день папа позволит нам встретиться…»
Элайша вырвал миниатюру у нее из рук и долго смотрел на портрет со странной, едва заметной улыбкой, не то чтобы насмешливой, но и не вполне сочувственной. «Эта девочка скорее всего уже мертва. Как ты думаешь, сколько бы ей было лет в реальной жизни!..» — заметил он.
(Элайша всегда утверждал, что отцовские вещи — по крайней мере те, что сложены в церкви, — не принадлежат «реальному времени».)
Но он ошибается, не так ли? — ибо один из писанных маслом портретов, самый прекрасный из всех, изображает Софи, мать Дэриана и Эстер.
Этот портрет отец хранит в запертой кладовке в самой глубине церкви, в своем «склепе», как он ее называет. Он разрешает Дэриану и Эстер смотреть на него лишь в его присутствии, вероятно, боится, что они могут повредить пальцами его нежную, покрытую тонкими трещинками поверхность, если станут украдкой ласкать его… Когда настает час — а только отец знает, когда ему пора настать, — он ведет их в потайную комнату, дрожащими руками снимает пыльное бархатное покрывало и стоит перед портретом, ошеломленный и отрешенный, обхватив левой рукой плечи Дэриана, правой — плечи Эстер. О, это же их мама! Это бедняжка Софи, которая лежит, погребенная там, на их погосте! У детей глаза заволакиваются слезами, и поначалу они плохо различают изображение. На портрете Софи — снова живая, такая, какой они ее не могут помнить, здесь она — юная девушка, не старше двадцати лет, моложе, чем Терстон и Харвуд теперь. В изображении художника она невероятно красива — со светлой кремовой кожей, светящимися темными глазами, блестящими черными волосами, аккуратно зачесанными назад; на ее губах играет задумчивая улыбка; тем не менее спокойное, сдержанное выражение лица свидетельствует о ее зрелости и удивительной уверенности в себе. Как легко представить, что эта женщина, их мать, смотрит на них, что она узнает их, что интерес, светящийся в ее прекрасных глазах, свидетельствует о ее любви к ним. Дэриана и Эстер восхищает, что их мама не унизилась до того, чтобы одеться в чопорное, аляповатое платье, в каких щеголяют прочие дамы, изображенные на портретах, небрежно разбросанных по всей церкви; на Софи — элегантный костюм для верховой езды, сизо-серый, с высокими по-мужски плечами, с отделкой из черного бархата на воротнике и плиссированной белой блузкой. Под мышкой левой руки зажат хлыстик, будто она только что случайно зашла в комнату… и невзначай оглянулась, чтобы посмотреть в их сторону.
Ах, это вы? Ну, разумеется, я вас узнала. Вы, двое деток, — моя тайна, а я — ваша.
Отец тихим голосом объясняет, что их мать, разумеется, происходила из аристократической семьи. «Ее девичья фамилия Хьюм. Хьюмы из Нью-Йорка — старого Нью-Йорка — англо-голландско-немецкий род. Одно из крупнейших судостроительных состояний. Разумеется, они лишили Софи наследства из-за того, что она вышла замуж за меня, — говорит отец, глядя на портрет с таким напряжением, что дети пугаются, — как будто Абрахам Лихт был им не ровня! Как будто я, американец, не ровня любому другому живущему на земле мужчине! Но я увел ее у них, — добавляет он со смехом. — И разбил им сердца».
Отец громко дышит, словно только что взбежал по лестнице. Нельзя сказать, сердится ли он, или глубоко потрясен, или ведет себя подобным образом ради них. Чтобы преподать нам урок. Урок по космологии тех таинственных времен, что были еще до нашего рождения.
Эстер начинает ерзать; Дэриану материнское лицо вдруг кажется ужасающим, он не выдерживает взгляда этих глаз! Слава Богу, визит окончен. Отец снова почтительно натягивает на холст бархатное покрывало.
Вопросы задавать запрещается, но не запрещается играть (только осторожно) в старой церкви посреди папиного наследного имущества.
(Впрочем, не все вещи здесь наследные. Некоторые он называет «возмещением долгов». Другие — «дарами».)
Среди истершихся дубовых скамей, задвинутых по углам и заслоняющих даже кафедру и пекановый крест, множество сундуков, платяных шкафов, фарфоровых сервизов, потускневших серебряных подносов, хрустальных ваз, пластин цветного стекла; всевозможная мебель — диваны, стулья с изогнутыми спинками, столы, торшеры, кушетки, конторки, гигантские буфеты, канделябры с колышущимися подвесками; мраморные статуэтки; ковры разных размеров, туго свернутые и перевязанные потертыми веревками; секстанты, астролябии, телескопы, огромная карта Северной Америки в раме; глобусы, на которых целые континенты выцвели и стали почти не видны; мужская, женская и детская одежда — шляпы, смокинги, дорожные плащи, честерфилды, застиранные манишки, оторванные воротники, дамские платья, боа из перьев, кепи, пальто, меховые палантины, меховые шапки, даже костюм для верховой езды с элегантной, замысловато заломленной шляпкой; парики — о, сколько разных париков; а также баночки и тюбики с театральным гримом; документы, связанные с избирательной кампанией ДЖАСПЕРА ЛИДЖЕСА (было сказано, что он их дальний родственник, хотя они его никогда не видели), который безуспешно выдвигался в конгресс от вандерпоэлского отделения Демократической партии, штат Нью-Йорк, в 1902 году; шкатулки для сигар, не менее изящные, чем шкатулки для драгоценностей, набитые билетами и билетными корешками (от лотерей, бегов, поездок по железной дороге и на пароходах, от походов в «Метрополитен-опера»); стопка пожелтевших газет на пяти полосах со статьей «Советы Фрелихта по вкладам в строительство канала»; замусоленные, с загнутыми уголками «акции» таких компаний, как «Панамский канал, лтд.», «Облигации свободной Северной Америки, инк.», «Бэнтинг. Товары из хлопка», «Медные рудники З.З. Энсона с сыновьями, лтд.», Общество по восстановлению наследия Э. Огюоста Наполеона и рекламациям, «Экспедиция Бирда», «Самолетостроительная компания Холоуэлла»; единственная красивая клюшка для гольфа; набор крокетных молотков с въевшейся в них грязью; старый выгоревший барабан; потускневший рожок — «собственность армии Соединенных Штатов»; скрипка с тремя провисшими струнами; флейта в плохом состоянии; картонная коробка с игрушками — разборными и набитыми опилками — змеями, фазанами, енотами, кроликами; полки с замусоленными книгами в кожаных переплетах — Гюго, Дюма, Гофман, По, полное собрание сочинений Шекспира, все произведения Мильтона, «Иллюстрированный „Дон Кихот“», книги с загнутыми страницами по медицине, сельскому хозяйству, некромантии, освоению Новой Голландии, разведению лошадей, изготовлению кабинетной мебели, потрепанная брошюра о гипнозе, научные труды по френологии, вегетарианству, астрологии, «Домашние лекарственные и рвотные средства», «Полное собрание поэтических сочинений Лонгфелло», «Сказки Севера», «Воспоминания Улисса С. Гранта», Словарь английского языка (с указателем наиболее распространенных рифм); приземистый деревянный ящик со всевозможной обувью — мужскими, дамскими, детскими туфлями, парадной обувью, рабочей обувью, высокими ботинками, домашними шлепанцами и т. п.; необозримые зеркала в золоченых рамах, там и сям прислоненные к стенам, отражали, казалось, ушедшие в небытие времена, по которым Дэриан и Эстер бродили на цыпочках, прозрачные, словно призраки, и страшащиеся поближе взглянуть на собственные отражения.
Какой это был удивительный мир, думал Дэриан. Он уже пробовал выразить его — или по крайней мере свои смутные ощущения — в маленьких музыкальных композициях. Мир вещей, унаследованных отцом, полученных им в уплату долгов, подношений от таинственных поклонников. Потому что, как, подмигивая, любил говорить отец, «мужчина или женщина, которые не обожают тебя, это мужчина или женщина, которые с тобой — пока — не знакомы».
И там же, внутри старой церкви, у передней стены, стоит фисгармония, на которой Дэриан в последний год научился играть, для чего надевал отцовские ботинки, чтобы хоть как-то доставать до педалей; это был грубый, крепкий, громкий инструмент, ничуть не похожий на спинет, принадлежавший Софи и стоявший в маленькой гостиной; Дэриану нравятся звуки, вырывающиеся из фисгармонии с диким, безумным торжеством, будто сам Господь пронзительно кричит через ее трубы. Дэриан разучил большинство гимнов из книги, которую дал ему преподобный Вудкок: «Господь — наша крепость», «Христос», «Христово воинство» и свой любимый «Ибо глас Божий — это радость, радость», который он обожал за сопрановые фиоритуры, напоминавшие звон падающих сосулек.
Заслышав, как брат играет на фисгармонии, Эстер застывает, и на ее маленьком, похожем на нежную камею личике отражается изумление; когда звуки с шумом обрушиваются мощным потоком, она смеется, зажимает уши крохотными ладошками и умоляет его перестать. (Если Дэриан умеет играть приятно, говорит она, почему же он не играет приятно? Он ведь знает, как она любит «Стрекочущих сверчков», которых он исполняет на пианино, стоящем в гостиной, мазурку «Шаровая молния», папины любимые марши, «Авьеморскую деву» или песню «Увези меня обратно в старую Виргинию», которую папа с Элайшей до хрипоты громко поют в унисон, — о том, как старые черные рабы… ну почему же он не играет приятно, ведь он умеет. На это Дэриан холодно, с уязвленной детской гордостью отвечает: «Музыка не должна быть приятной, она должна быть — музыкой».)
У младших детей, папиных деток-ангелочков, как он их называет, есть общая особенность: они боятся оставаться одни.
Но им нет необходимости оставаться одним, потому что они есть друг у друга.
Задавать слишком много вопросов запрещается, но отнюдь не возбраняется, напротив, даже приветствуется, чтобы эти умные любознательные дети читали друг другу вслух папины старые, покрытые плесенью книги в кожаных переплетах; при этом они могут выбирать себе какие угодно роли, «голоса». Это занятие приводит отца в восторг. Поощряет он и переодевание в разные костюмы, хранящиеся в кладовке. И надевание париков. А также разных туфель и ботинок. Там есть даже допотопный набор театрального грима, краски засохли и растрескались, кисточки затвердели, как палочки. С каким восторгом папа хохочет, глядя на своего младшего сына в торчащем черном парике и на младшую дочку в непомерно большой шляпе с цветами; глядя на детей в висящих на них шелковых сорочках и расшитых бисером атласных сюртуках, в юбках, задубевших от грязи… глядя на Дэриана с неумело нарисованными на верхней губе усами, на Эстер с нарумяненными круглыми щечками… какое детское веселье накатывает на него и как оно сменяется внезапным испугом: кто они теперь? кем стали? Вот этот мальчик в обтянутой шелком шляпе, с надменным видом шествующий через комнату, зажав под мышкой эбеновую трость, вот эта девочка в кружевном, украшенном лентами платье, едва поспевающая за ним, фыркающая и хлопающая в ладоши, словно бродвейская инженю… кто они теперь, в кого превратились?
«Они для Игры непригодны. Независимо от того, что я обещал их матери. У меня инстинкт на подобные вещи».
Однажды зимним вечером, при свечах, они услышали, как папа говорил это старшим детям, зажав в уголке рта едкую кубинскую сигару. Выражение лица у папы было хмурым, хотя и любящим. Никто, даже Милли, которая любила перечить, не пожелала оспорить папино мнение. Он обсуждал с ними планы, планы, предначертанные для них, «проекты», которые им надлежало воплотить в жизнь в предстоящие месяцы, «затраты», «состав действующих лиц» — он обсуждал их с красавцем Элайшей в рубашке с короткими рукавами, растянувшимся перед камином, словно ленивая эбеново-черная пантера; с Милли, одетой в шелковые брючки и вышитое в акварельных тонах кимоно, томно поглаживающей свои длинные, до пояса, волосы; с Терстоном в мятом костюме для верховой езды, мечтательно улыбающимся и покуривающим одну из папиных сигар; и с хмурым Харвудом, потягивающим эль из высокой кружки, — Харвуд бросил при этом на Дэриана и Эстер короткий взгляд, словно никогда прежде их не видел, и не проявил ни малейшего интереса к тому, подходят или не подходят они для Игры.
Папа никогда не отвлекался от мысли и имел привычку говорить о детях так, будто их здесь не было и они не слушали его с жадным вниманием и волнением; впоследствии Дэриану даже придет в голову: казалось, что сам Бог высказывал Свои мысли вслух, а мы находились внутри их. Рассеянно поглаживая тонкие детские волосы Эстер, водя указательным пальцем по подбородку Дэриана, папа философски размышлял: «Нет. Они не подходят. Да этого и быть не могло. Хотя они — дети Абрахама Лихта, они не такие крепкие, как вы». Папа обращался при этом к старшим детям, которые грелись в лучах его гордости, даже Харвуд, потягивая эль, перестал хмуриться, хотя морщинки у него на лбу остались.
— Катрина? Что папа имеет в виду, когда говорит, что мы не подходим для Игры? Что такое Игра? А, Катрина? — приставали к Катрине Дэриан и Эстер в последующие месяцы, когда ни папы, ни остальных родных не было в Мюркирке. И Катрина, пожимая плечами, отвечала:
— Никакой Игры нет, есть только жизнь. Ваш отец это прекрасно понимает, но не желает признавать.
— Но, Катрина, — умоляли они, дергая ее за рукава, — Игра, что это такое — Игра?
Однако Катрина, небрежно махнув рукой, уходила, а они, оставшись одни, смотрели друг на друга, сердитые и обиженные, потому что они — всего лишь маленькие глупые дети, которые никогда не узнают того, что известно их старшим братьям и сестре, и никогда не будут участвовать в Игре, в которую те играют, в чем бы эта Игра ни заключалась.
— Вот и я. Только — нет-нет, я предпочитаю побыть один. Спасибо, дорогая Катрина. Я сказал — один.
Забрызганный грязью, со множеством кровоточащих ссадин и царапин на лице, с искусанной москитами до красноты шеей, отец возвращается наконец домой после трехчасового блуждания по болотам. Громко хлопая дверьми, он направляется в заднюю часть дома, запирается в ванной, а в девять вечера садится за ужин с таким завидным аппетитом, что Катрина не успевает подавать ему еду, по крайней мере в достаточных количествах, хотя не отходила от плиты большую часть дня. Папа ест и выпивает несколько больших кружек пенистого эля; закуривает сигару и чувствует вдруг, как на него накатывает убийственная волна усталости.
Он не хотел, искренне не хотел, чтобы Ксалапу, прекрасную Ксалапу, пристрелили, это не входило в его план, действительно не входило, да простит Бог мою душу, если существует Бог и если у меня есть душа. Какая усталость! Счастье, что он не умеет долго горевать над своими ошибками. Абрахам Лихт вообще не из тех, кто долго горюет. Голова его падает на грудь, и Катрина вынимает сигару из его расслабленных пальцев. Со времен своего бродяжного детства, когда сама жизнь зависела от его бдительности и ловкости, Абрахам приобрел счастливую способность моментально засыпать, как только чувствовал себя в безопасности; сон приходил к нему не постепенно, а наваливался враз. Он — как контракэуерская сосна, хвастался Абрахам, волшебное дерево, которое, если верить молве, не имеет предела ни в росте, ни в глубине корней; контракэуерская сосна — дерево изысканной красоты и силы, оно может расти бесконечно — и бесконечно жить. (Если не вмешаются внешние обстоятельства.) Так же, как День манит Абрахама Лихта, пробуждая в нем воображение любовника, Ночь влечет его вниз, вниз, вниз, к сладострастной кульминации, приходящей во сне. Поэтому мне приходится все время гадать, кто же я: если Абрахам Лихт, обитающий среди теней, не есть мое истинное я, а дневной Абрахам Лихт — не самозванец.
Он спит десять часов кряду. Двенадцать часов. Четырнадцать.
Просыпается наконец, посвежевший и снова улыбающийся. Он целует крошку Эстер и маленького Дэриана, которые визжат от восторга, что папа снова к ним вернулся.
По будням с четырех до шести и с девяти утра до полудня по субботам Дэриан и Эстер занимаются с деревенским учителем. Ибо Абрахам Лихт не допускает и мысли о том, что его чувствительные дети-ангелы пойдут в мюркиркскую школу, где всего одна классная комната, в которой на уроках сидят восемь учеников самого разного возраста (иные из них — сущие хулиганы). Разумеется, когда может, он занимается с ними сам, так же, как в свое время с четырьмя старшими детьми: он преподает им естественные науки, грамматику и ораторское искусство, историю, гуманитарные науки, музыку, этикет, историю древнего мира, математику (как прикладную, так и теоретическую). Он читает им великие монологи из пьес Шекспира, в которых, по его мнению, в миниатюре содержится вся жизненная мудрость.
— Если вы знаете Шекспира, дети, вы знаете все.
Какое было бы счастье, если бы кто-нибудь из детей Абрахама Лихта имел актерский талант! Но Терстон оказался не способен быстро запоминать текст и произносил его настолько невыразительно, что больно было слушать; Харвуд — что с него взять — всегда имел хмурый вид и мямлил; Элайша без малейшего труда запоминал самые трудные стихи с первого раза, словно они впечатывались в его память, но читал их с раздражающей бойкостью, словно насмехаясь над высокой поэзией. (Ибо Элайша, похоже, был предназначен для сатирических ролей. «Под моей черной кожей — черная душа».) Была, конечно, еще Миллисент, очаровательная, хотя и несносная, она читала стихи так, будто это были народные песенки, с притворной серьезностью поджимая губы, морща свой гладкий лоб и заламывая руки на словах: «Прочь, проклятое пятно, прочь, говорю я тебе!» — чтобы изобразить муки совести леди Макбет, после чего вообще, подмигнув слушателям, сбивалась на интонацию Пола Дрессера:
И вот теперь Дэриана и Эстер заставляли учить непонятные возвышенные поэтические пассажи. Безо всякого удовольствия слушая их декламацию, Абрахам Лихт хмурился, потому что, как он и предполагал, эти двое его детей не годились для Игры: у них не было ни способностей к чревовещанию, ни склонности даже к самому невинному лицедейству. Дэриан, изо всех сил стараясь угодить отцу, лишь запинался, повторяя одни и те же строки; а шестилетняя Эстер была, пожалуй, еще слишком мала для подобных упражнений. При всей ее миловидности ей не хватало куража, чтобы выставлять себя напоказ, что так естественно получалось у Милли — живой, как огонь, умевшей придать взгляду задорный блеск.
— Впрочем, это не важно, — вздыхая, говорил отец, — потому что ни тебе, Дэриан, ни тебе, Эстер, никогда не придется покинуть безопасный Мюркирк, если вы этого не захотите; и суровые жизненные испытания вас минуют.
Удивительно, однако, что с учителем (которому, по слухам, Абрахам Лихт платил весьма щедро) у детей дела идут гораздо лучше; они стремятся к знаниям и любят читать. «Я лучше буду читать, чем делать что угодно другое», — с детской горячностью говорила Эстер. А музыкальный талант Дэриана не переставал восхищать преподобного Вудкока. Получил ли Дэриан этот талант в наследство? Был ли этот худенький робкий мальчик только сыном своего отца? Он испытывал некоторые трудности с нотной грамотой, зато играл «на слух» с незаурядной интуицией. Вудкок рассказывал друзьям, что мальчик, похоже, не подбирает по слуху, как все знакомые ему музыканты, да и он сам, но играет так, будто «музыка постоянно звучит у него в голове — как непрерывный, от истока до впадения в море, водный поток». В Мюркирке есть несколько довольно способных пианистов и органистов, большинство из них женщины, и сам Вудкок — образованный музыкант, но девятилетний Дэриан — нечто совсем иное. Он уже освоил популярный любительский репертуар, включающий «Последнюю надежду» Готшалка с ее мерцающими арпеджио, «Веселое катание на санях» Чвотала с его радостным перезвоном колокольчиков, «Сверчков» Лэнга, лихорадочную «Мазурку» Бера, множество торжественных тяжеловесных христианских гимнов, а также произведений таких признанных мастеров, как Спор, Мейербер, Моцарт и Рафф.
Однако больше всего влекли мальчика и будоражили его необычный талант двух- и трехчастные «Инвенции» Баха, которые Вудкок задал ему весьма неохотно. С каким напряжением, дрожа, склонялся он над стареньким инструментом в гостиной Вудкока; как натужно растягивал свои маленькие пальцы, потому что левой рукой охватывал пока лишь шесть, а правой — пять нот и еще не научился уловке изящно опускать октавы. Тем не менее Дэриан играет, играет, играет; если ошибается, настаивает на том, чтобы начать сначала и без ошибок сыграть все насквозь; удивительно видеть ребенка-перфекциониста. (Абрахам Лихт предупредил преподобного Вудкока, что Дэриану нельзя перевозбуждаться, он слаб, в раннем детстве перенес ревматическую атаку, и теперь у него проблемы со здоровьем.) В отличие от всех прочих учеников Вудкока Дэриан умоляет его давать ему трудные задания и требовать, чтобы он выполнял их не просто «хорошо», но «очень хорошо» — так как и следует играть эти произведения.
Иногда Дэриан приносит Вудкоку свои музыкальные композиции. Они кажутся тому очаровательными, хотя и озадачивают. Ноты написаны чернилами аккуратно, без единой помарки и исправлений; сочинения представляют собой подражания Моцарту, Чвоталу, Мейерберу, Баху, но весьма неординарны, и на слух кажутся нелогичными. Вудкок всегда в таких случаях говорит: «Очень многообещающе, Дэриан! Очень. Но тебе следует знать, сынок, чтобы не разочароваться впоследствии, что вся великая музыка для фортепьяно уже написана и написана европейцами. Американская же музыка „популярна“ и предназначена исключительно для детских упражнений».
Дэриан размышляет, закусив нижнюю губу; похоже, хочет возразить, но сдерживается. Тем не менее упорно продолжает сочинять свои странные маленькие композиции и показывать их учителю храбро, или, может быть, отчаянно, чтобы поразить его.
Запрещается расспрашивать о (Смерти)… потому что папа, как предупреждает Катрина, не в ладах со (Смертью); а у нее нет времени.
Однако не воспрещается, напротив, даже приветствуется, когда Дэриан сочиняет трогательную пьеску на смерть Старого Тома, деревенского кота; Дэриан, играя на флейте, возглавляет погребальное шествие на край церковного двора, Эстер потряхивает связкой маленьких мелодичных колокольчиков, а сама Катрина несет кошачий трупик, завернутый в красный шелк и помещенный в коробку. Папа, обожающий любые театральные действа, дымит сигарой и аплодирует: «Браво! Вот это правильно, мои дорогие».
Запрещается расспрашивать о (Боге)… потому что папа, как предупреждает Катрина, не в ладах с (Богом); да и у нее по этой части опыт не слишком утешительный.
Однако Дэриану и Эстер не воспрещается посещать воскресную школу и службы в методистской церкви, настоятелем которой является преподобный Вудкок; Дэриану не запрещается также, по крайней мере если папа об этом точно не знает, ходить на дальний конец Мюркирка и присутствовать на службах в лютеранской церкви, в епископальной церкви и находящейся в нескольких милях за Мюркирком деревянной церкви пятидесятников, где вспотевший улыбчивый преподобный Боги руководит своей поющей, хлопающей в ладоши и топающей ногами паствой: «Иисус — мой лучший друг», «Когда я смотрю на небо, Он смотрит на меня», «Маленький огонек моей души». Дэриан очарован пением. Его сердце бешено колотится. Я почти мог бы уверовать в Иисуса, моего спасителя, музыка была такая радостная.
Какая красивая, таинственная пара: неужели эта молодая женщина — Милли? А темнокожий мужчина — Элайша? Милли с элегантно уложенной в виде короны косой, в шляпе со страусовым пером, смеется, видя их изумление, и, высунувшись из окна двухместного автомобиля, кричит: В чем дело, вы что, не узнаете меня? Вашу собственную сестру, которая вас обожает? Ну-ка подойдите и поцелуйте свою Милли! От каждого — по поцелую! А из-за нее выглядывает мужчина, которого они поначалу не признали, хотя, конечно же, это должен быть Элайша, кто же еще, как не Элайша, пусть он и выглядит гораздо старше своего возраста в этих строгих очках в тонкой металлической оправе, в скромном матерчатом кепи и простом желтовато-коричневом костюме, с поседевшими волосами и сутулыми плечами… неужели это — Элайша? Оробевшая Эстер сосет палец, моргает и не решается подойти, Дэриан чувствует себя несколько более уверенно, а папа, наконец отбросив притворство, шагает к машине, громко хохоча. Тогда темнокожий мужчина ловко, как акробат, срывается с шоферского сиденья, отшвыривает в сторону очки, кепи и, расплывшись в своей знаменитой ослепительной улыбке, тянется к ним. Ну и ну! Дэриан, Эстер! Вы что же, не узнали собственного брата Лайшу?
Катехизис Абрахама Лихта
Преступление? Значит — и соучастие.
Соучастие? Значит — никакого преступления.
Никакого преступления? Значит — нет и преступника.
Нет преступника? Значит, нет и угрызений совести.
Все люди — наши враги, поскольку они — чужие.
Братья и сестры по крови являются братьями и сестрами по душе.
Вы сомневаетесь, дети? Вы никогда не должны сомневаться!
Сомневаться — значит заранее проиграть Игру.
Не ограничивайте себя в желаниях, но никогда не желайте впустую.
Земной шар можно представить себе размером с яблоко, которое можно сорвать и слопать!
(Тому, у кого хватит храбрости сорвать его и у кого крепкие зубы.)
Живого волка не измерить.
Прошлое? Это всего лишь кладбище Будущего.
Будущее? Это всего лишь чрево Прошлого.
Недостаточно быть уверенным в себе; нужно заставить других быть уверенными в тебе.
Первое убежище умного человека — Бог, их Бог.
Последнее убежище умного человека — Бог, наш Бог.
Никогда не раскрывайте своей стратегии, если можно убедить другого, что он уже раскрыл ее.
Мир делится на дураков и подлецов? Да, точнее — на дураков, подлецов и тех, кто делит мир.
Проникнуть в душу другого — значит завоевать ее.
Проникнуть в душу другого — значит завладеть ею.
Жалость? Она влечет за собой трусость.
Угрызения совести? Они влекут за собой поражение.
Чувство вины? Это роскошь для дураков.
Джентльмен не марает перчаток, но не боится замарать руки.
Дама не раскрывает своих тайн, разве что за соответствующую цену.
Для нас, чистых, чисто все, что мы делаем.
Не бывает успеха без чьего-то проигрыша.
Не бывает проигрыша без чьего-то успеха.
Почувствовать боль другого — значит потерпеть поражение.
Подставлять другую щеку — предательство.
У Эзопа глупая лисица хвастается своим многочисленным потомством перед львицей и спрашивает, сколько детей у той. Львица с гордостью отвечает: «Только один — зато лев».
Никогда нельзя играть в Игру так, словно это всего лишь Игра.
Но и игровое поле нельзя пересекать так, словно это всего лишь «мир».
Тем, кто родился в мюркиркском болоте, суждено покорить Небо.
Костный мозг, дети, — наша пища.
Мы предназначены высасывать костный мозг и за это получать благодарность.
Но пусть никогда не искушает вас, дети, музыка собственного голоса.
Самообладание, самообладание и еще раз самообладание — и все призы будут нашими.
Умри за каприз, если это твой собственный каприз.
Честь — тайный предмет любого катехизиса.
Ибо там, где любовь, там не может быть расчета.
Ибо там, где расчет, не может быть любви.
И когда отвергается Игра, остается лишь мораль.
«Как на небе, так и на земле» — все предрешено на земле.
А раз предрешено, то и безвинно.
Ибо говорю вам, дети:
Преступление? Значит — соучастие.
Соучастие? Значит — никакого преступления.
И забрезжил свет во тьме, и тьма стала светом.
«Каинова печать»
Минул день, и минула ночь, а от Терстона — ни слова. Ни слова и от Харвуда. Абрахам Лихт прячет страх глубоко в сердце, думая: если я мужчина, я должен уметь принимать несчастье так же, как триумф.
Думая: однажды я опишу все это. «Исповедь моего сердца. Воспоминания Абрахама Лихта, американца». Я не скрою ни единого факта, каким бы постыдным он ни был. Я расскажу все откровенно и прямо. Не пощажу никого, особенно самого себя. Скорее всего это будет посмертная книга. Гонорар пойдет моим детям. И никаких псевдонимов, я — человек гордый. Что сделал, то сделал. И что сделано со мной, тоже сделал я сам.
Он еще не знал, как стремительно надвигается на него несчастье, хотя уже бродил по болотам, посасывая для храбрости сигару и в уме сочиняя иные, наиболее драматические, эпизоды своих будущих воспоминаний. И вот настали времена, когда семья оказалась в опасности из-за грубой, дурацкой ошибки наименее талантливого из моих сыновей…
Десятый час жаркого, дышащего адской серой летнего вечера, но семья все еще сидит за столом; во главе — Абрахам Лихт, рядом — Катрина в фартуке; маленьким Дэриану и Эстер позволено лечь попозже в виде исключения (потому что торжества продолжаются); красивое лицо Милли пылает в отблесках горящего в камине пламени, ее волосы больше не заплетены в косу, а свободно ниспадают на плечи; а Элайша, жизнерадостный Элайша, настоящий денди в рубашке с расстегнутым воротником, без галстука, с лицом, на котором играют огненные блики, ради Дэриана и Эстер снова рассказывает историю поразительных похождений в Чатокуа-Фоллз пресловутого Черного Призрака, которого полиция полудюжины штатов преследовала за его «негритянскую дерзость» (так характеризовала его подвиги херстовская печать), выразившуюся в наглом ограблении трех белых на сумму в 400 000 долларов. Дети слушают с широко открытыми глазами, поглядывая на отца, чтобы понять, как он относится к этому рассказу, потому что знают: грабить — нехорошо, разве не так? Но получается, что иногда грабить — восхитительно? Даже Катрина, не одобряющая подобных «басен», как она их называет, не может удержаться от смеха, закрывая лицо фартуком. А Милли время от времени вскрикивает от восторга, хлопает в ладоши и восклицает, что хотела бы быть свидетельницей такого преступления: «То есть чтобы Черный Призрак ограбил меня самое до нитки».
Элайша, наслаждаясь вниманием семьи, нахмурившись, замечает:
— Все говорили, что грабитель — настоящий джентльмен, хотя и негр. Выходит, такое возможно. А в сущности, это не только возможно, но так и есть. Поэтому у тебя, Милли, он не взял бы ничего. — И, обращаясь к сидящему во главе стола отцу, добавляет: — Ведь правда, папа, Черный Призрак грабит только тех, кто этого заслуживает?
Абрахам Лихт согласно кивает:
— Разумеется. Но таких много.
— Таких много! — ухмыляется Элайша и хлопает в ладоши.
В этом месте Дэриан невинно спрашивает:
— Но откуда ты знаешь, кто заслуживает, чтобы его ограбили? Как ты можешь их отличить?
Взрослые разражаются смехом, правда, добродушным.
— Да, — взволнованно подхватывает Эстер, — как ты можешь отличить? И потом — ты в них стреляешь? У тебя есть пистолет?
— Ну, Эстер, что ты такое говоришь, — восклицает Абрахам Лихт, не зная, смеяться ему или сердиться. — Разве маленькой милой девочке подобает воображать себе такое? Кто говорил о пистолетах? (На самом деле Элайша упоминал-таки о пистолете, который Черный Призрак держал в руках и которым угрожал, если верить тому, что писали газеты.) Кто говорил о стрельбе? Освободить дураков от излишней наличности — вовсе не то же самое, что стрелять в них; потому что в конце концов даже дураки не заслуживают того, чтобы причинять им боль. Более того, дураки нуждаются в нашей защите. Дурака, как овцу, нужно лелеять.
Продолжая прерванную мысль, Элайша говорит:
— Это щекотливый вопрос, Дэриан и Эстер, ибо проблема состоит в том, что из множества тех, кто заслуживает быть ограбленным — а в нынешних Соединенных Штатах ой как много «богатеньких», так называемый «правящий класс», — действительно подвергается ограблению лишь ничтожный процент; просто не хватает квалифицированных грабителей, чтобы выполнить эту задачу, ибо только они могут ее выполнять. Не с помощью оружия, а благодаря «деловой смекалке». Таким образом, налицо несправедливость. Диспропорция. Из сотен жителей Чатокуа-Фоллз, которые, несомненно, заслуживают того, чтобы их ограбили, ограбленными оказались только трое. Это несправедливо!
Взрослые снова смеются. Но Дэриан и Эстер лишь беспокойно переводят взгляд с одного на другого, уже поздно, глаза у них покраснели от усталости, от излишних волнений, охвативших обычно такой спокойный дом в Мюркирке, и от этого чувства — как же его определить? — игривой неловкости, от слишком сложной для них и затянувшейся шутки, или Игры, которую они не в состоянии понять. Непригодны для Игры. Заметив озадаченное и обиженное выражение лица Дэриана, Милли наклоняется, целует его и говорит:
— Не обращай внимания на их поддразнивания. Они всегда дразнятся. Придет день — ты только подожди — и ты сам будешь дразнить.
С момента возвращения домой Милли находилась под впечатлением, как она сама неоднократно говорила, «изумительного музыкального таланта» своего младшего брата. Она считала, что его нужно учить профессионально, отвезти в Нью-Йорк и определить в музыкальную школу. Нет, правда, он мог бы сделать карьеру, как своего рода музыкант-вундеркинд наподобие Тома Замба.
— Слушатели его обожали бы. (Абрахаму Лихту эта идея совсем не нравилась. Том Замб, говорил он, на самом деле просто лилипут. «А мой сын, надеюсь, — нормальный ребенок».)
Во всяком случае, утверждала Милли, она слышала немало профессиональных пианистов, которые играли ничуть не лучше Дэриана, а многие — гораздо хуже. Дэриану будет всего десять лет, к тому же он с легкостью сойдет за семи- или восьмилетнего.
— А я могла бы представлять его слушателям. У меня даже есть кое-какие соображения по поводу его костюма и того, как осветить сцену свечами, — говорила она.
(В первый вечер по возвращении Милли и Элайши домой Дэриан играл для них на спинете в гостиной несколько произведений, разученных с преподобным Вудкоком, а также «Инвенции» Баха; во второй по их просьбе он сыграл одну из своих композиций — «Добро пожаловать домой». Это было странное сочинение, вдохновенное и торжественное, шумное и сдержанное одновременно, с длинными пассажами летящих арпеджио и громоподобными гаммами, его руки так и летали по клавиатуре. Разумеется, ни Милли, ни Элайша не поняли его пьесы, отец и Катрина и того менее, но все равно энергично аплодировали. В третий вечер Дэриан исполнил еще одно из своих произведений под названием «Теперь мы счастливы», на сей раз — на гармонике и сооруженном им самим оригинальном барабане, который управлялся с помощью ножных педалей, а Элайша стоял рядом и подпевал без слов удивительно высоким голосом. Соперничающие мелодии контрапунктом то взмывали вверх, то обрушивались вниз, они возникали словно бы ниоткуда и, постепенно затихая, тонули в тишине… словно финальная нота была потеряна.
— Дэриан, как это странно! И как прекрасно, — сказала Милли, бурно аплодируя, хотя в глазах у нее затаилось сомнение. — Но когда ты начнешь свою сценическую карьеру, тебе, знаешь ли, придется исполнять реальную музыку, сочиненную реальными композиторами. Музыку, которая должна услаждать слух аудитории, а не только твой собственный.)
На следующий день отец отвел Дэриана в сторону и, к облегчению последнего, велел ему не обращать на слова Милли никакого внимания.
— Сестра, конечно же, желает тебе добра, но у нее, как и у Элайши, все выходит так естественно, она смущает тебя, воображая, что карьера Тома Замба подходит тебе, как, возможно, подошла бы ей. Но ты не волнуйся, сын, у твоего отца нет намерения отдавать тебя в холодные руки какого бы то ни было профессионала, по крайней мере без твоего согласия и на долгое время. Потому что я обещал твоей матери… а я человек, который не нарушает данного слова.
А потом домой вернулся Харвуд.
Они сидели в уютной столовой, освещенной пламенем камина, за старым дубовым столом, единственным в мире столом, как говорил Абрахам Лихт, за которым он чувствовал себя в безопасности, когда снаружи, за домом, вдруг послышался шум, потом громкий стук в дверь, Элайша вскочил, чтобы открыть дверь, потому что дом Лихта был единственным в Мюркирке домом, в котором двери и окна были обычно заперты, и там, на пороге, изможденный и оголодавший, появился Харвуд. Он проковылял через кухню.
Уставился на отца. Его дикие, налитые кровью глаза были прикованы к отцу.
Словно в комнате больше никого не было — только отец.
Отец, пораженный явлением Харвуда, вскочил на ноги, но поначалу не сделал ни шага к нему.
Харвуд пробормотал, что прошел пешком черт знает какой долгий путь.
Ему, с горечью сказал он, чертовски не повезло.
Он не виноват. Ни в чем. Виноват — отчасти — Терстон. И отцовский «кузен» из Балтимора, который подвел его.
Он не хочет сейчас об этом говорить, черт побери.
Нет, он не ранен.
И не болен.
Просто устал.
И умирает от голода.
Чертовски голоден.
Элайша хотел усадить брата за стол, но Харвуд стряхнул его руку и набросился на еду стоя, хватая ее руками; он наливал себе эль в неимоверных количествах и лакал громко, как изможденная жаждой лошадь. В ошеломленном молчании вся семья взирала на Харвуда. Отец продолжал стоять, нащупывая спички, чтобы зажечь погасшую сигару. Младшие дети поначалу даже не были уверены, что этот всклокоченный человек — их брат Харвуд, только голос его был знакомым и этот безжалостный сердитый смех. Борода у него отросла и торчала, как иглы дикобраза, в том, как напряжены были его разбитые губы, угадывалась ярость, левый глаз распух и заплыл. Харвуд сел на подставленный ему Катриной стул и, низко склонившись над тарелкой, продолжал есть разогретый суп, который Катрина принесла ему с тем выражением страха и любви на лице, которое всегда появлялось у нее при виде Харвуда, еще с тех пор, как он был мальчишкой; потому что из всех детей Абрахама Лихта именно Харвуд казался обреченным на боль — на то, чтобы причинять ее и страдать от нее. Однако в отличие от братьев Харвуд почти не обращал внимания на старую женщину, казалось, он даже не замечал, из чьих рук принимает пищу, — лишь бы его кормили.
Элайша смотрел на брата с презрением: они не дружили, достаточно было того, что им приходилось быть братьями. Милли с усилием, которого не могла скрыть, попыталась быть любезной:
— Мы скучали по тебе, Харвуд. И вот ты здесь.
Но Харвуд, продолжая шумно поглощать еду, откусывая огромные куски прямо от хлебного каравая и запивая их колоссальными глотками эля, только пожал плечами.
Тем не менее Милли продолжала, потому что молчание отца нервировало ее. Она спросила Харвуда, есть ли новости у него о Терстоне, и тогда Харвуд, подняв глаза от тарелки, метнул в нее злобный взгляд и заявил, что давно не видел Терстона.
Наверное, с самого марта.
А может, и с февраля.
— Какого черта ты меня спрашиваешь о Терстоне? Я ни черта не знаю о Тер-сто-не.
Говоря, он не переставал жевать, и казалось, что сарказм, точно жеваный мякиш, перекатывается у него во рту.
Милли заикнулась было, что он ведь сам только что говорил о Терстоне, винил его в своих неудачах, но, увидев налившиеся кровью глаза брата, быстро замолчала. Прелестная белокурая принцесса, даже здесь, в Мюркирке, под неусыпным наблюдением отца, не ровня такому американскому мужлану, как Харвуд.
Абрахам Лихт по-прежнему хранил молчание.
Потому что знал. Он знал. Он знал. Из-за дурацкой грубой ошибки наименее талантливого из его сыновей…
Видя, как все наблюдают за ним, Харвуд, глядя на отца полными страха глазами, и одновременно с вызовом, хрипло расхохотался и сказал, что, возможно, Терстон сбежал со своей любовницей, наверное, у них медовый месяц и они уже плывут куда-нибудь в Вавилон или на Мадагаскар — куда там ездят в свадебные путешествия — и, может быть, никто никогда больше не услышит о Терстоне: разве он, Харвуд, в этом виноват?
Тяжелый хриплый смех. Жирные потеки на подбородке.
Но, заметив выражение отцовского лица, он неожиданно смолкает. Шарит рукой в поисках вилки, та со звоном падает на пол.
Господи, какая вдруг накатила на него усталость. Какая усталость!
Он почти падает, но быстроногий Элайша успевает подскочить и поддержать его, мельком взглянув на отца, потому что отец и Элайша близки, как сиамские близнецы, так иногда кажется, у них одинаково устроены мозги, они мыслят одинаково, но сейчас отец усердно раскуривает сигару, лицо у него каменное. Элайша с Катриной провожают Харвуда в его комнату, его всклокоченная голова покоится на плече у Элайши, колени подгибаются, всхлипывая, он бормочет: «О Господи Иисусе, как я устал, я не виноват, черт побери, не виноват… никто не смеет винить меня».
Абрахаму Лихту удается наконец снова раскурить сигару, он бросает спичку на стол.
Эстер шепчет:
— Это не он… разве это он? Кто это?
Парень совершил зло, да, но еще непростительнее то, что он солгал отцу. Он солгал Абрахаму Лихту.
Лихт скрывает свое страдание. Этот болезненный толчок в сердце. Свой убийственный гнев.
И все же: это не может быть гнев. Ибо Харвуд, несмотря на все свои несовершенства, — безусловно, Лихт; его плоть, кровь и кость. Хотя мать его старших сыновей давным-давно предала Абрахама Лихта и он ее так и не простил, тем не менее он любит ее сыновей так же, как остальных своих детей. «Ибо я дал клятву». Ибо я их отец.
Поэтому на следующий день, когда Харвуд наконец выполз из постели, небритый, немытый, пропахший потом, словно загнанная лошадь, страдающий от тошноты, Абрахам Лихт позвал его в ту комнату в глубине дома, которую называл своим «склепом» и которая являлась для него и кабинетом, и библиотекой, там хранились стопки папок, коробки с документами и письмами и стоял трехфутовый сейф с наборным замком.
— Ладно, — сказал он без всякой интонации, — рассказывай, что случилось между тобой и Терстоном?
Виновато понурив голову, Харвуд быстро ответил:
— Что… что ты имеешь в виду, папа? Разве что-нибудь случилось…
— Отвечай мне.
Харвуд, все еще в оцепенении от одуряющего сна, оперся о стул, чтобы не качаться. Пряди грязных волос облепили ему лицо, и он нервно отбросил их назад. Пухлые губы изогнулись в подобии улыбки.
— Я что, вчера вечером сказал, что видел Терстона? Не может быть, чтобы я это сказал. А если сказал, то это была ошибка. Я имею в виду то, что я сказал, будто видел его.
— Харвуд, я спросил, что произошло между тобой и Терстоном?
Харвуд затряс головой, словно оглушенный пес.
— Что-то случилось… с Терстоном?
— Я ничего не знаю о проклятом Терстоне, — раздраженно ответил Харвуд. — Единственное, что я слышал, так это что он попал в какой-то переплет. В Атлантик-Сити, в том шикарном отеле, где меня быть не могло, поскольку я отправился в чертов Балтимор, чтобы работать на этой чертовой лотерее.
— В переплет? — резко повторил Абрахам. — Терстон? Каким образом?
— Не знаю!
— Отвечай мне.
— Отец, я уже сказал…
— Харвуд, неужели ты думаешь, что можешь обмануть меня? Ты мой сын; ты — мое творение. Когда ложь еще только зарождается в твоей голове, я уже это чувствую. Я ее слышу.
Харвуд смотрел на Абрахама Лихта с ужасом. Мясистая рука, тыльной стороной которой он начал было вытирать рот, застыла на месте, и он начал пятиться. Абрахам Лихт наступал на него. Харвуд покачнулся, словно готов был упасть в обморок, у него начали закатываться глаза.
— Смотри на меня, сын, — спокойно приказал Лихт. — И говори, что у тебя там, в душе?
И тогда Харвуд начал всхлипывать, заметно дрожа. Казалось, позвоночник у него обмяк, и он сказал прерывающимся голосом:
— Я не знаю, я его не видел… Черт, я шел, чтобы встретиться с ним, а он не пустил меня… не дал мне денег… отрицал, что мы с ним братья.
Абрахам Лихт схватил сына за широкие мускулистые плечи, чтобы не дать ему упасть, и так же спокойно приказал:
— Рассказывай.
— Отец, я не сделал ничего дурного… это он виноват…
— В чем — виноват?
— …он отрицал, что мы с ним братья, папа!.. Он заставил меня просить у него милостыню…
— Говори мне правду.
Харвуд стоял онемевший, его расквашенное лицо исказила гримаса, которую можно было с натяжкой принять за гримасу стыда. От его скрючившегося тела шел запах, хорошо знакомый Абрахаму Лихту, запах загнанного в западню зверя. Даже теперь, когда точно знаю, не могу поверить. Ведь до сих пор мы собирали такой богатый урожай.
Именно в этот момент Абрахам Лихт заметил странную отметину на лбу Харвуда — то ли тень, то ли порез. Он подтащил сына к окну, чтобы лучше рассмотреть ее при свете.
— Харвуд, что это? Эта отметина? Когда она…
Харвуд запаниковал и отшатнулся от отца, не смея, впрочем, убежать, он опустился на колени и по-детски протянул руки, словно защищаясь. Лицо у него сморщилось, и он зарыдал, отрывисто, тяжело всхлипывая. Схватив Абрахама за руки, запинаясь, он молил о пощаде:
— Папа, это Терстон виноват, не я! Терстон, а не я, — убийца! Это Терстон ее задушил.
Немой
Он бежал на север, вдоль широких песчаных пляжей, мимо бухты Ойстер, гавани Литл-Эгг, залива Барнегат; он бежал на запад, в дикое бездорожье Сосновой равнины, где можно было прятаться не только несколько дней, но и несколько лет; неблагоразумно (ибо теперь он был истощен голодом и почти бредил от лихорадки) он бежал на юг, мимо Батсто, мимо озера Мейкпис, мимо Вайнленда… где наконец, на четвертый день погони за убийцей миссис Уоллес Пек, его и настигли.
Настигли постыдно, как заурядного преступника, пустив по следу бладхаундов. Полицейские стреляли в него, ранили, били, пинали ногами, надели наручники и с победным видом отвезли в Атлантик-Сити.
КРИСТОФЕР ШЕНЛИХТ, «жених» МИССИС УОЛЛЕС ПЕК.
КРИСТОФЕР ШЕНЛИХТ, убийца МИССИС УОЛЛЕС ПЕК.
КРИСТОФЕР ШЕНЛИХТ, молча стоящий перед судьей, едва заметно утвердительно кивая головой в ответ на вопрос, зовут ли его Кристофер Шенлихт, едва заметно отрицательно качая головой в ответ на вопрос, был ли у него сообщник в этом отвратительном преступлении.
КРИСТОФЕР ШЕНЛИХТ (нераскаявшийся? оцепеневший от горя и ужаса? ослабевший от раны в левом плече?) молча выслушивает свидетельские показания… маленькой служанки-филиппинки (которая от страха спряталась в платяном шкафу в соседней комнате, «так как знала, что следующей он удушил бы меня»), администратора «Сен-Леона» (который с таким елейным подобострастием относился в прошлом к Элоизе и Кристоферу) и многих других свидетелей, включая милейшую миссис Эймос Селлик, которая некогда, как казалось, симпатизировала ему…
КРИСТОФЕР ШЕНЛИХТ, о котором ходило столько официальных и неофициальных слухов, — кто он? Как познакомился с женой Уоллеса Пека? Откуда приехал, почему ни один округ не может подтвердить его свидетельство о рождении? Неужели у него нет семьи, с которой он хотел бы связаться?
КРИСТОФЕР ШЕНЛИХТ стоит молча, упрямо не желая ни признавать, ни отрицать обвинение в том, что он убил («с особой жестокостью и заранее обдуманным намерением с целью грабежа») несчастную женщину, в высшей степени глупую женщину, которая всего неделю назад публично объявила его своим «женихом»… упрямо не желая делать официальное заявление о своей невиновности и не имеющий права по закону признать себя виновным, потому что признание себя виновным равносильно самоубийству, которое запрещено законами штата Нью-Джерси.
КРИСТОФЕР ШЕНЛИХТ, немой, неподвижный, несомненно, «бессердечный», «черствый», «дерзкий», выслушивает сообщение, что наказание за его мерзкое преступление предусматривает смерть через повешение.
КРИСТОФЕР ШЕНЛИХТ, немой.
Убитый горем отец
В последующие девять месяцев после ареста Терстона, предъявления ему обвинения в ходе длившегося четыре дня суда и долгих месяцев его содержания в тюрьме, вплоть до часа его «казни» в исправительном учреждении штата в Трентоне, Нью-Джерси, Абрахам Лихт не мог думать ни о чем и ни о ком другом.
Это оказалось самым тяжелым испытанием (грозившим обернуться самым тяжелым горем) в его жизни.
Ибо Терстон был дорог ему, как собственное дыхание, как биение собственного сердца, и он должен был быть освобожден.
Ибо Терстон, будучи джентльменом, не мог совершить вульгарного преступления, в котором его обвиняли, и он должен был быть освобожден.
Ибо, виновен или нет, он был Лихтом, первенцем Абрахама Лихта, а посему невиновным, и он должен был быть освобожден.
Не позднее чем через час после беседы с Харвудом Абрахам Лихт покинул Мюркирк, один, никому не сказав, куда направляется, и отсутствовал несколько дней.
За это время он убедился в следующем: женщина по имени Элоиза Пек действительно была убита в Атлантик-Сити; некто Кристофер Шенлихт, ее двадцатипятилетний любовник, подозревается в этом преступлении; Шенлихт уже арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве, и он ожидает суда; не существует никаких сведений о наличии у него уголовного прошлого, ничего не известно о его семье; газеты писали, что он «отказывается сотрудничать» с властями и «несомненно, виновен» в этом мерзейшем преступлении.
После этого Абрахам Лихт не предпринимает никаких попыток увидеться с сыном в тюрьме (по причинам, имеющим отношение к его собственному уголовному прошлому), но, действуя очень быстро, связывается со знакомым адвокатом, неким Гордоном Баллоком с Манхэттена (своим деловым партнером еще по временам деятельности компании «Медные рудники З.З. Энсона с сыновьями, лтд.»), и окольными путями доводит до сведения суда в Атлантик-Сити, что для защиты Кристофера Шенлихта создан весьма щедрый фонд, финансируемый анонимными донорами.
Затем он столь же стремительно возвращается в Мюркирк, впервые ощутив себя уже немолодым человеком.
«Сомневаюсь ли я? Нет, не сомневаюсь. Дрожат ли мои руки? Нет, не дрожат. Таков ли я, как другие? Нет, я не таков».
Теперь Абрахаму Лихту предстоит выработать стратегию, ибо теперь от его таланта зависит жизнь его сына и его собственная жизнь — тоже; теперь все, чем является Абрахам Лихт, должно принести плоды в его деяниях.
Дверь в его комнату постоянно заперта, опущенные жалюзи защищают помещение от раскаленной добела августовской жары. Он ест один раз в день, поздно вечером, ест то, что приносит ему Катрина, которая, можно быть уверенным, не станет задавать никаких вопросов, она, эта проницательная женщина, даже не взглянет на газеты, разложенные у него на столе. Когда он спрашивает ее (о Милли, Элайше, Дэриане, Эстер, а особенно о Харвуде, который скоро снова уезжает), она отвечает коротко, без тени осуждения. Разве они вместе не переживали и прежде тяжелые времена? Длительную агонию бедняжки Софи? Собственные неприятности Абрахама Лихта с законом и его последующее (тайное) заключение? Как бы то ни было, Катрине можно доверять.
«Дрожат ли мои руки? Нет, они не дрожат».
Покрасневшие глаза видят собственное мутное отражение в зеркале: их взгляд из-под насупленных бровей тускл и подозрителен; пальцы пощипывают бритый подбородок, губы, похоже, приобрели привычку шевелиться сами по себе…
Как Терстон мог забыть: джентльмен не марает перчаток, не повышает голоса, не поднимает руку на женщину!.. Как Терстон, самый неподходящий для этого человек, мог совершить такое преступление!.. Сломать шею беззащитной женщине.
Если, конечно, допустить, что на этот раз Харвуд не солгал.
Но Харвуд не посмел бы солгать своему отцу. Или посмел?
Предыдущие недели были неделями триумфа, исключительных удач, которые непременно следует описать в «Исповеди моего сердца», чтобы читатели бесились от зависти: ловко «опоенный» Полуночное Солнце с его самым профессиональным жокеем Пармели (с которым А. Уошберн Фрелихт ни разу лично не встречался); таинственное отравление малыша Тэтлока (с помощью какой-то травы семейства белладонновых); удачно подоспевший несчастный случай с Ксалапой (к которому Фрелихт не имел никакого, абсолютно никакого отношения, — ах, бедное животное!); честный выигрыш, составивший более 400 000 долларов, которые надежно хранятся теперь в собственной спальне Абрахама Лихта в ожидании момента, когда подвернется случай выгодно вложить их. А потом — блистательный дебют «Мины Раумлихт» и Элайша, доказавший, что в свои двадцать лет он так же ловок и умен, как сам Абрахам Лихт в его возрасте.
Но теперь Колесо, казалось, завертелось вспять, грозя разрушить все то, что Абрахам Лихт выковывал собственными руками из сущей пустоты.
Честь — предмет моего повествования.
Им — Бог; нам — Игра.
Много лет, в течение четверти века, с того самого утра когда родился Терстон, Абрахам Лихт в минуты праздности изводил себя мучительными размышлениями о катастрофе, которая может затянуть в свою воронку одного из его детей. Когда он с головой погружался в работу, делал замысловатые ходы в Игре, что ж, тогда у него не было времени давать волю пугающему воображению! — тогда у него едва хватало времени на самого «Лихта»! Но в коротких промежутках, случавшихся в его, так сказать, профессиональной деятельности, он, как любой человек, предавался постыдным страхам. Ибо его дети были воистину заложниками Фортуны — ведь он не мог полагаться лишь на свою безграничную любовь к ним.
«Думаю, собственная судьба мне в высшей степени безразлична, — размышлял он. — Потому что сомнительно само мое „существование“. Но существование моих родных, разумеется, вне всяких сомнений!»
(Хотя Элайшу нельзя было назвать в буквальном смысле слова «его родным» — плотью от плоти, кровью от крови, — он любил его так же, как остальных детей.)
В молодости, будучи страстным любовником, Абрахам Лихт часто думал, что отдает себя на волю женских капризов; но с годами пришел к убеждению, что по-настоящему его сердце всегда терзала лишь его собственная идея, а вовсе не женщины как таковые. Ибо существует ли женщина, даже самая очаровательная, вне пределов возбужденного воображения ее любовника?.. Были ли Арабелла, Морна, бедняжка Софи и одна-две другие так же значительны во плоти, как в его горячечном воображении? Две из них, Арабелла и Морна, еще живы, насколько известно Абрахаму; но они кажутся ему не более реальными и, уж во всяком случае, менее важными, чем умершая Софи. О, как жестоко они его предали!.. В том числе и Софи!.. А также несколько других — шлюхи, которых он напрочь забыл.
Однако женщины, «жены» Абрахама Лихта, подарили ему восхитительных детей, которые уже доказывали, пусть это и были первые робкие шаги, свое право на существование. Но если он потеряет Терстона — будь то на виселице или в изгнании, — разве не сможет он стать отцом новому сыну? Разве не сумеет найти другую жену, такую же красивую, какими были остальные, и дать жизнь еще одному, такому же чудесному созданию? Ведь Абрахам Лихт все еще в расцвете сил, он так же красив и полон энергии, как в лучшие годы своей молодости, а может быть, даже более красив и более силен; приобретенная с годами мудрость наложила свой отпечаток и на внешность: слегка посеребренная сединой, но все еще пышная шевелюра, обветрившаяся и начинающая покрываться морщинками кожа, более глубокий голос, печаль, заволакивающая взгляд мерцающей слюдяной пленкой, одухотворенность во всей его идеально скроенной фигуре.
Разве он не все тот же Абрахам Лихт, самый выдающийся из мужчин? И разве не может он снова быть любовником, женихом, отцом, высоко поднимающим вверх, к небу, свое дитя, — словно бы в дерзкой надежде, что сам Господь опустит длань Свою на его головку?..
— Папа, посмотри сюда!
Что это? Терстон здесь? Да, только еще маленький, в коротких штанишках, в курточке и полосатом школьном галстучке; его белокурые волосы сияют в невинном солнечном свете; лицо покрыто здоровым загаром, глаза светятся, на милом личике от радостной улыбки появляются ямочки… Он тихо подкрадывается к няне-ирландке, чтобы неожиданно вырвать у нее ручку детской коляски… той симпатичной коляски цвета перламутра, украшенной розовыми лентами и бельгийскими кружевами, в которой сидит во всей своей младенческой красе Миллисент!.. И, подняв головку, везет коляску вдоль тротуара навстречу Абрахаму Лихту, который ждет его…
Какое потрясение увидеть сына снова ребенком, и таким маленьким: не старше девяти лет. А это значит, что семья живет сейчас в коричневом каменном трехэтажном доме в одном из лучших жилых районов Вандерпоэла; у них снова много денег — по крайней мере на ближайшие десять — двенадцать безумных месяцев, — и они могут позволить себе покупать одежду самого высокого качества, путешествовать в пульмановском вагоне, посещать оперу, иметь персональную служанку для Морны и няню-ирландку для ребенка, послать Терстона и Харвуда в частную епископальную школу для мальчиков и жить в этом элегантном доме, где Абрахам Лихт может принимать своих деловых партнеров и потенциальных инвесторов в… кажется, тогда это были медные рудники? Или к моменту рождения Милли в 1892 году он уже затеял сомнительную аферу с компанией «Плантации сахарного тростника. Сантьяго-де-Куба»?
Неверная Арабелла, мать его сыновей, уже исчезла из жизни Абрахама Лихта; ее место заняла мисс Морна Хиршфилд, дочь пастора, болезненная молодая женщина, которая со слезами поклялась, что она до последнего дыхания будет любить Абрахама, следовать за ним, куда бы он ни шел, и станет истинно христианской матерью для его старших сыновей… И вот Терстон, с ямочками на щеках, охрипший от крика, бежит к отцу, требуя его полного внимания; он так радуется собственной шалости, что, кажется, совсем не замечает того, что Абрахам Лихт во плоти отсутствует на залитом солнцем тротуаре, а лишь наблюдает за происходящим из некой мрачной дали времен.
— Папа, посмотри сюда!
Неожиданно время перескакивает, и Абрахам Лихт видит Терстона еще более маленьким, Арабелла высоко поднимает его на руках к окну камеры, у которого Абрахам Лихт, или человек, очень на него похожий, стоит, дрожа (потому что в проклятой камере холодно и Абрахам страдает от бронхита, а его кузен «барон» Барракло подпишет долговое обязательство не раньше, чем через двое суток); место действия — Поухатасси-Фоллз, кажется? Или Мэрион, штат Огайо?
Как это может быть? Арабелла, с непокрытой головой, вызывающая, снова молодая, слезы текут у нее по щекам, она стоит, широко расставив ноги, с укором протягивая к окну бьющего ножками ребенка — их ребенка, — в то время как младший, Харвуд, едва научившийся стоять, цепляется за ее юбку и вопит. Миссис Абрахам Лихт, слегка навеселе, пришла навестить своего мужа. Она стоит в грязном тюремном дворе под мелким весенним дождем так, что любой праздный заключенный может созерцать ее и насмехаться над ней, принимая ее за то, что она есть. Абрахам клянется, что никогда не простит ее, он не сможет этого простить.
— Папа, помоги!
Вдруг они оказываются в тускло освещенной гостиной нынешнего дома, здесь, рядом: Терстон и Харвуд, еще мальчики, довольно свирепо дерутся — вот они на полу, наносят друг другу быстрые тяжелые удары, ругаются, как взрослые мужчины, задыхаются, катаются по полу среди мебели, тузя друг друга… Вот Терстон с раскрасневшимся лицом оказывается сверху, потом Харвуд, они врезаются в спинет, переворачивают любимый столик Софи…
— Папа! На помощь! Он меня убивает, помоги! — кричит, корчась от боли, Терстон, между тем как разъяренный Харвуд впивается зубами ему в горло прямо под подбородком. Хватка у него мертвая, как у бульдога, сам он не разомкнет зубы, не разомкнет, не разомкнет! — пока Абрахам Лихт не схватит его за волосы и не ударит головой о ковер.
Какая омерзительная сцена. Очнувшись, он тотчас забывает ее так же, как сумел забыть в реальной жизни — много лет назад.
Почему же теперь, когда молодой Лихт впервые в своей жизни влюблен, он чувствует такое раздражение?
Шел 1884 год, двадцатитрехлетний Абрахам Лихт был посредником пирамиды «Часы и драгоценности по почте, лтд.» (с офисом и «складами» в Порт-Орискани, штат Нью-Йорк); начинающим журналистом, работавшим в газете «Республиканец Порт-Орискани», издатель которой был его наставником; актером-любителем, однако «с известным сценическим талантом» (как было сказано в рецензии «Республиканца» на местную постановку популярной мелодрамы «Неверный муж», где Абрахам Лихт исполнял роль второго плана); жизнерадостным, хорошо воспитанным, общительным молодым человеком, весьма зрелым для своего возраста, выпускником Гарварда (или Йеля?), хорошо разбирающимся в винах, лошадях, покере, музыке, политике — или по крайней мере умеющим с жаром рассуждать на эти и многие другие темы.
Каково на самом деле было происхождение Абрахама Лихта? Организатор «Пирамиды, лтд.» (сам молодой человек тридцати двух лет) считал, что его молодой друг приехал «откуда-то с Востока» — из Массачусетса или, возможно, из Коннектикута. Издатель «Республиканца», уроженец долины Чатокуа, утверждал, что слышит в говоре Лихта диссонирующие интонации и гундосый акцент уроженца долины. Миссис Арабелла Дженкинс, чьим любовником он стал, была посвящена в тайну о том, что после алкогольного срыва, случившегося с его отцом, богатым банкиром из Бостона, занимавшим видное положение в обществе (фамилия Лихт лишь приблизительно соответствовала его истинно тевтонскому имени), молодой человек лишился наследства: деньги, положенные на его имя, ушли на оплату хитрых юридических уловок; здоровье Абрахама было хоть и временно, но так серьезно подорвано, что, к великому своему сожалению, он был вынужден уйти с факультета богословия Гарвардского университета всего за семестр до его окончания.
Прибыв в Порт-Орискани дневным рейсом почтовой кареты осенью 1883 года, он никого не знал в этом двадцативосьмитысячном городе и не имел никаких рекомендаций. Тем не менее уже через полгода он был знаком здесь почти со всеми, с кем знакомство водить стоило. Привлекательного молодого холостяка приглашали на ужины в клуб «Колизеум», а также во множество частных домов (в том числе в дом мэра, пастора Первой конгрегационалистской церкви, самого известного в городе хозяина бюро ритуальных услуг, издателя местной газеты). Он пел в хоре конгрегационалистской церкви, добросовестно посещая все службы и репетиции; принимал участие в музыкальных вечерах и любительских театральных постановках, довольствуясь маленькими ролями и не затмевая местных талантов; обнаружил способность играть в покер в самой доброжелательной манере, проигрывая так же легко, как и выигрывая, к тому же выигрывая не слишком часто. Лихт показал себя знатоком чистопородных лошадей, хотя очень редко позволял себе делать ставки, поскольку считал, что игра на скачках ведет к деградации этого спорта королей; пользуясь благосклонным вниманием очаровательных молодых дам, не пренебрегал и их матерями, а также старшими сестрами; произвел на издателя «Республиканца Порт-Орискани» неизгладимое впечатление трезвостью и практичностью мышления, предложив весьма эффективный способ увеличить доходы от рекламы, а также посоветовав представлять в газете избранных политиков в наиболее благоприятном, «человеческом», свете, — словом, он мог бы сделать успешную карьеру в этом городе, если бы затея с «Драгоценностями по почте» не оказалась столь сомнительной, а его собственный темперамент — столь неугомонным…
(Хотя Абрахам Лихт был слишком молод, чтобы партия принимала его всерьез, к нему неоднократно обращались с вопросами о будущем: собирается ли он остаться в Порт-Орискани, планирует ли жениться на местной девушке и устроить свой дом здесь, нет ли у него желания… послужить обществу? Незадолго до того республиканцы понесли значительные потери в результате неожиданно завершившихся выборов в Кливленде, когда губернатором штата стал демократ, пришедший к власти благодаря выдвинутой им демагогической программе «реформ», так что они остро нуждались в свежей крови. Лидер республиканской фракции в конгрессе штата как-то отвел его в сторону, похлопал по плечу и по секрету сказал, что, если у него есть вкус к Игре — «а политика не что иное, как игра, сынок, все ее „успехи“ — это „от жилетки рукава“», — он мог бы легко проделать путь наверх через кабинеты округа и штата, потому что каждый год появляются вакансии: люди умирают, уходят в отставку или теряют расположение публики. На это дружеское «прощупывание», как и на многие другие в том же роде, Лихт отвечал с большим энтузиазмом и готовностью, однако уклончиво, ибо, как он сам признавал, темперамент у него был действительно неугомонный, и прежде чем осесть на месте, обзаведясь женой и детьми, он надеялся еще попутешествовать и пережить немало приключений.)
А потом то ли судьба так распорядилась, то ли это был немилосердный несчастный случай, но Абрахам Лихт страстно влюбился в миссис Арабеллу Дженкинс, молодую вдову одного известного местного адвоката и предполагаемую любовницу другого, и его так многообещающе начавшаяся карьера в этом городе резко оборвалась.
Они познакомились на музыкальном четверге в клубе «Колизеум», где исполнялись меланхоличные немецкие лирические песни, а также такие неизменные фавориты музыкальных салонов, как «Шепот ангела», «Возвращение в Ирландию» и «Дженни с русыми кудрями». Наибольший успех, однако, снискало на вечере сочинение Шуберта для фортепьяно, скрипки и смешанного хора (три мужских и три женских голоса), в котором блистала темноволосая красавица миссис Дженкинс, певшая глубоким, богатым, уверенным альтом и безо всякого манерничанья приковавшая к себе внимание всей аудитории. Ну разве не была она и впрямь восхитительна с этими карими глазами, обрамленными густыми ресницами, с блестящими черными волосами и статью, достойной Юноны?
Абрахам Лихт не отрываясь смотрел на Арабеллу Дженкинс и слушал именно ее так напряженно, что прочие голоса, казалось, стихали.
Эй, что бы это могло значить, что ее взгляд, так безразлично скользнув по нему, переключился на других?
Он не был знаком с ней, но многое о ней знал: ходили рассказы о ее романтических приключениях и разные слухи — что она потеряла своего весьма обеспеченного мужа всего через несколько лет после замужества, что детей у нее не было и что она не проявляет склонности к повторному браку; что недавно она стала тайной любовницей орисканского адвоката средних лет, пользовавшегося в городе заметным влиянием.
В некотором роде падшая женщина, но, безусловно, королева сборищ, подобных этому, имеющая, если Абрахам Лихт не ошибается, весьма высокое о себе представление и купающаяся в аплодисментах, несмотря на умело изображаемую скромность. (Как, должно быть, на самом деле приятны эти аплодисменты и крики «браво!» женщине, словно путами, оплетенной утомительными требованиями приличий, знающей себе настоящую цену и находящую подтверждение ей в окружающих восхищенных лицах.)
Стоя в сторонке, Абрахам Лихт продолжал с серьезным видом наблюдать за миссис Дженкинс, аплодируя вместе со всеми, но чисто механически; он испытывал к ней такое двойственное чувство, что не мог бы сказать, было ли это отвращение, нежность или гнев, смешанный со смущением.
И что же это все-таки означало, что она посмела так равнодушно посмотреть на него — и тут же перевести взгляд дальше?
(Что касается предыдущей интимной жизни Абрахама Лихта, его любовного опыта, увлечений, ухаживаний и т. п., то теперь ему казалось, что ничего и не было; во всяком случае, он ничего не помнил. Он вообще мало что помнил о прошлом, кроме того факта, что оно благополучно миновало и к настоящему, не говоря уж о будущем, не имеет никакого отношения; он был уверен, что все остальные склонны мыслить так же. Сделай он над собой сознательное усилие, которого, похоже, делать не собирался, — и он мог бы стереть из памяти все сколько-нибудь отчетливые картинки детства, помнил бы только то, что ему рассказали: о кузнеце и его семье, взявшей его на воспитание, о том, как в возрасте лет десяти его обнаружили бредущим по дороге от великой мюркиркской топи на юг, больного, в лихорадке, и, совершенно очевидно, потерявшего память; в столь плачевном состоянии он в течение нескольких дней не мог сообщить кузнецу даже своего имени.)
Абрахам Лихт продолжал смотреть на нее, унизительно краснея, — жар волной поднимался, казалось, из самого его нутра и покрывал багровыми пятнами лицо, уже через несколько минут, однако, сменяясь ознобом, — ему становилось холодно, так холодно, что он боялся начать клацать зубами. Что это с ним? Он болен? Сходит с ума? Неужели он мог влюбиться, как мальчишка, в женщину, на несколько лет старше его, любовницу другого мужчины?
О, как он противился ей заранее, с какой горечью и гордостью он противился желанию, которое вмиг сделало его таким уязвимым!
Что касается женщины, то напряжение вечера явно распалило ее — и телесно, и эмоционально: ее розовая кожа сияла от внутреннего жара, над верхней губой блестели бисеринки пота, пышная грудь вздымалась под шелковым лифом платья, она и впрямь, словно кошка, нежилась в расточаемых ей отовсюду похвалах; а цветущий господин, по слухам, ее любовник, стоял неподалеку вместе с ничего не подозревающей женой и тоже купался в лучах успеха Арабеллы Дженкинс, словно, по некой странной логике, это был его собственный успех.
«Но такого мужчины ей недостаточно, — в приступе гнева думал Абрахам Лихт. — Я ему покажу! Я ей покажу!»
Ближе к концу вечера Абрахам Лихт подошел к Арабелле Дженкинс, чтобы, как другие, выразить восхищение ее изумительным голосом, при этом он смотрел на нее с таким восхищением и так серьезно, даже не пытаясь хотя бы приличия ради изобразить на лице улыбку, что, обладая сама весьма чувственным темпераментом и будучи далеко не девушкой, склонной к обморокам, Арабелла не могла не ощутить исходящей от него жаркой волны желания и не понять его намерений.
Понизив голос, он сказал, что придет к ней на следующий день, но Арабелла, быстро обмахиваясь веером, ответила, что, к сожалению, это невозможно; тогда Абрахам поправился: он придет к ней не завтра, а сегодня же вечером, попозже, когда это сборище надоедливых старых дураков и притворщиков рассосется и они смогут наедине обсудить особенности музыкального гения Шуберта.
— Мне очень жаль, — резко выпалила Арабелла, и в глазах ее появился искренний испуг, — но это невозможно.
(«Ах, это невозможно? — повторял про себя Абрахам Лихт. — Что может быть невозможным для Абрахама Лихта, милая леди? Это? Вот это? Или, может быть, это? Что же это такое, что не дозволено Абрахаму Лихту, но дозволено другим?»)
Вот так Абрахам Лихт безумно влюбился впервые в жизни; обиду почти полностью заслоняло чувство столь сильное, что оно напоминало лихорадку, ибо эта женщина была бесконечно желанна, и она принадлежала ему.
Поэтому на рассвете мартовским днем 1884 года они без каких бы то ни было церемоний стали любовниками, необузданными любовниками.
Поэтому вскоре стало не важно, что Абрахам Лихт — всего лишь двадцатитрехлетний юноша без гроша в кармане и что Арабелле Дженкинс уже двадцать восемь и у нее есть хорошо обставленный дом и небольшой счет в банке.
Поэтому, опьяненным любовью, им вскоре стало все равно, известно ли всему свету — а точнее, немногочисленному избранному обществу Порт-Орискани — об их связи и осуждает ли он их или втайне восхищается их союзом как союзом двух благочестивых душ, незаурядно красивых, обладающих личным магнетизмом, умом, талантом и редким везением…
Поэтому с триумфальным появлением мужчины (Абрахама Лихта) полумужчина (пожилой покровитель Арабеллы) оказался отвергнутым навсегда, будучи не вправе даже предъявить претензий. («Хотя мне очень неприятно, — с горечью признался как-то Арабелле Абрахам, — что мужчина, какой бы то ни было мужчина, даже твой бывший муж, прикасался к тебе так же, как прикасаюсь я». «Ну что ты, мой дорогой, любимый мой, прошу тебя, не думай об этом», — умоляла в ответ Арабелла, покрывая его лицо поцелуями.)
Со временем они так осмелели от Любви, что готовы были открыто объявить себя любовниками — почему бы и нет? Почему бы, презрев обычай, публично не признать, что они — не двое, а одно целое, пара, какой в провинциальном Порт-Орискани никогда прежде не видывали?
Почему бы им не сбежать?
Почему бы не продать дом Арабеллы и не переселиться на Манхэттен, где каждый из них мог бы сделать сценическую карьеру, поскольку у Арабеллы был и певческий, и драматический дар, а у Абрахама — актерский талант и способности к разного рода публичным представлениям? (Обладая недурным баритоном, он мог бы также брать уроки пения.)
Так мечтали и строили планы любовники; судьба открывала перед ними все двери, если им достанет храбрости покорить новую территорию. Однажды вечером Абрахам Лихт дрожащим от возбуждения голосом прочел великий монолог Марка Антония, обращенный к египетской царице:
При этом он обнимал свою обожаемую Арабеллу так, словно бросал вызов их врагам. Арабелла была искренне тронута и спросила Абрахама, где он научился с таким чувством читать Шекспира; ее молодой любовник ответил, что на последнем курсе в Гарварде, зимой, заболев инфлюэнцей и несколько недель провалявшись в постели, он имел возможность полностью погрузиться в трагедии Шекспира и был околдован шекспировским гением. «Когда человек оказывается замкнутым в небольшом пространстве и в течение многих дней лишен свободы передвижения, — сказал он с напряженным выражением лица и горестно-суровым взглядом, словно речь шла о заключении более тягостном, чем просто прикованность к постели из-за простуды, — нет спасения лучше, чем поэзия, и нет поэзии лучше, чем поэзия Шекспира».
И вот в один апрельский день молодые любовники покинули Порт-Орискани — сбежали на Манхэттен и там пережили множество приключений. Как позже признается Абрахам Лихт в своих воспоминаниях, приключений было слишком много и они были слишком пестрыми, чтобы можно было их описать коротко. Но смысл состоит в том, что судьба нас не баловала. Сколько бы мы ни трясли, трясли, трясли кости, счастливые номера никогда не выпадали. И почему их надежды на успех на Бродвее раз за разом рушились? Если Арабелла получала приглашение в музыкальную постановку и была в ней чудо как хороша, спектакль все равно не имел успеха и его снимали с репертуара через несколько дней. Если Абрахаму удавалось наконец получить роль второго плана, можно было быть уверенным, что продюсер обманет и даже звездам ничего не заплатят. Один весьма уважаемый бродвейский антрепренер нанял их обоих, но не прошло и недели, как херстовские газеты обвинили его в эксплуатации молодых талантов, которых к тому же разыскивают в другом штате за двоеженство. В течение шести головокружительных месяцев деньги Арабеллы кончились, и Абрахаму пришлось, наступив на горло собственной гордости, хвататься за любую работу, которую удавалось найти, потому что, как он заявил Арабелле, он был слишком горд, чтобы телеграфировать своей семье в Бостон и просить о помощи, хотя к тому времени влюбленным уже приходилось постоянно переезжать из отеля в отель, каждый из которых был менее роскошным, чем предыдущий, и все меньше напоминал то, что они видели в своих первоначальных эйфорических мечтах.
Спустя некоторое время они начали ссориться. За ссорами следовали бурные и нежные сцены примирения. Потом — новые ссоры, после которых они снова прощали друг друга — с некоторым отчаянием.
— Несчастья мне не в диковинку, но я не привык, чтобы кто-то разделял их со мной, — признавался Арабелле Абрахам. — Я чувствую себя униженным. Страдает мое мужское достоинство. — Он мог бы также сказать, что прежде в периоды неприятностей он, бывало, быстро менял обстановку и бежал из города, даже не оглянувшись; он «составлял план», как выкарабкаться из сложной финансовой ситуации, и порой, когда вынуждали обстоятельства, заметал следы просто, но гениально. «Абрахама Лихта» никогда не опознавали. Но теперь, живя в таких стесненных условиях с Арабеллой, женщиной гордой, цельной и обладавшей сильным характером, он не мог не видеть, как страдание туманит взгляд ее прекрасных глаз. И его начинала терзать мысль о том, что в их несчастьях Арабелла винит его.
Они ссорились из-за денег, из-за того, куда переезжать дальше, из-за того, что Абрахам не желал смирить гордыню и попросить помощи у богатых родственников: ведь теперь, когда она ждет ребенка, со слезами говорила Арабелла, они могут сыграть на этом — разумеется, отец Абрахама, будучи джентльменом, сжалится над ними. Несомненно, и он, и мать Абрахама, милосердная, благовоспитанная дама, не будут настолько жестоки, чтобы отвергнуть своего еще не родившегося внука.
— Арабелла, прошу тебя, на эту тему — больше ни слова, — стиснув зубы, тихо говорил Абрахам. — Ты ничего не знаешь о моих родственниках, о трагической истории нашей семьи.
На что Арабелла с неожиданным цинизмом отвечала:
— А чья «история» не трагична, если поглядеть поближе!
И все же самые жестокие ссоры случались у них из-за того, что Абрахам называл неверностью Арабеллы: когда из каприза или просто от нечего делать она улыбалась другим мужчинам — а Арабеллу всегда окружали другие мужчины, — и достаточно было одного ее мимолетного взгляда, единственного тихо произнесенного слова или обворожительного движения брови, чтобы Абрахам тут же зачислил объект ее внимания в ее любовники.
Как многие влюбленные в подобных обстоятельствах, Абрахам корил себя за слабость: «Если бы только я так не любил эту женщину! Разумеется, вина здесь прежде всего моя, а не ее».
Ибо Абрахам Лихт от рождения обладал особой проницательностью, позволявшей ему понимать, что наше недовольство другими, вероятно, есть не что иное, как невысказанное недовольство самими собой.
Мужчина в силу своих сексуальных особенностей должен знать, что чары женской плоти не только способны провоцировать мужское начало, но и истощают его со временем. Сила Венеры Афродиты. Языческой богини, которая через земных женщин искушает мужчин и опустошает их. Эта богиня, как сверкающий солнечный луч, оживляет безжизненный, бесцветный пейзаж, она смотрит на вас глазами избранных женщин и пробуждает в мужчинах страсть, которую невозможно удовлетворить до конца. И так же, как солнечный луч, она непреклонно скользит мимо, бестелесная, бесплотная и… неверная.
«Но есть ли соучастники у этого преступления?» — лишь остается гадать уязвленному любовнику.
В начале лета 1885 года Абрахам решил, что им с Арабеллой нужно уехать с Манхэттена и пожить в долине Чатокуа, чтобы их ребенок родился в более подходящих условиях, а сам он мог бы заново попробовать силы в бизнесе.
— В конце концов, — сказал он Арабелле, немного смущенный тем, что прежние его обещания привели к столь ничтожным результатам, — мне нет еще и двадцати пяти.
Арабелла, как обычно, с легким укором, в котором (если только Абрахаму это не мерещилось), словно свернувшаяся клубочком змейка, таился любовный зов, ответила:
— Двадцать пять! Многие к двадцати пяти годам были уже мертвы, похоронены, и косточки их превратились в прах.
Итак, неугомонная пара переселилась в неотесанную деревню под названием Уайт-Салфер-Спрингс, где в самом начале суровой зимы 1885 года у них родился сын, Терстон. Оттуда они переехали в Контракэуер, потом в Маллигар, где родился их второй сын, Харвуд. Потом, поскольку неудачи продолжали преследовать их, — в маленький городок Поухатасси-Фоллз, где Абрахам потерпел постыдное поражение в деловой карьере.
(Хотя, несмотря на то что он был арестован и вынужден провести двое мучительных суток в местной тюрьме, виновным его не признали. Как свидетельствуют архивы.)
В общей сложности они с Арабеллой прожили вместе пять бурных лет. Официально они так и не были женаты, хотя Арабелла родила двух здоровых мальчиков и большинство соседей считали их мужем и женой. Вначале Арабелла страстно желала, чтобы они поженились, но по мере того, как шли годы и они ссорились все больше, надежда ее меркла, и в конце концов она перестала даже думать об этом. А может быть, она никогда этого, в сущности, и не хотела. Потому что, будь она женой Абрахама Лихта по закону, который всегда определенно на стороне мужчин, ей, пожелай она того, никогда не удалось бы так легко уйти от него.
Ибо хоть Арабелла и любила неистового Абрахама Лихта, красавца, на которого женщины заглядывались на улице, она верила, что ради спасения души, а также ради физического здоровья (еще одной беременности она не перенесла бы — во всяком случае, в таких нищенских условиях) она должна его покинуть.
Их совместная жизнь была непостоянна и непредсказуема, и Арабелла никогда не чувствовала себя счастливой в течение сколько-нибудь длительного времени. Да и материнство ее не влекло: голодные дети постоянно «требовали» ее, так же, как и муж.
«Какие они ненасытные, — думала Арабелла с трепещущим в панике сердцем, — смогу ли я их удовлетворить? И какой ценой?»
Если порой они были нищи, неприкаянны и служили объектом общественных подозрений, то временами то или иное предприятие Абрахама или какой-нибудь его выигрыш приносили им кучу денег, и они опять-таки становились объектом подозрений. Либо они ужинали с экстравагантным шиком, как считала Арабелла, либо не ужинали вовсе. Они покупали дорогую одежду, которая в считанные недели превращалась в их единственное сохранившееся имущество. Они либо путешествовали первым классом, либо не путешествовали совсем — разве что переезжали, обычно тайно, под покровом ночи, с одного места на другое. Абрахам то боготворил ее, то, безо всякого предупреждения, начинал обливать презрением как соблазнительницу, которая позволяет другим мужчинам «ухаживать за ней, ласкать ее взглядами и мысленно предаваться с ней любви» и которая в какой-то мере обманывала его даже с сыновьями. Ибо разве не любила она Терстона и Харвуда больше, чем его? Когда он тайком наблюдал за своей семьей, разве не казалось почти очевидным, что без него они более счастливы, более непринужденны, чаще смеются? «Рожденные из ее плоти, гораздо теснее связанные с ней, чем любой муж, дети узурпируют мое место, — терзался Абрахам. — Если бы я мог из собственных чресел дать жизнь детям, только тогда я был бы уверен, что они преданны мне».
Арабелла отвергала подобные фантазии, как она их называла. Если же, выпив лишнего, Абрахам настаивал, она выходила из себя и говорила то, что неизменно приводило ее молодого мужа в бешенство:
— Знаешь, что с тобой происходит? Ты сходишь с ума.
Для него это было глубочайшим оскорблением. И как реагировать на такое обвинение? Он вспыхивал от досады и в ответ разражался язвительными филиппиками.
(К тому же Арабелла была неискренна, как однажды обнаружил Абрахам. Она из месяца в месяц, из года в год, сколько могла, прятала деньги, добытые из неизвестных источников; побуждала Абрахама покупать ей дорогие украшения, когда у них были средства, и всячески разжигала в нем «жажду тратить». Словно планировала стать истинной женщиной, когда представится возможность.)
Пять лет бурных страстей; приливы и отливы, и снова приливы следовали в соответствии с некой недоступной Абрахаму логикой.
И с горечью отверг я то, чего не мог постичь.
Что жизнь — это загадка, которую я не в состоянии разгадать.
Ибо загадывать загадки — предназначение, между тем как разгадывать их — судьба.
Его бесило то, что Арабелла была красивой женщиной, принадлежавшей ему, матерью его детей, и в то же время — исключительно независимой в мыслях и чувствах.
— Чего ты хочешь от меня и от мира, Абрахам? — часто спрашивала она его с претензией на женскую наивность. — Что тебе нужно, почему ты не займешься чем-то одним, не осядешь на месте, не заживешь спокойно? Почему, Господи помилуй, тебе непременно нужно желать столь многого? Ты как ребенок-великан, присосавшийся к материнской груди и слишком изголодавшийся, чтобы насытиться.
Это так ранило Абрахама и приводило его в такую ярость, что он вмиг представлял себя в изысканных одеждах на бродвейской сцене, в лучах прожекторов, в поединке с великолепной молодой женщиной, обворожительной, соблазнительной, но (как хорошо известно зрителям) двуличной. С непринужденностью любимца публики, уверенного в ее безграничном, слепом обожании, которое он полностью разделял, Абрахам обычно весело смеялся в ответ и говорил:
— Тогда выходи за меня замуж, дорогая. Завтра утром. Согласна?
— Ты шутишь или всерьез?
Абрахам снова смеялся. В его ушах звучал приглушенный гул одобрения зрителей, которых он не видел, но чье присутствие ощущал почти физически.
— Неужели ты не знаешь, что мужчина может шутить, оставаясь серьезным? И быть серьезным, шутя? Если бы ты хоть чуточку лучше понимала меня, Арабелла, ты бы это знала.
Арабелла заглядывала ему в глаза, пытаясь понять, как делали и будут делать многие другие. Сколь тщетны подобные попытки. Ибо душой моей не завладеть так легко.
— Да, — говорила она наконец со странной грустной улыбкой, — я знаю.
На следующий день после одной из таких сцен, ноябрьским вечером 1888 года, когда Абрахам уехал по делам, Арабелла сбежала из пансиона, где они жили в Вандерпоэле, оставив на соседскую девочку, с которой дружила, четырехлетнего Терстона и годовалого Харвуда и написав короткую жестокую записку:
Прощай. Не ищи меня. Твоя «любовь» слишком ненасытна. А я не хочу быть съеденной!
А.
Арабелла взяла с собой только лучшие свои вещи, драгоценности и около трехсот долларов наличными из тех, о которых Абрахам знал; ходили слухи, что она сбежала не одна, но гордость и гнев не позволили Абрахаму доискиваться правды. А равно и преследовать Арабеллу.
— Ваша мать нас покинула. Вы не должны спрашивать о ней. Она поступила дурно, но она — не плохая женщина. «Преступление? Значит — и соучастие». Мы были глупцами, когда верили ей, а посему — сами виноваты. Но о ней — ни слова, никогда! Вы поняли?
Маленький Терстон с широко открытыми удивленными глазами молча кивнул, годовалый Харвуд моргнул и широко зевнул, по-детски неохотно соглашаясь. В конце концов, разве они не сыновья своего отца?
Из тех пяти лет молодости, когда стали очевидны первые проблески его гения, Абрахам Лихт любит вспоминать лишь дивный час рождения старшего сына. Пансион в Уайт-Салфер-Спрингс, кровать, противно пахнущая сыростью, плесенью, а сейчас и потом, пролитым Арабеллой в родах, и ее кровью. После одиннадцати часов жутких мучений повивальная бабка наконец крикнула ему, чтобы он зашел в комнату. И когда Абрахам Лихт, потрясенный, испуганный, слыша учащенный стук собственного сердца, вошел и увидел младенца с красным личиком, ловившего ртом воздух, такого горячего, так безупречно сложенного, такого волшебно живого, верещавшего и завывавшего от избытка жизненных сил, слезы заструились по щекам молодого отца. «Мой сын? Мой?»
Арабелла, без кровинки в лице, изможденная, похожая на смерть, попыталась улыбнуться ему, а он, изумленный, — ей. Однако в тот момент они были словно чужие, поскольку все его внимание приковывал к себе визжащий младенец, словно тот был источником светового луча, выхватывающего его из темноты. «Терстон. Терстон Лихт. Мой сын». Абрахам неловко принял ребенка на руки. Его била дрожь. Повивальная бабка широко улыбалась, удивленная его молодостью и красотой, ее забавлял вид новоиспеченного отца: смесь гордости и испуга. Корчащаяся лысенькая обезьянка, прелестное существо, которому всего несколько минут от роду, чертами лица и бьющей через край энергией совершенно очевидно напоминало отца!
И действительно, разве не был этот младенец в некотором роде индуистской реинкарнацией самого Абрахама Лихта, снова вступающего в мир, чтобы опять завоевать его? Победить опять и опять?
Судьба «Кристофера Шенлихта»
Едва ли стоит осуждать букмекеров из Атлантик-Сити и их азартных клиентов за то, что сотни ставок были сделаны на исход суда над Кристофером Шенлихтом, обвинявшимся в убийстве первой степени в декабре 1909 года в суде Атлантик-Сити: пари заключали не на то, будет ли обвиняемый оправдан (такая возможность даже не рассматривалась), а на то, приговорят ли его к повешению, на чем энергично настаивал окружной прокурор, или казнь будет заменена пожизненным заключением, чего еще более энергично добивался адвокат Баллок. Потому что ни обвинение, ни защита не сомневались, что Шенлихт, и только он, виновен в убийстве своей «невесты» миссис Элоизы Пек; да Шенлихт и сам не отрицал обвинения.
Таким образом, интерес к процессу был обусловлен его вероятными последствиями, а также тайной, или тайнами, этого дела: каково прошлое обвиняемого (если, конечно, у него есть прошлое, потому что никому ничего так и не удалось выяснить); каковы мотивы, побудившие его совершить столь жестокое убийство, при том что он не мог не осознавать неизбежности ареста; куда делись деньги и драгоценности, исчезнувшие из апартаментов жертвы; почему обвиняемый упрямо отказывается говорить с полицией и даже с представителями защиты, если на карту поставлена его жизнь, и так далее. Хотя дело было чрезвычайно простым, в ходе разбирательства не случилось никаких сюрпризов или непредвиденных поворотов и суд завершился быстро, всего за четыре дня, газеты в Атлантик-Сити и Нью-Йорке пытались оживить процесс, публикуя интервью с людьми, претендовавшими на знакомство с «полоумной наследницей» (как называли бедную Элоизу), или со свидетелями событий — служащими отеля «Сен-Леон», знавшими «Кристофера Шенлихта». Ежедневно печатались фотографии убитой, а также снимки молодого человека, обвинявшегося в убийстве, хотя теперь Шенлихт выглядел таким усталым и изможденным и двигался с такой летаргической заторможенностью, что едва ли кто-то решился бы назвать его молодым человеком.
В зале суда, под прицелом множества глаз, не имея возможности спрятать лицо, Шенлихт являл собой само воплощение горя, хотя и какого-то отрешенного, бесстрастного: кожа у него сделалась пористой и дряблой, под глазами образовались мешки, а сами глаза остекленели, как у сомнамбулы. Неужели вот это и есть пылкий любовник Элоизы Пек, которого она так любила себе на погибель? — удивлялись присутствовавшие в зале.
Стратегия хитрого Баллока перед лицом вереницы изобличающих свидетелей обвинения (кто же в фешенебельном Атлантик-Сити не видел миссис Пек, повисшую на руке мистера Шенлихта?) состояла в том, чтобы представить своего подзащитного душевно неуравновешенным, психически несостоятельным, не отвечающим за свои поступки и не обладающим «свободой воли»; в настоящий момент (как могут убедиться господа присяжные) он пребывает в таком глубоком ступоре, что едва ли отчетливо слышит и видит происходящее; даже собственная судьба его не волнует. «Приговорить столь беспомощное и столь безопасное теперь для общества существо к смертной казни было бы актом гораздо большей жестокости, чем непреднамеренное преступление, за которое его судят». Баллок говорил с таким жаром и так искусно и точно рисовал драму своего подзащитного, что сам Абрахам Лихт (который, как обычно, весьма щедро оплачивал услуги адвоката) невольно восхитился.
Бостонский психиатр «с неподкупной репутацией», которому предоставили следующее слово, свидетельствовал в пользу защиты и утверждал, что Шенлихт вообще предрасположен к кататонии; можно с уверенностью сказать, что симптомы острого душевного недуга проявлялись у него давно, однако окружающие принимали их просто за черты характера. Он, врач, тщательно обследовал обвиняемого и пришел к выводу, что этот человек явно ненормален и обладает темпераментом, который может давать внезапные вспышки безумия под воздействием эмоционального напряжения; в таком состоянии человек, не владея собой, способен совершить преступление, не отдавая себе отчета в том, что творит, и не помня впоследствии о содеянном.
Обвинение, в свою очередь, выставило психиатра, который утверждал, что любой преступник «психически невменяем», поскольку совершает преступления. И, учитывая непредсказуемость поведения большинства опасных преступников, а также их неспособность отвечать за свои действия, не счастье ли, что в этой стране существует закон о смертной казни?
Ситуация еще больше осложнилась, когда прокурор привлек внимание присяжных к тому, что задолго до «внезапного помешательства» Шенлихта, повлекшего за собой его «чудовищное преступление», они с покойной миссис Пек на глазах у всех вели себя аморально: открыто, безо всякого стыда сожительствовали (со всеми теми подробностями, которые являются оскорблением христианской нравственности, норм приличий и тому подобного). А если, как говорят, Шенлихт некогда учился на священника, то, публично предаваясь греху, он совершал еще более непростительное преступление, ибо знал, что делает, и не мог не догадываться, какую цену придется за это заплатить.
В общей сложности обвинение вызвало тридцать пять свидетелей. Баллок подверг перекрестному допросу лишь нескольких из них, чтобы не подвергать своего подзащитного риску еще большего разоблачения. И из всех этих свидетелей только одна — горничная миссис Пек — выказала смутное сомнение по поводу своих первоначальных показаний, данных полиции. Она подтвердила, что слышала в комнате, рядом с которой находилась, голоса миссис Пек и мистера Шенлихта, однако за несколько минут до того она, кажется, слышала там голоса двух мужчин… хотя не могла бы в этом поклясться.
— И кто же был этот второй мужчина? — скептически поинтересовался прокурор.
Но оробевшая юная филиппинка, которая плохо говорила по-английски, не смогла ответить на этот вопрос, и ко «второму мужчине» суд больше не возвращался. На следующий день, когда Баллок попытался во время перекрестного допроса снова завести о нем разговор, молодая женщина отрицала, что слышала еще какой-то голос, — только голоса мистера Шенлихта и миссис Пек, которые хорошо знала.
Трагичнее утраты одного сына, осужденного за убийство и насильственно отнятого у меня, может быть лишь утрата двух сыновей.
На подобную игру этот бывалый игрок решиться не посмел.
(За пределами суда события развивались так же плачевно. Деньги Абрахама Лихта неумолимо таяли, идя на оплату отчаянных уловок, которые придумывал хитрый Баллок и проводили в жизнь его тайные безымянные помощники, а именно: на попытки подкупа ключевых свидетелей обвинения, тех присяжных, которые казались наиболее податливыми, психиатра, обследовавшего обвиняемого, окружного коронера и так далее. Администратор «Сен-Леона» принял щедрую взятку под предлогом «возмещения ущерба», нанесенного апартаментам, где погибла миссис Пек, однако, давая свидетельские показания в суде, высказывался об обвиняемом с неприязнью как о «хладнокровном и расчетливом молодом человеке», который притворялся добродушным и обаятельным, в то время как, несомненно, уже в течение нескольких недель планировал будущее преступление. Один из присяжных поначалу заинтересовался было предложением в обмен на весьма крупное «пожертвование», которое он мог бы направить на благотворительность, воздержаться при голосовании и тем самым помешать присяжным прийти к единому мнению, однако, когда один из коллег заподозрил его в подобной сделке, поспешно дал задний ход, заявив, что будет голосовать «как велит Бог, а не дьявол». Нашел Баллок и нескольких подставных «свидетелей», которые должны были выступить на стороне защиты, но, несмотря на то что их долго и упорно натаскивали, они оказались такими никудышными актерами, что сам Баллок признал ошибкой то, что привел их в суд и позволил подвергнуть перекрестному допросу. Возможность в том или ином качестве привлечь к делу Элайшу обсуждалась, однако была отвергнута, поскольку даже в гриме он мог навести полицию или газетных репортеров на мысль о Черном Призраке из Чатокуа-Фоллз, что стало бы катастрофой.
Суд быстро шел к завершению. Приближался день вынесения вердикта. У Абрахама Лихта сердце сжималось от жалости при виде старшего сына, которого в наручниках приводили и уводили из зала суда стражники в мундирах: его красивое лицо искажала гримаса безнадежного страдания, и он со стыдом и отчаянием отводил от отца неподвижный взгляд. Ибо ни один Лихт не имеет права предать другого, даже ради спасения собственной шкуры. Ибо что можно было сделать в подобных обстоятельствах? Абрахам Лихт побуждал Баллока применить иной, более идеалистически-философский метод защиты в стиле знаменитого Кларенса Дэрроу, подвергнуть сомнению правомочность самой смертной казни — в те годы многие либерально настроенные граждане выступали против смертной казни, ссылаясь на то, что она является нарушением Конституции Соединенных Штатов. Но Баллок сухо возразил, что уже много раз пытался использовать этот тактический ход и убедился: если некоторых судей и можно поколебать подобными гуманистическими соображениями, то присяжных — никогда. Жюри присяжных — это общество в миниатюре, а общество жаждет казней.
— Даже если подсудимый невиновен? — спросил Абрахам так простодушно и искренне, что Баллок уставился на него в изумлении и не нашел что ответить. Потому что он искренне верил в виновность своего клиента.)
Итак, сенсационный, широко освещавшийся в прессе процесс «Народ штата Нью-Джерси против Кристофера Шенлихта» завершился в четыре дня; ко всеобщему разочарованию — особенно были недовольны газетные репортеры, заполнившие первые ряды скамей в зале суда, — угрюмый молодой обвиняемый отказался занять свидетельское место и сказать хоть слово в свое оправдание. Судья, с нескрываемой гримасой презрения относившийся и к обвиняемому, и к его защите, словно от них исходил дурной запах, коротко проинструктировал присяжных, не потрудившись напомнить им о принципе «разумного сомнения» — могли ли быть сомнения разумными в столь ясном деле? Двенадцать суровых присяжных удалились в совещательную комнату для принятия решения и отсутствовали, как на следующий день взволнованно оповестили шапки первых газетных полос, всего восемь минут — рекордно короткое время, потребовавшееся жюри для вынесения вердикта по делу об убийстве, когда-либо рассматривавшемуся в судах Соединенных Штатов.
До и во время суда Кристофера Шенлихта посещал в его одиночной тюремной камере некий джентльмен, советник мистера Баллока Мюррей М. Керк с Манхэттена — оптимистично настроенный мужчина средних лет, имевший привычку то и дело водружать пенсне на переносицу и говоривший громко и разборчиво (чтобы не вызывать подозрений у охранника). У этого господина было красивое, хотя и усталое лицо с темными кругами под глазами и густая шевелюра светло-каштановых, всегда безупречно причесанных волос; обычно на нем были серый шерстяной костюм-тройка, белая рубашка с туго накрахмаленным воротничком, галстук-бабочка, кончики которого он аккуратно заправлял под воротник, элегантная черная фетровая шляпа и черные перчатки. Мистер Керк носил с собой эбеновую трость, а из нагрудного кармана всегда выглядывал уголок белоснежного льняного носового платка. Воплощение ходячих представлений об авторитетном юристе. Но как странно, что он с такой острой тоской смотрел на молодого Шенлихта, который ерзал под его взглядом на своем жестком стуле и опускал голову, не желая встречаться глазами с пожилым господином.
Сын? Ты что же, не узнаешь меня? Посмотри на меня, дорогой мой мальчик, посмотри мне в глаза!
Хотя Шенлихт и Керк сидели друг против друга за узким, не более трех футов шириной, сосновым столом, молодой человек упорно избегал взгляда старшего, часто вздыхал и прикрывал глаза ладонью, словно страшно волновался. Это было совсем не похоже на то, как он вел себя с другими. Хотя его обвиняли в самом серьезном преступлении — в Соединенных Штатах страшнее могло быть только обвинение в предательстве, — молодой человек обычно хранил каменный вид, уставившись в одну точку, не слушая того, что говорил ему адвокат, совершенно безразличный к тому, что происходит вокруг, и к собственной неминуемой судьбе. Вынужденный все же иногда ответить на вопрос (например, когда Баллок в отчаянии восклицал: «Сынок, ты хочешь жить?»), он мог лишь молча пожать плечами, после чего снова впадал в транс. Абрахам Лихт сказал Баллоку, что в присутствии отца Кристофер «немного оживится», но на самом деле ничего подобного не произошло. Во всяком случае, не настолько, насколько хотелось бы Абрахаму.
Во время одного из таких визитов мистер Керк достал из кармана белоснежный льняной платок, промокнул вспотевшее лицо и сказал тоном доброго дядюшки, выведенного, однако, из себя:
— Молодой человек, я приказываю вам сидеть смирно. Я — помощник вашего официального адвоката, и вы обязаны отвечать на мои вопросы. Иначе вы пропали.
При этих словах Кристофер замер в чрезвычайно неудобной позе: одно плечо выдвинуто вперед, голова склонена вправо, словно его тянуло вниз силой земного притяжения. Слышал ли он? Понимал ли? Что-то затеплилось было в его взгляде, но тут же пропало. Его лицо было напряжено так, словно упрямый лихтовский дух, засевший глубоко внутри, сдерживал его.
Абрахам почувствовал прилив острой нежности, вспомнив, как однажды, в тот единственный год, который его старший сын провел в колледже Боудена[7], он совершил путешествие на север, в Мэн, чтобы навестить его, и нашел парня в таверне неподалеку от кампуса в компании друзей. Остановившись поблизости, Абрахам прислушался к непринужденному, часто прерывавшемуся взрывами хохота разговору приятелей и был поражен неожиданной мыслью: Как мой сын похож на других! Если бы я не знал, что он мой сын, я бы никогда не разглядел в нем Лихта. Позже они поспорили на эту тему, отец был недоволен тем, что Терстон в таких приятельских отношениях с чужими людьми, что он принимает их приглашения и бывает у них дома, о чем Абрахам не догадывался, что, открываясь перед чужаками, он рискует как минимум серьезно умалить свои возможности. Ибо как он сможет впредь воспринимать их как чужаков, если позволяет себе так дружески с ними общаться? Все люди — наши враги, всегда и везде — вот принцип, по которому жил Абрахам Лихт и который он внушал своим детям. И как пришло в голову Терстону, послушному Терстону, его Терстону, отвергнуть непреложный принцип?
Это расхождение во мнениях, как и другие, случавшиеся между Абрахамом Лихтом и его детьми, было не столько разрешено, сколько просто отброшено. Абрахам позаботился о том, чтобы Терстона «исключили» из колледжа: скромные взятки инспектору общежития, декану — и студента выпускного курса однажды вечером засекли возвращающимся в кампус «в состоянии алкогольного опьянения». Его одного из дюжины бражников засекли, задержали и осудили. Терстон был настолько простодушен — и Абрахам это отлично знал, — что так и не догадался, что — или кто — стояло за его исключением. Он безропотно смирился. «Все равно я не так уж хорошо учился, папа», — покорно сказал он. И с какой готовностью, на радость отцу, он согласился, что пора начинать профессиональную карьеру под руководством Абрахама и навсегда порвать со своими нестоящими друзьями.
— Вы слышите меня, Кристофер? — спросил Абрахам Лихт на удивление ровным голосом. — Не окажете ли мне честь посмотреть на меня? Я вам приказываю.
Медленно, неохотно, стыдливо узник повернул лицо к посетителю. Его влажные губы дрожали. Взгляд блуждал. Да, я твой сын. Да, я люблю тебя. Но, отец… Атмосфера в душном помещении так сгустилась, что охранник в форме, бездельничавший в углу, вдруг заинтересовался происходящим. Абрахаму пришлось снизить тон и тщательно следить за своим поведением, так как сейчас, когда его несчастный сын сидел к нему лицом, смотрел на него и в глазах его блестели слезы, малейшая оговорка или какой-нибудь невольный жест могли привести к тому, что он внезапно разрыдается и, как ребенок, бросится на грудь отцу.
Поэтому Абрахам продолжал говорить рассудительно и спокойно. Он спросил, почему «Кристофер» отказывается помогать своему адвокату? Почему его так мало заботит собственная судьба? И кто на самом деле убил Элоизу Пек?
— Если ты знаешь, сынок, ты должен сказать. Мне ты должен сказать.
Терстон долго смотрел на него. Его молодое лицо выглядело изможденным и на удивление морщинистым, словно к нему приросла старческая маска. Похоже, он хотел было что-то сказать, но передумал.
— Я приказываю тебе говорить, — прошептал Абрахам. — Иначе ты пропал.
Слышал ли охранник? Мог ли этот грубый, неотесанный человек что-то понять? Тем не менее Терстон, как истинный Лихт, не доверяя ему, одними губами выразил душераздирающую мольбу: Папа, я в любом случае пропал. Лучше пусть умрет один, а не двое. Потому что если не я один, то нас будет двое. Прости меня, папа! Я пропал, Терстон пропал.
Важный посетитель с Манхэттена резко напяливает на нос пенсне и встает. Поспешно попрощавшись с узником, поворачивается и просит охранника проводить его к выходу. Он придет еще, чтобы оказать заключенному моральную поддержку (по крайней мере так это будет выглядеть), но больше никогда молодой узник не посмотрит ему в глаза так открыто и больше никогда атмосфера в комнате для свиданий не будет такой наэлектризованной.
Потому что, разумеется, «Кристофер Шенлихт» был признан виновным в убийстве первой степени.
И жюри присяжных не сделало никаких оговорок насчет возможности помилования.
Стояло суровое морозное январское утро, когда спустя около полугода после смерти Элоизы Пек молодой человек, в наручниках, с осунувшимся лицом, предстал перед судьей, председательствовавшим на его процессе, чтобы выслушать подробности того, что ему предстояло.
Хочет ли он заявить что-либо суду, прежде чем приговор будет приведен в исполнение? — поинтересовался судья.
«Кристофер Шенлихт», ссутулившись, стоял между своим адвокатом и судебным исполнителем, слушал, но не слышал того, что тот говорил; лицо у него застыло, глаза опущены, нижняя челюсть, чуть-чуть выступавшая вперед, была неподвижна.
Ему нечего было сказать.
Ну что ж, так тому и быть. Судья, раздраженный, медленно, чтобы Шенлихт мог разобрать каждое слово, каждый слог, зачитал заранее заготовленное заключение, в котором говорилось: поскольку преступление было совершено с особой жестокостью и поскольку с момента своего ареста преступник не выказал никаких признаков раскаяния, он приговаривается к смертной казни через повешение до смерти в соответствии с законом штата Нью-Джерси. Дата казни будет назначена прокурором штата, но состоится не позднее первого июня 1910 года.
Маленький Моисей
— Преступление? — шепчет отец.
Значит — и соучастие.
Соучастие?
Значит — никакого преступления.
Маленький Моисей — крупный для своих десяти лет мальчишка, не так ли, благодушный и недалекий, послушный, преданный, безропотный, да, черный как смола, да, способный работать и охотно выполняющий работу взрослого человека, да, он будет расти, расти и работать, работать, работать… будучи добродушным, недалеким и черным как смола, он предан как пес и будет предан всю жизнь, он не думает ни о чем, кроме работы, он не способен думать, как мы с вами, белые люди, а поскольку он — сын, вернее, внук алабамских рабов с плантации, он многократно окупит себя за предстоящие пятьдесят лет.
И цена ему, сэр, очень разумна, я шепотом сообщу вам ее на ушко, чтобы он не услышал: шестьсот долларов наличными.
Лемюэл Шэттак, фермер из Блэк-Эдди, Мичиган; Алва Ганнесс, фермер из Ла-Порте, Миннесота; Оле Бадсберг, кузнец из Драйдена, Миннесота; Уильям Элиас Шатт, кондитер из Элбоу-Лейк, Иллинойс; Джулес Раллофф, фермер из Хорсхеда, Нью-Йорк; Эбботты, фермеры-животноводы из Лейк-Сенека, Нью-Йорк; Уилмоты, текстильные фабриканты из Норт-Тетфорда, Пенсильвания… И цена ему, сэр, очень разумна, я шепотом сообщу вам ее на ушко, чтобы он не услышал: шестьсот долларов наличными.
Хотя процветающий коннозаводчик из Глен-Рэпидса, Огайо, Урия Скиллингс заплатил тысячу долларов, а Эстес Морхаус, преподаватель древних языков на пенсии из Роки-Хилл, Нью-Джерси, — восемьсот.
Для этих и некоторых других господ Маленький Моисей расхаживает с важным видом, выделывает курбеты, широко улыбается, вращает белыми-белыми глазными яблоками и поет:
Осенью и зимой 1898 года, вплоть до весны 99-го, они исколесили всю округу, чаще всего ездили по ночам, чаще всего — по проселочным дорогам: Солон Дж. Берри и его послушный Маленький Моисей, который достался мистеру Берри от человека с широким грубым печальным лицом, аккуратно подстриженными седыми усами, в очках с проволочной оправой, от фермера, который потерял свои восемьдесят акров земли, потом владельца мельницы, который потерял свою мельницу, бывшего служащего железнодорожной компании «Чесапик — Огайо», бывшего аптекаря из Мариона, штат Огайо, жертвы экономического спада, человека, некогда гордого, а теперь — присмиревшего, некогда свободно и честно владевшего собственностью, а теперь преследуемого кредиторами, посеревшего, с запавшими глазами, со странными метками и пятнами на щеках, вынужденного идти на компромиссы и совершать по необходимости деяния, о которых в лучшие годы он, будучи христианином сурового кальвинистского устава, и думать бы не посмел.
Был ли то Солон Дж. Берри, или Уитакер Хейл, или Хэмблтон Фогг, но Маленький Моисей всегда находился рядом, так как его выдернули из камышей — да, в некотором роде то было благословением свыше, — его спасли, вытащив из воды, когда могучая река Уобаш вышла из берегов в апреле 1889 года в округе Лафайет, штат Индиана. Заходящегося от плача черненького младенца нашли среди плавающих на поверхности дохлых собак, кур и крыс, подцепили железным крюком и вытащили на берег, достали из гнезда, сплетенного из травы и забитого грязью, в которой копошились пауки, — живого младенца! Черненького младенца, брошенного матерью, уже потрепанного жизнью, но все же живого, с широко открытым буквой «о» ротиком, из которого неслись завывания, визги и вой, вой, вой! Видели бы вы, какое это было жалкое существо, но живое!
И оно выросло в крепкого мальчишку-здоровяка.
Он никогда не жалуется, усерден, терпелив, ест совсем мало и может работать двенадцать часов в сутки — выполнять сельские работы, поднимать и переносить тяжести, драить посуду, копать ямы. Я сказал — двенадцать? Четырнадцать, шестнадцать часов в сутки — столько, сколько нужно. И спит он не более трех-четырех часов, только ночью. Вот что значит черная кровь, да, его предки были рабами на плантации в Алабаме, это лучшая восточноафриканская порода: черные как смола, сильные как лошади, не болеют ни дня в своей жизни, просто в возрасте девяноста девяти лет падают и мгновенно умирают, так что у этого срок — где-то до 2000 года! Вот он, глядите, улыбается, важно расхаживает, послушный, как щенок, сообразительный, как обезьяна, недалекий, как овца, надежный, как вол, а когда на него находит стих, он может быть настоящим домашним затейником: вращает глазами, щелкает пальцами, притопывает пятками, изображая то «Хитреца Зипа», то «Бедного Черного Мальчика», то «Опоссума на эвкалипте», но piece de resistance, ne plus ultra, flagrante delicto, посторонитесь, дайте дорогу, ведь это сам дикий Джим Кроу собственной персоной!
И все это за каких-то шестьсот долларов. И никто никогда, вот именно, никогда, не узнает условий контракта сироты.
Иногда Маленький Моисей спал в доме нового хозяина всего час-другой на тряпках, накиданных в углу под навесом для дров, или в дальней каморке на старой, пропахшей мочой кровати покойного дедушки, как-то ему довелось спать на сеновале с мышами и крысами, как-то — в ящике с углем возле печи, из которой шел удушающий, одуряющий, но уютный жар тлеющей золы, порой же, чаще всего, Маленький Моисей вовсе не решался уснуть, а лежал с открытыми глазами, не шевелясь, в ожидании, когда все белые угомонятся и лягут спать.
Тогда он выскальзывал тихо, чтобы ни одна половица не скрипнула под его ногой, не залаяла ни одна собака, и бежал, сгорбившись, втянув голову в плечи, если нужно, полз, тайно прокладывая свой путь, перебегая из тени в тень на случай, если бы новый хозяин выглянул из окна (но как этот простофиля мог выглянуть, если давно спал мертвым сном, как и все его домочадцы), и выскакивал наконец на освещенную лунным светом проселочную дорогу, где в двуколке ждал его «Солон Дж. Берри», подремывая вполглаза, как он говорил.
— Папа, а это правда, что ты выловил меня из реки Уобаш во время потопа? — с сомнением спрашивал Элайша.
Абрахам Лихт улыбался, клал надежную руку на курчавую голову мальчика и отвечал после нескольких секунд молчания:
— Нет, Лайша. Это была река Нотога, на востоке, но здешние не должны об этом знать, я не хочу вызывать подозрений.
— А это правда, папа, — спрашивал Элайша, — что все белые — дьяволы и что все они — враги? Или среди них есть и другие, такие, как ты?
И Абрахам Лихт, улыбаясь и энергично посасывая сигару, отвечал:
— Послушай, Лайша, я — не белый. Я могу выглядеть, как белый, и разговаривать, как белый, но я стою особняком от белой расы, потому что они — действительно дьяволы и действительно враги, все и каждый в отдельности.
Но никто из врагов никогда не донес полиции ни на мистера Берри, ни на мистера Хейла, ни на мистера Фогга.
И никто из врагов никогда не заявил о пропаже Маленького Моисея.
— И не заявят никогда, подлецы! — говорит Абрахам Лихт, закусив крупными белыми зубами свою кубинскую сигару и подсчитывая деньги, — в этом, Маленький Моисей, мы можем быть уверены.
И так они колесят по всей округе, чаще всего передвигаясь проселками, иногда быстро — очень быстро — по главным артериям, не теряя времени, не задерживаясь ни на секунду, но большей частью неторопливо катят вдоль малых дорог, потому что здешние окрестности красивы. Североамериканский континент вообще красив, несмотря на то (как говорит Абрахам Лихт, презрительно кривя губы) что человеческие существа уже начали загаживать его.
(Порой Элайшу посещают сомнения в том, что люди, будь то белые или черные, — дьяволы и доверять можно только Лихтам. Тогда отец вычитывает ему истории из газет: признания бессердечного убийцы Фрэнка Эббота-Элми из Вермонта, «подлинную историю» чудовища Брэкстона из Индианы и — самую ужасную из всех — сагу о вдове Соренсен из Огайо, которая двадцать восемь раз выходила замуж по объявлениям в журнале знакомств и за два десятка лет, чтобы завладеть деньгами, убила и скормила свиньям всех своих мужей.
Мораль, которую Элайша повторяет, беззвучно шевеля губами, такова: Все люди враги, всегда и везде; но братья по крови — братья и по душе.)
И вот в один прекрасный день Абрахам Лихт объявляет, что теперь он снова Лихт, а Элайша снова Элайша; и на него вдруг накатывает тоска по дому в Мюркирке, по его любимой Софи и милой крошке Миллисент, чей седьмой (седьмой ли?) день рождения он пропустил, трудясь в поте лица на здешних виноградниках и меча бисер перед свиньями.
Поэтому за каких-нибудь два часа он продает свою двуколку и лошадей с прогнувшимися спинами, покупает новую одежду для себя и для мальчика, а также билеты в отдельное купе пульмановского вагона до Чатокуа. Теперь он снова Лихт, снова может свободно дышать и высоко держать голову, имея 4500 долларов чистой прибыли, или 6200, а может, и все 9000, и никто из врагов не донесет на него в полицию, ни Шэттак, ни Ганнесс, ни Бадсберг, ни Шатт, ни Раллофф, ни Эбботты, ни Уилмоты — никто из множества ничтожных, мерзких глупцов, ни один! Ни один!
— А знаешь почему, Лайша? — спрашивает Абрахам.
Лайша улыбается и кивает; Лайша знает; с наигранной торжественностью описывая круги, вальсируя, он напыщенно произносит слова, ужасные слова: Я как Джим Кроу!
Когда весной 1889 года Абрахам Лихт привез домой пронзительно кричавшего черного младенца, рыжеволосая женщина, с которой он тогда жил, — не Арабелла, которая сбежала за год до того, и не дочь пастора Морна, с которой он познакомился лишь спустя несколько месяцев, — эта женщина, эта невежественная женщина, стала выталкивать его вместе с ребенком, безумно хохоча: «Это еще что такое? А ну-ка убери его от меня подальше! Я не буду матерью этой мартышке».
Он выгнал эту женщину из дома в тот же день.
И через неделю уже не помнил ее имени.
А Элайша, маленький больной Элайша, через неделю был ему уже так же дорог, как его собственные мальчики, или почти так же; потому что у этого жалкого создания не было ни матери, ни отца, ни имени, ни даже места рождения: казалось, черный Бог проклял его так же, как белый.
Хотя Абрахам Лихт похвалялся, что он не верит ни в одного из них.
Действительно ли Элайшу выудили крюком из разлившейся реки, вытащили на берег и, таким образом, не дали утонуть? Правда ли, что Абрахам Лихт сам спас ребенка, возвращаясь к себе в отель в Нотога-Фоллз-Армз?
Действительно.
Очень вероятно, что так оно и было.
Хотя это была не Нотога, а заполненная дождевой водой сточная канава, бежавшая вдоль деревянного тротуара у самого подножия холма, на котором стоял отель, забитая грязью канава глубиной не более четырех футов, черная вода в которой бурлила, булькала, пенилась и шумела почти так же громко, как в самой Нотоге.
И маленькое черное существо было выужено из нее и спасено.
И маленькое воющее черное существо с широко открытым буквой «о» ротиком было выужено и спасено и прижато к груди модно одетого белого джентльмена (пальто-честерфилд с черным бархатным воротником, высокий шелковый цилиндр, трость с набалдашником из слоновой кости), раскрасневшегося и довольного после вечера, проведенного за покерным столиком в частном мужском клубе Нотога-Фоллз, где играли по солидным ставкам.
— Вот дьявол! — воскликнул Абрахам Лихт, увидев, что вопящее и дергающееся существо испачкало ему рукав. — Это же сам дьявол! Не стать ли мне его отцом?
В те сомнительные годы жизни Абрахама Лихта Терстону было пять лет, Харвуду — два; лишившимся матери мальчикам Абрахам должен был найти мать, добрую мать, и поскорее; и еще он мечтал о дочери: ибо дочь должна была залечить его раны и успокоить душу, ожесточившуюся от жестокого поступка Арабеллы. Он был также обязан начать новое дело, или дела, поскольку не был удовлетворен своим финансовым положением; больше всего ему не терпелось организовать тайное Общество по восстановлению наследства Э. Огюста Наполеона, «истинного наследника» императора, и рекламациям. (Для этой цели Абрахам заготовил предназначенные к размножению генеалогические карты, сертификаты и образцы акций, подобающих Обществу, и распространил среди доверчивых издателей газет на востоке смутные слухи о том, что французское правительство задумало обмануть значительное число американских граждан — что-то около двухсот или пятисот человек, а то и больше, — лишив их законного наследства как потомков незаконного сына императора.)
Таким образом, время было не самым подходящим, чтобы брать в дом негритянского ребенка, пусть и посланного ему судьбой.
Но Абрахам Лихт не отказался от несчастного существа и не передал его на заботливое попечительство местного прихода. Вместо этого он привез его домой, полный решимости полюбить и сделать своим сыном. «Бедная голенькая зверушка! Я окрещу тебя и назову Элайшей, ты станешь моим „спасением“», — прошептал он, склонясь над младенцем, который теперь мирно спал, свернувшись клубочком на его кровати, и поцеловал его в лобик.
И никогда Абрахам Лихт не пожалел о своем решении.
И всегда, вплоть до двадцать первого дня рождения Элайши в начале зимы 1910 года, когда черный подкидыш дерзнул бросить ему вызов, он любил мальчика не меньше, чем детей, которым дал жизнь из собственных чресел.
И случилось так, что вскоре после того, как Элайша поселился у него, каким-то чудом переменчивая удача улыбнулась Абрахаму Лихту. В качестве домохозяйки у него появилась мастерица на все руки Катрина — эта таинственная, потрясающая женщина, которая была то ли его двоюродной бабкой, то ли другой седьмой водой на киселе и прибыла откуда-то издалека, из-за горы Чаттарой; и тогда же он познакомился с мисс Морной Хиршфилд, сразу же влюбился в нее и преследовал эту прелестную молодую женщину с такой страстью, что через три недели она сдалась и, пребывая в эйфории от любви к Абрахаму Лихту, поклялась любить его сыновей, всех сыновей, негритенка не меньше, чем белых. (Ибо Морна Хиршфилд, дочь униатарианского священника и внучка страстного аболициониста, считала себя примерной христианкой и образцом женских добродетелей, но в то же время — ведь на дворе уже стоял год 1890-й — она была женщиной современной, достаточно независимой, чтобы жить с человеком, которого любила, «вне церковного брака» и даже в положенное время родить ему ребенка.)
Тогда же Абрахам сумел за жалкие гроши купить выставленную на аукцион церковь Назорея Воскресшего и переехать вместе со всем своим многочисленным теперь семейством на лоно дикой природы Мюркирка для большей безопасности, как он считал, — «и экономии».
Не озадачивало ли, не сердило, не казалось ли постыдным Терстону и Харвуду, а позднее и Милли, что у них брат — негр? Отнюдь.
Разумеется, мюркиркские обыватели сплетничали на эту тему. Должно быть, ходили всякие беспардонные слухи. Наверняка до того, как Абрахам Лихт стал хорошо известным и уважаемым лицом в округе, над ним, по крайней мере за глаза, грубо подшучивали. Стоило детям — особенно Терстону, светловолосому красивому мальчику, чей вид больше всего контрастировал с внешностью темнокожего курчавого Элайши, — появиться вместе, и можно было не сомневаться, что все будут глазеть на них. «Ибо ксенофобия заложена в самой природе гомо сапиенс, — объяснял домочадцам Абрахам Лихт. — Я бы не удивился, если бы оказалось, что у него в мозгу есть особый коготок, который спускает с курка страх, недоверие, ненависть, угрозу при виде существа, чьи черты лица и цвет кожи кажутся ему чужеродными. Поэтому мы должны иметь в виду фобии тех, кто в любом случае является нашим врагом; но нам, вместо того чтобы пытаться преодолеть подобные фобии окружающих, следует думать над тем, как использовать их себе во благо. Единственное, что нам необходимо знать, это то, что мы — Лихты, ведущие свое происхождение из мюркиркской топи и призванные покорить небо».
Белокожим детям Абрахама Лихта не было нужды усваивать эту отцовскую мудрость, чтобы испытывать привязанность к Элайше, или Лайше, как его называли в семье. Потому что Лайша был самым милым, забавным и ловким из них, прирожденный мим, безусловно, созданный для сцены либо для карьеры, требующей ораторского таланта; «хитрый дьяволенок», как называла его Катрина (которая редко позволяла себе подобные комментарии в отношении своих подопечных); самый сообразительный из мальчиков; легко впадающий в гнев, но быстро раскаивающийся; скорый на слезы, но готовый тут же стереть их и улыбаться; родная душа в доме, как Маленький Моисей, только более умный. Тем более что Абрахам Лихт, как отец семейства, всегда сам решал, что должны думать и чувствовать его дети, а также, в известной мере, как они должны себя вести; что же касается «переживаний», то это слово вообще не должно было присутствовать в их словаре, по крайней мере они не имели права демонстрировать своих переживаний. Эту психологическую особенность он объяснил своей жене Морне, которая, посмеиваясь, отвечала на его логические рассуждения: «Неужели ты думаешь, что, если мы не будем употреблять таких слов, как „печаль“, „грусть“, „злость“, сами эти чувства перестанут существовать?» Абрахам лишь улыбался и поглаживал нос кончиком пальца. Обожать женщину не значит ценить ее за глубокий ум. И чтобы находить женщину бесконечно желанной, вовсе не обязательно обнажать перед ней душу.
Был памятный случай, когда восьмилетний Харвуд с хмурым видом спросил Катрину, почему Лайша, которому тогда было шесть лет, «черный, как эбеновое дерево», волосы у него «такие странно курчавые», а ладошки «розовее моих»? В детских вопросах Харвуда не было заметно ни подозрения, ни злобы, и ответ Катрины, который потом часто повторяли в доме, казалось, полностью удовлетворил его: «Потому что папа хочет, чтобы он был таким».
Сам Элайша, хитрый Элайша, много думал о Лайше и Маленьком Моисее — об этих черных мальчиках, созданиях Абрахама Лихта, и у него не было ни малейших опасений, что он — чужой. Только не он! Несмотря на свой внешний вид, он даже не чувствовал своей особости среди других. Он обожал рассматривать себя в каждом попадавшемся на глаза зеркале: разве он не хорош собой с этими тугими колечками блестящих волос, то плотно облегающих череп, то восхитительно распушающихся, словно одуванчик; с этими широко поставленными темными глазами, влажно-блестящими, с лукавыми ореховыми крапинками; с этим чуть расплющенным носом, с резко очерченными темными ноздрями и точеными губами? Когда Лайша лениво разваливался, это была идеальная картина лености, когда он ходил гоголем, скакал или «поднимал гвалт» (как притворно-сердито говорила Катрина), это была идеальная картина веселья. Когда отец бывал дома, он пристально следил за всем, что делает Лайша, обращал внимание на все, что тот говорит, как, в сущности, наблюдал он и за всеми остальными детьми — ничего не запрещал и не сердился, а просто наблюдал: вероятно, желая понять, какими именно талантами обладает Лайша и каковы его слабости.(«Ты — наш хамелеон, — со смехом констатировал отец. — И такой ловкий, что никого не удивило бы, если бы ты выскользнул из собственной шкуры и влез в чужую».)
Вероятно, Лайшу огорчало, что его братьев, а иногда и его хорошенькую сестричку Милли, посылали в дорогие частные школы (по крайней мере время от времени, так как состояние Абрахама Лихта по-прежнему было крайне непостоянным, оно то прибывало, то убывало с полной непредсказуемостью), в то время как он всегда оставался дома; однако, поскольку отец решил заниматься его образованием сам, обучая его французскому, математике, поэзии Шекспира, аристократическим манерам, и объявил его «своей правой рукой», Элайша даже в столь юном возрасте не мог не испытывать гордости, даже тщеславия, потому что ощущал себя — нет, на самом деле, разве он себя плохо знает? — отцовским любимцем.
— Я всех вас люблю одинаково, потому что все вы в равной степени достойны любви, — говорил иногда отец, глядя на детей с некоторым удивлением, обходя их по кругу и целуя или прижимая к груди всех по очереди. — Это неоспоримая истина: каждый из вас — чудо.
Подобные заявления, казалось, гипнотизировали детей, на глазах у них выступали слезы, ибо они не сомневались, что папа говорит правду, разве могло не быть Истиной то, что говорил папа? И все же позднее, рассматривая свое отражение в зеркале или даже в лужице болотной воды, Элайша вслух бормотал в восторге: «Он всех нас любит одинаково, но Лайшу — больше всех!»
И он не испытал ни малейшей ревности ни когда родился Дэриан, ни когда вскоре после того родилась Эстер — дети Софи; они были такими маленькими, что едва ли было разумно думать, что папа когда-нибудь полюбит их, и вообще обращать на них какое-либо внимание.
Когда папа уезжал по делам, в которых Элайша не участвовал, а посему оставался в Мюркирке, он прятал свое разочарование и нетерпение и тщательно выполнял задания, оставленные ему отцом, например, изучал последнее издание «Этикета молодого джентльмена-христианина» так добросовестно, что мог бы выдержать самый строгий экзамен по пользованию визитными карточками и столовыми приборами во время любого официального ужина или по тому, как следует вести себя, будучи представленным особам королевских кровей; повторял заученную по памяти кантату Баха «Brich dem Hungrigen dein Brot», которую папа велел ему разучить по неким загадочным, но безотлагательным соображениям, безупречно декламировал по-французски изысканную поэму об ангелах некоего поэта по фамилии Рильке. Именно Элайше в основном поручали инвентаризацию вещей, хранившихся в церкви, которые отец надеялся когда-нибудь распродать с аукциона, — всех этих разрозненных предметов мебели, произведений искусства, одежды, музыкальных инструментов и тому подобного, что Абрахам Лихт получил в качестве «неденежной компенсации» от своих должников. Хоть никто его не заставлял, он все утро напролет мог трудиться в поте лица, очищая пекановый крест от паутины и глубоко въевшейся грязи и полируя его до ослепительного сияния так, что в его поверхности начинало призрачно-прекрасно отражаться его собственное юношеское (сколько же ему было тогда — лет четырнадцать?) лицо. Что же касается человеческой фигуры, гвоздями прибитой к кресту — она была оловянной, а не деревянной, — то ее спасти было невозможно, потому что за прошедшие годы она так потускнела, что ее вполне можно было принять за изображение некоего персонажа, такого же черного, как сам Элайша!..
О «Спасителе нашем Иисусе Христе» Элайша знал только то, что рассказывал ему и остальным детям отец: что, подобно Богу Отцу и бесчисленному множеству иных мнимых божеств, существовавших на протяжении истории, Спаситель был не чем иным, как ложью, внушенной некими ловкачами своим простодушным собратьям, чтобы обманом лишить тех радостей здешней жизни в обмен на блаженство в жизни следующей. Элайшу понятие «следующей жизни» озадачило: она следующая во времени, спросил он отца, или следующая в пространстве, где-то в тысячах милях отсюда? Абрахама Лихта детский вопрос позабавил, и он от души рассмеялся, однако, прежде чем ответить, задумался и, наконец, сказал, что не знает — да ему и безразлично, — что имеет в виду большинство людей под своими нелепыми верованиями и фантазиями. «Потому что мы, Лихты, признаем только тот смысл, который нам выгоден». Элайша полностью осознал справедливость ответа, и все же однажды, вскоре после того, разглядывая вблизи изогнувшуюся в муках оловянную фигурку, изучая изъеденное ржавчиной лицо, он испытал странный приступ щемящей жалости и сострадания к Спасителю. Если Иисус Христос столько веков был всего лишь выдумкой, то знал ли это Он сам? Открылась ли Ему когда-нибудь эта ужасная правда?
Счастливо предоставленный самому себе, Элайша научился играть на барабане и исполнять нехитрые мелодии на фортепьяно; он запоем, часами читал случайные тома энциклопедии «Британика», «Историю уголовного права в Соединенных Штатах», «Искусство гипноза», «Альманах бедного Ричарда», «Домашние лекарственные и рвотные средства», «Избранные проповеди преподобного Генри Уорда Бичера», «Иллюстрированные новости под редакцией Пи-Ти Барнума за 1877–1881 годы» и тому подобное; он примерял великолепные вечерние накидки на шелковой подкладке, рубашки с плиссированными манишками, расшитые камзолы, цилиндры и иногда даже женские одежды — платья из органди, боа из лебединых перьев, лисьи палантины, тюрбаны… Все это очень шло к его блестящей черной коже, и в глазах его при виде собственного отражения появлялся тайный блеск. Поскольку двери их дома были заперты от любых непрошеных посетителей, Элайша провел немало долгих дней в размышлениях о своей экзотической внешности; или танцевал в одиночестве — притопывая пятками, взмахивая руками, приседая, чтобы совершить прыжок, и даже «летая» по воздуху, словно был невесом! И в эти часы своих тайных занятий он становился таким ловким, им так овладевал неведомый Дух вдохновения, такое желание продемонстрировать свою храбрость и проворство, что он смеялся вслух при мысли о том, что совершит однажды, вызвав горячее одобрение отца, в этом мире окружающих их презренных врагов.
Трагедия, обрушившаяся на Терстона, поразила Элайшу почти так же сильно, как и самого Абрахама Лихта: потому что из всех на свете людей после отца Элайша больше всего любил своего старшего брата и восхищался им.
Не потому, что Терстон был особо сообразительным или находчивым (Милли, например, была сообразительнее — почти такой же, как сам Элайша), и не потому, что Терстон был таким привлекательным молодым человеком, что на него нередко оглядывались на улице (ибо Элайша считал себя более привлекательным), а потому скорее, что Терстон обладал исключительно уравновешенным характером, был на редкость естественным, спокойно переносил поражения и никогда не кичился своими успехами, что было свойственно Лайше. (Ах, Элайша! По мере того как он становился подростком, потом — юношей, ему было все труднее самому предвидеть, какое настроение охватит его в следующий час, если, разумеется, он не находился под отцовским контролем. Успехи, подобные тому, который он одержал в роли Черного Призрака из Чатокуа, положительно приводили его в экстаз, поражения ранили несказанно, и дурное настроение преследовало его месяцами, хотя, как утешал их в таких случаях папа, «провал есть не что иное, как хитрая репетиция Успеха: не теряйте веры!»)
Когда однажды печальным вечером в середине лета папа наконец позвал Элайшу к себе, чтобы сообщить, что Терстон арестован в Атлантик-Сити и ему грозит смертная казнь, Элайша поначалу не мог поверить в то, что услышал; он почувствовал, как кровь медленно отливает от головы и ноги начинают слабеть; он опустился перед отцом на колени, словно ребенок, сложив ладони и умоляя, чтобы отец позволил ему помочь, потому что, разумеется, он может оказаться особенно полезным в спасении брата.
Но казалось, впервые в жизни у Абрахама Лихта не было готового ответа, и он так же нуждался в утешении, как сам Элайша.
— Да, конечно, ты поможешь освободить Терстона… Он будет спасен… Он не может не быть спасен, ведь он — мой сын… Мы это сделаем… как-нибудь. Мы его освободим, — говорил отец, но голос его, к изумлению Лайши, дрожал. — Сейчас, в настоящий момент, я пока не знаю, как точно, но мы это сделаем, мы обязаны.
Долгими бессонными ночами Элайша фантазирует, придумывает сумасбродные пьесы, в которых он (один? или во главе отряда вооруженных людей?) спасает старшего брата от виселицы: он наводит такой ужас на стражу и собравшихся зевак, что никто не решается поднять на них руку; через каких-нибудь несколько минут Терстон оказывается свободным и скачет прочь на горячем, громко топающем и всхрапывающем жеребце.
Или другой — душераздирающе-печальный — сюжет: Элайша жертвует собой ради Терстона. Он становится между Терстоном и пулей, тому предназначенной, осознавая, что отец, и Милли, и весь мир, несомненно, оценят его храбрость и самоотверженность.
То, что столь невероятные сюжеты возможно осуществить, рождает в сердце Черного Призрака надежду, что они могут осуществиться.
Терстон, конечно, может быть и раньше освобожден из тюрьмы в соответствии с одним из менее экстравагантных, но более разумных планов отца: например, убежав по подземному туннелю или перебравшись через стену, в этих случаях потребуется помощь (оплаченная, разумеется, помощь) всевозможных охранников, сокамерников, вероятно, тюремного психиатра, а возможно (если средства Абрахама Лихта к настоящему моменту еще не совсем истощились), и самого начальника тюрьмы. «Потому что узники бегут из тюрем с тех самых пор, как существуют тюрьмы», — с неопровержимой логикой напоминает отец.
Однако позднее отец начинает рассуждать на тему о какой-то траве или лекарстве, сделанном из разновидности болотного паслена (Circaea quadrisulcata), которое, говорят, хорошо известно Катрине. Этот болотный, или колдовской, паслен обладает такой силой, что одного глотка такого лекарства достаточно, чтобы у здорового мужчины наступил ступор; в течение часов двенадцати или даже больше его нельзя будет отличить от мертвеца — невозможно будет прослушать пульс и дыхание, тело станет холодным. Однако опасность заключается в том, как догадывается Элайша, что средство может и впрямь стать причиной смерти, если дать его человеку нездоровому, а также в том, как предупреждает Катрина, что очень трудно точно определить дозу, необходимую для того, чтобы погрузить человека в транс, а не убить.
«Может быть, отцу испытать лекарство на Маленьком Моисее?» — с сомнением думает Элайша.
Однако то ли из осторожности, то ли по забывчивости больше никогда не возвращается к этой мысли.
За тринадцать лет до того Терстон спас ему жизнь.
Воспользовавшись отсутствием отца, трое мальчиков — Терстон, Харвуд и Элайша (которому было тогда семь лет) — отправились исследовать неведомую территорию болот; они прошли по узкой полоске твердой суши, образовывавшей естественный мостик через топь и густо поросшей вьющимися растениями, и углубились в болотную сырость, с огромным трудом прокладывая себе путь. Если бы их спросили, куда и зачем они направляются, они не смогли бы ответить на этот вопрос: просто Терстону нечего было делать и не сиделось дома, а Харвуд имел обыкновение следовать за ним повсюду; маленький же Элайша умолил их взять его с собой.
Однако, оказавшись среди болот, Элайша вскоре отстал от братьев, он был намного меньше их, ловок и сообразителен, как обезьянка, и ему в голову вдруг стукнула мысль, что он может идти сам, куда захочет, несмотря на то что Терстон постоянно тревожно окликал его.
«Пусть найдут меня, если смогут, — подумал Элайша. — В конце концов я ведь — Маленький Моисей!»
Неудивительно, что непоседливый ребенок уже через полчаса заблудился и не имел ни малейшего понятия о том, где находился: то ли по-прежнему двигался вперед, то ли ходил кругами. Лицо и руки у него покраснели от укусов насекомых, ноги промокли выше колен, от него несло болотной грязью, он дышал прерывисто и шумно.
Как непривычно и как страшно вот так вдруг оказаться в одиночестве.
Словно папа никогда и не вылавливал его из потока, не спасал и не приносил домой…
Он больше не слышал голоса Терстона, но был слишком упрям — или пристыжен, — чтобы звать на помощь. Со всех сторон опускался бледный, таинственно светящийся молочный туман, пахнущий холодной застоявшейся водой и разложившимися трупами животных; все здесь было незнакомо; он почти бежал, спотыкаясь и падая на колени, бежал, меняя направление, каждый раз убеждая себя, что вот эта дорога ведет назад, к дому, и скоро он увидит церковную башню.
Хотя с утра было жарко и тихо, теперь казалось, что верхушки деревьев впереди свирепо раскачивают резкие порывы ветра, возникающие из ниоткуда и так же внезапно затихающие. Что это плюхнулось в воду где-то рядом?.. Или, наоборот, расправив крылья, резко взлетело с поверхности воды, мгновенно просквозив через жесткие заросли лиан?.. Сердце у Элайши чуть не выпрыгнуло из груди, когда он увидел неясную женскую фигуру, маячившую впереди (но то был просто туман, сгущающийся и рассеивающийся), и услышал слабые отзвуки смеха. Рядом с ним летела гигантская бабочка — или это невероятных размеров лилия, усеянная, как казалось, ярко светящимися глазами, глазами, похожими на его собственные, сердито уставившимися на него.
Он закричал и побежал, спотыкаясь и падая.
Он звал Терстона — «Терстон!», — пока не охрип.
Теперь его мучили еще и голод и такая жажда, что все болело во рту. Он удалялся от пасторского дома — от своего дома — уже несколько часов, дней, он никогда не сможет благополучно вернуться туда; отцу сообщат, что он заблудился на болоте, что он убежал, и отец скажет: Тогда он больше мне не сын… Облако москитов, как бы энергично он от них ни отбивался, облепило Элайшу, высасывая кровь из его лица и шеи, из неприкрытых рук. Чтобы избавиться от них, нужно было бежать, бежать, не останавливаясь, но он так обессилел, что не мог бежать, и был так голоден, что непроизвольно начал в отчаянии срывать и есть ягоды… Маленькие белые ягоды, сморщенные и горькие на вкус… А потом случайно, к своей великой радости, он увидел странный, похожий на сливу фрукт, свисавший с сучковатого дерева, напоминавшего глицинию. Он жадно впился в него зубами — это был самый вкусный плод из всех, какие ему доводилось пробовать, хотя… очень странный: величиной с яблоко, но тяжелый и мягкий, необычайно сочный, цвета синего дымчатого винограда, такой темный, что казался почти черным.
Бедный Элайша! Горячий сок тек по его подбородку. Не в силах остановиться, он поглощал сочную мякоть с ненасытной жадностью, пока в горле не запылал огонь и оно не сомкнулось намертво. Мальчик задыхался, пытаясь ловить воздух, давился, его тошнило, он кидался из стороны в сторону, пока…
— Лайша! Вот ты где.
Кто-то встряхивал его, чтобы привести в чувство. Потом осторожно поднял. Это его высокий светловолосый брат Терстон. Он нашел его. Спас. Притом без единого слова упрека, без брани, без гнева. Насквозь промокший, задыхающийся, Терстон поднял его своими сильными руками и перенес на твердую землю, в безопасное место.
А Элайша крепко обхватил брата за шею, благодарно, исступленно рыдая от запоздалого страха. Терстон был его старшим братом, который любил его и будет любить всегда. (Если это несчастное, жалкое существо, воняющее болотной жижей, с провалившимися, опухшими от укусов мошкары, почти не видящими глазами и содранной кровоточащей кожей действительно Элайша, а не ребенок, подкинутый эльфами взамен его.) Утратив всякую гордость, Элайша прижался к брату, как младенец, лишенный сил, воли и способности защитить себя. О, Терстон! Когда-нибудь я отплачу тебе тем же.
А еще есть Миллисент. Красавица Милли, его сестра.
О которой в эти тревожные дни Элайша не позволял себе думать или оставаться с ней надолго в одной комнате, особенно если им случалось оказаться там наедине.
«Весело иду я по жизни»
Миллисент Лихт разбивает сердца, однако это не ее вина, раз вокруг столько сердец, готовых разбиваться.
И столько удивительно глупых людей!
Одноклассницы — и в школе Хьюзби в Олбани, и в школе мисс Меткалф в Хартфорде, и в Христианской академии для благородных девиц в Лейк-Шамплейн — всегда обожали ее, обхаживали робко, но настойчиво, оспаривали друг у друга право на ее капризное внимание, тайно подкидывая маленькие подарочки, потому что Миллисент Лихт была самой хорошенькой из всех и гораздо более умной, чем остальные (как вынуждены были признавать даже классные дамы). А те, кому посчастливилось познакомиться с мистером Лихтом и перекинуться с ним парой слов, — о, под каким сильным впечатлением от этого знакомства они пребывали! (Ибо, если оставить в стороне их собственных отцов, разве не был отец Миллисент образцом всего истинно мужского? И как внимателен бывал он к ним.) Некоторым избранным девочкам Миллисент также показывала фотографию своего старшего брата Терстона, многозначительно улыбаясь… В этой едва заметной улыбке заключался неясный намек, неопределенное обещание того, что когда-нибудь, возможно, они смогут и с ним познакомиться. (Одна пятиклассница, особенно привязавшаяся к Миллисент, переводя взгляд с фотографии Терстона на саму Милли и обратно, даже заявила: «Послушай, он не уступает тебе по красоте! Вы похожи на греческих богов!» — на что Миллисент, рассеянно улыбаясь и ничем не выдав удовольствия, которое, несомненно, испытала, скромно ответила: «О, прошу тебя! Мы всего лишь простые смертные».)
Иногда шушукались, что Миллисент Лихт разбивает сердца, потому что она жестокая, распущенная, самовлюбленная, любит манипулировать окружающими и получает удовольствие, причиняя боль другим (вспомнить хотя бы о том, как она смеялась, узнав, что малышка Эдди Сэксон как-то дождливым мартовским вечером пыталась утопиться из-за того, что днем Милли говорила с ней пренебрежительно; или о том, как недавно, в прошлом году, в академии Лейк-Шамплейн, обе ее соседки по комнате солгали, чтобы спасти ее от исключения, когда возникло подозрение в том, что она жульничала на экзамене по французскому языку, и были сами с позором изгнаны за это из школы?); но в действительности дело было в том, что Милли просто забывала: расставшись с подружками, она уже через час забывала об их существовании и искренне удивлялась тому, что на свете вообще существуют такие глупые и инфантильные существа.
«Они так серьезно относятся к себе, — размышляла она в недоумении, — как будто их ничтожные горести, их ревность, их разочарования имеют космическое значение. Словно это я виновата, что они чувствуют себя обиженными из-за того, что я не в состоянии отвечать на их любовь».
И точно: как можно было возлагать на хорошенькую головку Миллисент Лихт вину за то, что, навязывая ей непрошеные дары, иные из ее одноклассниц чувствовали себя уязвленными в самое сердце, когда Милли, вежливо принимая подарки, отклоняла предложения дружбы; за то, что несколько неопределенных слов, которые она обычно бормотала в ответ, они принимали за клятву верности, — будто у Миллисент Лихт не было дел поважнее, чем помнить о подобных детских глупостях.
Поэтому она часто ловила себя на том, что, широко открыв глаза и изобразив на своем фарфорово-кукольном личике жалость, как бродвейская инженю в заигранной пьесе, произносит одни и те же слова: «Не понимаю, что ты имеешь в виду? Что, собственно, случилось? Пожалуйста, перестань плакать!» — между тем как на самом деле едва сдерживает злой смех, глядя, как какая-нибудь глупая девчонка позволяет себе лить слезы якобы из-за нее. Самый неприятный случай произошел на второй год обучения Милли в школе мисс Меткалф: тринадцатилетняя девочка, учившаяся классом ниже, внучка Эндрю Карнеги, пыталась перерезать себе вены тупым ножом для точки карандашей, когда Милли, безо всякого злого умысла, презрительно одернула ее в часовне. Поднялся страшный скандал, истеричную наследницу семейства Карнеги увезли домой, а Абрахама Лихта вызвали в школу, чтобы он забрал Милли.
— Как будто это я виновата. А я ни в чем не виновата, папа! Не виновата.
— Разумеется, ты ни в чем не виновата, дорогая, — отвечал Абрахам, целуя свою раздраженную дочь в лоб, — но, понимаешь, иногда приличия требуют выразить сожаление.
— Сожаление? О чем?
— О том, что эта глупышка вообразила, будто должна умереть из-за тебя, и, вопреки здравому смыслу, чуть не наложила на себя руки. О том, что поранила себя и внесла такую сумятицу в собственную жизнь и жизнь своей семьи.
— Но при чем тут я, папа? Какое я ко всему этому имею отношение? Почему все так несправедливы ко мне! — выкрикивала Милли, вытирая слезы. — Они смотрят на меня так, словно я сама вложила нож в руки Эдди. Нож! Одно название, этим тупым ножом и масло не разрежешь. Если бы я…
— Тише, дорогая, — быстро перебил Абрахам, сжав ее плечо достаточно крепко, чтобы завладеть ее вниманием. — Не произноси слов, которые могут быть неверно истолкованы и неправильно воспроизведены.
Но делать было нечего. Почтенная директриса мисс Меткалф лично заявила, что не может быть и речи о том, чтобы оставить Милли в школе. Да и сам Абрахам считал, что в сложившихся обстоятельствах ей не стоит там оставаться, хотя училась Милли весьма прилично и отношения с учителями у нее складывались превосходно.
— По крайней мере они должны вернуть тебе плату за оставшееся до конца учебного года время, папа, — смягчилась Милли.
— До конца учебного года? — подмигнув, ответил Абрахам. — Девочка моя, мисс Меткалф согласилась вернуть мне деньги за весь год начиная с сентября, а кроме того, попечители согласились выплатить мне щедрую сумму «компенсации» — чтобы возместить моральный ущерб, нанесенный тебе и твоей семье.
Это развеселило Милли, и она захихикала так, словно ее кто-то пощекотал.
Встав на цыпочки, она поцеловала своего красивого, в данный момент безусого, отца в щеку и, раскрасневшись от возбуждения, стала нетерпеливо дергать его за руку.
Эта история будет неоднократно повторена потом в Мюркирке. Особенно любила Милли рассказывать ее Лайше.
Не по годам развитая девочка! Так же, как в детстве она, к удивлению окружающих, обладала некоторыми качествами взрослого человека, так, повзрослев — теперь ей было уже хорошо за шестнадцать, — она сохранила иные очаровательные детские черты. Этому обучали всех хорошо воспитанных девушек того времени, но очень немногим удалось усвоить урок.
Своим милым, приятно резонирующим дрожащим сопрано Милли — на радость отцу — поет нежную арию из «Богемы», одну из его любимых:
а также рваной скороговоркой — написанную сложным размером арию из великолепной «Лукреции Борджиа» («Лучше смеяться, чем вздыхать»); знаменитую «Весело иду я по жизни» из «Травиаты» и — с кокетством опытной оперной дивы — бессмертное «Сердце красавиц склонно к измене» из «Риголетто». Когда Милли было семь лет, вскоре после того, как она лишилась своей неверной матери, Абрахам заметил, что ей очень нравятся бродвейские мюзиклы и вообще сценические действа, в том числе «Золушка» Россини в театре Бута. В течение многих месяцев и даже лет после посещения этого спектакля она исполняла арии Золушки и представляла себя примадонной. В мечтах она видела свой дебют на сцене театра Бута, а папу, Лайшу и остальных — в зале, гордо взирающими на ее успех.
А потом во всех газетах — восторженные рецензии и на полполосы ее улыбающееся лицо.
В течение шести напряженных месяцев она берет уроки вокала у пожилой неаполитанки, некогда дебютировавшей в «Трубадуре», пробует учиться играть на фортепьяно, на арфе, обучается даже классическому танцу, обнаруживая огромный энтузиазм, но весьма скромные способности, пока не теряет терпение: потому что это требует такого труда! Такого утомительного, черт возьми, труда! А Милли уверена, что сценическая деятельность отнюдь не предполагает больших усилий, разве что для запоминания текста; но по какой-то причине, не понятной ни ей, ни ее отцу, учитывая ее великолепные данные, Миллисент Лихт так ни разу и не пригласили ни в один спектакль. Когда по соображениям, имеющим отношение к проекту Абрахама Лихта «Плантации сахарного тростника. Сантьяго-де-Куба», они с папой и Лайшей в течение некоторого времени живут в Новом Орлеане, Милли берет уроки сценической речи у мадам Латур, парижанки с улицы Бурбонов. В другой раз, когда семейство живет в Филадельфии, — уроки акварельной живописи и рисунка, уроки хороших манер и, пока в ее распоряжении находится резвая племенная кобыла, принадлежащая подруге отца, — уроки верховой езды у красивого молодого тренера-бразильца. Ей четырнадцать лет, и она почти забыла свою мать; ей пятнадцать лет, шестнадцать… к этому времени отец уже не раз пользовался ее услугами в качестве «дочери» то мистера Энсона, то мистера Берри, то мистера Фрелихта, то мистера Сент-Гоура — в зависимости от своих намерений и места действия. Несмотря на юный возраст, Милли, если это нужно отцу, может исполнять даже роль хозяйки дома. Она одевается в восхитительные шелка, бархат и шерсть, какие только можно приобрести за деньги, когда, как саркастически замечает отец, есть деньги, чтобы их покупать; она делает изысканные прически с лентами, локонами-трубочками или косой, по-королевски уложенной короной вокруг головы, а то и просто распускает свои великолепные блестящие гладкие волосы по плечам. От матери у нее не осталось ничего, потому что однажды, в детском порыве раздражения, она изрезала ножницами большинство вещей, принадлежавших матери (одежду, белье, письма, книги); зато у нее есть прелестная горностаевая муфта и такая же шляпка, а также красное пальто из ангорской шерсти с норковым воротником; а еще у нее есть любимая персидская кошка (по имени Золушка), которая, однако, вскоре внезапно умрет; братья, несмотря на очевидность того факта, что отец любит ее больше всех, не ревнуют его к ней… кроме, пожалуй, Харвуда, который ревнует всех ко всем. (Хотя она никогда никому в этом не признавалась, Харвуд иногда пугает Милли, потому что бывает откровенно враждебен. В его маленьких, близко поставленных немигающих глазах ее фарфоровая красота ничего не стоит, а ее уловки, манерничание, ее манера говорить и жестикулировать в лучшем случае вызывают у него угрюмую улыбку. Когда они были маленькими, он часто щипал ее, пинал, дергал за косы, шепотом говорил ей на ухо всякие гадости… но это не важно, не важно, потому что он не в счет: ведь весь остальной мир обожает Миллисент Лихт и готов отдать за нее свою душу.)
Короче говоря, Миллисент ни в чем не знает недостатка и ничего, чего у нее нет, не желает — разве что (но это просто детская фантазия, о которой не стоит говорить папе): чтобы Время остановилось… и Миллисент навсегда осталась его любимой дочуркой, как сейчас. И папа продолжал бы любить ее так же, как любит теперь, на веки вечные. Аминь.
И вот теперь, безо всякого предупреждения, вдруг, когда Милли всего восемнадцать лет и она только что с триумфом исполнила роль Мины Раумлихт, а впереди, казалось, столько потрясающих новых планов, именно теперь детское блаженство, похоже, заканчивается.
Потому что Терстон попал в руки их врагов и приговорен к смертной казни. А Элайша, ее Лайша, стал вести себя как-то странно.
И папа теперь не обращает на нее никакого внимания. Большую часть января и февраля он отсутствует, ездит по делам (Баллок подал апелляцию по делу Терстона в Верховный суд Нью-Джерси, нужно больше денег, больше денег нужно всегда, чтобы все прошло благополучно); а когда папа дома, в Мюркирке, он бывает таким усталым, печальным и рассеянным, что едва замечает свою старшую дочь.
«То ли мне кажется, — с раздражением думает Милли, — то ли папа заранее оплакивает Терстона. Но этого же не может быть!»
Разумеется, Милли это не кажется: в изменившейся атмосфере их дома мисс Мина Раумлихт, равно как и ее «сестры» Дельфина Сент-Гоур, Арлина Фрелихт и так далее, больше не властны заставить Абрахама Лихта улыбаться или хохотать от восторга; не властны высечь из него искру той таинственной энергии, которая, тлея и мерцая, возгорается в конце концов новыми идеями, планами, замыслами, новой стратегией Игры. Папин лоб теперь постоянно нахмурен, взгляд задумчив, несчастный размышляет — почти видно, как ворочаются мысли у него в голове, — однако размышления эти приносят ему, судя по всему, мало радости. Если прежде, наблюдая, как отец вот так же задумывается, дети ожидали, что он вот-вот хлопнет в ладоши и радостно воскликнет: «Эврика! Придумал!» — то теперь им приходится привыкать к его бесплодным размышлениям, не имеющим конца.
Он смутно представляет себе, какими могут быть дальнейшие попытки освобождения Терстона в случае отказа от пересмотра дела, и неубедительно утешает Милли тем, что, «когда все это кончится», они воссоединятся с Терстоном в Канаде, или в Мехико, или на Кубе… быть может, Абрахам Лихт перенесет свой штаб в одно из этих заграничных мест, где наверняка сможет, сохраняя инкогнито, заново начать карьеру.
— Есть нечто бесконечно привлекательное, нечто сугубо американское в том, чтобы начинать все сначала, не так ли? — говорит отец странным, каким-то по-детски наивным голосом. — То, что для Терстона будет вынужденной необходимостью, для нас может оказаться удачным шансом.
Милли делает над собой усилие и начинает утешать отца, она гневно обрушивается на врагов, которые посмели обвинить ее брата, ее невиновного брата, в преступлении, до которого ни один из Лихтов никогда не унизился бы. Если бы только был найден настоящий убийца! — ярится Милли. Если бы только полиция исполнила свой долг и арестовала его! Хотя даже в этом случае они не смогли бы простить оскорбления, которое нанесено семье, задыхаясь, говорит Милли, имея в виду то, что Терстона объявили виновным, словно он на самом деле был виновен.
Абрахам слушает слова дочери, глядя, как влажно мерцают в отблесках очага ее прекрасные глаза, и не отвечает, когда она упоминает о настоящем убийце.
Ведь Милли не знает о причастности Харвуда. Как и прочие домочадцы, кроме отца, она ничего не подозревает.
— Но ты ведь спасешь Терстона, папа, правда? Он будет спасен? — умоляюще вопрошает Милли, понизив голос так, чтобы младшие дети не могли ее услышать и не испугались; и Абрахам Лихт встает со своего кресла у камина и мягко говорит:
— Да, Милли, конечно. Терстон будет спасен. — Он произносит это с легким, едва уловимым ударением на имени сына, словно полуосознанно они говорят и еще о ком-то, неназванном.
Как давно это было, почти десять лет назад. Милли тогда была совсем еще маленькой девочкой, младшим ребенком в семье, и дом при церкви на краю болота не был так густо населен, как теперь. Вот она тихо крадется по коридору с широко открытыми в испуге глазами, потому что ей показалось, будто она слышала сердитые голоса взрослых: отец, которого она обожает, с удивлением, но раздраженно объясняет, что Морна не должна, ни в коем случае не должна ничего брать в голову, потому что все дела — это его дела, а не ее; а мама, которую Милли тоже обожает, звенящим, словно разлетающееся стекло, голосом возражает: но я должна знать, Абрахам! Я требую, чтобы ты мне рассказал, это ведь и моя жизнь, не только твоя… моя и моей дочери.
Отец резко отвечает: я не обсуждаю свои дела с женщинами.
На что мама, вдруг рассмеявшись, говорит: С женщинами! Значит, я — женщина! А я-то тешилась иллюзией, что я твоя жена!
Потом накатывает тишина, тишина, тишина…
Удушливые волны тишины…
Потому что папа ничего не отвечает. Папа не снисходит до ответа.
И маленькая дрожащая девочка, скорчившаяся в холле, в страхе заткнувшая рот кулачком, не слышит больше ничего, кроме душераздирающих женских рыданий.
(Моя и моей дочери: какие необычные слова!)
(Неужели эта боль — дочь, эта мука — дочь, этот парализующий, удушающий страх — дочь?)
Мама требует, чтобы Катрина и мальчики называли ее «мисс Хиршфилд» («Потому что я никакая не „миссис“, похоже, Бог не ниспослал мне этой благодати»), а малышка Милли чтобы вообще никак ее не называла.
Потому что дочь — это ее позор, ее ошибка, ее грех.
Потому что дочери не существует.
Слишком много было огорчений, говорит мисс Хиршфилд, горько смеясь, слишком часто их вышвыривали из дома, слишком часто приходилось бежать под покровом ночи, спасаться от кредиторов, полицейских, разгневанных «инвесторов»; и сердце мисс Хиршфилд обратилось в камень: в сущности, оно обратилось к Богу. «Потому что Он не предаст меня, Катрина, это точно, правда? Ведь Он — чистый дух, а то, что Он — „он“, просто случайность!..»
Бог Отец.
Бог ее отца, преподобного Тадеуша Л. Хиршфидда из Рэкхема, штат Пенсильвания, которого она предала (и предает до сих пор, если он еще жив), сбежав с Абрахамом Лихтом и поклявшись любить его до конца жизни и следовать за ним, куда он ни пожелает, и быть истинно христианской матерью его детям.
Мать наставляет дочь.
Мать поучает дочь, преклонившую вместе с ней колена в молитве.
— …«И придет день, когда люди будут искать смерти и не найдут ее; и будут они хотеть умереть, но смерть будет бежать их». Ты понимаешь эти слова, Миллисент? — со смехом спрашивает женщина, тряся Милли за худенькие плечики. — Ты понимаешь? Или ты еще слишком мала?
Случаются, однако, и моменты примирения, неожиданные часы счастья, даже покоя. Потому что Абрахаму Лихту невозможно противиться, когда он не желает, чтобы ему противились. Когда он решает снова ухаживать за своей Морной, снова обожать ее (свою узколицую золотисто-белокурую Сиенскую мадонну), не обращая внимания на то, что волосы у нее редеют, не обращая внимания на ее поджатые губы. Он все еще способен заставить ее плакать в его объятиях, как и сам плачет — в ее объятиях, ибо он действительно ее муж, а она действительно его жена… когда он того желает.
А между ними, над ними — их хорошенькая маленькая Миллисент.
Которая рано постигает, как удобно быть хорошенькой и маленькой.
Которая рано постигает, как важно уметь хранить тайны.
Миллисент, дитя мое, где мы?
Это ад?
Царство на дне мировой бездны, куда никто не может войти по своей воле.
Но вот колокольня — благословленная Богом!
И погост, смердящий и гниющий от лоснящихся мертвецов.
В чадящей кухне Катрина разжигает дровяную печь, кашляя при этом так, что из глаз начинают литься слезы. Неужели возможно, чтобы гордая, сдержанная Катрина, самая гордая из всех женщин, вдруг оказалась униженной? Чем? Чтобы она начала утрачивать свою гордость, свое деревенское упрямство? Чтобы она стала пугать детей сказками про болото, про сына мельника, влюбившегося в дьяволицу и погубившего свою душу, и про мисс Мину Харвуд, губернаторскую дочку, которая тоже погубила свою душу и сгинула в болотах. А тем более про юную Сару Уилкокс — или ее звали Сара Худ? — которая не была уроженкой Лондона, похоже, не была даже англичанкой, судя по ее выговору. Про принцессу, которая умерла (но все еще живет) в старом Мюркирке.
В болотах. Глубоко-глубоко в пучине болот.
Куда вы ни за что не станете ходить, ведь правда?
Потому что сейчас лето, и воздух такой влажный, такой душный, как выдох разгоряченного человека, туман собирается в клубы, скользящие по лицу, словно тучи мошкары. Мать шепчет дочери, Морна — Миллисент, что она не может дышать, что боится задохнуться. О, дитя мое, моя дорогая девочка, взять ли мне тебя с собой, Милли, или ты слишком его дочь?
Если бы у мамы была лодка с непрогнившим дном, она увезла бы дочурку в безопасное место, переплыв через широкий, поросший водорослями пруд, пруд, огромный, как озеро, мимо клонящихся к воде пампасной травы и шелестящих ив, мимо полузатопленных упавших деревьев, мимо мерцающей пелены стрекоз — в потаенное сердце топи. Дочь и не-дочь, ты пойдешь со мной? В тот мир, куда ни один человек из другого мира не смеет проникнуть?
Что там, ад? Или наше спасение?
Куда никто не смеет проникнуть.
А утром внезапно задул сильный ветер. Резкий, очищающий северо-восточный ветер. Небеса разверзлись, и из них хлынул шквальный ливень. И все переменилось.
Бизнес процветает! В экономике наступил шумно провозглашенный бум!
В один прекрасный суматошный день папа снова перевозит их в город — но в какой город? Это был не Вандерпоэл, не элегантная Стьювесант-сквер, где у него, кажется, остались некоторые неоплаченные долги… Но у них есть экипаж, они наняли кучера, Терстон и Харвуд записаны в частную школу для мальчиков «из хороших семей», с Элайшей занимается молодой семинарист-ирландец, а у Милли, жизнерадостной Милли, дочери и не-дочери, есть гувернантка-француженка и очаровательный зонтик из шелка и органди; и вся семья Лихтов посещает церковные службы в массивной белостенной епископальной церкви, где ангельский хор поет с такой страстью, что Милли съеживается и зажимает ладошками свои нежные ушки — Что это, рай? Их рай? Я ненавижу его! — хотя при этом она продолжает улыбаться так же, как ее теперь веселая, со светящимся взором мама в компании новых друзей, папиных новых друзей и деловых партнеров, когда Милли и девятилетний сын мэра катаются в изумрудно-зеленой повозке, запряженной двумя улыбчивыми немецкими пастушками, по пологой лужайке перед домом мэра и, купаясь в обожании старших, понимают, что они любимы и благословенны. Однако уже на следующее утро папа поднимает их на рассвете, на улице перед домом наготове стоит экипаж, им нужно спешить, они должны скрыться, никаких вопросов и никаких слез, пожалуйста! Потому что они возвращаются в Мюркирк, в старую каменную церковь, к Катрине, которая встречает их без каких бы то ни было видимых эмоций, только иронически спрашивает, как долго на сей раз они здесь задержатся?
И куда подевалась папина шумная жизнерадостность? И почему у мамы по щекам текут горькие слезы? Если она будет все время плакать, она заболеет и умрет раньше срока, предупреждает ее Катрина.
На что мама спокойно отвечает: Как можно умереть раньше срока? Бог располагает; всему свой срок.
А теперь начинается набожный период, потому что Абрахам Лихт снова в отъезде. Тот безумный отрезок жизни Милли будет с ужасом вспоминать до конца своих дней.
Потому что ее, дочь Морны, то есть дочь мисс Хиршфилд, начинают обучать дисциплине, ее, а не ее буйных, своенравных братьев, потому что они мисс Хиршфилд — не сыновья. Кудрявые волосы Милли заплетают в такую тугую косу (мама делает это сама, не доверяя Катрине), что у нее даже поднимаются уголки глаз и Лайша дразнит ее китаянкой; ее нежную кожу трут и скребут, чтобы очистить от всяческой грязи; особенно чистыми должны быть интимные места, их моют грубым щелочным мылом — обязательная процедура, учрежденная мисс Хиршфилд, — потому что именно они есть пристанище греха.
И Милли, единственная из детей, должна преклонять колени в молитве, потому что она — дочь. Такая хорошенькая, такая милая и такая лукавая — истинная дочь дьявола.
Вот Милли, которую с прошлого утра кормили лишь сваренной на воде овсяной кашей, заставляют стоять на коленях в душной старой церкви, не позволяя ни шевелиться, ни плакать; под неусыпным наблюдением возбужденной мисс Хиршфилд она должна читать Евангелие от Матфея по промокшей Библии, которую та держит в дрожащих руках прямо перед ее остекленевшими глазами:
Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», — и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это — начало болезней[9].
Ее голые колени немели от боли, упираясь в твердый деревянный пол, в голове звенело от голода, усталости и удивления. Вот пекановый крест, кажется, поплыл перед ней. А эта изломанная фигурка — неужели это ее Спаситель Иисус Христос? Но что такое «спаситель» и кто такой Иисус Христос? Она не решается спросить, потому что рядом с ней мама, мисс Хиршфилд, она всегда рядом, всегда упорно шепотом возносит молитву Богу, прося Его спасти их обеих.
Ибо вот Мать, а вот Дочь — и она есть плод греха.
Ибо вот следствие того, что она отвернулась от Бога, чтобы предаться земной плотской любви.
Папа сердится. Папа приходит в ярость, узнав от Лайши о религиозном «обращении» Милли — насильственном ее «приобщении к догматам», — о том, что эта женщина, Морна, сделала назло ему, понимая, как он боится и ненавидит всех фанатиков Священного Писания. Силой оторвав ребенка от убитой горем матери, подняв девочку на руки, папа уносит ее к себе в кабинет, целует и угощает вкусными «негритянскими конфетками» — земляными орехами, сваренными в черной патоке, сажает на колени и заверяет, что никакого Бога нет, нет никакого Спасителя, нет ни ада, ни рая, нет и греха; но она, безусловно, должна радоваться тому, что мама заставила ее учить библейские стихи. Это ей пригодится. «Потому что невозможно переоценить значение Священного Писания, строчки из которого небрежно и естественно срываются с твоего языка, словно идут из самой глубины души», — с улыбкой поучает ее отец, и спустя годы Милли получит возможность убедиться, что он прав: учась в школе или помогая отцу в его рискованных предприятиях, она замечала, как полезно бывает порой процитировать Библию или порассуждать с почтительным знанием предмета о Спасителе нашем Иисусе Христе.
«Значит, моя бедная повредившаяся рассудком мать в конце концов готовила меня к жизни, — размышляет Милли, — думая, что она служит Богу и не понимая, кому служит на самом деле».
…однажды в начале осени 1898 года… когда дочери было шесть лет… а отец снова куда-то уехал… и жаркое марево стояло над Мюркирком много дней, не исчезая… и мама жаловалась Катрине, что не может дышать… прижимая к груди костлявую руку и моргая маленькими, сощуренными слезящимися настороженными глазами, тонувшими в огромных провалившихся глазницах… взгляд ее всегда был прикован к дочери… сухие губы растрескались, голос был почти неслышим — не могу дышать, не могу дышать… когда папа был в отъезде, отсутствовал неделями (снова влюбившись? готовясь, словно юный жених, к новой свадьбе? хотя никто пока в Мюркирке не знал о существовании мисс Софи Хьюм)… Катрина говорила, что бесполезно звать доктора Дирфилда, потому что мюркиркцы ненавидят Абрахама Лихта и всех его домочадцев и желают им всяческих хворей… а Катрина знала, что говорит… день проходил за днем, но жаркое марево не исчезало… и как-то утром дочери сказали: «Твоя мама нас покинула. Ушла и не вернулась».
…оставив свои поношенные, обтрепавшиеся вещи, свои застиранные простыни, свои книги, свою Библию…
…оставив дочь, которая не сильно горевала и очень скоро, побуждаемая Катриной, стала забывать маму.
«Потому что он быстро забудет ее, уверяю тебя», — говорила Катрина.
Так мисс Морна Хиршфилд предала их всех, покинув.
Не оставив записки.
И не оставив по себе никаких сожалений.
(Если, конечно, думает Милли, она не умерла. И не похоронена на погосте Назорея или в глубине болота. Но какое это имеет значение?)
Ведь ее место в Мюркирке легко заняла новая молодая папина жена: такая новая для всех них, такая молодая и такая очаровательная…
(Размышляет ли Милли, теперь уже юная женщина восемнадцати лет, над подобными вещами? Нет, не размышляет.
Кроме того случая, когда ветреным майским утром, поднявшись до рассвета, взволнованная «мисс Мина Раумлихт» ловко привязывала к животу подушку, надежно закрепляя завязки на бедрах и талии, чтобы подушка не сползала на ходу или если Мина должна будет резко опуститься на стул или, возможно, упасть в обморок… именно в тот момент ее посетило неожиданное видение (и к чему бы это? ведь не было никакой связи) обреченной женщины, которая давно, в другой жизни, была ее матерью… то есть матерью маленькой Миллисент: обреченная мать обреченной дочери.
Мелкие детские зубы Мины обнажились в неожиданной улыбке.
Потому что теперь у нее не было матери и ей не о ком было горевать; но она сама была (по иронии судьбы) будущей матерью.
Потому что все это не имело никакого значения.
Потому что ничто, ничто не имело значения: только Игра, в которую никогда нельзя играть так, будто это всего лишь игра.)
— Милли! Не надо больше грустить! Я мертв!
Так бормочет Терстон, счастливо улыбаясь. И этот его открытый мальчишеский взгляд, точно такой, как в детстве, тепло его пальцев, сжимающих ее руку, хотя сейчас они в зале суда, перед лицом самого Закона, нет никакого вреда в том, чтобы признать, что они — брат и сестра: дети Абрахама Лихта.
Она просыпается, сердце ее бешено колотится от ужаса, и в ушах все еще звучит этот голос, ласковый, успокаивающий, тот самый голос ее высокого белокурого брата: «Милли! Не надо больше грустить! Я мертв!»
Утром 22 марта апелляция Терстона была отклонена Верховным судом Нью-Джерси, а утром 23 марта разгневанный отец уволил Гордона Баллока.
И в ту ночь Милли увидела во сне, будто она снова в зале суда, на процессе брата, который (очевидно) еще продолжается… и вдруг, к ее великому удивлению, Терстон встает и подходит к ней, ласково берет ее руки в свои… улыбается этой своей так хорошо знакомой улыбкой, улыбкой Терстона, привычно склоняется, чтобы поцеловать ее в щеку; его глаза, которые она вспоминает с восторгом, светятся братской любовью к ней. Руки у него не связаны, голова высоко поднята; он так взволнован, он в таком экстазе от своей тайны, что чуть не поднимает Милли на руки, как часто делал в детстве.
Но его слова, о, эти его слова — слова, которых Терстон никогда бы не сказал.
И так же обескураживают ее слова Лайши, сказанные в ответ на рассказанный ею сон.
Да полно, Элайша ли это? Лайша, который всегда так обожал ее, так терпеливо сносил перепады ее настроения, так доверчиво относился к ее предчувствиям и был ею так очарован? Не глядя ей в глаза, не принимая ее дрожащую, протянутую к нему руку, он говорит:
— Милли, ты же знаешь, что сны почти никогда ничего не значат. Зачем ты все время мне это рассказываешь? Папе это не понравилось бы.
— Но, Элайша, — обиженно возражает Милли. — Это было как наяву. Терстон стоял передо мной так же близко, как ты сейчас, даже ближе…
— Тем не менее это был всего лишь сон, — отвечает Элайша, — а сон — это всего-навсего фантазия того, кто его видит, и другие не обязаны принимать его всерьез.
— Но если это правда? Если то, что он сказал, правда?
— Разумеется, это не может быть правдой, — нетерпеливо говорит Элайша, обнажая в улыбке свои белоснежные зубы, — потому что это всего лишь сон.
— Но этот сон не похож ни на один из тех, которые я когда-либо видела.
— Послушай себя, — взрывается Элайша, — «не похож ни на один из тех, что я когда-либо видела» — это же звучит, как чистая риторика.
Бедная Милли смотрит на него в смятении. Не может быть! Элайша ей возражает? Он проявляет к ней безразличие, как грубый Харвуд? Подбегая к Лайше и мельком взглянув на себя в зеркало, она видит, как сердито сверкнуло на нее ее красивое отражение — или это лишь показалось?
— Риторика? Чистая риторика? — рассеянно повторяет она. — Что ты хочешь этим сказать?
Но Элайша не смотрит ей в глаза. Солнечные зайчики играют на его коже, которая, кажется, дышит холодом, от его прежней привычной братской нежности не осталось и следа.
— Твои слова звучат фальшиво, — говорит он, пожимая плечами. — И в любом случае это всего лишь сон.
— Но почему мы с тобой ссоримся? Я пришла к тебе, чтобы…
— Мы не ссоримся, Милли, — отвечает Элайша. — В этом деле вообще нет никаких «мы». — Но, заметив ее полный детской обиды взгляд, он продолжает более рассудительно: — О чужих снах нельзя говорить с пониманием, потому что их нельзя увидеть. В конце концов, они не что иное, как пар, призрачный дымок от праздных мыслей.
— Но что, если это правда! Я мертв! Бедный Терстон! — шепчет Милли.
Элайша протягивает руку, чтобы утешить ее, но рука застывает в воздухе, он не решается коснуться Милли.
В течение напряженной, долго тянущейся минуты взволнованные молодые люди молча смотрят друг на друга, едва отдавая себе отчет в том, где они и что между ними происходит. Сильно расстроенная, Милли замечает в глазах Элайши тот самый удивленно-настороженный взгляд, который уже видела — или ей показалось, что видела? — несколько месяцев назад… там, в Контракэуере, на Коммерс-стрит, посреди людской толчеи, когда он появился рядом с ней внезапно, словно чудо… то был Элайша, ее брат, и в то же время неким загадочным образом не Элайша! — а какой-то незнакомец, негр, в очках, в котелке и официальном темном костюме… с припудренными, словно с проседью, волосами и темными усами, которые, однако, не могли скрыть того факта, что мужчина хоть и не молод, но отважен, стремителен, дерзок… и втайне наслаждается тонкостями Игры, в которую из всех жителей Контракэуера посвящены только он и она.
Да полно, это же Элайша, ее высокий темнокожий брат, ее Лайша, и в то же время вовсе не ее, это некий дерзкий незнакомец, принадлежащий к черной расе; точно так же, как она — Миллисент, но в то же время и не Миллисент в этом пыльном дорожном плаще, со скромной прической, с болезненным и набожным выражением лица, с красными заплаканными глазами.
И между ними в этот момент происходит нечто, о чем Милли мимолетно вспомнит лишь после.
И вот теперь, несколько месяцев спустя, они здесь, в холле мюркиркского дома, снова оказались вдвоем, как тогда, на Коммерс-стрит. Неожиданно и тайно — наедине. Из соседней комнаты доносятся бравурные громкие звуки Дэрианова спинета — блестящий каскад арпеджио. Откуда-то снаружи — менее благозвучный, грубый свист Харвуда, ритмично перемежаемый ударами топора, которым он, скорее ради упражнений, чем из практической необходимости, колет дрова. Элайша холодно произносит:
— Что ты на меня уставилась, Милли? Что-то случилось?
И Милли, облизав онемевшие губы, отвечает:
— Только мой сон.
«Ниггер!»
Это случилось за семь недель до того, как Кристофер Шенлихт был приговорен к повешению, холодным ветреным апрельским утром в Мюркирке. Элайша и Харвуд страшно поссорились. Причину ссоры никто так никогда толком и не узнал.
До 29 мая оставалось семь недель; Терстон томился в тюрьме, отец был в отъезде, и все домочадцы пребывали в страшном напряжении — Неужели он умрет? Он не может умереть! Погода была все еще зимней, снег лежал на земле рябыми колючими островками, болото оставалось замерзшим, а небо, все еще холодное жесткое зимнее небо, своей кобальтовой синевой слепило взгляд. Неужели ничего не изменится? Неужели мы навсегда останемся во власти зимы?
Но Элайша наблюдает, как его брат Харвуд пакует чемоданы, собираясь отправиться в Ледвилл, штат Колорадо, куда отец посылает его на шесть месяцев; он тихонько насвистывает что-то себе под нос; его грязная кепочка для гольфа по-спортивному сидит у него на голове, волосы торчат жидкими грязными перьями, неуклюже завязанный галстук виднеется из-под куртки. Элайша наблюдает молча, медленно водя ногтем большого пальца по пухлой нижней губе: Харвуд, брат, которого он не любит и который никогда не любил его, готовящийся отбыть на Запад и начать новую карьеру (но Лихты всегда начинают новую карьеру, в этом нет ничего удивительного), коварный Харвуд, франтоватый, недавно отрастивший тоненькие усики, взгляд у него мрачно-настороженный, он целеустремлен (но целеустремленность — отличительная черта всех Лихтов, в этом нет ничего удивительного), хотя его былая «нервозность» и «вспыльчивость» время от времени по-прежнему дают о себе знать, поэтому никто не чувствует себя спокойно, пока он дома: все, даже папа, ждут, когда он уедет.
И все же странно, Элайша находит это чрезвычайно странным, что Харвуда не будет на Востоке, когда папе так нужна помощь (разумеется, папе понадобится помощь их обоих, Элайши и Харвуда, чтобы освободить Терстона), что Харвуд под предлогом болезни (это он-то, который никогда не болеет) не присутствовал ни на одном заседании суда над Терстоном и что он, похоже, чувствует себя неловко и даже раздражается, когда ему рассказывают о ходе дела.
Харвуд, который однажды, когда они были еще мальчиками, ухмыляясь, бросил в лицо Элайше непонятное, отвратительно звучащее слово «ниггер»…
Ниггер? Что это?
Наконец Харвуд замечает, что Элайша наблюдает за ним. Но упрямо не желает оборачиваться. Он продолжает медленно, неуклюже паковать вещи, словно этот род деятельности, требующий определенного спокойствия и привычки к порядку, для него нов и подозрителен. У Харвуда толстая шея и широкие плечи, твердый мускулистый торс, кожа, цветом и фактурой напоминающая топленый жир, нос — свиным пятачком, маленькие неприязненные глазки; сморщенный лоб; пучки волос в ушах; мышцы на щеках у него постоянно собираются в комок, словно он не то непроизвольно ухмыляется, не то не может справиться с тиком… молодой человек ниже Элайши ростом дюйма на два, но тяжелее минимум фунтов на тридцать, поэтому Элайша думает: Он побьет меня, Элайша спокойно думает: Он будет получать удовольствие, избивая меня, однако еще спокойнее он думает: Но ничего не поделаешь.
Он упрямо произносит ровным, невозмутимым тоном то, что хотел сказать уже несколько месяцев:
— Терстон никогда бы такого не сделал, а ты мог бы, это ведь ты сделал, правда?
Продолжая насвистывать, Харвуд пропускает лишь одну-две ноты, прядь волос падает ему на лоб, он не отвечает, и Элайша говорит, вызывающе-небрежно заткнув за пояс большие пальцы рук:
— Тогда почему ты теперь уезжаешь? Почему — сейчас?
На сей раз Харвуд молча ухмыляется в ответ, склонив голову набок, отодвигая на безопасное расстояние один чемодан, потом другой; это его недавнее приобретение, чемоданы дорогие, из желтовато-коричневой кожи, с маленькими медными застежками и украшениями, так и хочется провести пальцем по гладкой поверхности, взять в каждую руку по такому чемодану — увесистому, восхитительно пахнущему кожей, волнующему, придающему уверенность; как Элайша завидует своему ненавистному брату, который так спокойно уйдет из их жизни и из их горя!..
Харвуд загружает «багги», стоящий на подъездной аллее, он движется размеренно, не спеша, старательно делая вид, что присутствие Элайши его не беспокоит, его раздражает то, что Элайша следует за ним, повторяя свой вопрос начинающим дрожать голосом:
— Почему сейчас? Почему он отсылает тебя именно теперь?
На что Харвуд неразборчиво бросает через плечо что-то насчет медных рудников в Колорадо, каких-то «партнеров» и что папа якобы сказал, что «времени терять нельзя». Элайша видит, что брат нервничает, обижается, что, быть может, он даже испуган: потому что в последнее время Харвуд все время чего-то боится; с момента ареста Терстона, после того, что случилось в Атлантик-Сити, Элайша заметил, что Харвуд постоянно чего-то боится, поэтому он снова говорит, тихо, чуть задыхаясь и даже рискуя потянуть брата за рукав:
— Терстон никогда бы такого не сделал, а ты — ты мог!
Прикосновение моментально действует на Харвуда как электрический разряд: он бросает чемоданы в снег, отскакивает в сторону, сгибается, наклоняет голову — желваки играют на его скулах, глаза становятся узкими и злыми — и так, словно слово доставляет ему удовольствие, словно он долго ждал, чтобы произнести его, бросает:
— Ниггер!
Так они подрались.
Так это началось.
Братья вцепляются друг в друга, толкаются, мутузят друг друга кулаками — голыми кулаками по голой плоти, — выкрикивают ругательства, слова, которых в этом доме никогда не слыхали. Длинноногий поджарый Элайша взбешен и оскорблен, Харвуд дерется неторопливо и расчетливо; Элайша не драчун, его этому не учили, у него нет бойцовского инстинкта, Элайша замахивается, но не достигает цели, замахивается широко, но бьет мимо, Элайша теряет равновесие, а Харвуд ждет, согнув колени, приподняв плечи, ссутулившись, он хитер, прирожденный боец, знает, что может рассчитывать на свой вес, свою силу, все его тело вибрирует от желания причинить боль, от восхитительного предвкушения экстаза, потому что для него каждая драка — это драка насмерть. Куда вдруг ушел весь его страх, и какая великолепная мужская сила заполнила все его существо!
Эта драка не соревнование, любой знающий правила игры джентльмен понял бы это с первого взгляда, потому что один из молодых людей дерется, обуреваемый чувствами, а другой — просто чтобы причинить увечье; один добивается справедливости, считая, что справедливость взыскует боли, другой знает, что эта драка, как все драки, ведется просто ради драки: это воплощение слова — битва.
Бить, нанести увечье, причинить боль.
Теоретически — убить.
(Но нельзя позволять себе заходить так далеко: по крайней мере в присутствии свидетелей.)
(Потому что Милли подбегает к ним и кричит, чтобы они прекратили.)
(А где-то рядом, в доме, — старая Катрина. И маленькие Дэриан и Эстер.)
Элайша получает в челюсть удар такой силы, что отлетает назад, как тряпичная кукла, глаза чуть не выкатываются у него из орбит, кровь брызжет изо рта, — и тут же второй удар, еще более сильный, жестокий, словно нанесенный кувалдой в незащищенную грудь Элайши, прямо в сердце. Удар настолько силен, что Харвуд морщится: у него содрана кожа на костяшках пальцев.
А Элайша полулежит на земле в грязном снегу, кровь течет из его разбитых губ, но еще сильнее — и страшнее — она течет из его груди: у него разорвана артерия. Харвуд поднимает свои чемоданы и самодовольно направляется к машине, бросая на ходу с безжалостной кривой ухмылкой:
— Прощай, ниггер.
С этим Харвуд Лихт покидает Мюркирк и отбывает под широкое небо Запада, к его продуваемым ветрами просторам.
А что же Элайша? Никогда в жизни этот уверенный в себе юноша не испытывал такого болевого шока; за несколько минут стараниями Харвуда он очутился за гранью боли, он пребывал в таком онемении, в состоянии такого внутреннего потрясения, что почти не ощущал боли, хотя догадывался, что боль придет — скоро. Некрасиво корчась на снегу, тяжело, как собака, дыша кровоточащим ртом, почти не слыша криков Милли, Элайша Лихт, так называемый Маленький Моисей, обескураженно думает: Кажется, я вовсе не так уж хорош.
А что же Милли? Она в таком же шоке, потому что даже в тот момент, когда Харвуд сбивает Элайшу с ног, когда тот падает на землю, когда его красивое лицо перестает быть красивым, когда его искажает детский страх, когда блестящая темная кожа становится пепельно-серой и яркая кровь пачкает его модную рубашку с открытым воротником и шерстяные брюки в обтяжку, когда она грязными дождевыми каплями орошает снег, даже в эти страшные минуты, вне зависимости от сестринского желания, чтобы братья прекратили драться, вне зависимости от собственных криков: «Остановитесь! Прекратите!» — она вдруг осознает, что любит Элайшу не как брата, потому что Элайша ей не брат, а просто как Элайшу, Лайшу, незнакомца, которого она — хватит себя обманывать — не знает.
И в этот миг прежняя Милли, Милли-девочка, умирает.
В этот миг юная женщина Милли, видя, что ее возлюбленный низвергнут, истекает кровью и нуждается в помощи, спешит к нему, не тратя сил на пустые вопли и стоны; зрелая, ловкая и решительная, как никогда прежде, Милли разрывает рубашку на груди Элайши, отрывает полоску от своей хлопчатобумажной нижней юбки, комкает ее и прижимает к таинственной ране с силой, какой в себе и не подозревала; опустившись рядом с ним в снег, утешает его, обнимает, кладет его голову себе на плечо, говорит быстро, но спокойно, чтобы не испугать его, потому что в нынешних обстоятельствах такая интимная близость позволительна, она необходима; когда скомканная тряпка промокает насквозь, нужно быстро оторвать другую и прижать к порванной артерии, а Элайша, испуганный Элайша, с которого слетел весь его негритянский кураж, от холодности которого, демонстрируемой в ее присутствии, не осталось и следа, дрожит и в ужасе бормочет:
— Не дай мне умереть, Милли! Не дай мне умереть!
И Милли крепче сжимает его и говорит притворно-ворчливо:
— Глупости, это ерунда, кровотечение скоро прекратится, он не властен причинить вред тебе.
Тайная музыка
Что-то не так, явно не так, но когда однажды совсем ранним утром, еще до рассвета, Дэриана будит крик диких гусей, пролетающих высоко в небе, он забывает о домашних невзгодах, забывает о том, что должно произойти нечто, и это нечто круто переменит их жизнь, и лежит, содрогаясь от возбуждения. Ему не хочется открывать глаза, пусть длится во всей своей чистоте этот звук, эта музыка, что гонит сон, непрошеная, таинственная, замирающая в тот самый миг, когда он начинает напряженно вслушиваться в нее: дикие гуси, гуси из Канады, чудной их, слабый крик в небе, отчего же он так прекрасен, отчего вообще существует весь мир, этот мир, а не просто — ничто?
Выразить жизнь, неизбежность, трепетный восторг, коего волны пробегают по телу в такие моменты, — это, думает Дэриан, и есть то, что называют Богом.
Но этого он никому не скажет, он сохранит эту тайну в себе — Бог, пульсирующий в каждой частичке его тела.
Какие печальные дети, Дэриан и Эстер! — заброшенные дети, пожалуй, они выглядят моложе своих лет; даже Катрине их жалко, ее тянет к гостиной, послушать, как Дэриан играет на спинете (но что за странные композиции сочиняет это дитя!), целый час она неподвижно сидит на подоконнике, обняв маленькую Эстер, и смотрит, как дождь поливает болото.
— Никто ведь не вернется, правда, Катрина? — сонно спрашивает девочка. Она спокойна, ей даже неинтересно, такие вопросы сколько уж раз задавались, детские вопросы, которые не надо принимать всерьез. — И Он тоже не вернется, я знаю, — добавляет Эстер после неловкого молчания, она забыла (вдруг так захотелось спать) имя старшего брата.
Много лет спустя Дэриан вспомнит: им сказали тогда, что Терстон уехал, он разъезжает по делам отца; сейчас в Мехико, потом отправится на Кубу; вернется домой где-то летом… или немного позже.
Дэриан был слишком мал, чтобы сидеть за фортепьяно, отец брал его на колени, крепко сжимал его ладонь, коротенькие пальцы Дэриана прилипали к длинным пальцам отца, и вдвоем они делали вид, будто играют. Вот так, весело приговаривал отец, наугад ударяя по клавишам, и так! так! (пальцы у Дэриана начинали болеть, к утру они покроются волдырями). Своим густым баритоном отец напевал отрывки какой-то немецкой песни («Gott, der Herr, Ist Sonn' und Schild»), и Дэриан, малыш Дэриан подхватывал мелодию, да с таким старанием, что на лбу у него выступали капельки пота.
— Смотри-ка, получается! Получается, правда? — восклицал отец. — Не хуже, чем у меня…
Раскрасневшийся, он пытался подыграть себе, колотил по клавиатуре поспешно, наугад, ногти и кольцо на мизинце правой руки ударялись о клавиши, темп все нарастал, пока наконец двухлетний сынишка не начинал сердито ерзать и не вырывался из отцовских рук. Потому что все было не так, неправильно: не те ноты, не тот ритм — и это было ему как ножом по сердцу.
По понедельникам и четвергам Дэриан ходит в деревню, берет уроки музыки у преподобного Вудкока, но по-настоящему счастлив бывает только в одиночестве, один на один с инструментом, час за часом, изо дня в день, в эти моменты он словно парит в воздухе, раздваивается: Дэриан — и одновременно кто-то другой, он сидит за фортепьяно, хоть пальцы у него одеревенели, ногти посинели от холода, ледяной дождь стучит в окно и по крыше, порывы ветра, смешиваясь с шумом дождя, завывают в дымоходе, а музыка, то притихая, то набирая мощь, таинственно наполняется все новым звучанием, все новым смыслом: как же он счастлив! И как покоен! Словно что-то сомкнулось у него над головой, защищая от них.
Музыка взмывает; как это получается — Дэриану неведомо, в ней дождь, колотящий по крыше, пронзительное завывание ветра, отрывистый крик болотных птиц… тонкие мелодические сплетения Баха, летящие пассажи Моцарта, марши времен Гражданской войны, которые он слышал когда-то в исполнении оркестра на площади… духовные гимны, которые сам пел в церкви в Пенткосте, оставаясь Дэрианом и становясь одновременно кем-то другим, пел, хлопая в ладоши, умирая от счастья, меж тем как преподобный Боги расхаживал по церкви, дирижируя хором прихожан. И еще в этой музыке — отголоски фальшивого смеха Милли, красивый изгиб ее губ, беспокойный блеск глаз… сбитый с ног Элайша, пытающийся сесть в грязном снегу, кровь брызжет у него из груди (из самого сердца?), заливает белую-белую рубашку, стекает на землю… сильные руки отца, он подхватывает Дэриана под мышки, поднимает, целует крепко, его горячие влажные губы прижимаются ко рту Дэриана: о, его так долго не было, так долго, такова уж его судьба — Судьба, он никак не может примириться с тем, что приходится уезжать так надолго…
Стремительные музыкальные взлеты, обрушивающиеся глухим ропотом, необычные синкопы, странные обрывы и зачины… взлеты такой нездешней красоты, что Дэриан понимает: они не могут принадлежать ему… хотя и стекают с его уставших послушных пальцев — так, рассыпаясь в стоячей воде, луч солнца преображает ее, даже не касаясь поверхности. А самое дорогое и еще более таинственное — то, что музыка способна возвращать Дэриану его мать Софи… мама беззвучно скользит по дому… появляется на пороге у Дэриана за спиной… ему нельзя останавливаться ни на секунду, он не может пропустить ноту или повернуть голову… ибо, если ошибется, она исчезнет… он видит ее только сквозь музыку, поверх кончиков своих пальцев — девушку с хлыстиком в руке; кажется, так она выглядит, надменная юная дама с портрета: спокойный взгляд, голова слегка наклонена влево, это не изможденная умирающая женщина под одеялом, от которого пахнет болезнью… со свисающей высохшей рукой… Дэриан? Дэриан? Потрескавшиеся губы, блуждающий взгляд… но нет, здесь не та женщина, той больше нет и не будет, здесь другая, настоящая мать Дэриана, красавица с картины, она кивает в такт музыке, она знает ее наперед, ведь она сама — его музыка.
Он должен продолжать, не делая ни единой ошибки, ему нельзя бояться или чрезмерно волноваться, он не должен поворачивать голову, а Софи подходит все ближе… ближе, молча останавливается позади него, и тянутся минуты, сладостные минуты… Какое счастье, думает Дэриан, Бог — Он повсюду, но сейчас Он здесь!.. а она то треплет ему волосы, то гладит по затылку кончиками пальцев, то наклоняется, чтобы поцеловать… и тут он больше не в силах сдерживаться: по телу его пробегает сильная дрожь, он теряет мелодию, ударяет не по той клавише и, когда оборачивается, позади уже никого нет.
Но Дэриан знает: она была здесь, совсем близко, ее губы прикасались к его горячей коже.
Отчаявшийся человек
Хоть он и приговорен к повешению за шею до смерти, которое должно состояться 29 мая 1910 года в исправительном заведении штата Нью-Джерси в Трентоне, «Кристофер Шенлихт», он же Терстон Лихт, старший, любимый сын Абрахама Лихта, разумеется, повешен не будет; не будет он и томиться в тюрьме до конца своих дней.
— Нелепость! — насмешливо фыркает Абрахам. — Нелепость! — Абрахам в который уж раз на ощупь снова зажигает свою потухшую короткую гаванскую сигару, его бесит, что она так часто гаснет.
Сколько же недель, сколько месяцев прошло с тех пор, как Абрахам начал обдумывать планы спасения сына? Теперь, когда 29 мая стремительно приближается, ему кажется, что прошли годы. Он будет спасен, должен быть спасен, но — как? Словно я смотрю в окно, но стекло запотело или покрылось грязью, и это мешает мне видеть. Мешает предвидеть. Ощущение, доселе неведомое Абрахаму, человеку хитроумному, как Одиссей, ловкому, расчетливому, двуличному, — ощущение паралича: его недюжинная острая мысль, подобно молнии, сверкает то в одном направлении, то в другом, то в третьем — но все впустую. Он никогда не признается в этом Катрине и Милли, но у него даже начало сдавать здоровье; он явно похудел, его лицо стало напоминать лицо изящной римской статуи, по которой ударили молотком, отчего она покрылась тонкими трещинами и готова вот-вот развалиться на куски.
Однако наедине с собой, закрывшись ото всех в своем кабинете и разглядывая себя в зеркале, он приходит к выводу, что если не внешний облик, то дух его не претерпел никаких изменений. Серо-стальные густые брови, холодный взгляд, надменный и твердый, непреклонно твердые, наспех побритые скулы. Раз у меня есть еще время, силы, ум и деньги, я не должен сдаваться.
Странно, но кажется, что талант Абрахама Лихта придумывать выходы из любого положения теперь мешает ему, потому что у него слишком много идей. «Если бы я только мог остановиться на чем-то одном. Если бы только…» Слишком взволнованный, чтобы оставаться на месте, он за запертыми дверями меряет шагами кабинет, обхватив руками голову, вздыхая, бормоча что-то себе под нос, сердясь на проклятую сигару, которая снова потухла.
Первым его поползновением, естественно, было, воспользовавшись (щедро оплаченными) связями в Демократической партии, обратиться к губернатору Нью-Джерси с просьбой о помиловании, о замене смертного приговора пожизненным заключением. (Подразумевая возможность «административной амнистии» через несколько лет, когда местные страсти поутихнут.) Переговоры на эту тему шли довольно успешно до середины февраля, когда некий «посредник» по имени Алберт Сент-Гоур тайно встретился с губернатором в его имении в Принстоне, чтобы пообещать ему не менее 5000 долларов в качестве основного взноса в его грядущую избирательную кампанию, не считая более мелких пожертвований разным «благотворительным организациям» по всему штату. Губернатор крепко жал руку Сент-Гоуру, однако твердого обещания избавить Кристофера Шенлихта от казни так и не дал; речь шла лишь о «вполне вероятной возможности» смягчить наказание. О планах вызволения молодого человека из тюрьмы, разумеется, вообще ничего сказано не было; похоже, этого губернатор не одобрял.
А потом вдруг, совершенно неожиданно, ближайший помощник губернатора сообщил, что договоренность отменяется и что в дальнейшем никаких переговоров между губернатором и мистером Сент-Гоуром или между мистером Сент-Гоуром и кем-либо из приближенных губернатора не будет.
— Но что случилось? Как это может быть? — возмущался Абрахам Лихт. И только позднее он узнал, что «Трентон пост», одна из самых боевитых газет штата, затеяла расследование деловых связей губернатора с момента вступления его на должность; таким образом, то, что Абрахаму Лихту представлялось делом решенным, было грубо порушено.
«А я уже передал ему более двадцати пяти тысяч долларов. Будь прокляты моя глупость и его подлость!»
Только в своих мемуарах Абрахам Лихт признается, что его так облапошили. При жизни он никому об этом не рассказал бы.
После этого, проводя много бессонных ночей вместе с Элайшей над планом тюрьмы, напоминающей неприступную крепость, изучая карту Трентона и десятки достоверных свидетельств об успешных побегах, имевших место еще в средневековые времена, Абрахам в то же время через посредников организовывал встречи с тюремными служащими: заместителем начальника тюрьмы, тюремным врачом, несколькими надзирателями, шерифом округа Мерсер, его помощниками и даже окружным коронером. Кроме того, поскольку в преступном мире Нью-Джерси у Абрахама не было солидных связей, он был вынужден под именем, скажем, Тимоти Сент-Гоура, бизнесмена с Манхэттена, поговорить с несколькими авторитетными представителями этого преступного мира. Его отчаянный план состоял в том, чтобы привлечь помощников как внутри, так и за пределами тюрьмы и их стараниями избавить Терстона от нависшего над ним рока.
Как доброжелательны эти господа! К неизвестному человеку. Принимая из моих рук «предварительные взносы» — наличными. Однако о следующих встречах всегда говорят неопределенно. Потому что, как признался Абрахаму сам шериф, перспективы спасения узника от смертной казни и освобождения его из «Стены» — так называли в народе тюрьму, в которой содержался Терстон, — весьма сомнительны. За последние сто лет ее существования здесь не было не то что случаев побега, но даже и попыток.
Куш, сорванный Абрахамом и Элайшей в Чатокуа, почти иссяк. Столько денег! И так быстро!
— Никак не могу поверить, папа, — говорил Элайша, смаргивая слезы, — у нас ведь было четыреста тысяч долларов. Они были наши!
Абрахам пытался успокоить его, заверяя, что, сколько бы денег ни было истрачено, их нельзя считать потерянными зря, когда речь идет о спасении Терстона. Тем не менее ему было крайне неприятно сознавать, что блюстители закона его просто обчистили.
— Лицемеры! Наживаются на отцовском горе! — гневно восклицал Элайша. — Но мы должны достать еще денег. Папа, скажи, что я должен сделать, и я это сделаю.
Однако Абрахам Лихт не торопился: допустимо ли подвергать еще одного из своих детей риску, вовлекая его в новое отчаянное предприятие? Тогда, в Чатокуа, он снабдил Элайшу пистолетом; из практических соображений пистолет был заряжен. Что, если бы кто-то еще или полицейский вмешался тогда в дело с оружием?..
Абрахам содрогнулся при этой мысли, почти физически ощутив близость смерти.
Его терзали видения. Массивные, в пятнадцать футов толщиной стены, сложенные из неотесанных камней, скрепленных известковым раствором. Лабиринт внутренних стен и проходов. Сторожевой блок. Открытое, голое пространство тюремного двора. Караульные вышки, башни, будки. Повсюду, на каждой возвышенности — замаскированные ружейные дула. Толстенная центральная труба, из которой валит густой черный дым. Камеры А, В, С, D: зловещий ряд камер, в каждой из которых — смертники; эти камеры отличаются от всех прочих особым зловонием, мерзким запахом, который, говорят, клубится там, почти видимый глазу. За ними — помещение для надзирателей, четыре мрачные комнаты. Кухня, прачечная, кладовая. И морг.
Загадочный лабиринт. Как проникнуть туда, как там освоиться?
Как сбежать оттуда — сделать подкоп? Да, подкоп. Удобнее всего — от внешней стены до кладовой, это ярдов пятьдесят.
Виселица — по рассказам, покосившееся от бурь и ветров сооружение — расположена даже ближе к внешней стене, возможно, менее чем в двадцати ярдах.
Во сне я окликаю сына по имени. В наручниках он восходит на помост. Но когда белокурый юноша оглядывается на мой зов, оказывается, что это не Терстон, а незнакомец, Кристофер Шенлихт. Он смотрит на меня глазами мертвеца.
Середина апреля, последняя неделя апреля, и вдруг — уже 29 апреля, а ничего еще так и не решено.
Потрачена уйма денег; но ничего не решено.
Ночь за ночью, запершись в кабинете в дальнем конце дома, Абрахам и Элайша изучают план тюрьмы… карту окрестностей… карандашные наброски, сделанные Абрахамом: тюрьма и виселица.
(Если у Элайши и есть свой секрет, тайная тревога, переходящая в наваждение, то он старательно прячет ее от отца. Потому что он так любит Абрахама Лихта и своего брата Терстона, что его собственные чувства сейчас не имеют никакого значения.)
Однажды ночью у Абрахама вырывается едва слышный стон: «Это невозможно. Его нельзя спасти». Карандаш выпадает из его руки и катится по полу, но уже в следующий момент, осененный какой-то догадкой, Абрахам снова хватает карандаш и облегченно говорит, обращаясь к Элайше: Если только…
Английский реформатор в Америке
В начале мая 1910 года в Соединенные Штаты прибывает знаменитый англичанин лорд Харбертон Шоу, президент Общества по тюремной реформе стран Содружества, автор многочисленных спорных книг, монографий и статей о реформировании системы наказаний. (Серия из пяти страстных статей лорда Шоу о несправедливости и «варварстве» закона о смертной казни, напечатанная в 1908 году в «Эдинбург ревю», повлекла за собой бурное обсуждение в британском парламенте и снискала ему как врагов, так и горячих сторонников; из нескольких книг, опубликованных в Штатах, появившаяся в 1903 году «Уголовная справедливость и уголовная несправедливость» породила больше всего споров и завоевала лорду Шоу значительное число последователей среди сходно мыслящих американских реформаторов.) Лорд Шоу надеялся, что во время краткого трехнедельного визита в Америку ему удастся поговорить как с представителями администраций, так и с заключенными во многих наиболее представительных американских тюрьмах, в том числе в нью-йоркской «Томбз»[10], тюрьме на острове Блэквелла, «Синг-Синге», тюрьмах в Рэвее, Трентоне и «Черри-Хилл» (в Филадельфии). Знаменитый реформатор не мог рассчитывать, что удастся путешествовать инкогнито, но все же попросил, чтобы по возможности его визит не освещался в газетах, поскольку боялся, и не без оснований, что поклонники из лучших побуждений станут осаждать его и у него не останется времени на выполнение главной задачи своей поездки.
Лорд Шоу произвел огромное впечатление на своих хозяев, включая горячего сторонника реформ, мэра Нью-Йорка Уильяма Джея Гейнора, как приятный, скромный джентльмен с тихим голосом; ему было хорошо за шестьдесят, но он кипел молодой энергией; седовласый, гладко выбритый, чуть глуховатый на одно ухо; как многие англичане, даже богатые и из знатных семей, он был склонен небрежно или по крайней мере безразлично относиться к своему внешнему вилу, словно — если не говорить о духовном идеализме — такие вещи, как свежее белье, чистые ногти или выбор между серым твидом и коричневым габардином, имели для него очень мало значения. Дамы находили лорда Шоу «забавным» или «чудаком, хотя и очаровательным». На званом ужине у мэра Гейнора англичанин ел весьма умеренно и не пил вовсе; с оппонентами в споры не вступал; несмотря на твердость убеждений, никогда не говорил безапелляционно; и вел себя, как признали даже херстовские газеты, как истинный английский джентльмен, а не как публичный американский политик, в котором ревностная добродетель легко может соседствовать с крикливым эгоизмом.
Хотя, по слухам, лорд Шоу был чрезвычайно богат, он путешествовал в сопровождении единственного слуги-индуса, секретаря и камердинера в одном лице, не старше двадцати пяти лет (грациозного молодого человека из Калькутты, получившего образование в Кембридже за счет лорда Шоу), с которым лорд обращался скорее как с компаньоном, чем как с наемным служащим. Он заранее предупредил также, что предпочитает останавливаться в скромных, а не роскошных отелях, где хозяева поначалу предполагали зарезервировать ему апартаменты. Прибыв на Манхэттен, он за несколько дней покорил сердца тех, кто протестовал против его приезда, подробно изложив перед ними свою новую философию реформ, которая состояла в том, чтобы, начиная одновременно сверху и снизу, радикально перестроить условия содержания в тюрьмах, отменить смертную казнь и так далее, а также значительно увеличить жалованье, условия жизни, льготы, оплату рабочих дней, пропущенных по болезни, пенсии и тому подобное служащим тюрем.
— Ибо это позор, — заявил лорд Шоу жадно слушавшей его аудитории, — что люди, которые отдают все свои силы — а нередко и жизни — тяжелой работе в тюрьмах, игнорируются обществом и ставятся чуть ли не на одну доску с заключенными, которым они «служат».
Лорд Шоу был также убежден (и это особо обратило на себя внимание мэра Гейнора и его помощников), что и выборные, и назначаемые чиновники должны получать плату, соотносимую с самыми высокооплачиваемыми представителями бизнеса, ибо тогда у них будет стимул оставаться в политике и служить общественному благу, а не искать более доходного поля деятельности. А что самое важное — они будут застрахованы от взяточничества и коррупции, этого бича («не знаю, как в Америке, но в Англии-то уж точно») всех властей.
Спрошенный, откуда брать деньги на столь щедрые жалованья, лорд Шоу, не задумываясь, ответил: из налогов.
Соединенные Штаты, в конце концов, — богатейшая страна мира, богатые здесь — богаты экстравагантно. Читал же лорд Шоу — с отвращением, — что в Филадельфии существует огромное поместье, обслуживаемое девятью десятками слуг, хозяин которого обладает несметными богатствами — одно серебряное блюдо в его поместье стоит пять миллионов долларов; и что в доме Вандербильтов на Пятой авеню собраны предметы искусства, которые оцениваются в сто миллионов долларов! Богатых граждан Америки следует обложить безжалостно высокими налогами, и сделать это нужно как можно скорее, пока народ не сверг правительство; а распределять сборы от налогов необходимо между теми, кто хорошо проявил себя на поприще служения обществу.
— Берите у богатых и отдавайте политикам, ибо они и только они принимают близко к сердцу общественное благосостояние, — говорил лорд Шоу, и его английский акцент становился все очевиднее, а на щеках расцветал румянец негодования.
Удивительно ли, что этот английский джентльмен немедленно снискал восхищение своих хозяев, был объявлен истинным аристократом, презирающим материальные блага, чуть ли не причислен к лику святых, и перед ним открылись двери всех тюрем и прочих исправительных заведений, какие он только пожелал посетить в течение своего трехнедельного визита в страну?
Программа пребывания лорда Шоу была приятно насыщенной.
На острове Блэквелла ему и его молодому слуге-индусу позволили посетить отделение для душевнобольных тюремной больницы и побеседовать с теми пациентами, безопасность общения с которыми была гарантирована; в экспериментальной тюрьме «Черри-Хилл» им предоставили исключительную возможность поговорить с несколькими осужденными на длительные сроки заключенными в их одиночных камерах наедине, без сопровождения бейлифа или надзирателя. В Трентоне, в «Стене», признанной самым мрачным исправительным заведением штата, они были с исключительным радушием приняты начальником тюрьмы, наслышанным о радикальных реформистских идеях лорда Шоу и пожелавшим непременно пригласить его с секретарем-камердинером к себе на ужин, чтобы обсудить интересующие их всех вопросы в более приватной обстановке. (Потому что к тому времени, к середине мая, стало известно, что лорд Шоу намеревается написать серию статей о своем визите в Америку, обратив особое внимание на те тюрьмы и тех представителей тюремных администраций, которые в первую очередь заслуживают финансовых пожертвований.)
Казни в трентонской тюрьме проводились регулярно, и лорду Шоу охотно позволили познакомиться с палачом, тюремным врачом, тюремным священником и тому подобными служащими; осмотреть виселицу и сколь угодно долго беседовать с приговоренными к смерти несчастными, коих в настоящий момент здесь было семь человек в возрасте приблизительно от двадцати пяти до шестидесяти двух лет. Лорду Шоу сообщили, что следующая казнь состоится 29 мая: будет повешен некто Кристофер Шенлихт, осужденный за убийство своей любовницы.
Некоторые смертники, как выяснилось, были совершенно безумны, что вызвало яростный протест со стороны лорда Шоу, поскольку он считал варварством казнить сумасшедшего. Однако начальник тюрьмы ответил просто: в момент совершения преступления эти люди не были безумны — они сошли с ума потом.
Что касается юноши Кристофера Шенлихта, лорд Шоу нерешительно поинтересовался:
— Выказывает ли парень признаки раскаяния?
Начальник тюрьмы ответил:
— Ни малейших, сэр. И никакого страха перед тем, что ждет его впереди, в петле.
— А вполне ли он дееспособен? — озабоченно спросил лорд Шоу, глядя на заключенного сквозь решетку, на что начальник тюрьмы, жестоко рассмеявшись и не принимая во внимание тот факт, что заключенный слышит его, заявил:
— Дееспособен настолько, насколько ему будет нужно через двенадцать дней.
Из семи приговоренных к смерти узников лорд Шоу выбрал именно Шенлихта, чтобы побеседовать с ним.
Не возражает ли заключенный?
Нет, не возражает.
Не кажется ли, что заключенный хочет этого?
Нет, не кажется.
Итак, без лишних церемоний лорд Харбертон Шоу и его секретарь-индус были препровождены в промозглую одиночку молодого человека, и тяжелую дверь заперли за ними; и вот — так неожиданно, так легко — они наконец оказались наедине… Терстон Лихт, его отец и его брат Элайша. Несколько показавшихся нескончаемо долгими минут, пока не стихли шаги медленно удаляющегося охранника, они стояли молча.
Камеры в этой части тюрьмы располагались на четырех уровнях, одна над другой; потолок каждой из них составляли две большие тяжелые каменные плиты, одновременно являвшиеся полом верхней камеры; слышимости между соседними помещениями почти не было, разве что звук мог слабо проходить по сточной трубе, которая «прошивала» насквозь камеры всех уровней, однако даже при этом Абрахам Лихт, предостерегающе приложив палец к губам, прошептал:
— Терстон, не говори ни слова, не двигайся.
В изумлении Терстон переводил взгляд с седовласого лорда Шоу на Элайшу в тюрбане и обратно на лорда, словно человек, который силится стряхнуть сон и не может.
За время своего заключения несчастный Терстон исхудал и ссутулился; кожа его приобрела болезненно-желтый оттенок, а волосы — некогда такие густые — поредели, засалились и стали свинцово-серыми. И глаза! Это были глаза не молодого двадцатипятилетнего человека, а ввалившиеся, слезящиеся, полуприкрытые опущенными верхними веками глаза старика.
Когда он пытался говорить, губы его двигались беззвучно.
Неужели он и впрямь видел то, что ему казалось?
Или перед ним стояли призраки: Абрахам Лихт в обличье пожилого англичанина со слоем грима на щеках и кустистыми белыми бровями чуть измененной формы; и Элайша с подведенными сурьмой глазами, оливково-коричневатой кожей и в ослепительно белом тюрбане на голове? Он тоже, предостерегая, прижал к губам палец, чтобы Терстон не произнес ни слова.
Терстон глядел на них во все глаза. Стоял, словно пораженный молнией, хотя, наверное, при их чудесном появлении ему инстинктивно хотелось со стоном броситься в отцовские объятия или прижаться к влажной глухой стене за спиной. Пожилой английский лорд обратился к нему официальным отрывистым тоном, протянув приговоренному смертнику почти не дрогнувшую руку для рукопожатия:
— Мистер Шенлихт, благодарю, что согласились побеседовать с нами. Мы прибыли, чтобы обсудить с тобой, сынок, вопрос чрезвычайной важности — вопрос жизни и смерти. Твоей.
Осужденный
Ни Абрахам Лихт, ни Элайша не могли понять, не слишком ли поздно они пришли, чтобы спасти его? Неужели он уже пропал, разум его повредился? Потому что в течение беседы, продолжавшейся более часа в этой мерзкой, тускло освещенной камере, они тщетно пытались достучаться до Терстона, который больше не был Терстоном; как домашний пес, раненный или испуганный до полусмерти, перестает быть собакой, а становится одичавшим животным с изменившимися инстинктами, изменившимся взглядом, так и Терстон перестал быть собой — его глаза странно расширились, зрачки стали почти черными. Терстон, или это уже Шенлихт, человек, приговоренный к смерти, человек, смирившийся со смертью, лихорадочно скребет черными поломанными ногтями шею и руки, по которым ползают видимые глазу вши, дыхание его зловонно, от давно не мытого тела исходит смрад, такой же сильный, как от сточной трубы, по которой текут экскременты.
Седовласый англичанин терпеливо спрашивает: сынок, ты понимаешь?
Ты понимаешь?
Последуешь ли ты моему плану?
Я приказываю тебе, сын, последовать моему плану.
(Мохнатое существо со свирепо ощетинившимися усами поспешно прошмыгивает вдоль липкой от слизи стены.)
(Какой-то душевнобольной в камере где-то наверху начинает выть.)
…Питье, Катринино лекарство, его называют «колдовской паслен»… вот оно, в этой склянке: возьми его, сынок!.. спрячь подальше (вот в этой темной выбоине в стене) и прими утром 29 мая… точно за полчаса до казни. Хорошо? Ты слышишь? Ты возьмешь эту склянку, которую я прячу вот здесь, посмотри, и в утро казни проглотишь ее содержимое за полчаса до назначенного срока… до того, как это должно будет свершиться… когда они поведут тебя во двор и ты увидишь виселицу, всем покажется, что у тебя случился удар и ты впал в кому, а потом — в состояние, которое не отличить от смерти… у тебя невозможно будет прослушать дыхание и сердцебиение… кровяное давление станет предельно низким, тепло тела уйдет глубоко внутрь… пальцы на руках и ногах окоченеют… от твоей кожи будет веять смертельным холодом.
И наши враги поверят, что страх убил тебя.
И расстроятся из-за того, что лишились удовольствия лицезреть, как ты будешь мучительно умирать в затянувшейся петле!
Потому что тюремный врач, старый дурак, напыщенный, но любезный, с которым Элайша и я уже познакомились, объявит, что ты умер от сердечного приступа. Его невольная поддержка поможет осуществлению нашего плана.
Потому что теперь ты уже не один — «осужденный».
Потому что теперь мы, твоя семья, сплотились против них, наших смертельных врагов.
Потому что теперь в Игру вступает наша стратегия: ставка — твоя жизнь, и мы победим!
Дети, вы сомневаетесь? Вы никогда не должны сомневаться.
Неизвестный Абрахаму Лихту и Элайше тюремный капеллан, в отличие от хорошо владеющего собой Абрахама Лихта легко возбудимый, нервный, многословный пожилой человек, «приобщал к вере», как он это называл, осужденного грешника Кристофера Шенлихта в течение нескольких недель; то плачущим, то ревущим голосом он читал молитвы и стихи из Книги пророка Иеремии, яростные, смутные и искушающие: Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит ГОСПОДЬ[11]. А потом — экстатические пророчества святого Иоанна, у которого безумие и поэзия сливаются воедино еще более искусительно.
Ибо так предначертано.
Ибо это справедливо.
Умереть, как повелел Господь.
Умереть, как повелел Господь и штат Нью-Джерси.
Он нем, его разум оцепенел от ужаса, истощения, бессонных ночей и несъедобной пищи, пищи, в которой копошатся личинки; его тело истерзано приступами диареи, рвотой, конвульсиями лихорадки и озноба; он, Лихт, или бывший некогда Лихтом, отдалялся от самого себя, словно быстро улетучивающийся сон, ибо не есть ли вся эта жизнь — лишь сон? галлюцинация? видение, разворачиваемое перед нами сатаной, извечным врагом Бога? Поэтому, когда грешник убивает, это убивает не он, а сам грех. Поэтому когда душа терзается, это не есть спасение. Ибо блаженны кроткие, ибо они наследуют землю[12]. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Истинно говорю Я вам[13].
Кристофер Шенлихт, грешник. Молчащий в свою защиту. Потому что ему нечего было сказать. Он ни за что не назвал бы имя истинного убийцы, потому что не мог. И потому что знал, чувствовал, несмотря на помутненность сознания и простодушие по отношению к закону, что и его, и настоящего убийцу будут судить за убийство женщины, ведь между ними не увидят никакого различия: братья по крови — братья и по душе.
Свершился грех. Душа его очерствела, она разъедена грехом.
И хоть его земной отец, одержимый грехом, проповедует, что никакого греха нет, Кристофер, некогда бывший Терстоном, знает, что грех существует.
Ибо что такое Игра, если не грех?
Ибо что такое Игра, если не сатанинский замысел ослепить грешника, скрыть от него путь к спасению?
Он проваливается в тревожный сон. Кричит во сне, вскакивает, хватается за прутья своей звериной клетки, трясет их, — но они недвижимы, будто впечатаны в камень. Тело его горит от укусов дьявольских насекомых. Огненная змея притаилась в животе, извиваясь там и кидаясь из стороны в сторону. Его глаза вылезают из орбит, слезы смешиваются со струящимся потом. И вдруг, неким чудесным образом, рядом с ним оказывается капеллан, не гнушающийся преклонить колени на склизком от гнили полу, потому что он Божий человек, истинно верующий (над которым добродушно подсмеиваются тюремные надзиратели и самые жестокосердные из осужденных), простая земная грязь ему нипочем. Обхватив Кристофера Шенлихта за плечи, он кричит ему в лицо: Истинно говорю Я тебе! С людьми это невозможно, но возможно с Богом: ибо с Богом возможным становится все. Божий человек и осужденный грешник кричат вместе, молятся нараспев, смеются. Аллилуйя! Аллилуйя!
Вот так он, словно змея, о которой можно сказать, что она бездумно, но бурно торжествует внутри своей шкуры, стал торжествовать убийство… но забыл имя своей соблазнительницы.
Блудница, такая же, как блудницы Вавилона, Нофа, Тафниса, Содома и Гоморры, что сокрушили корону на Твоем челе.
Присосавшаяся к нему, к его молодой мужской силе. Бесстыдно и распутно целующая его в потаенные и запретные места. Блудница, самка. Женщина, по годам годящаяся ему в матери. С похотливыми бегающими глазами, с губами, алчущими его мужской силы. И омерзительным волосатым зевом между толстых ляжек, таким же алчным: засасывающим, выжимающим, кусающим, тянущим его, чье имя неизвестно, в бездну греха.
Не важно, Кристофер он или Терстон.
Терстон или Кристофер.
Какая разница, который из них? Никакой, ибо обоим дал имя сатана.
Он принимает эту судьбу. Хотя и плачет, сотрясаясь в агонии. Стоя на коленях, он клоками рвет на себе волосы. И вдруг, впав в ярость, отталкивает ласкающие руки женщины, его сильные пальцы смыкаются под ее подбородком, она пронзительно кричит, бешено борется, вот теперь пора сделать резкий ловкий рывок, чтобы сломать ей шею, как когда-то Харвуд сломал шею шелудивому псу, который тащился за ними и которого невозможно было отогнать. О, что это за ощущение — почувствовать, как ломаются хрупкие косточки, как Смерть корчится в твоих руках.
Так это был я?
Неужели?
Внезапно, за три дня до казни, приговоренный отказывается от посещений тюремного капеллана. Ибо я спасен настолько, насколько буду спасен.
Кристофер Шенлихт, самый «разрекламированный», «печально известный», «знаменитый» из полудюжины своих «сотоварищей». Этот молодой человек — своего рода тайна, даже для видавших виды надзирателей. И для тюремного врача, обязанного по закону осмотреть его перед казнью или сделать вид, что осматривает, и объявить, поскольку день смерти стремительно приближался, что он «в удовлетворительном» для повешения состоянии.
Высокий, бледный как мертвец, бородатый молодой человек. Молчаливый или замкнутый. Или онемевший от ужаса. Всегда больной: живот подведен, кожа приобрела цвет старой слоновой кости, постоянно дрожит от лихорадки, под носом — слизь, хотя ему удалось избежать пневмонии, малярии, азиатской холеры и кровавого поноса, которые периодически прокатываются волной по «Стене» и уносят самых слабых — в драматическом соответствии с дарвиновским законом выживания сильнейшего, о котором давным-давно, как смутно помнится, одобрительно отзывался Абрахам Лихт. И увидел Бог, что это хорошо, и это было хорошо.
Считается, что приговоренному двадцать пять лет. В документах отмечено, что у него нет (насколько известно) семьи, нет (насколько известно) официальных свидетельств о его предыдущей жизни, нет (насколько известно) прошлого. Возможно, он — жертва амнезии, предполагает один обозреватель. Нет, возражает другой, он — жертва психической болезни. Да нет же, утверждает третий, он просто бездушный преступник, человеческий подвид, которому собственная жизнь безразлична так же, как жизнь той женщины, которую он убил.
И увидел Бог, что это хорошо, и это было… хорошо.
В Игру никогда нельзя играть так, словно это всего лишь игра: но что такое Игра, или что было Игрой, он больше не знает.
Терстон, ты внимательно меня слушаешь?
Ты будешь следовать моему плану?
…тебя отвезут в тюремный морг… а оттуда, по договоренности, в трентонский Погребальный дом… потому что лорд Шоу позаботится, чтобы тебя не хоронили в общей могиле для нищих… оттуда тебя переправят на Манхэттен, где снабдят одеждой, деньгами, документами и всем необходимым… а потом доставят на канадскую границу неподалеку от Кингстона, Онтарио.
Седовласый румяный английский джентльмен продолжает говорить, решившись теперь взять безвольную руку Шенлихта и крепко сжать его пальцы, чтобы заставить слушать, понимать, повиноваться. Между тем как мозг его освобождается. Что-то монотонно пульсирует в голове. Трепещущие крылья ночных бабочек, шмыгающие рядом в канализационной трубе крысы и гигантские жуки в твердых панцирях; топь, огромные пространства заболоченной земли, мраморные облака, отражающиеся в стоячей воде, и рядом — мелькающее вдруг отражение лица… мальчишеского лица… но чьего?.. этого он не видит, потому что глаза его застилают слезы.
Терстон?
Ты будешь следовать моему плану?
И мы воссоединимся опять в Онтарио не позже четвертого июня.
Высокий, шатающийся, дышащий сипло и прерывисто, с ввалившимися от усталости глазами… неужели это Терстон?.. он позволяет Абрахаму на прощание сжать его руку, позволяет Элайше, у которого от слез блестят глаза, обнять его… ведь они братья, как ни трудно сейчас в это поверить. Ибо что значит телесная оболочка человека по сравнению с его душой? Терстон сжимает бесценную маленькую склянку, но прячет глаза от пронзительного взгляда Абрахама Лихта.
Я сделаю это, я должен. Отвергнуть сатану и его путь. Вслух же бормочет:
— Да, папа.
После того как охранник запирает дверь, он не подходит к ней, чтобы посмотреть вслед быстро удаляющимся посетителям.
Виноватые любовники
(Но раз они не совсем любовники, должны ли они испытывать чувство вины?)
Миллисент, отважная и безрассудная, очаровательно испорченная Миллисент, желает немедленно сообщить отцу, что они любят друг друга — ведь их любовь так чиста и благородна, — и попросить у него разрешения на официальный брак. Элайша, не настолько уверенный в положительном ответе отца и скорее подавленный, чем воодушевленный тем, что признался Миллисент в любви, вновь и вновь уговаривает ее подождать.
По крайней мере до тех пор, когда Терстон будет освобожден и благополучно доберется до Канады.
По крайней мере до тех пор, пока папа не станет снова самим собой.
Этой тревожной весной, по мере того, как стремительно истекает май, они часто тайно бродят вдвоем, но редко позволяют себе даже коснуться друг друга. На поцелуи теперь наложено табу, разве что в особых обстоятельствах: невинные поцелуи при встречах или церемонные — при прощаниях. Когда кто-то замечает, что они разговаривают взволнованным тихим шепотом, словно любовники, строящие заговор, на самом деле они говорят вовсе не об этом (то есть не о своем волнующем влечении друг к другу), а возможно, о Терстоне и том, что станется с ним в Канаде… или о том, что помнит Элайша о матери Милли («Расскажи мне все, что ты о ней помнишь», — умоляет Милли)… или о том, что помнит Милли о своем раннем детстве в Мюркирке, когда Элайши еще не было… или о судьбе Харвуда, о перспективах младших детей, о вероятности новой женитьбы отца («Хотя, признаться, я сомневаюсь, что он вообще когда-либо был женат», — говорит Элайша).
Что касается Терстона, Элайша уверен, или кажется уверенным, что план сработает: потому что папа предусмотрел каждую мелочь и даже будет присутствовать при «казни» в качестве лорда Харбертона Шоу. Но Милли, чуть отстраняясь от него, слабым голосом замечает:
— О Элайша, дорогой, тот мой сон подготовил меня к худшему.
Неблагодарный сын
ОСУЖДЕННЫЙ УБИЙЦА УМЕР В «СТЕНЕ» ОТ УДАРА ПРИ ВИДЕ ВИСЕЛИЦЫ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОЧЕВИДЦЕВ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ БЫЛИ В ШОКЕ
С таким сенсационным заголовком вышла 30 мая 1910 года «Нью-Йорк трибюн». Набранные крупным жирным шрифтом слова, казалось, вопили с первой полосы.
Как выяснилось, в тюрьме штата на глазах у небольшой группы свидетелей, среди которых был знаменитый реформатор английской исправительной системы наказаний лорд Харбертон Шоу, молодой человек, осужденный за убийство манхэттенской светской львицы Элоизы Пек, упал в обморок при виде уродливой высокой виселицы и через несколько минут умер, несмотря на все предпринятые тюремным врачом попытки спасти его.
Какое представление! Какое страшное чувство вины охватило присутствующих! Ритуал казни был поспешно свернут, и всех свидетелей, исключая тюремных служащих, выпроводили со двора, убеждая не задавать лишних вопросов. Чуть позже в кратком заявлении от имени тюремной администрации было сообщено, что приговоренный убийца Шенлихт умер от «внезапного сердечного приступа». Впервые в истории печально известной трентонской тюрьмы осужденный обманом избежал виселицы за несколько минут до казни. Как сказал репортерам возмущенный лорд Шоу, «присутствующие, кажется, были скорее шокированы и пристыжены тем, что орудие „наказания“ своим чудовищным видом до смерти напугало человека, чем разочарованы тем, что бедняга не был повешен». В течение следующей недели в «Пост» и других нью-йоркских газетах велись ожесточенные споры о «жестокости» или «справедливости» казни через повешение и любой другой формы смертной казни. Одним лорд Шоу представлялся героем, другим — назойливым иностранцем; в праведном гневе несколько христианских организаций, которым, по слухам, лорд Шоу пожертвовал щедрые суммы, развернули кампанию за реформирование системы наказаний. Говорили также, что из сострадания к молодому убийце, умершему от страха, лорд организовал на собственные средства скромные похороны, чтобы избавить его от «последнего бесчестья» — быть погребенным в общей могиле для нищих на заброшенном кладбище позади трентонской тюрьмы.
К сожалению, в самом начале июня английский идеалист покинул Соединенные Штаты и то ли вернулся в Англию, то ли отправился в Австралию, чтобы продолжить там свою деятельность, и имя его вскоре перестало упоминаться в полемике.
— Что? Что вы хотите этим сказать — испарился?
— Только то, сэр, что он… оно… что его больше здесь нет. Как вы сами видите.
— Но он… оно… должно быть здесь. Не может же покойник встать из гроба и уйти. Я требую, чтобы вы и ваши помощники тщательно обыскали все помещения.
— Сэр, можете не сомневаться, что мы это уже сделали, и не раз, обыскали все — снизу доверху. Но он… оно… останки Кристофера Шенлихта исчезли; и это счастливое избавление, можно сказать. А вот это, сэр, осталось пришпиленным булавкой к шелковой подкладке гроба…
На конверте было поспешно нацарапано карандашом: «ЛОРДУ ШОУ».
Лорд Шоу дрожащими пальцами взял конверт, спотыкаясь, вышел из Погребального дома братьев Икинз на Саус-стрит и тут же, на улице, где за рулем маленького грузовичка с покрытым брезентом кузовом поджидал его камердинер Элиджа, вслух прочел таинственную записку:
Терстон и/ или Кристофер — простите.
Я больше ни тот, ни другой.
Я отвергаю сатану и пути его.
Прощайте.
— Лорд Шоу, в чем дело? — взволнованно спросил по-прежнему сидевший в машине Элиджа, увидев в мрачном, пахнущем металлом сумраке Трентона, как хозяин остановился, словно пораженный громом. — Где Терстон?
Лицо пожилого мужчины казалось бескровным, однако, словно в насмешку над мужественностью и жизнерадостностью, на щеках его горели красные пятна. Он долго молчал, пока слуга-индус не вылез из машины и не подошел к нему; тогда он сказал слабым голосом, но с закипающим гневом:
— Он «восстал»… и, судя по всему, «вознесся». Во всяком случае, он исчез.
— Что?! Как?
— Скорее всего ушел. Он пишет, — добавил лорд, помахивая перед лицом Элиджи запиской, — что «отверг» нас. И ушел.
Молодой индус в тюрбане, который так плотно облегал его голову, что она казалась стиснутой, в изумлении уставился на хозяина. Изысканный британской акцент лорда Шоу внезапно исчез, и появился резкий сдавленный американский говор с плоскими носовыми гласными западных окраин штата Нью-Йорк и отрывистыми, рублеными согласными жителя города Нью-Йорка. Убедившись, что поблизости никого нет, лорд Шоу энергично выругался:
— Черт! Проклятие! Сукин сын! Его наследие! — После чего быстро нырнул на переднее пассажирское место и сказал: — Нам тоже пора уходить. Элиджа, не стой, как идиот. С меня до конца жизни и даже больше хватит Трентона, Нью-Джерси и безрассудных поступков неблагодарных сыновей.
Часть вторая
В ночи, тайком
Если ты будешь плакать, твои слезы превратятся в огненных красных муравьев, которые выедят тебе глаза.
Если ты будешь плакать, слезы выжгут бороздки на твоих щеках.
Если ты будешь плакать, ядовитый чертополох вырастет на тех местах, куда упадут твои слезы.
Если ты будешь плакать, наши враги услышат и обрадуются.
Плакать можно только в одиночестве. Но никогда не плачь, если можно вместо этого смеяться.
Теперь, когда брата отослали в школу, только девочка знает о женщине, которая приходит в ночи, женщине, которая пахнет сыростью и холодом, как сама ночь, об улыбающейся женщине, которая сходит с горы старых костей и поднимает свою костлявую руку, чтобы прикоснуться… Поднимает обе костлявые руки, чтобы обнять…
Девочке сказали, что это она стала причиной маминой смерти, но никто ее не винит, потому что в то время она была еще младенцем и не может ничего помнить. Мама тоже ее не винит, она улыбается и шепчет: Мое дитя? Ты — мое дитя! Ты любишь меня!
Покосившиеся, осыпающиеся, поросшие лишайником надгробия, лопухи, чертополох, цикорий, ярко-желтые одуванчики, которые через несколько дней превратятся в пух, запах нагретого солнцем воздуха, запах тумана; если бежать слишком быстро по рыхлой земле, можно подвернуть ногу, упасть и поранить свой глупый лоб, но никогда не плачь, если можно вместо этого смеяться.
Потому что эта женщина не властна причинить боль! Потому что глаза ее залеплены грязью! Глазницы пусты и забиты землей! От нее можно запереть все двери и окна, можно спрятаться от нее под кроватью, прижаться к Катрине, Катрина спрячет, та женщина не что иное, как груда костей, истертых в прах, старых костей, превратившихся в белую пыль, ее глаза — не глаза, а пустые дыры, залепленные грязью, они не могут смотреть, они пустые, и шепот, который ты слышишь, это не голос, потому что голоса у нее никогда не было.
Мое дитя?
Но она — ничье дитя.
Долговязый неуклюжий робкий ребенок девяти лет от роду, десяти лет, длинноногая, неловкая девочка, Катрина оттягивает и коротко стрижет ее жидкие каштановые волосы (а то они будут падать на лицо, и глазам от этого будет больно, о, как больно), рот у нее маленький и сморщенный, унылые глубоко посаженные глаза, настороженное выражение лица, испуганная улыбка, прикрываемая ладошкой, чуть широковатый лоб, чуть толстоватый подбородок, слишком длинные ноги, и ей всего одиннадцать лет, она смеется вместе с мальчишками, когда те бросаются в нее сухими комьями грязи и коровьими лепешками, когда у нее над головой пролетают твердые зеленые груши из сада Маккеев, ее секрет состоит в том, что она всех их любит, ее секрет в том, что она крадется задворками, в ночи, тайком, она — ястреб с красными крыльями, она — сипуха с немигающими рыжими глазами, она шпионит за ними всеми, она обожает и ненавидит их всех. Как люди живут? как живут люди в других семьях? о чем разговаривают, когда их не слышат посторонние? в сумерках, ночью, за полузашторенными окнами, за тонкими газовыми кружевными занавесками, при свете лампы, греясь у очага, в котором потрескивают поленья, как они смотрят друг на друга? как улыбаются друг другу? когда слышат мелодичный звон церковных колоколов, когда ветер гонит облака над крышами, какие у них секреты, которых мы не слышим?
Она ускользает от них, взлетая над топью, поворачивая к горам, где вершина Чаттароя ловит последний вечерний луч солнца, она ныряет и кружит, парит медленно, лениво, полностью контролируя свой полет, ее широкие крылья почти не двигаются, лишь блестящие темные перья трепещут на ветру, ее клюв приспособлен для того, чтобы вонзаться, рвать, терзать, но она никому не причинит вреда… она никому не причинит вреда, потому что она хорошая… потому что хочет быть всего лишь медленно скользящей тенью, там, внизу, на поверхности воды, хочет, чтобы ее видели, боялись, чтобы ею восхищались, чтобы ее знали.
Она ускользает от них, превращаясь в блестящую медно-красную змею и исчезая в земной норе!.. она — одна их тех гигантских оранжевых бабочек… а иногда — лошадь, молодой жеребец с черной шелковистой гривой и таким же хвостом, с черными топающими копытами, только глаза сверкают белым, только зубы вспыхивают белизной, когда она бесшумно несется галопом вдоль дороги… тайно, в сумерках, в ночи, вдоль дороги… вниз по длинному пыльному склону холма, через узкий деревянный мост, который трещит так, словно доски вот-вот взлетят на воздух, словно проржавевшие фермы вот-вот треснут, но она не боится, она не боится, ее мощные мускулистые ноги ступают твердо, грива развевается лихо, хвост черный, шелковистый, летящий, ее огромные копыта ударяют о землю, она больше не ребенок, ей больше нечего бояться, ее ноздри вдыхают влажную свежесть ночи, ее легкие распирает радость; что это — вкус прошлогодних листьев, острый и хрумкий? а это журчание, что это — звук мюркиркской речки, мелкими ручейками обтекающей огромные выбеленные валуны, лежащие на дне?
Единственное, что ты должна знать, однажды прошептал ей папа, обняв так крепко, так крепко, что ее хрупким ребрышкам стало больно в его объятиях, это что я люблю тебя. Ты — Эстер, моя дочь, и я тебя люблю.
Папа возвращается неожиданно, папа снова дома, после ужасной ссоры с Харвудом, когда Харвуда куда-то отсылают (в Канаду? в Мексику? в Южную Америку?), он остается в Мюркирке почти на полтора месяца, иногда запирается в своей спальне, и тогда никто не решается постучать в дверь, а иногда уходит из дома еще до рассвета и отсутствует до полуночи, иногда он смотрит на Эстер, не видя ее, а иногда он смотрит на нее и видит… и становится ясно, что он любит ее, обожает, он настолько нежен с ней, что не сердится, если она ошибается, декламируя стихи, или берет неверную ноту на фортепьяно, хотя у нее нет такого таланта, как у Дэриана, и она не так красива, как Миллисент, и не умеет привлечь к себе его восхищенное внимание, как Лайша…
Достаточно одной любви, вслух шепчет папа, ну почему недостаточно одной любви?
Подойди ко мне, Эстер, малышка, шепчет папа, от него пахнет виски, о, не надоедай мне, Эстер, не висни на мне, ты ведь уже не маленькая, не глазей на меня.
Однажды он вдруг говорит Дэриану: Может быть, пора. Это звучит таинственно: Может быть, настал твой час. Эстер целую неделю ревнует, пока папа (не считаясь с преподобным Вудкоком) придумывает, как представить Дэриана любителям музыки по всему штату… начиная, если все пойдет хорошо, с дебюта в «Карнеги-холл». Что ему сыграть? Какие произведения наилучшим образом позволят продемонстрировать его фортепьянную технику, его виртуозность, коей не обладает ни один ребенок его возраста по эту сторону Атлантики? (Может быть, «Рондо» Моцарта, в котором пальцы Дэриана так и сверкают над клавиатурой, может быть, вальс-менуэт Шопена, который восхищает глаз не меньше, чем ухо, ну и одно-два собственных сочинения мальчика, которые весьма впечатляют, хотя и кажутся несколько диссонирующими… Так трудно выбрать, вероятно, в конце концов все же понадобится совет профессионального антрепренера.)
Ах, если бы Дэриан был помладше, если бы папа не ждал так долго!.. потому что трудно выдать мальчика за вундеркинда, когда очевидно, что он уже не ребенок, несмотря на субтильность и узкое лицо, ведь ему уже двенадцать, кажется? или около того? Но за десятилетнего он вполне сойдет, если его одеть соответствующим образом. Можно даже (размышляет вслух папа, почесывая несуществующую бородку и глядя на Дэриана оценивающим взглядом) переодеть его девочкой, потому что любители музыки, вероятно, предпочтут увидеть девочку, сидящую на сцене за огромным концертным роялем и исполняющую эти потрясающе трудные пьесы — Шопен, Моцарт, а может быть, что-нибудь из Черни, или Листа, или…
Дэриан мрачнеет, Дэриан осмеливается прошептать: Нет; все домашние в тревоге, потому что Дэриан прошептал: Нет; Милли и Лайша, кажется, принимают сторону Дэриана (хотя, не рискуя вызвать отцовский гнев, не говорят этого вслух), а Катрина усугубляет ситуацию, заявив, что это очень плохая идея, разве он не знает, что у Дэриана слабое сердце, он быстро устает, подвержен, особенно в зимние месяцы, всякого рода простудам, инфлюэнце и гиперемии, неужели он, отец Дэриана, забыл об этом?
Смелая старая женщина говорит: Вы что, хотите потерять младшего сына так же, как потеряли старшего?
Папа не отвечает.
Папа отступает и больше не возвращается к разговору о дебюте Дэриана в «Карнеги-холл», через неделю он уезжает из Мюркирка, прихватив с собой Милли и Лайшу.
Так уехал папа, а через несколько месяцев уехал и Дэриан, его определили в интернат в Вандерпоэле; Эстер же влюбилась в Аарона, сына доктора Дирфилда, нет, ни в кого она не влюбилась, она ненавидит и обожает их всех, в сумерках она пробирается по переулку позади старой мельницы, перебегает через пастбище Маккеев, крадется тайно, в тишине (как краснокрылый ястреб, как сипуха, как галопирующий черный жеребец), вдоль безымянной грунтовой дороги, параллельной Главной улице, заглядывая в окна сквозь полураздвинутые шторы, сквозь полуприподнятые жалюзи. Как живут люди в семье? — про себя интересуется девочка. — Что они говорят друг другу, а что понимают без слов?
Нельзя бегать, как дикарка, сердится Катрина.
Катрина хватает ее за плечи, Катрина сердится. Ты же — одна из Лихтов, разве ты не понимаешь, кто ты?
К этому времени жители Мюркирка, которым выпал случай познакомиться с Эстер Лихт, знают ее как милого ребенка, дружелюбную девочку; несмотря на все ее странности, болезненную робость и этот пронзительный смех, она хорошо воспитана, хоть и неуклюжа, она умна, если удается разговорить ее, поймать ее взгляд, она не такая хорошенькая, как ее сестра Милли, но разве это имеет значение? Вудкокам Эстер Лихт нравится, Ивинги, Маккеи, миссис Оукс, миссис Кинкейд, ее учитель мистер Райан, доктор Дирфилд удивленно, но одобрительно говорят о ее интересе к врачеванию, уходу за больными, к медицине, к тому, чтобы «хорошо делать болезненные вещи…». Эстер настолько бесцветна и неуклюжа, что в этом есть даже некоторая привлекательность, в ней нет шарма ее сестры Миллисент, старших братьев Терстона и Элайши, разумеется, она не обращает на себя внимание как дочь Абрахама Лихта, но именно поэтому она им нравится.
(Не то чтобы сам Абрахам Лихт им не нравился или по крайней мере они им не восхищались. Не то чтобы Мюркирк не был благодарен ему за проявляемый время от времени интерес к городу — многим церквям он пожертвовал деньги, равно как и библиотеке, и даже Обществу трезвости, в деятельность которого он, по его собственным словам, все равно не верит. Не то чтобы многие мюркиркские джентльмены не завидовали ему и не шептались по поводу образа жизни, который он ведет за пределами города, о его финансовых предприятиях, о красивых женщинах… Дело просто вот в чем: никто ему не доверяет. Даже когда он говорит приветливо, любезно и убедительно, даже тогда, по некой таинственной причине, он не убеждает!)
Как печальна судьба этого одинокого ребенка! Девочка, с рождения лишенная матери и большую часть времени лишенная отца; ее видят то там, то тут бродящей в одиночестве по полям и лесам, по заболоченным выгонам за чертой города… или в городе, на Главной улице, на площади, неподалеку от городской школы или на Бей-стрит, рядом с домом доктора Дирфилда, на котором прикреплена белая табличка… в высоком читальном зале новой библиотеки (дар мистера Карнеги, гордость Мюркирка; великолепное трехэтажное здание из известняка, с башенками, с гимнастическим залом, обшитым дубовыми панелями, с никелированными ваннами в полуподвале и даже с выложенным кафельной плиткой бассейном, открытым для всех жителей Мюркирка). У нее мало друзей-сверстников… кажется, она даже не знакома с большинством своих ровесников… а недавно она начала петь в хоре миссис Клей при Обществе трезвости, который собирается дважды в неделю в зале методистской церкви, и с воодушевлением исполняет такие любимые трезвенниками песни, как «Король-алкоголь»…
Или «Десять вечеров в баре» с душераздирающим припевом, который всегда вызывает слезы у слушателей:
В те дни, когда идет снег или дождь, Катрину можно уговорить рассказать старые сказки… о Робине, сыне мельника, о Мине, губернаторской дочке… о великом белом Короле волков, что живет на горе Чаттарой… о маленькой девочке, которая не слушалась бабушку и была превращена в черепаху… о маленьком мальчике, который тоже не слушался бабушку и был превращен в уродливую гигантскую лягушку-быка и обречен квакать до конца жизни, а жизнь его была невероятно долгой!
Но самой волнующей из всех Эстер кажется сказка о королевской дочери и королевском сыне, Катрина (сердито) говорит, что Эстер слишком мала, чтобы понять ее.
Нет, не мала, дрожа, возражает Эстер, — не мала.
Нет, мала, настаивает Катрина, потому что дочь и сын короля полюбили друг друга, а ты не знаешь, что такое любовь, ты не знаешь, что такое запретная любовь между братом и сестрой, не притворяйся, что знаешь! Во всяком случае, история эта произошла давным-давно, очень давно, хотя болото и тогда было таким же, как сейчас, болото никогда не меняется, и все цветы, травы, деревья, животные, которые там живут, всегда остаются одинаковыми, они не меняются. Они были там при основании мира, будут и при его конце, и давным-давно, когда случилась эта история, там так же росли черные плоды, сладкие, сочные, такие же, как персики, яблоки или черная смородина, но все знали, что эти плоды ядовиты, однако из них можно приготовить эликсир, лекарство, настойку для того, чтобы заставить людей влюбляться, например, если мужчина любит женщину, а женщина его не любит, или женщина любит мужчину, а он ее не любит, понимаешь? нет, не думаю, что ты понимаешь, как может это понять ребенок твоих лет? но, как бы то ни было, королевский сын влюбился в собственную сестру, которая была самой красивой на свете принцессой, свирепо ревновал ее ко всем поклонникам и поклялся, что никто, кроме него самого, не женится на его сестре, и вот однажды он отправился на болото и повстречал там старуху, очень старую седовласую женщину, и попросил ее дать ему приворотное зелье для сестры, чтобы она не любила никого, кроме него, и старуха дала ему сок черного плода, но предупредила, что он обладает страшной силой, что его чары может победить только смерть. Королевский сын выхватил у нее склянку, даже не поблагодарив, и рассмеялся при мысли, что когда-нибудь ему захочется развеять эти чары, он сходил с ума от любви к принцессе, и ему было наплевать на весь остальной мир, и на старуху, и на своего отца-короля, и особенно на поклонников принцессы; откровенно говоря, он даже желал, чтобы все ее поклонники умерли, потому что ненависть его равнялась его же любви, такой вот злой был молодой человек.
Он вернулся в замок и дал своей невинной сестре выпить эликсир, сказав, что это вкусный ликер, подаренный ему на болоте одной старой женщиной, что сделан он из персикового бренди, черной смородины и черной патоки, и ничего не подозревающая сестра отпила из склянки, согласилась, что напиток действительно хорош, и стала уговаривать брата тоже выпить, но он отказался, сказав, что свою долю уже выпил, и пока они так разговаривали, принцесса влюбилась в него, глаза ее заблестели, сердце часто забилось в груди, и с этим уже ничего нельзя было поделать, бедное дитя, она влюбилась… а вскоре она и ее порочный брат стали любовниками… они любили друг друга тайком… и любовь принцессы превосходила любовь принца… и она хотела, чтобы он любил ее ежеминутно, каждый день и каждую ночь… а принц начал опасаться, что она высосет из него всю его силу, потому что ее любовь была так ненасытна, что ей не было видно конца, она не ослабевала, несмотря на то что принц начал уже уставать от нее, а принцесса понесла… но этого маленькая Эстер не понимает, правда ведь? не притворяйся!.. и в конце концов принцесса стала безумно ревновать принца, она обвиняла его в том, что он не любит ее, плакала, раздирала кожу на своей груди и вслух мечтала, чтобы они вместе умерли и погрузились на дно болота, где никто не найдет их; красота принцессы стала увядать от горя, губы ее запеклись и покрылись волдырями, глаза выкатились от любви, такой страшной, что конец ей могла положить лишь смерть…
И вот однажды — и года не прошло, как принц дал своей возлюбленной волшебный эликсир, — злой принц, испугавшись, что принцесса расскажет все их отцу-королю, затащил ее на болото и убил: задушил голыми руками, несмотря на то что несчастная продолжала ласкать его, любя.
Но, увидев, что любимая его мертва и что жизнь потеряла для него всякий смысл, злой принц вскоре и сам умер, и не было во всем королевстве никого, кто горевал бы о нем.
Вот так это было: королевский сын и королевская дочь умерли от любви друг к другу и были похоронены на дне болота, случилось это давным-давно, задолго до твоего рождения, на этом самом месте.
Эстер, серьезная невзрачная Эстер, Эстер, которая смотрит слишком напряженно и слушает слишком внимательно, которая сидит, сгорбившись, засунув в рот пальцы, тяжело задумавшись и наморщив лоб, спрашивает:
— Но ведь с Милли и Лайшей этого не случится, правда, Катрина?
А Катрина, стоящая у печи, оглядывается на нее и настороженно спрашивает:
— С Милли и Лайшей? Что ты имеешь в виду?
И Эстер отвечает:
— Ну я же видела их вместе, Катрина. — Голос у нее дрожит, она не хочет рассказывать, что видела, как они странно касаются друг друга, видела, как они целуются, и это был необычный поцелуй, будто они немного сердито кусали друг друга, Милли и Лайша, белокурая Милли и темнокожий Лайша, спрятавшиеся в буковой рощице на дальнем конце церковного двора, где никто не мог их видеть… кроме их маленькой сестры, которую они не заметили; ее никто не заметил.
— Что это значит — «с Милли и Лайшей»? — повторяет Катрина, голос ее начинает звенеть, глаза становятся серо-стальными, и в лице появляется нечто, что пугает Эстер так, что, прежде чем вскочить на ноги и убежать, она лишь бормочет:
— О, Катрина, прошу тебя, скажи, что с ними этого не случится.
«Не годятся для Игры». Папа сказал это с печальной уверенностью, но девочку интересует, что такое Игра, для которой она не годится?..
Тайком, в ночи, она крадется по пустынной деревенской дороге… потом — вниз по длинному склону холма, туда, где на другом конце моста стоит давильня для яблок… где течет маленькая речушка, а над головой висит мглистое небо, в котором светит луна, состоящая из костей, где от травы поднимается острый, пронзительный влажный дух… а вот она бесшумным галопом несется мимо задворков платных конюшен… мимо темной задней стены хранилища для льда… вот методистская церковь, вот аптека, вот школа, в которую она пойдет осенью, вот новый вулвортовский «Файв-энд-дайм»[14] с великолепной красно-золотой вывеской, роскошными витринами («Любой товар, выставленный в этой витрине, — всего за 5 ЦЕНТОВ!»), вот библиотека с ее знаменитым портиком и широкими ступенями, вот конгрегационалистская церковь, дома, где живут мужчины и женщины, мальчики и девочки, которых она ненавидит и обожает, которым завидует так, что сердце сжимается в груди, свет ламп за тонкими газовыми занавесками, время от времени там мелькает рука, профиль, неясная тень; как живут все эти люди, какими тайными словами обмениваются, знают ли они об Игре, знают ли, что им не дано играть в Игру, что происходит между ними, когда рядом нет посторонних? Обшитые досками дома в дальнем конце Главной улицы, высокие кирпичные строения на Мюркирк-авеню, дома на Хай-стрит, Элм-стрит, Бей-стрит, особняк Вудкоков позади серой каменной лютеранской церкви, дома Ивингов, Оуксов, угловой дом на Бей-стрит принадлежит Дирфилдам, на нем белая табличка, на окнах — темные шторы, веранда с четырьмя элегантными резными столбами, одна выложенная кирпичом дорожка ведет к парадной двери, другая — к кабинету доктора в глубине дома. Эстер рассеянно проводит пальцами по выцветшему кованому железному забору, в нем маленькая калитка с крючком, ее можно закрыть, но нельзя запереть, полдюжины окон выходят на улицу, внутри горит свет, пылает камин, сквозь тонкие занавески можно разглядеть движущиеся фигуры… оставаясь при этом невидимой для них: для доктора в рубашке с короткими рукавами, докторского сына (которого Эстер не любит, потому что она не любит никого), докторской жены, которая как раз задергивает шторы.
В ночи, тайком, бесшумная, невидимая, здесь и одновременно не здесь, вот она топает копытами по сырой траве, а вот, опьяненная и ликующая, взмывает в ночное небо, в такие сокровенные моменты ее никто не видит, никто не может окликнуть. Мое дитя? — шепчет мертвая женщина; но теперь Эстер — ничье дитя.
Общество по восстановлению наследия Э. Огюста Наполеона Бонапарта и рекламациям
В Корвсгейте, Аллентауне и Бетлехеме, Пенсильвания… в самых богатых пригородах Филадельфии… в Нью-Джерси, в Фар-Хиллз, Уотерборо, Патерсоне и фешенебельных жилых предместьях Ньюарка и Нью-Брансуика… зимой 1912/13 года стали появляться некто мистер Геймид, некто мистер Лихтман, некто мистер Брэмиер, адвокаты, как они представлялись, некой уолл-стритской фирмы, уполномоченные представлять в Северной Америке тайное Общество по восстановлению наследия Э. Огюста Наполеона Бонапарта и рекламациям.
Э. Огюст Наполеон Бонапарт — незаконный сын великого императора, родившийся в 1821 году, в год смерти своего отца, пропавший наследник его огромного состояния.
Состояния, которое, как нетрудно себе представить, возросло к настоящему времени в тысячи раз, осенью 1912 года оно оценивалось более чем в 300 миллионов долларов согласно неофициальному докладу престижной нью-йоркской финансово-аналитической фирмы «Прайс», расположенной в Уотерхаусе.
Все трое — господа Геймид, Лихтман и Брэмиер — были крепкими джентльменами средних лет с бачками (Геймид), поблескивающим пенсне (Лихтман) или тонкой полоской усиков (Брэмиер); одевались они как типичные банкиры с Уолл-стрит — в традиционные костюмы-тройки, хотя Брэмиер иногда позволял себе розовую гвоздику в петлице, а Лихтман — сдержанный аскотский шелковый галстук. Один носил на мизинце кольцо-печатку с гербом Дома Бонапартов; другой — золотой брегет; один официально покашливал, прочищая горло; другой имел адвокатскую привычку угрюмо повторять каждую фразу, словно для стенографистки. Все трое были безоговорочно преданны — безотносительно к своим гонорарам — Обществу (тайному) по восстановлению наследия Э. Огюста Наполеона Бонапарта и рекламациям.
Склонные проявлять, пожалуй, чрезмерную пунктуальность в вопросах, касающихся таких вещей, как свидетельства о рождении, генеалогия, юридическая документация, акты, удостоверяющие владение собственностью, страховые полисы, сберегательные счета и тому подобное, эти три адвоката время от времени не могли скрыть своих личных симпатий… и хотя переговоры, связанные с деятельностью Общества, держались в строгом секрете, поскольку со временем предприятие обещало наследникам Огюста Бонапарта получение значительных денежных сумм (кому — сотни тысяч долларов, а кому и целый миллион), тем не менее мистер Лихтман не всегда мог удержаться, чтобы не сообщить клиенту о тех или иных незаконных действиях, предпринимаемых некими его — не будем называть имен — родственниками с целью увеличения своей доли в наследстве; а мистер Геймид, хоть и был исключительно сдержан и имел приводящие в замешательство «чисто английские» манеры, мог порой расплыться в восторженной улыбке в ответ на какую-нибудь очень уж проницательную догадку клиента.
Добродушный мистер Брэмиер никогда никому не давал напрасных обещаний, поскольку считал, что лучше посеять в душе клиента разумное сомнение, чем вселить в него необоснованную надежду на то, что дело будет завершено в скором времени. Уполномоченный точно передать слова президента, мистер Брэмиер сообщил небольшому собранию клиентов, что с юридической точки зрения требования Общества не имеют прецедента в истории тяжб о наследстве.
— Но мы не остановимся до тех пор, пока законные наследники Наполеона Бонапарта не будут восстановлены в своих правах и сотни миллионов франков — то есть долларов — не будут честно разделены между его потомками: не из грубой корысти, а по требованиям чести. «И я о чести буду говорить»[15], как сказано у великого Барда, — процитировал Брэмиер, поглаживая усики и пристально вглядываясь в лица слушателей. — Должен конфиденциально заметить, что нынешние французы не менее лицемерны, чем они были в 1821 году, когда агентами как «законного» сына, так и Луи Наполеона было предпринято столько усилий, чтобы убить инфанта Огюста; едва ли для кого-то является секретом, что их цивилизация в прошлом веке подверглась глубокому разложению… очистить от которого ее может, боюсь, только война, и на сей раз — катастрофическая. В этом деле на кон поставлена их галльская гордость и честь, но в еще большей степени — их знаменитая галльская скаредность, ибо для государственной казны будет сущим разорением, если у них отнимут более двухсот миллионов долларов… тем более если эти деньги перейдут к гражданам Северной Америки, которых они, как вы знаете, считают варварами. Трудность состоит в том, что наше собственное правительство под руководством нечестивой коалиции демократов и республиканцев, безусловно, помогает французскому правительству замять это дело, потому что некоторые высокопоставленные политики, безусловно, получают за свои старания «гонорары». Наше Общество, джентльмены, уже подвергается травле, получает угрозы и во время сенатских слушаний было осуждено как «не способствующее развитию франко-американских отношений»! (На эти слова маленькая аудитория ответила взрывом удивления и негодования: получалось, что дело гораздо сложнее, чем кто-либо мог предположить.) Вот почему, — сурово продолжил Брэмиер, — необходимо держать нашу деятельность в строжайшей тайне, мы все должны поклясться в этом; мы должны неустанно бороться за признание Огюста и его многочисленных потомков законными наследниками; и мы должны стоять до последнего в своем желании довести эту тяжбу до конца. И хотя сейчас это дело кажется весьма дорогостоящим, только представьте себе, как вы будете вознаграждены: честь Огюста будет восстановлена после стольких лет унижения, и все его живые наследники станут богатыми людьми.
Исторические факты таковы: великий Наполеон Бонапарт, сосланный на остров Св. Елены после поражения при Ватерлоо, в последний год своей жизни стал отцом незаконнорожденного сына от женщины (благородного происхождения, как предполагается, хотя и неизвестной национальности), которая была намного моложе его; хотя их роман и последующее рождение сына держались в строгом секрете, известно, что осенью 1821 года ребенок был крещен в католической церкви и наречен Эманюэлем Огюстом, а поскольку его мать не без оснований опасалась за его жизнь, после смерти отца ребенка сразу же тайно перевезли в одну из средиземноморских стран. (По слухам, последняя inamorata[16] императора была непревзойденно красивой девушкой, едва достигшей шестнадцатилетнего возраста, в ней перемешалось множество кровей — испанская, греческая, марокканская.) В так называемой ссылке мальчик вырос, стал зрелым мужчиной, отдающим себе полный отчет в том, чей он сын, однако смирившимся с участью бастарда. В возрасте двадцати одного года он рискнул отправиться в Париж под вымышленным именем и там узнал, что Наполеон не обошел его в своем завещании и весьма недурно обеспечил, но, если он будет настаивать на вступлении в права наследства, его ждет смерть. (Потому что к тому времени вся Франция объединилась под суровым правлением Наполеона III, племянника покойного императора.) Будучи юношей весьма хладнокровным и отнюдь не алчным, Эманюэль Огюст решил забыть о своем происхождении и попытал счастья в Германии (1844–1852) и Англии (1852–1879), где и умер в лондонском предместье, известный соседям и знакомым как Э. Огюст Армстронг, глубоко уважаемый джентльмен, занимавшийся импортом хлопка. После его смерти стало известно, что, покинув Францию, он вынужденно жил под множеством псевдонимов, среди которых были такие, например, как Шнайдер, Шаффер, Райхард, Пейдж, Осгуд, Браун и, разумеется, Армстронг. Поэтому список его потомков и потомков его потомков весьма запутан.
После смерти Огюста в 1879 году он сам и история его таинственного происхождения были надолго забыты, а его наследство оставалось лежать нетронутым в подвалах Парижского банка. Насколько известно, исходная сумма равнялась сорока трем миллионам франков; по прошествии десятилетий благодаря инвестициям, процентам и тому подобному, а также благоразумному попечительству банковской администрации эта и без того огромная сумма постепенно увеличилась в десятки раз. Как долго состояние оставалось бы невостребованным, никому не ведомо, если бы в дело не вмешался господин по имени Франсуа Леон Клодель, американский гражданин французского происхождения, который сам был манхэттенским брокером и который, в 1909 году обнаружив свое кровное родство с Э. Огюстом Наполеоном Бонапартом, решил организовать Общество. Пожилой богатый человек, Клодель мог позволить себе нанять небольшую армию адвокатов, историков и специалистов в области генеалогии, чтобы выявить потомков Огюста по всему миру и возбудить процесс против Парижского банка в соответствии с международным правом. «Не ради одного лишь золота разворачиваем мы эту кампанию, — цитировали слова Клоделя, — но ради восстановления поруганной чести нашего предка Огюста. Мы, его прямые потомки, его наследники, обязаны заявить свои права на наследство во имя его памяти, иначе бесчестье падет на наши головы».
Для идеалистов-американцев не было неожиданностью, что французы, упрятавшие баснословное состояние, сразу же враждебно отнеслись к их деятельности. Хотя Клодель был рад узнать от своих французских информаторов (друзей, как они себя величали, «покойного опозоренного наследника»), что слухи о забытом наследстве, запертом в Парижском банке и бдительно охраняемом его администрацией, давно связывают с именем императора. Задача выявить многочисленных американских наследников оказалась менее сложной, чем предполагал Клодель, ибо, узнавая об альтруистических побуждениях, из которых тот действовал, люди охотно соглашались сотрудничать с ним.
К зиме 1912 года в Соединенных Штатах и Канаде отыскалось приблизительно триста наследников, считалось, что к ним прибавятся еще около ста. Потому что, судя по всему, Э. Огюст, живя под разными именами, произвел на свет огромное количество детей с помощью многочисленных жен и любовниц. «Нельзя считать ни достойным осуждения фактом, ни добродетелью, — сдержанно прокомментировал Клодель, — что мы, Бонапарты, немного более чувственны, чем наши соседи». Для начала Клодель хотел ограничить членство в Обществе только прямыми потомками Огюста, но со временем, по мере того как появлялись и другие жаждущие принять участие в восстановлении справедливости, было сделано некоторое послабление, но все вступающие в Общество были обязаны принести клятву хранить его деятельность в секрете, а также разделять обязанности, внести официальный взнос и участвовать в текущих расходах наличными, которые должны были передаваться через посыльного (а не по государственной почте) Клоделю как президенту Общества или его уполномоченным представителям. Каждому из наследников во время приватной беседы у них дома было объяснено, что Общество, которое насчитывало уже более трехсот человек, состоит не только из прямых потомков таких, как они сами, но и из участников, поклявшихся бороться за Справедливость; в число этих последних входили главным образом состоятельные юристы, религиозные деятели и историки, вдохновленные миссией Франсуа Леона Клоделя. Поскольку юридическая тяжба, которая им предстоит, наверняка потребует немалых жертв, эти господа выражали готовность безвозмездно предоставить свое время, деньги и поддержку, хотя по окончании процесса, вероятно, году в 1915-м, во всяком случае, не позднее 1916-го, они не получат ни пенни из наследства.
Уполномоченными Общества по Центрально-Атлантическому региону были назначены господа Геймид, Лихтман, Брэмиер и другие — все люди безупречной личной честности, с прекрасной репутацией в юридических и финансовых кругах. В их обязанности входило поддерживать связь с наследниками, знакомить их с разнообразными документами (генеалогическими картами, свидетельствами о рождении и крещении, копиями официальных протоколов и так далее), имеющими отношение к Э. Огюсту и к ним самим; а также принимать новых членов, согласных выполнить незыблемые условия: соблюдать полную секретность, в течение тридцати дней заплатить вступительный взнос в размере двух тысяч долларов, а также разными суммами (в зависимости от хода процесса) время от времени участвовать в текущих расходах.
Из наследников, с которыми беседовали уполномоченные представители Общества, все, за исключением отдельных немногочисленных скептиков, отнеслись к делу с энтузиазмом, даже более чем с энтузиазмом — с вдохновением, ибо основные факты были представлены им очень убедительно. Альтруизм Франсуа Леона Клоделя и его профессиональных помощников представлялся исключительным, а выцветшие или смазанные дагерротипы Эманюэля Огюста (представлявшие младенца на руках, ребенка, только что научившегося ходить, надменного молодого джентльмена лет двадцати с небольшим) неизменно вызывали особый интерес. (И впрямь удивительно, как людей в столь разных регионах Центральной Атлантики, как столичный город Филадельфия, или юго-восточный Нью-Джерси, или отдаленные северные уголки Делавэрской долины, одинаково поражало фамильное сходство забытого наследника, как его часто называли, с ними самими или с их родственниками. Каждый раз молодой Огюст, хоть снят он был почти в профиль и его полуприкрытые глаза презрительно смотрели в сторону от камеры, воспринимался как «живой образ» кузена, дяди, дедушки, отца, сына; бедный терпеливый мистер Геймид так же, как и его коллеги Лихтман, Брэмиер, Хинд и Глюклихт, вынужден был, сидя на диване, рассматривать бесконечные семейные альбомы и выслушивать оживленные комментарии на тему о том, что «королевская кровь» Бонапартов всегда даст о себе знать, хотя в семье клиента прежде о ней и не подозревали. Она может проявиться в разрезе глаз, в форме носа, ушей, подбородка, в очертании скул, форме лба и так далее, но внешнее сходство несомненно.)
— Да, конечно, — говорил мистер Геймид или кто-нибудь из его коллег, изучая фотографию или строение лицевых костей покрасневшего от смущения живого ребенка, которого ему представляли, — да, думаю, так оно и есть. Удивительно, что ваша семья раньше не пришла к заключению, что вы в отличие от соседей вылеплены из другой глины; но в любом случае у вас исключительная история жизни — и вас ждет не менее исключительное богатство.
Элайша давно заметил странное несоответствие: страстность, с которой Абрахам Лихт принимался за каждое свое новое деловое предприятие, убывала в строго обратной пропорции его успешному развитию.
По мере того как план претворялся в жизнь и клиенты охотно клали ему в карман кругленькие суммы денег, его энтузиазм быстро улетучивался и неугомонному предпринимателю начинало казаться, несмотря на всю его гениальность и готовность рисковать, что он не должен завышать ставки. Нередко он признавался Элайше — только ему одному из всех своих детей, — что трудности, опасности, препятствия более всего возбуждали его дух и создавали поле для приложения сил, масштаб которых, как он считал, еще и не определен.
Поэтому случалось, что Маленького Моисея выводили из игры раньше, чем это казалось необходимым (Элайша наслаждался своими ролями и играл их очень уверенно, даже если это были роли «черномазых», а отнюдь не Негров). Так, в свое время после полугода триумфальных успехов компании «Панамский канал, лтд.» Абрахам Лихт на полпути испугался, что Дж. П. Морган захочет выкупить ее, и дверь перед новыми инвесторами была закрыта; то же произошло и с компанией «Медные рудники З.З. Энсона с сыновьями, лтд.», и с «Облигациями свободной Северной Америки, инк.», и с «Эфирным массажем Зихта» (отчаявшегося больного, страдающего от таких недугов, как ревматизм, артрит, мигрень, желудочные расстройства и некоторые загадочные болезни, клали на стол в кромешной тьме и массировали «магнетическими эфирными волнами», которые излучала «остеофоническая» машина — изобретение доктора Зихта); не в последнюю очередь то же случилось и с деятельностью предприимчивого астролога «доктора философии А. Уошберна Фрелихта», который одержал оглушительную победу в Чатокуа и о котором все еще не переставали судачить в кругах, близких к скачкам. (То ли из-за полного безразличия к прошлым успехам, то ли в силу великодушного отношения к пользующимся плодами его изобретательности скаковым «жучкам», но Абрахама Лихта ни в малейшей мере не задевало то, что тайные списки фаворитов почти свободно продавались теперь на всех американских скачках, при том что об авторстве Фрелихта все напрочь забыли.)
Разумеется, не все предприятия Абрахама Лихта были успешными, и его продолжали терзать относительные или полные неудачи, в полудюжине случаев окончившиеся конфликтами с законом.
Например, еще в нежном пятнадцатилетнем возрасте он попал впросак из-за своего родственника по имени Натаниэл Лиджес из долины Онандага, который нанял его распространять лотерейные билеты, но забыл вовремя предупредить, когда неожиданно открылось, что билеты были фальшивыми; не лучше сложилась ситуация и тогда, когда несколькими годами позже, теперь уже по собственной инициативе, он колесил по округу Нотога в качестве торговца Библией и неким патентованным медицинским препаратом и по иронии судьбы оказался точно «в кильватере» пресловутого голландского коробейника с юга штата, который предлагал те же товары и на которого Абрахам был похож, как сын на отца!
Однажды он признался Элайше, что, будучи амбициозным тридцатидвухлетним молодым человеком, согласился выставить свою кандидатуру в конгресс штата по списку республиканской партии от малонаселенного гористого района к северу от Мюркирка, но обнаружил, что избирательная кампания — дело грязное, а перспектива стать ручным респектабельным законопослушным чиновником так деморализовала, что он вскоре утратил всякое желание участвовать в гонке, чем оскорбил всех, кто на него ставил. Более того, его соперник из демократической партии был таким самодовольным дураком, что Абрахам Лихт счел унизительным для собственного достоинства соревноваться с ним. Подобно шекспировскому Кориолану, с которым он себя отождествлял, Абрахам почувствовал, что усилия, направленные на то, чтобы снискать публичное признание, постыдны и опустошительны для души. Эта Игра была гораздо менее азартной, чем та, к которой он привык; а перспектива одержать верх над невежественным электоратом напоминала перспективу соблазнить женщину столь же уродливую, сколь и безмозглую! Поэтому Абрахам начал высмеивать своего оппонента, а также риторические приемы участников кампании в целом (будь то демократы, республиканцы, популисты или кто угодно другой) и в конце концов предал тех, кто его поддерживал, за несколько недель до выборов оставив гонку и исчезнув из округи.
Несмотря на это он сказал Элайше, что не исключает для него возможности политической карьеры.
— Разумеется, ты заслуживаешь большего, чем место конгрессмена от какого-нибудь захолустья; а твоя внешность в качестве расового компонента, или атрибута, или «таланта» — назови как хочешь — при соответствующих обстоятельствах обернется благом.
На Элайшу это произвело глубокое впечатление, хотя он и не удержался от иронии.
— Может, я когда-нибудь поборюсь за губернаторское место? — предположил он. — Или даже за президентское? Могу же я когда-нибудь оказаться подходящей кандидатурой для Белого дома? Это позволит моим соотечественникам еще раз похвастать своими демократическими принципами: «черномазый» — и на таком посту!
— Не оглупляй мою идею, — рассердился Абрахам. — Время еще не настало. Но оно может настать. «Мечтай о чем хочешь, но никогда не мечтай впустую».
Так же, как с женщинами (в конце концов он стал называть их своими «женами»), которых Абрахам Лихт покорял, а потом терял, так и с деловыми предприятиями: он никогда не добивался желанной цели. И они преследовали его, терзали, уязвляли и ранили в самое сердце.
Таким было и Общество Э. Огюста Наполеона Бонапарта, впервые задуманное Абрахамом Лихтом еще в молодости, но в силу ограниченности возможностей и множества тогдашних трудностей так и не осуществленное. Что привлекало в нем зрелого Абрахама, так это безграничные возможности: стоит убедить человека, что в его жилах течет королевская кровь, — и он потенциальный наследник огромного богатства, и его доверчивость можно испытывать бесконечно. После того как наличный состав наследников — членов Общества выполнит свои обязательства, связанные с первым этапом судебного процесса (предполагалось, что он будет проходить в парижском суде за закрытыми дверьми и вести его будет адвокат с международной репутацией), Общество заставит их еще больше раскошелиться под предлогом несуществующих вознаграждений, налогов, предварительных гонораров адвокатам и так далее, и конца этому не будет. Представлялось вполне понятным, что из-за коррупции, царящей во Франции, дело такой сложности может тянуться годами. А в начале весны 1913 года возник новый сюжет, инициированный некоторыми помощниками президента Общества Франсуа Леона Клоделя, глубоко озабоченными тем, что Клодель, к тому времени истративший на ведение дела огромную сумму денег — около семисот тысяч долларов, в качестве всего лишь одного из многих наследников Эманюэля Огюста должен был по его завершении получить не больше, чем любой другой; поэтому совет управляющих проголосовал за то, чтобы члены Общества вкладывали деньги непосредственно в будущее наследство, а не просто оплачивали расходы по ведению процесса. То есть, по предложению аудиторов Общества, компании «Дан и К°», лицо, вложившее в наследство один доллар, получит по меньшей мере двести, когда дело будет улажено, а лицо, вложившее тысячу долларов, получит двести тысяч и так далее.
И скачки начались.
Чтобы справиться со стремительно разрастающимся бизнесом, Абрахам Лихт был вынужден нанять дюжину агентов. Целые семьи с безоглядной поспешностью закладывали или продавали свои дома и имущество, обналичивали страховые полисы, некий священник из Пеннз-Нек, Нью-Джерси, взял взаймы из церковной кассы шесть с половиной тысяч, никого не поставив об этом в известность, а один член Общества по фамилии Рейнхардт тайно заключил договор страхования своей жены на сто тысяч долларов, намереваясь, как он простодушно признался мистеру Геймиду, вложить всю эту сумму в Эманюэля Огюста, «как только старуха умрет». (Геймиду хватило благоразумия сразу же сказать ему, что накануне совет управляющих якобы разослал инструкцию, запрещающую одному члену Общества вкладывать в дело более четырех тысяч, что в конце концов все равно принесет кругленькую сумму в восемьсот тысяч долларов.)
К февралю 1913 года почтовые инспектора нескольких городов заподозрили что-то неладное, но, поскольку никаких жалоб в полицию не поступало и члены Общества, неукоснительно соблюдая правило, посылали деньги (преимущественно наличными, хотя принимались и чеки) с курьерами и никогда не пользовались услугами общенациональной почтовой связи, особой опасности в том не было. Членов Общества постоянно предупреждали, что сам руководитель американского почтового ведомства получает взятки от французов, а потому готов просматривать и уничтожать любую корреспонденцию Общества. (Правило было настолько суровым, что всех уведомили: письмо, пришедшее по почте, даже не будут вскрывать, а членство его отправителя в Обществе подлежит моментальному аннулированию.) Из соображений безопасности адрес Общества часто менялся, оно располагалось то на Брум-стрит, в южном Манхэттене, то на Восточной Сорок девятой улице, то на севере Вест-Сайда, то вдруг в Тинеке, Нью-Джерси, или Риверсайде, Нью-Йорк. В июне 1913 года за одну неделю пришло такое количество взносов, колеблющихся в амплитуде от пяти до ста долларов, что Абрахам Лихт и Элайша устали весело подсчитывать их и, дойдя до девяноста пяти тысяч, сдались и просто сгребли их, предусмотрительно надев перчатки, в мешок, чтобы впоследствии поместить на имя одного из агентов (Брисбейна, О'Тула, Родвеллера, Сент-Гоура) в какой-нибудь уолл-стритский инвестиционный банк («Никербокер кредит», «Американский банк сбережений и кредитов», «Линч и Берр», «Трокмортон и К0») — по выбору Абрахама Лихта. Он подозревал, что к тому времени кое-кто в финансовых кругах стал внимательно присматриваться к его деятельности, но, ослепленный успехом, особо не волновался.
В конце концов, он — Абрахам Лихт, хотя здесь это его имя и неизвестно.
— Если человечество, как считал Свифт, делится на дураков и подлецов, — говорил Элайше и Миллисент Абрахам Лихт, — может ли быть большее удовольствие, чем получать стабильный доход от первых, глядя, как завидуют последние?
В течение долгого лета 1913 года членство в Обществе по восстановлению наследия Э. Огюста Наполеона Бонапарта и рекламациям продолжало расти, в середине августа, незадолго до того, как предприятие пришлось свернуть, в нем насчитывалось около семи тысяч добропорядочных членов и на его счету скопилось, по приблизительным прикидкам, три миллиона долларов. У Элайши и Миллисент голова кружилась от отцовских успехов, хотя того и тревожили некоторые сомнения: не слишком ли гладко идут дела?.. не имеет ли под собой почвы ощущение, порой становящееся почти осязаемым, что за ними отовсюду наблюдают, хотя пока и не трогают?.. Учитывая расширение дела, Абрахам Лихт вынужден был нанять более двадцати сотрудников — «поверенных», «агентов», «курьеров», «бухгалтеров», «стенографисток». Эти люди, хоть и не посвященные в подробности, были достаточно опытны и интуитивно ушлы, чтобы не нарушать хозяйских распоряжений. («Один неверный шаг, — предупредил каждого из них Абрахам Лихт, — и весь этот карточный домик рухнет. А некоторые из вас могут горько пожалеть об этом».)
В то время основная резиденция Лихтов находилась в роскошных восьмикомнатных апартаментах «Парк-Стайвесант-отеля» у восточной оконечности Центрального парка, хотя Абрахам с Элайшей часто разъезжали по делам, а Милли училась в Академии мисс Тейер для благородных христианских девиц, располагавшейся на Восточной Восемьдесят пятой улице. (Разумеется, Милли не так уж прилежно посещала занятия, ее захватил вихрь светской жизни Манхэттена, и она наслаждалась лестным вниманием своих молодых поклонников, не более чем игриво кокетничая с ними, поскольку сердце ее принадлежало Элайше.) Пока дела шли гладко и проблемы Общества не доставляли неприятностей, не было для Абрахама Лихта большего удовольствия, чем провести воскресный день в городе со своими красивыми детьми: изысканный поздний завтрак в «Плазе», неторопливая прогулка в кабриолете по Центральному парку, несколько часов в музее «Метрополитен» на Пятой авеню, ранний ужин и чай в великолепном «Генрихе Четвертом» на Парк-авеню. Для старших детей, Милли и Элайши, выходной порой продолжался вечером в великолепном «Метрополитен-опера» в небольшой компании светских знакомых, потому что наряду с Шекспиром Абрахам Лихт почитал оперу как музыку богов. (В тот хмельной сезон Лихты слушали «Волшебную флейту», «Риголетто», «Мадам Баттерфляй» и присутствовали на американской премьере «Кавалера роз» Штрауса, во время представления которой Абрахам Лихт влюбился в Анну Кейс, исполнявшую роль Софи.) Музыкальные вечера иногда заканчивались ужином где-нибудь на Парк-авеню или на Пятой авеню, в доме одного из новых друзей Абрахама, или у Дельмонико, где Абрахама знали и охотно привечали как щедрого клиента.
— Какие мы счастливые! И как просто быть счастливыми! — с притворным изумлением шептала Милли, горячо целуя Элайшу, когда они оставались наедине; а Элайша, менее беспечный из них двоих, пытался понять, как это может быть — ведь и года не прошло после исчезновения его брата Терстона. Глядя на раскрасневшееся, восторженное лицо Милли, видя ее сияющие глаза, он не мог сказать, счастлив ли он и счастливы ли на самом деле, несмотря на нынешние деловые успехи, Милли или Абрахам Лихт, и вообще — что такое настоящее счастье? Когда Милли бывала весела, безудержно весела, словно инженю в бродвейской оперетте, Элайша считал, что тоже должен ей соответствовать, возможно, она даже испытывала его, чтобы понять, насколько искренне его веселье.
Единственное, что Милли знала об исчезновении Терстона, так это что брата не оказалось в ритуальном зале трентонского Погребального дома, куда его «останки» должны были доставить из тюрьмы и куда Абрахам с Элайшей явились, чтобы забрать его. Он ушел, скрылся, испарился — без следа. И не оставил никакой записки.
— Но как Терстон мог так поступить? — спрашивала Милли с недоверием и обидой, и Абрахам сухо отвечал:
— Не будем говорить об этом неблагодарном — видите ли, он стал «новообращенным христианином». Перешел в лагерь врагов — скатертью дорога!
— Но, папа… — попыталась возразить Милли. Однако Абрахам оборвал ее:
— Я тебе сказал, Милли: никогда больше не будем вспоминать об этом неблагодарном.
Так и было, потому что Абрахам Лихт не из тех, кому можно не повиноваться.
Легенда, существовавшая в семье, гласила, что Терстон и Харвуд отправились на поиски удачи: Терстон изучал в Бразилии возможности «каучуковой торговли», а Харвуд на Западе — возможности «добычи ценных металлов». Младших детей Харвуд нисколько не интересовал, но они умоляли отца съездить в Южную Америку, чтобы повидаться с Терстоном.
— На Рождество, папа! Терстону ведь без нас будет одиноко.
Абрахам весело смеялся, удивленный, но отвечал тем тоном, который означал, что разговор окончен и возвращаться к нему запрещается:
— Уверен, что ваш брат уже привык к «одиночеству».
(— Неужели там действительно не было никакой записки, чтобы объяснить или извиниться, ну хотя бы попрощаться? — по секрету спрашивала Элайшу Милли. И Элайша, притворно воздевая руки, заверял ее так же строго, как и отец:
— Нет, Милли. Папа же сказал — ничего там не было.)
Странным было неустойчивое счастье того быстротечного манхэттенского сезона. Оно оказало противоречивое воздействие на Абрахама Лихта.
Например, он часто говорил о своей смутной тоске по Мюркирку — «по покою». Хотя, конечно же, не рисковал покидать Нью-Йорк, пока дела не устоятся. Он не доверял своим служащим — да и какой наниматель стал бы доверять в такие бурные времена? Полушутя он говорил Элайше и Милли, что без труда построил бы свою финансовую империю, если бы мог заполнить весь штат сотрудников только кровными родственниками. (Его свойственники — Барракло, Стернлихты, Лиджесы, — похоже, доверия не заслуживали. Элайша имел основания так думать. А почему папа никогда не вспоминает о Харвуде? Поддерживает ли он вообще с ним связь?)
И потом, не слишком ли быстро разрасталось Общество? Может быть, благоразумнее было бы ограничить членство в нем? Даже сделать новый ход: мол, дела в Париже так запутались, французские суды так погрязли в коррупции, что процесс был объявлен недействительным из-за допущенных в ходе его нарушений закона, так что следует готовить новый процесс, скажем, к январю 1914 года. Это, с точки зрения Элайши, прозвучало бы вполне убедительно и было бы встречено им с полным одобрением (или облегчением), потому что на данном этапе своей карьеры Абрахам Лихт уже несколько раз стал миллионером — в качестве О'Тула, в качестве Брисбейна, Родвеллера и Сент-Гоура — и мог позволить себе расслабиться. Его состояние находилось в надежных руках — в самых респектабельных уолл-стритских инвестиционных банках — и могло удвоиться или утроиться, если продолжится расцвет экономики.
К тому же Абрахам Лихт, несмотря на всю свою жизнерадостность и оптимизм, был уже не так молод, как даже всего лишь год назад.
Но просматривая, например, за завтраком газеты и наткнувшись на заметку о роскошной свадьбе внучки бесчестного Гоулда, мисс Вивьен Гоулд, и лорда Дисиса, офицера Седьмого гусарского полка его величества, состоявшейся в церкви Святого Варфоломея на Пятой авеню, Абрахам Лихт вдруг осознавал, что не может удовлетвориться теми несчастными миллионами, которые заработал. «Абсурдно для меня, не говоря уж об этих людях, думать, что я — богатый человек». Потому что Гоулды были так богаты, а их империя так огромна, что газеты даже не комментировали тот факт, что сто двадцать пять швей трудились над приданым невесты более года; один свадебный торт, украшенный электрическими лампочками и маленькими сахарными купидончиками с гербом Дисисов в ручках, обошелся в тысячу долларов; отец невесты подарил ей бриллиантовую диадему стоимостью в полтора миллиона долларов; и остальные подарки от таких членов «золотого сообщества», как Пирпонт-Морганы, лорд и леди Эшбертон, миссис Стайвесант Фиш, герцог Коннот, Асторы, Вандербильты и многие другие, могли соперничать с ней по ценности. «Нет, в сравнении с ними Абрахам Лихт — нищий, — размышлял он, — в сущности, его почти не существует. И что в свои пятьдесят два года он может сделать с этим?»
В такой день и в следующие за ним дни он мог судорожно строить планы: нанять, сманив с их «законных» фирм, еще больше служащих, развернуть новую кампанию в Виргинии, Северной Каролине и далекой таинственной Джорджии, где, несомненно, живут прямые потомки Эманюэля Огюста, ожидая лишь, когда их найдут. («Чем дальше на юг, тем больше дураков» — в этом Абрахам был уверен.) Не ведая покоя, он готов был пригласить самого престижного манхэттенского архитектора, чтобы обсудить с ним проект итальянской виллы, которую надеялся выстроить на углу Парковой улицы и Восточной Шестидесятой, на расстоянии брошенного камня от особняка Вандербильтов.
И недалек тот день, если все пойдет хорошо, когда Абрахам Лихт со своим семейством войдет в высшие эшелоны нью-йоркского общества и так же, как мистер Джордж Гоулд, гордо прошествует по проходу церкви Святого Варфоломея, ведя под руку свою гораздо более красивую дочь к святому венцу, где ее будет ожидать лорд, или граф, или герцог — «если не сам принц».
К концу лета 1913 года, однако, Абрахам вынужден был признать, что дела Общества по восстановлению наследия Э. Огюста Наполеона Бонапарта и рекламациям идут слишком успешно и что в ближайшее время его придется свернуть или вообще ликвидировать. Потому что Абрахам не мог доверять своим служащим, слишком уж они были жуликоватыми и практичными, не то что он сам в их возрасте. К тому же в газетах стали появляться тревожные сообщения, имеющие отношение к «международному скандалу» вокруг имени незаконного сына некоего габсбургского герцога, незаконной дочери покойного Карла Эдуарда Седьмого, нескольких праправнуков Наполеона Бонапарта и — что было самым неприятным для жителей Нью-Йорка — прямого потомка дофина, короля Луи Семнадцатого, который согласно легенде сбежал из Франции и прятался где-то в дебрях, в горах Чатокуа, к северу от горы Чаттарой.
«Как же американцы, кичащиеся своей демократией, падки на „королевскую кровь“! Это заслуживает скорее жалости, чем осуждения».
Однако обилие слухов вызывало тревогу.
Поэтому представлялось необходимым созвать специальное собрание акционеров Общества вскоре после Дня труда в учебном манеже Шестого полка в Филадельфии. Несколько тысяч наследников Эманюэля Огюста столпились в помещении, предварительно пройдя через строгий контроль на входе и заплатив по пять долларов, чтобы покрыть расходы на аренду манежа. (По правде говоря, манеж был предоставлен Обществу за символическую сумму в сто долларов неким филадельфийским брокером, вложившим в наследство 4600 долларов. Таким образом, чистый «доход» за этот вечер составил более 15 000 долларов — вдохновляющая цифра.) Атмосфера была выжидательной и накаленной, как в опере Вагнера, поскольку членов Общества пообещали представить наконец президенту Франсуа Леону Клоделю и сообщить последние, судя по всему, тревожные, новости относительно парижского процесса; а в качестве поощрения познакомить с самым непосредственным потомком Эманюэля Огюста, который прибыл в Штаты только на предыдущей неделе.
Манеж Шестого полка представлял собой голое помещение для строевых занятий, но в тот день его украсили стратегически расположенными плакатами, изображающими Эманюэля Огюста — младенцем на чьих-то руках, едва научившимся ходить ребенком и красивым молодым человеком — привычно похожим, разумеется, на присутствующих, хотя в процессе увеличения дагерротипов образ предка потемнел и огрубел. На сцене рядом с трибуной были установлены американский флаг и ярко-синий флаг с королевским гербом Бонапартов; по обе стороны соорудили цветочные композиции из белых лилий, гвоздик и ирисов, безвозмездно предоставленных директором филадельфийского ритуального агентства, который тоже являлся акционером Общества. Толпа, превышающая три тысячи человек, преимущественно состояла из мужчин — женские лица встречались редко, — и от нее исходила волна напряженного недоверчивого ожидания, потому что все собравшиеся под этой высокой сводчатой крышей были кровными родственниками, независимо от дальности родства; а поскольку каждый из них внес свою лепту в наследство Бонапарта, в некотором роде они были соперниками друг другу. Разве мог кто бы то ни было из них доверять остальным?
Правильно рассчитав, что многочисленная возбужденная аудитория будет рада увидеть знакомое лицо, Абрахам Лихт открыл собрание в привычном облике бодрого и обходительного Марселя Брэмиера с усиками-росчерком, одетого в традиционного покроя шерстяной костюм с розовой гвоздикой в петлице. Звонким голосом мистер Брэмиер приказал охранникам закрыть и запереть двери в манеж, поскольку было уже 8.06 и опоздавшим оставалось пенять на себя. Эта строгая мера была встречена бурными аплодисментами взвинченных наследников, многие из которых с самого утра дожидались, когда откроют манеж. В своей вступительной речи мистер Брэмиер говорил об истории Общества: его идеалах, его верности Эманюэлю Огюсту, а также преданности, щедрости и исключительном нравственном мужестве его членов; в заключение он поклялся, что ни один из присутствующих не уйдет сегодня, «не запечатлев в своем сердце согревающий душу образ». Гром аплодисментов был ему наградой за эту поэтическую декларацию. Затем мистер Брэмиер представил мистера Кроу, одного из основателей Общества, высокого широкоплечего мужчину с зубастой улыбкой президента Тедди Рузвельта в расцвете сил. Мистер Кроу с таким же вдохновением вещал о целях и идеалах Общества. (Роль Кроу исполнял безработный бродвейский актер — друг Абрахама. Абрахаму этот интервал в несколько минут понадобился, чтобы покинуть сцену, переодеться и загримироваться, перед тем как появиться на ней снова, в ключевой роли.)
Следующим явлением был встреченный восторженными аплодисментами уважаемый президент Общества Франсуа Леон Клодель. Под устремленными на него горящими взглядами трех тысяч пар глаз он вышел на сцену с надменным видом, опираясь на трость, — аристократ преклонных лет с блестящими волосами, в безукоризненном темном костюме с серым шелковым жилетом, в затемненных очках, прямая осанка и впалые щеки придавали ему вид священника, и, что странно, кожа у него была такой смуглой, что вполне можно было предположить его принадлежность к какой-нибудь экзотической расе. Впрочем, все сомнения развеялись, когда, дождавшись тишины, Клодель заговорил, ибо по его произношению сразу же стало ясно — и это подействовало ободряюще, — что он истинный белый.
В отличие от предыдущих ораторов Клодель не стал терять времени на завоевание симпатий аудитории и с ходу заявил, что есть неотложное дело, которое следует обсудить:
— Время и приливы, друзья мои, никого не ждут. — Он подстегнул воодушевление присутствующих, напомнив об их неразрывном единстве в деле достижения справедливости; все они кровные родичи, сколь отдаленным ни было бы их родство, поэтому должны доверять друг другу так же, как доверяют самым близким членам собственной семьи, хотя он вынужден предупредить, что ходят слухи, будто в их среде появились штатные доносчики, работающие на французское правительство. — Разумеется, — в голосе Клоделя зазвучали иронические нотки, — это всего лишь слухи, которым нельзя полностью доверять.
Следующие несколько минут джентльмен-аристократ потратил на яростные инвективы в адрес этих продажных членов Общества, иные из которых имеют наглость сидеть сейчас, в этот самый момент, здесь, среди нас, и которые не платят взносов вовремя; он погрозил пальцем этим нерадивым и недостойным потомкам великого Дома Бонапартов и перешел к критике тех, кто пытался подкупить некоторых сотрудников Общества, включая даже такого столпа добродетели с безупречной репутацией, как Марсель Брэмиер, чтобы добиться возможности под вымышленными именами вложить в наследство больше четырех тысяч долларов. К этому моменту Клодель сменил надменность манер на страстность американского сельского проповедника; расхаживая по сцене, он восклицал:
— Друзья мои, как вы думаете, что произойдет, если иные из ваших алчных собратьев внесут пять, пятьдесят тысяч, миллион долларов в наше общее наследство? — Он сделал драматическую паузу, пристально вглядываясь в море восхищенно-испуганных лиц. — Я скажу вам, господа: когда процесс закончится, честным инвесторам не хватит денег!
По залу побежал панический гул.
Однако, успокоил Франсуа Леон Клодель, никто из ответственных лиц не поддался соблазну, поэтому отсюда опасность не угрожает.
— В конце концов, мы не члены конгресса Соединенных Штатов и не обитатели Белого дома, — не удержавшись, добавил Клодель, вызвав взрыв хохота и бурные аплодисменты.
Далее Клодель огласил телеграмму от парижского адвоката Общества, в которой сообщалось, что тщательно подготовленный процесс был сорван «провокаторами», вероятно даже, притаившимися среди них, и самый верховный судья самого Верховного суда по секрету сообщил ему, адвокату, что в интересах Общества отозвать сейчас свой иск, а после 1 января 1914 года предъявить новый, чтобы быть уверенными, что новый суд окажется «свободным от какой бы то ни было предвзятости». Эти слова были зачитаны звенящим голосом, можно сказать, с шекспировским трагизмом, что свидетельствовало о том, насколько глубоко президент Общества потрясен подобным развитием событий. (Во время чтения даже случилась тревожная пауза, когда показалось, что старик вот-вот разрыдается, поскольку начал искать в кармане носовой платок.) Однако он быстро взял себя в руки и голосом, полным едкой иронии, заявил присутствующим, что, вероятно, эта новость порадует саботажников, притаившихся в их среде, но она — он готов поклясться в этом! — не заставит отчаяться его, хотя он, в его возрасте, едва ли может надеяться дожить до того, чтобы увидеть, как поруганная честь Эманюэля Огюста будет восстановлена.
В этом патетическом месте кое-кто из самых вдохновленных речью президента наследников в разных концах зала начал бешено аплодировать, и секунду спустя к ним присоединилась остальная аудитория — сначала неуверенно, потом все с большим энтузиазмом; одобрительный свист, волны аплодисментов, криков «Браво, наш президент!» заполнили зал и вызвали слезы гордости на глазах старика.
Клоделю оставалось лишь, успокоив зал, кротко поблагодарить всех за «священный вотум доверия» и еще раз выразить уверенность, что если полугодовой перерыв в процессе не обескураживает его, старика, то тем более он не обескуражит никого из присутствующих, что процесс, «конечно же», завершится самое позднее к концу 1916 года и что, учитывая день ото дня растущие проценты, сумма наследства составит к тому времени, по недавним подсчетам респектабельной уолл-стритской статистической фирмы «Прайс, Уотерхаус», более девятисот миллионов долларов.
В этом месте зал взорвался новыми, такими же горячими, как прежде, аплодисментами.
Их нужно погонять, как овец, — осторожно. Потому что овечье стадо склонно к панике.
Нужно внушить им, что ты — один из них и твоя судьба неразрывно связана с их судьбой.
Нужно уважать их истовое желание верить. Даже в тот момент, когда ты с улыбкой перерезаешь их доверчиво подставленные под нож глотки.
Непосредственно за этим последовал обещанный сюрприз: явление единственного «чистокровного живого потомка Эманюэля Огюста Наполеона Бонапарта» — коренного марокканца по имени Жан Жолье Мазар Наполеон Бонапарт, двадцати пяти лет от роду, только что прибывшего в здешние пределы. Просим членов Общества приветствовать своего почетного гостя с тем воодушевлением и гостеприимством, на которое способны только американцы.
Раздались аплодисменты; кое-кто в задних рядах и по краям зала начал вставать, чтобы получше рассмотреть гостя, и вскоре уже все были на ногах — более трех тысяч любопытных родственников. Но — какая неожиданность, какой ужас! — в розовом бархатном костюме с бриджами до колен вместо брюк и в белых чулках, в щеголеватой шляпе с пером, с мечом в позолоченных ножнах на боку, появился молодой негр! — самоуверенный, надменный и беспечный, словно он не просто был особой королевских кровей, а представлял расу, превосходящую белых!
В зале наступила гробовая тишина. Вскочившие, чтобы приветствовать гостя, зрители застыли, безмолвно вперившись в него.
Негр?..
Не обращая ни малейшего внимания на реакцию зала, улыбающийся Франсуа Леон Клодель галантно вывел молодого человека на авансцену и представил с пышным апломбом, с каким Пи-Ти Барнум представлял свои бесценные экспонаты:
— Мсье Жан Жолье Мазар Наполеон Бонапарт, самый чистокровный из всех потомков Эманюэля Огюста!
Он обнял красивого молодого человека с искренней теплотой, как будто подобная манера поведения между мужчинами была на этих берегах делом привычным, и звонко поцеловал в обе щеки. Глаза и зубы негра ослепительно сверкнули; его кожа блестела и переливалась, словно смазанная маслом; широким жестом, с притворным почтением он снял элегантную шляпу и низко поклонился притихшей аудитории.
Какие у него курчавые волосы, как плотно они облегают голову!
Негр?
По-прежнему не обращая ни малейшего внимания на парализованный зал и любовно обнимая молодого Жана за плечи, Клодель долго говорил о том, что в результате самого тщательного изучения генеалогических карт, составленных в Англии авторитетным оксфордским специалистом в области генеалогических исследований, доказано: перед ними стоит воплощенный в потомстве Эманюэль Огюст, «чистая кровь» поруганного наследника гордо течет в жилах Жана так же, как — в разной степени — течет она и в их жилах, и как справедливо будет, что молодой Жан унаследует титул принца во Франции, когда судебный процесс завершится.
Негр?
Поскольку крикливо одетый молодой человек, судя по всему, не говорил по-английски, его обращение к собравшимся было малопонятным, правда, надо отдать ему должное, коротким, изящным и убедительным по тону.
— Мсье, медам, иси я есть! Мои братья и мои сер, вуле ву благодарить пур инвите меня иси[17]. — Каскад слов прерывался ребяческим смехом; в свете прожекторов, освещавших сцену, зубы принца сверкали белизной, он вдохновенно жестикулировал. Вне всяких сомнений, этому черному уроженцу Марокко была чужда осторожная, выверенная повадка американских чернокожих, ибо он был принцем крови, а не вел свое происхождение от рабов, и поэтому, вероятно — но только вероятно! — ему можно было простить такое самомнение. Тем не менее аудитория оставалась безмолвной и подавленной. Там и тут можно было заметить лица, искаженные гримасой презрения, а то и отвращения; многие пребывали в замешательстве; некоторые переводили взгляд с Жана на развешенные в видных местах плакаты с изображением своего благородного предка, попутно отмечая, что и у Франсуа Леона Клоделя лицо смуглое, оливковое, особенно по контрасту со светлыми блестящими волосами и безошибочно «белыми» манерами. Что все это значит?
По-обезьяньи оживленный, молодой Жан начал тараторить что-то с еще большим воодушевлением на своем родном языке, потом взял в руки экзотический музыкальный инструмент — некий гибрид тамбурина с барабаном — и запел песенку, в которой даже те, кто знал французский язык, не поняли ни слова. Клодель смотрел на него сияющим взглядом.
По окончании выступления молодого принца Лемюэль Бантинг, один из ответственных сотрудников Общества, встал, чтобы положить конец «немой сцене», и объявил о временном приостановлении судебного процесса и временном приостановлении всех инвестиций до дальнейших распоряжений:
— Это означает: никаких новых инвестиций и, разумеется, никаких изъятий. — Превыше всего, известное дело, непоколебимо верить в цели Общества и хранить священную клятву его тайне.
К тому времени, впрочем, уже почти никто не слушал. Многие устремились к выходу, желая поскорее покинуть манеж, сбитые с толку, смущенные, потрясенные, хмурые, избегающие всматриваться в соседей и не желающие, чтобы разглядывали их самих. Таким образом, к 9.20 то, что должно было стать последним общим собранием Общества по восстановлению наследия Э. Огюста Наполеона Бонапарта и рекламациям, завершилось.
— Замечательно, Лайша! Сегодня ты превзошел самого себя! И позволю себе заметить, я — тоже.
Когда триумфаторы уединились в своих апартаментах в самом престижном отеле Филадельфии, Абрахам Лихт предложил отпраздновать победу шампанским и предложил тост за сына, потому что Элайша никогда еще, ни перед одной аудиторией, не представал таким неотразимым, особенно удивила и восхитила Абрахама Лихта его импровизированная изящная ария в стиле оперы-буфф. Разумеется, он заслужил более бурную овацию, чем та, которой наградили его эти глупцы, цокая языком, заявил Абрахам.
— Потому что, как всякий превосходный актер, ты чувствуешь аудиторию, и ты проник в самую глубину их жалких расистских душ.
Элайша жадно выпил шампанское, однако особого удовольствия не испытал. Наверное, ему недоставало Милли, ее похвала значила для него так же много, если не больше, чем похвала Абрахама. Тем не менее было в его победе нечто грустное, и ему с трудом удавалось соответствовать праздничному настроению отца.
— Да, папа, — ответил он со вздохом, — я знаю, то есть я хочу сказать, что хорошо знаю расистские души своих соотечественников.
Ночью, лежа в постели, Абрахам с тревогой вспоминал слова, сказанные его самым талантливым сыном: не начинают ли того беспокоить мысли о цвете кожи? Не правда ли, что в глубине души он загадочным образом все же считает себя белым? «Помоги мне Бог, если и Лайша пойдет против меня, — терзался Абрахам, — я стремительно лишаюсь сыновей».
Дураки и подлецы
Хронология, безжалостная и уничижительная, будет подробнее восстановлена во всех своих проклятых деталях в мемуарах Абрахама Лихта «Исповедь моего сердца», а пока — коротко:
5 сентября 1913 года. Абрахам с сожалением обнаруживает после собрания в манеже, что в сумме, полученной от входной платы, недостает около трех с половиной тысяч долларов и что вместе с ней исчез также один из его бухгалтеров.
6 сентября 1913 года. Просматривая бухгалтерские книги в своем офисе на Брум-стрит (единственной почти пустой комнатенке, расположенной над итальянской бакалейной лавкой), Абрахам Лихт обнаруживает, что вышеупомянутый «бухгалтер», похоже, начал воровать деньги еще в середине лета, так что о величине потерь страшно даже думать. Тысячи долларов, может быть, десятки тысяч!
11 сентября 1913 года. Где-то во второй половине дня недавно нанятый счетовод, работавший в офисе Общества на Восточной Четырнадцатой улице (маленькая рабочая комната над галантерейной лавкой), совершил непоправимую ошибку, отправив письмо некоему члену общества в Корвсгейт, Пенсильвания, не с курьерской службой «Америкэн экспресс», а по обычной почте. (Этой ошибки почтовые инспектора дожидались много месяцев! Дело обернулось катастрофой, когда проклятое письмо вскрыли: некоему Алберту Армстронгу напоминали, что он просрочил свой взнос в двести долларов, и угрожали исключить из Общества, если он не погасит задолженность в течение десяти дней.)
12 сентября 1913 года. Выписаны ордера на арест Франсуа Леона Клоделя, Марселя Брэмиера, Лемюэля Бантинга и других ответственных лиц из Общества по восстановлению наследия Э. Огюста Наполеона Бонапарта и рекламациям, им вменяется многократное мошенничество с использованием почтовой связи.
12 сентября 1913 года. Шесть часов вечера, офис на Брум-стрит, Абрахам Лихт, в перчатках, подсчитывает поступления последних дней, а Элайша, у которого немного болит голова, стоит у окна и смотрит на улицу. Он случайно замечает нескольких мрачных джентльменов в плохо сидящих пиджаках и немодно завязанных галстуках, выглядят они совершенно безлико, но в них безошибочно угадываются стражи порядка. Федеральные агенты в штатском с ордером на арест! Элайше никогда не доводилось присутствовать при «облаве», и его никогда не допрашивали представители закона, однако инстинктивно он все понимает, с обезьяньей ловкостью Жана Жолье Наполеона Бонапарта отскакивает от окна и тихо произносит:
— Папа, прости, но я думаю, что за нами пришли.
Без единой секунды промедления Абрахам Лихт встает из-за стола, сметает остатки денег в наполовину уже заполненный мешок, приказывает Элайше запереть дверь и забаррикадировать ее шкафом.
— И поторопись, сынок.
Менее чем через двадцать секунд, еще до того, как федеральные агенты начинают ломиться в дверь, Абрахам и Элайша тайно выскальзывают через окно в глубине комнаты; чтобы избежать встречи с агентами, оставшимися внизу, они без колебаний проносятся вихрем по соседним крышам; в конце квартала спускаются по пожарной лестнице на улицу. Задыхаясь столько же от возбуждения, сколько от усталости, Абрахам Лихт тихо говорит Элайше:
— Бедный «Франсуа Леон»! Не слишком изящный отход.
В мешке всего двенадцать тысяч четыреста три доллара, но, разумеется, остаются еще миллионы, спрятанные в другом месте — в разных неприступных подвалах на Уолл-стрит.
1 октября 1913 года. Джентльмен по фамилии Брисбейн, Хорейс Брисбейн, эсквайр, заходит в «Никербокер кредит» на Уолл-стрит, 99, и, поздоровавшись, объявляет о намерении снять 160 000 долларов со своего счета, на котором числилось 780 000, но после неуютного двадцатиминутного ожидания узнает, что в «Никербокер кредит» нет клиента по имени Хорейс и фамилии Брисбейн. Мистер Брисбейн стоит, словно пораженный громом. Мистер Брисбейн не может поверить. Мистер Брисбейн качается, будто его ударили по голове. Как, неужели никто не узнает его? Даже старший администратор, с которым они так славно общались по делам, начиная с апреля?
— Вероятно, мистер Брисбейн, — холодно отвечает ему вице-президент «Никербокера», — ваш счет находится в одном из соседних банков. Видите ли, вы ошиблись дверью.
Менее чем через полчаса после этой сцены джентльмен по имени Майкл и фамилии О'Тул входит в «Американский банк сбережений и кредитов» на Уолл-стрит, 106, где согласно отчетам, депозитным уведомлениям, справкам и прочая на его счету лежит 829 033 доллара, однако, пораженный, узнает, что у него нет никакого счета в «Американском банке сбережений и кредитов», более того, проверка регистрационных книг показывает, что там никогда и не было клиента Майкла О'Тула.
— Но это странно, — восклицает мистер О'Тул с легким ирландским акцентом, потом, тяжело опуская кулак на мраморную столешницу, добавляет: — Это преступно!
Следует небольшая пауза; банковские служащие смущенно переглядываются, а менеджер с ехидной улыбкой сообщает, что мистер О'Тул при желании может подать жалобу в надлежащие инстанции.
— Скорее всего это вне компетенции нашего местного, манхэттенского отделения полиции, так что вам лучше обратиться в федеральные органы, вы не согласны?
То же происходит в «Линч и Берр» на другой стороне улицы: лично господин Линч елейным голосом заявляет джентльмену в черном котелке, некоему Хорейсу Родвеллеру, что ни одна живая душа в их банке его не узнает, никто никогда не имел с ним дела, у него нет здесь никакого счета — «Ни на миллион долларов, сэр, ни на один доллар» — и что он советует мистеру Родвеллеру пройти один квартал до «Трокмортон и К0», быть может, тамошним их конкурентам он доверил свое испарившееся богатство? Мистер Родвеллер заикается:
— Послушайте, я не могу в это поверить! Это неслыханно! Да вы же… вы же — преступники!
Натянуто улыбаясь, Линч отвечает:
— В таком случае вам же лучше, что вы от нас избавились, мистер Родвеллер, не так ли?
Уже догадываясь, что ситуация безнадежна, мистер Сент-Гоур, тоже в черном котелке, все же рискует в 15.20 того же дня войти в белый, как алебастр, вестибюль «Трокмортона и К0», старейшего и богатейшего банка на Уолл-стрит, но, как оказывается, лишь затем, чтобы быть вежливо проинформированным, что его счет в 1 374 662 доллара потерян для него навсегда — 1 374 662 доллара из заработанного тяжким трудом состояния! Кажется ли побледневшему, покрывшемуся испариной, потрясенному мистеру Сент-Гоуру или на него действительно устремлены десятки пар глаз молодых людей, которые толпятся в дверях, вытягивая шеи в его направлении, и даже сочувственно улыбающихся младших клерков и молодых секретарш? Никого из персонала высшего звена нет, потому что уже поздно, но администратор, который вышел к мистеру Сент-Гоуру, безукоризненно вежливым тоном сообщает, что у него не только нет счета, якобы открытого 1 октября 1913 года, но и его самого не существует.
— Потому что мы проверили, мистер Сент-Гоур, и убедились: лица, коим вы претендуете быть, не существует. Как же тогда такое количество денег, о котором вы толкуете, может лежать на его счету?
1 октября 1913 года. 17.25. В своих роскошных апартаментах на девятом этаже отеля «Парк-Стайвесант» Абрахам Лихт, стараясь говорить как можно тише, сообщает Миллисент и Элайше, что ситуация «становится рискованной» и что было бы благоразумно с их стороны поскорее упаковать вещи, взяв с собой только самое необходимое, чтобы не дать востроглазым гостиничным служащим повода заподозрить, что они не собираются возвращаться. (Поскольку семейство, на имя которого сняты просторные апартаменты, некие Фэйрбрейны из Бостона, еще не оплатили счет за последние две недели.) Хоть Милли наверняка и страшно, она игриво спрашивает:
— Надеюсь, папа, нас не арестуют?
И Абрахам Лихт, зажав в зубах превосходную кубинскую сигару, отвечает:
— Конечно, нет, Милли… если мы не будем медлить.
Предательство
— Папа, а это правда, — спрашивает Маленький Моисей, — что белые люди — дьяволы и что все они враги, или есть среди них и другие, такие, как ты, папа?
Посасывая свою пахучую сигару (такую крепкую, что у Маленького Моисея на глазах выступают слезы), папа отвечает:
— Послушай, малыш, я — не белый. Я могу выглядеть, как белый, говорить, как белый, но я стою отдельно, вне белой расы, как и ты; и все Лихты стоят вне белой расы, потому что белые — дьяволы, и все они наши враги, да, парень, все и каждый! И если ты в своем возрасте этого еще не знаешь, то скоро узнаешь.
— Но я ведь не белый? — недоуменно моргая, говорит Маленький Моисей.
— Нет, мальчик, ты — нет.
— И ты не… белый?
— Нет, мальчик, я — нет.
— Но ты и не черный.
— По внешнему виду как будто нет, малыш! — смеется в ответ папа, выпуская изо рта толстую струю дыма и озираясь по сторонам так, словно в комнате есть (но его нет) кто-то третий.
— Но я-то черный? — испуганно спрашивает Маленький Моисей.
— Послушай, Лайша, ты действительно выглядишь как черный, — говорит отец, — но ты должен знать, что это — необходимое условие Игры.
— …необходимое условие чего?..
— …необходимое условие Игры.
Маленький Моисей продолжает усиленно моргать, чтобы не дать слезам излиться наружу, но они все равно льются из глаз, текут по щекам, и он слышит собственный голос, который произносит:
— А что это такое — Игра, папа?
И папа, выпустив еще одну густую струю дыма, отвечает:
— Лайша, Игра — это то, что я называю Игрой.
Маленький Моисей, весь в слезах, настаивает:
— Но как я узнаю, что это?
Теряя терпение, отец говорит:
— Ты знаешь то, что я тебе говорю, малыш, а все остальное тебе знать не обязательно: а теперь марш спать! — потому что папа сегодня вечером куда-то уходит.
…отвращение, какое отвращение!
…презрение: я вижу, оно написано у них на лицах.
…(их лица! Такие уродливые! Такие грубые!)
…А Жан, разве он не красив? Разве в его жилах не течет благородная кровь?.. мужественное, утонченное лицо, джентльмен с отличным вкусом, чувством юмора, остроумный, язвительный, обаятельный, француз до мозга костей, опера-буфф, как сказал папа: и как талантливо исполнена!
…(их лица! белые лица! да как они смеют!)
…и все равно, какое отвращение. Тошнотворное отвращение. Даже не ненависть, а именно отвращение к одному из тех, кого они называют черной кровью.
…Но Элайша не черный, и он такой талантливый! Так объявил папа. То есть он, словно чародей, может обмануть очевидность: его внутренняя сущность с восхищением взирает на переполох, который устроила его внешняя оболочка.
…А Милли, которая обожает его и скоро станет его женой, Милли смеется и смеется, глядя на подобные выходки, потому что для Любви нет ни черных, ни белых, для такой тайной любви, такой нежности существует только сама Любовь и не существует ничего, что вызывает презрение, отвращение и тошноту. Какое им до всего этого дело, ведь есть лишь Любовь! И Милли с Элайшей скоро поженятся.
…(и все же, какое отвращение. Я вижу, оно написано у них на лицах.)
…(их лица! белые лица! Я мог бы их всех убить.)
Элайша откроет наконец Абрахаму Лихту их секрет.
Потому что пора.
Потому что уже давно пора.
Потому что теперь они — любовники: муж и жена во плоти. Наконец.
Потому что с начала сентября, с того самого вечера в манеже, Лайша нуждается в утешении. Лайша нуждается в любви, Лайша требует любви, Лайша пугает Миллисент своей яростью, своим диким смехом, своим вожделением.
Потому что вожделение — это тоже Любовь: и отвергать ее больше нельзя.
Лихты — папа, Элайша и Миллисент — снова затаились в Мюркирке, потому что они теперь опять бедны; но из Мюркирка Миллисент поедет в Рейнебек, что на Гудзоне, и будет гостить там у богатых Фицморисов, поскольку в Академии мисс Тейер для христианских барышень она познакомилась с миленькой Дейзи Фицморис, миленькой бесцветной недалекой Дейзи Фицморис, самой богатой девочкой в классе. И Дейзи, как, впрочем, и все остальные, души не чает в своей красивой подружке Миллисент. И Дейзи мечтает, чтобы Милли приехала погостить к Фицморисам в их загородный дом, где «так мило» и где они смогут кататься в лодке по реке. И Дейзи мечтает представить Миллисент своей семье. В том числе, разумеется (разумеется, повторяет сквозь зубы Элайша), и своему красивому старшему брату, слушателю военной академии в Вест-Пойнте, своим красивым кузенам — словом, всей семье, потому что миссис Фицморис видела Миллисент и была, как и все, очарована этой элегантной молодой леди.
Папа одобряет:
— Да. Конечно.
Папа одобряет:
— Конечно, Миллисент, гости у Фицморисов столько, сколько они захотят.
И папа обещает сам наведаться в рейнебекское поместье, чтобы «посмотреть, знаете ли, что там имеется. И что можно предпринять».
Потому что не секрет: нынешняя осень у Лихтов не задалась, как бы презрительно Абрахам ни относился к тем, кто верит в удачу. И после провала Эманюэля Огюста он пребывает hors de combat[19] — хотя надолго выбывать из борьбы не привык, даже когда его разыскивают федеральные агенты. Но не станешь же отрицать, что они снова бедны, их богатство исчезло в подземельях Уолл-стрит, словно его и не было. («Возможно, такова природа денег, — размышляет Абрахам, — они вообще „нереальны“ — ни когда они есть, ни когда их нет. Как бесплотная человеческая душа».) Теперь богатство придется наживать заново; и Мина Раумлихт, она же Лиззи Сент-Гоур, она же одна из их хорошеньких сестер, надеется, что именно ей позволят сделать это.
— Папа, ты меня только научи, — умоляет Милли, поднимая к нему свое очаровательное личико-сердечко, — а уж я все сделаю.
Элайша ведет себя неблагоразумно: он не хочет, чтобы Милли ехала в Рейнебек, потому что Милли принадлежит ему.
(И потому что, хотя он ей этого и не говорит, его парализует жгучая боль при воспоминании о тех волнах… физического отвращения?.. морального неприятия?.. которые накатывали на него там, в филадельфийском манеже, от этой массы белых лиц.)
— Но, Лайша, почему тебя это так беспокоит? — спрашивает Милли, встревоженная настроением своего возлюбленного. — Что общего у этих людей с нами? — Она решительно не может ничего понять; Элайша знает, что она права; он изо всех сил старается верить, что она права; и тем не менее не может сдержать эмоциональной реакции, он резко отворачивается, когда Милли хочет незаметно поцеловать его в шею. Теперь, когда они любовники, когда снова живут в вынужденном семейном уединении в Мюркирке, этом сельском захолустье на краю болот, в виду крутых холмов и сонных гор, овеваемых суровыми порывистыми завывающими ветрами, — теперь, похоже, их взаимное чувство стало переменчивым и непостоянным, как пламя. Оно балансирует то на одном, то на другом краю пропасти. Опасное. Бесценное.
— Лайша, дорогой, разве ты меня не любишь?
— Милли, вопрос в том, любишь ли ты меня.
— Но почему важнее, чтобы я любила тебя, а не чтобы ты любил меня?
— Потому что себе я доверяю, Милли, а тебе — нет.
— А я тебе могу доверять?
— Если ты любишь меня — да.
— Но если ты любишь меня…
Элайша вдруг начинает кричать:
— Что толку от того, что я люблю тебя, если от того, что ты любишь меня, я не становлюсь достойнее; а что, если ты обманываешь меня так же, как остальных своих «обожателей»? — Он делает попытку уйти с надменным видом, скажем, давно утратившего надежду наследника Э. Огюста Наполеона Бонапарта.
Милли кричит ему вслед:
— Можно подумать, что ты сам не обманываешь всех подряд, включая, как я теперь вижу, и меня. Я никогда тебя не любила!
Элайша оборачивается и произносит финальную ударную фразу:
— Тогда ты и не могла быть обманутой, девочка! Не так ли?
«Действительно ли мы бедны?» — размышляет Элайша.
Даже будучи отцовским поверенным, Элайша не посвящен во все дела Абрахама Лихта и не располагает сведениями о его многочисленных банковских счетах. А также о содержимом его здешнего, мюркиркского, сейфа. Двенадцать тысяч четыреста три доллара, находившиеся в мешке, при тщательном рассмотрении обернулись двадцатью тысячами.
А элегантный вездеход «виллис» с зеленой плюшевой обивкой, отличными тормозами, медными ручками и откидным белым кожаным верхом — разве это покупка (сделанная впопыхах, когда Лихты бежали с Манхэттена) отчаянно бедного человека?
К тому же — Элайша упрямо верит в это — в старой церкви хранятся «сокровища». Антикварные вещички, которые можно продать, фамильные драгоценности и предметы искусства, которые, несомненно, купят по очень высоким ценам на каком-нибудь манхэттенском аукционе. Есть у Элайши и основания полагать, что папа давно находится в контакте с Харвудом и у них есть проект участия в добыче золота, о котором ему и Милли ничего не известно.
Все это Элайша однажды, после очередной ссоры, рассказывает Милли. (Сколько уж раз после возвращения в Мюркирк они ссорились и мирились, мирились и ссорились! Иногда посреди быстрого, урванного тайком поцелуя они вдруг забывали, в ссоре или в мире они официально в настоящий момент.) Таким образом, Элайша бросает тень сомнения на план Абрахама Лихта послать Милли в Рейнебек; а если они на самом деле не бедны, если папа преувеличивает степень их падения, как это частенько случалось и прежде?
— Но, Лайша, если папа хочет, чтобы я туда поехала, — со вздохом отвечает Милли, — думаю, у меня не такой уж большой выбор.
Однако Элайша, целуя ее в лоб, возражает:
— Мы должны вместе выступить против него. Потому что я не хочу, чтобы ты ехала, ведь я люблю тебя и ты — моя. — Ясно подразумевается: Моя, а не его.
Милли тут же выпаливает:
— Тогда ты должен рассказать папе о нас.
— Да, — не раздумывая, соглашается Элайша. — Да. Я расскажу.
— Сегодня вечером.
— Хорошо, сегодня.
— …ну, самое позднее — завтра, — настаивает Милли. — Потому что завтра он уезжает.
— Завтра слишком поздно, — говорит Элайша.
— А сегодня слишком рано.
— Сегодня — слишком рано, — повторяет Элайша, голос его начинает дрожать от отчаяния, — но завтра будет слишком поздно.
Они ссорятся, опять ссорятся, Эстер может услышать, Катрина уже слышит, не слышит ли папа? Нужно убежать в лес и, спрятавшись там, обниматься, целоваться, вместе плакать, потому что эта любовь измучила их, довела до исступления, и Милли обвиняет Элайшу в том, что он ее не любит, потому что боится признаться папе, а Элайша обвиняет Милли в том, что она его не любит, потому что она боится папу. И можно не сомневаться, что Катрина теперь уже все знает.
— Как ты думаешь, Катрина скажет? — испуганным шепотом спрашивает Элайша.
— Катрина ни за что не скажет — никогда! — уверяет Милли. — Она не посмеет.
Они то ли ссорятся, то ли целуются, то ли, взявшись за руки, смеются, когда Эстер подкрадывается к ним сзади, милая одинокая Эстер, которая их обожает, которая злится на них, Эстер, такая ранимая, — почему Милли и Лайша быстро отшатываются друг от друга, как только Эстер подходит к ним, мечтая по-детски уткнуться им в колени, чтобы ее обняли и тоже поцеловали! А потом Милли снова умоляет Элайшу поскорее рассказать что-то папе.
— Если не сегодня вечером, то завтра. Если не завтра, то послезавтра.
И Элайша храбро отвечает фальшивым голосом:
— Да! Я расскажу.
Милли так восхитительна, и она принадлежит ему, хотя в его счастье есть нечто пугающее, потому что он не может ей доверять, не может доверять себе в том, что касается ее, его красавицы сестры, сестры по душе, не по крови, Милли с ее светлой гладкой кожей, как у камелии, бледной, такой непохожей на его собственную, с ее такими светлыми волнистыми волосами, собранными в мягкий пучок и изящно разделенными в центре пробором, с ее маленькими ушками, по-девичьи скромно, можно даже сказать, целомудренно прикрытыми волосами, с локоном «для поцелуев» на затылке. Освободившись от мисс Тейер, Милли больше нет нужды опасаться зорких глаз учительниц — старых дев, затягивать фигуру в корсет, ведь на дворе 1913-й, а не 1813 год, как она говорит, и она может одеваться так, как ей нравится. Ее хорошенькие юбки по последней моде едва прикрывают щиколотки, туфли дерзко выглядывают из-под них, она часто пренебрегает необходимостью завязывать ленты на шляпе или опускать прозрачную вуаль, разве что когда солнце слишком печет. (Потому что Милли не такая дурочка, чтобы рисковать своим драгоценным личиком ради капризного желания бросить вызов.) Милли так прелестна, что здесь, в Мюркирке, где они оказались ближе друг к другу, чем были на Манхэттене, Элайша постоянно ловит себя на том, что думает о ней; у него голова пухнет от мыслей о ней, о ней и о себе; может быть, они грешники (но ведь папа учил, что греха — нет), может быть, они поступают плохо (но папа учил, что отделять плохое от хорошего людей заставляют всего лишь предубеждения), может быть, они совершили чудовищную ошибку, пожертвовав друг другу свою невинность, как муж и жена (но какую невыразимо сладостную ошибку!); и будет ли папа сердиться?
И не накажет ли их папа?
Любовниками они стали по возвращении в Мюркирк — случайно, с нежностью думает Милли; так было предначертано, думает Элайша. (Потому что только любовь Милли могла помочь ему забыть тот манеж, полный лиц — уставившихся на него белых лиц… белых лиц, искаженных гримасой презрения, — только ее поцелуи, ее стройное теплое тело, ее отрывистые пронзительные всхлипы, которым даже теперь Элайша не верит до конца.)
— Но я хочу, чтобы ты стал моим мужем! — заявила она ему, беспечно смеясь, когда он заколебался. — Я хочу быть твоей женой! Тогда пути назад уже не будет.
Он понимал, что она так же боится за свою жизнь, как он боится за свою, но теперь отступать было поздно, они стали мужем и женой навек — несмотря на то что целый манеж чужаков глазел на него с отвращением.
Когда все кончилось, Милли вытерла глаза смятым рукавом своего желтого в клетку платья, расчесала черепаховым гребнем растрепавшиеся волосы и тоненьким всхлипывающим голоском сказала, стараясь не смотреть в глаза возлюбленному:
— Теперь, Элайша, ты должен все ему рассказать, увидишь, он порадуется за нас.
А Элайша, не отрывая от нее взгляда, медленно произнес:
— Думаю, он вряд ли порадуется… но я расскажу ему.
Сегодня вечером?
Только не сегодня.
Тогда завтра.
…Послезавтра, вечером. Когда он вернется домой.
Уединение, Мюркирк, место, где он родился; отрада болот (в которых он когда-нибудь утопится! — возможно); суровый, ничем не нарушаемый покой долгих дней и ночей; наслаждение Стыда. Но это и выздоровление. Он проходил через это уже много раз.
Ибо «Как же иначе может затянуться рана, если не постепенно?» — излюбленный дерзкий вопрос Абрахама Лихта. И: «В конце концов мы не дураки „по божьему наваждению“».
Так увещевает он сам себя.
Выздоровление. Он проходил через это уже много раз. Годы, зимы и лета, целебный бальзам тишины, одиночество церковного погоста, топь, запертая комната с закрытыми ставнями в дальнем конце дома; в отсутствие свидетелей (как глумливых, так и сочувствующих) Стыд постепенно погружается в забвение; забвение сменяется чувством Чести.
Ибо: «И я о чести буду говорить». Честь — вот сюжет истории Абрахама Лихта.
Уже пятьдесят три года! Как быстро!
Жизнь прожита больше чем наполовину!
А ведь не скажешь — правда? — что время было щедрым по отношению к Абрахаму Лихту, что, несмотря на всю его любовь, преданность, трудолюбие и бескорыстие, оно дало ему семью, достойную его жертвы.
Ему нужны другие дети, хотя бы еще один сын, и поскорее, потому что имеющимися детьми он не слишком доволен.
Конечно, у него есть Миллисент, которая доставляет ему огромную радость и которая, он это знает, всегда будет находить смысл своей жизни в служении ему; в ее непоколебимой преданности он не сомневается. Есть и несравненный Элайша, всегда удивляющий Элайша, которому Абрахам Лихт, не будь он его приемным отцом и наставником, мог бы почти завидовать!.. Лукавый молодой гений, мастер маскарада и хитроумных проделок, как сам Абрахам Лихт… Хотя, будучи созданием Абрахама, без его водительства он мало чего стоит. (Когда-нибудь, когда настанет время, цвет Лайшиной кожи сыграет неоценимую роль в его карьере; правда, в какой именно области, Абрахам еще не решил.)
Однако, если оставить в стороне Миллисент и Элайшу, судьба обошлась с ним несправедливо.
Судите сами: не одна, не две, а три женщины последовательно завоевывали его сердце, но каждая в свой час растаптывала его. Ни пылкость, ни глубина чувства, ни красноречие, ни преданность не спасали его. (Со временем Абрахам пришел к убеждению, что болезнь Софи и ее странное поведение в конце жизни были отречением от его любви, от земной любви вообще. Разве могу я простить ее за это в глубине души?)
Что касается Терстона, его первенца — о Терстоне он не желал вспоминать.
Что касается Харвуда — о Харвуде он не желал вспоминать.
(Хотя несколько дней назад в Мюркирк на его имя пришло странное письмо со штемпелем города Уорей, Колорадо; плотный бланк отеля «Уорей», на нем всего несколько строк, написанных неуклюжим детским почерком Харвуда:
Я много думал о своей жизни, папа, и я больше не сержусь на своего брата, как сердился прежде. Теперь я не так одинок. Скоро напишу снова, попрошу совета. Я знаю, что ты сердишься на меня и винишь меня, но я не виноват, это была не моя вина, а вина Терстона. Клянусь, что не вернусь на Восток до тех пор, пока не сколочу себе состояние, и тогда ты увидишь, какой я Сын. Или пока ты сам не попросишь меня вернуться к тебе, папа.
Твой сын Харвуд.
Не будучи уверенным, в каком именно состоянии — трезвый или пьяный — и с какими намерениями — искренне или в насмешку — писал Харвуд это письмо и чего от него ждать — добра или зла, Абрахам не ответил на него. Потому что если человек однажды пролил чужую кровь, он может почувствовать вкус к ней.)
О младших детях, хоть он их и любит, Абрахам думает редко. Потому что считает их детьми, которые никогда не повзрослеют, как повзрослели другие, и потому что у них нет способностей к Игре.
Дэриан, возможно, действительно обладает музыкальным талантом, как утверждают Вудкок и кое-кто еще, но, по несентиментальному мнению Абрахама, его талант слишком капризный и непредсказуемый, им нельзя управлять. А Эстер, бедное милое дитя, — Абрахаму трудно слушать ее веселый щебет и вникать в ее девчачьи школьные новости, ему чужд ее интерес к врачеванию, уходу за больными, ее стремление «плохое делать снова хорошим», как она говорит. Безликая, добродушная Эстер, кажется, единственная из всей семьи, как другие самые обыкновенные, заурядные дети, завела себе друзей в Мюркирке. По словам Катрины, которая так же озадачена, как и он сам, Эстер нравятся ее одноклассники и их родные, и она им, в свою очередь, тоже нравится — безошибочное свидетельство ее посредственности. (Разве можно сравнить этого унылого ребенка с Миллисент, какой она была в том же возрасте, думает Абрахам. В девять лет Миллисент была уже записной кокеткой, она инстинктивно умела вызвать в окружающих любовь, не испытывая к ним при этом никаких взаимных чувств. «Но ведь матерью Миллисент была чувственная, хоть и болезненно благочестивая — страшная смесь! — „мисс Хиршфилд“, — думает Абрахам, — идеальное сочетание для сцены, но не для жизни».)
Так он размышляет, размышляет много долгих дней, слишком беспокойный, чтобы оставаться в пределах комнаты или даже дома; в надежде отогнать грусть, пока она не отступит окончательно, он без колебаний поглощает огромное количество бурбона. Но как же это может быть — ему пятьдесят три года? И так быстро!
А ведь моя славная карьера едва началась.
— Значит, вы «любите» друг друга и собираетесь «пожениться», — спокойно повторяет Абрахам Лихт, переводя взгляд с Элайши на Миллисент и с Миллисент на Элайшу, у которого в глазах — смесь отваги и вины. — Может быть, я что-то не совсем правильно расслышал или не до конца понял? «Любовь», «женитьба» — что именно вы хотели этим сказать? Элайша?
Элайша отвечает быстро:
— Мы с Милли любим друг друга, папа. Мы влюблены. И уже очень давно…
— …очень давно, но мы не решались сказать тебе, — подхватывает Милли.
— …и мы хотим, мы должны пожениться, — добавляет Элайша. Его голос начинает вибрировать. — Как положено.
Как делают все мужчины и женщины, которые любят друг друга.
— Да, вот именно, у нас все, как у других людей, — говорит Милли радостно и с надеждой. — У людей, которые… ну, нормально любят друг друга. В этом нет ничего необычного.
— В этом нет ничего необычного, — повторяет Абрахам Лихт, и фраза, произнесенная с убийственной иронией, словно бы остается висеть в воздухе.
— В этом нет ничего необычного! — с нервным смешком повторяет Элайша.
— Если мы любим — а мы любим — друг друга, — задыхаясь, настаивает Милли, крепко обхватив руку Элайши своей изящной рукой и тесно прижавшись к нему, — и любим уже очень давно, тайно.
— А почему же «тайно»? — интересуется Абрахам.
Он продолжает переводить рассеянный и невозмутимый взгляд с одного своего оробевшего ребенка на другого. Он не обращает внимания на исключительную физическую привлекательность этих молодых людей, на их юные, открытые лица, зато с хладнокровием врача отмечает, что у Элайши дрожит нижняя губа, а обычно безмятежные глаза Милли неестественно расширены.
— Почему «тайно» — к чему такая секретность? — повторяет он.
Они долго не отвечают, затем Милли, судорожно вздохнув, признается:
— Потому что мы боялись, папа, что ты нас не поймешь, что ты рассердишься, станешь возражать или…
— Моя дорогая, почему я должен «возражать»?
— Потому что… — начинает Элайша.
— …ты не поймешь, — со слезами подхватывает Милли.
— Да что же здесь понимать, мои дорогие Милли и Элайша?! — в недоумении разводя руками, восклицает Абрахам. — Вы приходите ко мне в столь поздний час ночи со своими капризами, которые вполне могли подождать до утра, когда станет светло и в голове прояснится; вы стоите здесь передо мной, как актеры-любители на некоем безумном прослушивании, и ожидаете, чтобы я относился серьезно к тому, что вы «любите друг друга» и хотите «пожениться», «как это делают другие», в то время как вся соль в том, что вы не можете быть влюблены друг в друга, не можете пожениться, потому что вы оба — мои дети, потому что вы брат и сестра, и в любом случае вы не можете поступать «как другие», потому что вы — Лихты, а Лихты — это не какие-то там «другие».
Элайша хочет возразить, но Милли, насторожившись, останавливает его и говорит сама:
— Папа, мы не брат и сестра, конечно же, нет. Лайша — найденыш, сирота, как ты всегда нам говорил; он мне не брат.
Стараясь не показать закипающего в нем гнева, Абрахам спокойно отвечает:
— Элайша — твой брат, Миллисент… а ты — его сестра. Брат и сестра не могут любить друг друга так, как вы говорите, тем более они не могут вступать в брак. Вот все, что я хочу вам сказать.
— Но он мне не брат, папа! — в отчаянии восклицает Милли. — Любому постороннему человеку это ясно с первого взгляда!
— Но посторонний не может знать того, что знаем мы, Лихты, — отвечает Абрахам. — Он будет судить лишь по вашему внешнему виду, по обманчивой оболочке. А что у нас внутри, в потаенной глубине, известно только нам. Разве об Элайше можно судить только по цвету его кожи!
— Но, папа… — не унимается Милли.
— А нам известно вот что: ты и Элайша неразрывно связаны с детства кровными узами, которые куда крепче, чем «любовь», о которой вы здесь толкуете, — прерывает ее Абрахам.
— Но ведь нет ничего крепче — и прекраснее, — чем любовь, о которой мы говорим! — храбро возражает Милли, а Элайша добавляет:
— Мы хотим всего лишь, чтобы нам разрешили пожениться… и уехать из Мюркирка, потому что понимаем, что здесь нельзя оставаться, здесь нас неправильно поймут.
— Неправильно поймут! — хохочет Абрахам. — Мальчик мой, вас очень даже «поймут». И опозорят!
Словно чтобы поддержать друг друга, влюбленные стоят плечом к плечу, Милли по-прежнему крепко сжимает руку Элайши, другая ее рука в немой мольбе невольно прижата к груди. Странно, но они не решаются смотреть друг на друга — только на Абрахама, который, оскалив зубы в глумливой усмешке, не сводит с них глаз.
Где-то рядом, на церковном дворе, терзая душу, слышится слабый крик козодоя.
— Нет ничего более глубокого, чем любовь, о которой мы говорим, — едва сдерживаясь, повторяет Милли. — Ничего нет более прекрасного, чем… наша любовь.
Абрахам, сверкнув зубами, улыбается зловещей улыбкой, но до ответа не снисходит.
Элайша нечленораздельно бормочет, что они хотят пожениться и все равно поженятся, просто им хотелось получить его благословение — ну, пожалуйста, папа.
Абрахам по-прежнему молчит.
Несомненно, он — отец им обоим. Элайше — не меньше, чем Миллисент. Они это знают, они не могут в этом сомневаться, ибо еще до пробуждения их детского сознания, вначале было его Слово, его Правда, и они непреложны. Из какого вместилища нечестивой силы могли почерпнуть они эту способность сомневаться? Но вот уже кажется, что Милли, при всей своей взрослой не по годам воинственности, начинает слабеть; она прикрывает глаза, словно в них бьет слишком сильный свет, на лбу появляются морщинки озабоченности и дурного предчувствия. А бедный Элайша… почему он так беспомощно смотрит на Абрахама?
— О, папа, мы просим тебя нас благословить — пожалуйста! — шепчет Милли.
Они напоминают фигуры на ярко освещенной оперной сцене; Абрахам, величавый и коварный, как вагнеровский Вотан, — роль, для которой, обладай он достаточно мощным голосом, он был бы предназначен, — осторожно берет Милли за руку и оттаскивает от возлюбленного, смотрит ей прямо в глаза. Большими сильными пальцами он водит по ее лицу, по голубым ручейкам вен на висках; отец и дочь долго глядят друг другу в глаза, словно в души; волнение Милли выдает лишь легкая дрожь в руках.
Они, словно любовники, обмениваются репликами так быстро, такими тихими и настойчивыми голосами, что Элайше кажется, будто он слышит непонятную иностранную речь.
— Но ты ведь еще не принадлежишь ему?
— О нет, папа… мы ждем свадьбы.
Абрахам отпускает смертельно побледневшую от страха и стыда девушку и с улыбкой резко поворачивается к Элайше:
— А с тобой, Элайша, мы поговорим наедине.
Милли, несчастная и торжествующая, ищет утешения у Катрины.
А Абрахам тем временем ведет Элайшу в глубину дома и закрывается с ним у себя в кабинете.
Стуча зубами от волнения или озноба, Милли прижимается к неохотно обнимающей ее Катрине и говорит, что они с Элайшей любят друг друга и скоро поженятся, потому что папа не запретил им. А Катрина, которую передергивает от отвращения, возражает, что не могут они, конечно же, пожениться, потому что они брат и сестра:
— И потому что Элайша принадлежит к другой расе. Он — негр.
— Лайша не негр, — упрямится Милли. — Он — это он и больше ничего.
— Люди видят в нем негра, — сурово возражает Катрина.
— Люди слепы! — гневно кричит Милли. — Они ошибаются!
— Иногда, Милли, людская слепота не ошибается, — припечатывает Катрина.
В то же самое время в кабинете Абрахама Элайша падает на колени, всхлипывая. Его красивое лицо искажает гримаса боли и унижения, он все еще не может поверить в случившееся, но это так: как только они оказались вдвоем в кабинете, отец запер дверь, набросился на юношу и кулаком нанес ему сокрушительный удар в лицо.
Застигнутый врасплох, Элайша не оказал сопротивления, не сделал попытки защититься, он лишь попятился назад, от боли у него закружилась голова, и он рухнул коленями на твердый деревянный пол.
— Ты — и моя дочь! Моя Милли, — громоподобным голосом кричит Абрахам Лихт, его глаза мечут молнии. — Оно не должно родиться.
Он обвиняет молодого человека в трусости, предательстве, называет порочным; он запрещает ему впредь даже приближаться к Милли, даже говорить с ней — не потому, что они брат и сестра (хотя они и есть брат и сестра), и не потому, что у Элайши черная кожа (хотя, как видно любому дураку, его кожа действительно черная), а потому, что так велит ему он, Абрахам Лихт. Элайша протестует, говорит, что это выше его сил, он не хотел, чтобы это случилось, но он любит Милли, готов умереть за нее, и Милли любит его, они должны пожениться, потому что они уже стали любовниками, мужем и женой… При этих словах Абрахам Лихт впадает в бешенство, на губах у него появляется пена, и уже обоими кулаками он бьет раболепно склонившего перед ним голову Элайшу.
— Ты лжешь! Лжешь! Ты — черный дьявол!
Что это — страх или гордость? Почему Элайша не смеет даже поднять руку, чтобы защититься от него? Потому что Абрахам Лихт — его отец, он много лет назад вытащил Элайшу из реки, и в глубине души Элайша понимает: совершил он теперь грех или нет, но он — грешник.
Милли бьется в истерике на груди у Катрины, а Катрина лишь нетерпеливо вздыхает, потому что все это так абсурдно, эти слезы так нелепы, слава Богу, что она уже старая женщина, что сердце ее окаменело и нечувствительно к такой боли. Наконец, как она и ждала, Абрахам зовет ее и велит привести Милли в прихожую, где они, отец и любовник, уже ждут ее в тусклом свете керосиновой лампы. Милли хватает Катрину за руку, но Катрина отталкивает ее.
Милли медленно вытирает заплаканные глаза и замечает: что-то — чтобы не сказать все — переменилось. Папа очень зол, он не простил их, а Элайша больше не ее красивый молодой любовник, а всклокоченный, пристыженный, смущенный юноша; мужчина с очень темной кожей и взглядом, ищущим у нее утешения.
— Элайша решил немедленно покинуть Мюркирк, — ровным голосом сообщает папа. — И он верит, моя девочка, что ты поедешь с ним.
Милли шмыгает носом. Если для других такое шмыганье — не более чем обычный недостаток манер, для Милли, как для всякой инженю, это высокомерный знак раздражения, вызов. Высоким детским голоском она, глядя на отца, а не на Элайшу, отвечает: да, она поедет с Элайшей, если он этого хочет…
— Если это то, что он тебе сказал.
Элайша вяло подтверждает: да, это именно то, чего он хочет.
— И чего ты сама хочешь, Милли. — Голос отца звучит по-прежнему ровно, рассудительно и взвешенно. — Но если ты уедешь сейчас с Элайшей, девочка, ты уже никогда не вернешься домой ко мне. Надеюсь, ты это понимаешь.
Милли молчит, она улыбается, прижимая к носу вышитый носовой платочек. Теперь ее глаза тоже мечут молнии, в них пылает огонь. Элайша неуверенно делает несколько шагов ей навстречу и протягивает руку, словно они здесь только вдвоем. Он умоляет Милли ехать с ним, ведь они обещали друг другу, что никогда не расстанутся, они любят друг друга, сколько раз они клялись в этом. Милли почти уже берет протянутую руку Элайши, потому что это рука, которую она любит, любит эти тонкие длинные пальцы, сколько раз она замирала под их ласковым прикосновением, целовала и гладила их… Но ее собственная рука словно налилась свинцом, она не поднимается, сам дух Милли стал свинцовым, глаза ввалились, сделались некрасивыми и болят, она так исступленно терла их, что выпало несколько ресничек. Это неправильно, нечестно, жестоко со стороны двух мужчин поставить ее вот так перед собой, словно подсудимую в зале суда, подвергнуть такому испытанию, требовать играть такую роль… И без подготовки! Без единой репетиции!
— Ненавижу вас обоих! — шепчет Милли.
Элайша продолжает что-то нетерпеливо говорить, он сердится, но Милли никак не может сосредоточиться. Ненавижу вас обоих! Мерзавцы. Оставьте меня в покое, я хочу спать. Абрахам молчит, лишь улыбается своей тяжелой, понимающей улыбкой, его глаза мерцают, как осколки разбитого стекла. Глубоко в душе Милли понимает, что он и она — одно целое… Отец — это она сама… а Элайша, всего лишь любовник, никогда ею не станет.
Сцена продолжается, пока Милли не падает без сознания прямо на руки отцу. Одновременно раздается громкий треск захлопывающейся двери.
Итак, Элайша Лихт покидает Мюркирк навсегда в октябре 1913 года, а в следующее за его отъездом воскресенье Миллисент отправляется в Рейнебек к Фицморисам с долгим визитом.
И само собой выходит так, что Абрахам Лихт начинает забывать Элайшу, как человек в конце концов забывает любой неприятный эпизод из собственной жизни; по крайней мере — если «забывать» в данном случае слишком сильное слово — он перестает говорить об Элайше, да и о чем тут в самом деле говорить! Прошлое — лишь кладбище будущего, так же как будущее — лишь лоно прошлого. Его мысли сосредоточены теперь на Рейнебеке, на клане Фицморисов, о котором он вскоре будет знать все, что узнать возможно.
Милли оставила свои глупые девичьи слезы. Милли порвала все письма и выбросила клочки в болото. Катрина никогда не упоминает об утраченной любви Милли, лишь изредка вспоминает о ней как о нервном срыве, какие вообще свойственны чувствительным девицам в определенные лунные циклы; она никогда не говорит об Элайше — разве что когда заверяет Милли, что, стоит той уехать из Мюркирка с его нездоровыми испарениями, и она забудет его, «как забыла уже столь многое». В ответ Милли смеется высоким нервным смехом, который пронзает ее, словно боль, и говорит;
— О, Катрина, я почти хочу, чтобы это оказалось не так, но знаю, что так оно и будет, видно, так уж мне на роду написано.
«Чужой боли я не чувствую»
«Неужели это я, мое нелепое превращение?» Вот что приходит в голову управляющему добывающей компанией «Кэмп янки бейсин» мистеру Хармону Лиджесу на исходе дня 9 апреля 1914 года, когда в шумном вестибюле отеля «Эдинбург» в Денвере, Колорадо, он замечает приезжего — коренастого молодого джентльмена в коричневом твидовом «в елочку» пальто и такой же шляпе, который очень — действительно, неправдоподобно — похож на него самого. Сходство так нервирует Хармона Лиджеса, что он не может просто пройти мимо; он останавливается за одной из величественных мраморных колонн, чтобы незаметно понаблюдать за мужчиной, и ощущает странное чувство волнения, смешанного с отвращением, предвкушения, смешанного со страхом… потому что незнакомца, если отбросить привходящие различия, вполне можно принять за его подлинного близнеца. Во всяком случае, Хармону Лиджесу так кажется.
Словно завороженный, хотя и в некотором роде оскорбленный, Лиджес изучает мужчину в твидовом пальто, чтобы убедиться, что тот действительно ему не знаком, скорее всего приехал откуда-то с Востока, наверное, из Омахи, поездом, прибывающим в 16.45. Интересно, он на самом деле путешествует один, как кажется?.. Может быть, он здесь по делам? Вряд ли, ему не хватает самоуверенности и настороженности бизнесмена; кажется, он чувствует себя на новом месте не в своей тарелке, хотя и улыбается, правда, какой-то нервозной, заискивающей улыбкой, несмотря на то что наглый администратор заставляет его ждать. («С обслугой „Эдинбурга“ так вести себя нельзя, — нетерпеливо думает Лиджес. — Тебя же сочтут дураком».)
Как и ему самому, мужчине лет тридцать; роста среднего, не более пяти футов семи дюймов; плотный, кожа чуть покрасневшая, пористая; густые темные брови вразлет и маленький влажный рот с розовыми, чопорно поджатыми губами. Голова под твидовой шляпой — невинно-круглая, лицо — как луна, уши немного оттопырены… Безусловно, он не красив, хотя, на опытный и несентиментальный взгляд Лиджеса, более привлекателен, чем сам Лиджес, поскольку ведет себя по-мальчишески застенчиво и чисто выбрит, между тем как Лиджес весьма сдержан в манерах и щеголяет аккуратно подстриженной бородкой а-ля Ван Дейк. (Удивительно, насколько обманчивый вид придает Лиджесу эта бородка; и вообще, как легко можно значительно изменить свою внешность минимальными, но хорошо продуманными средствами, внеся незначительные коррективы в прическу, одежду, речь, осанку и тому подобное.) Кроме того, если Хармон Лиджес плечист, мускулист, плотно сбит и имеет подсознательную борцовскую привычку переносить тяжесть тела вперед, на подушечки ступней, то этот приезжий с Востока рыхл, безобиден, обременен тридцатью-сорока лишними фунтами детского жирка и как-то естественно неуклюж.
Но что гораздо существеннее, Лиджес воспитал в себе умение жителя Запада моментально схватывать самое важное, оставаясь при этом на вид совершенно безразличным, в то время как джентльмен в твидовом пальто, хоть и вертит головой из стороны в сторону, моргает и улыбается своей приятной извиняющейся улыбкой, словно ожидает, что к нему вот-вот подойдет добрый знакомый, на самом деле, похоже, ничего не замечает.
«Во всяком случае, меня он не заметил», — думает Хармон Лиджес.
Поскольку ему надо спешить на встречу с агентом «Юнион пасифик рейлроуд» в мужской бар «Эдинбурга», Хармон Лиджес больше не задерживается у мраморной колонны и, предварительно узнав, что приезжего зовут Роланд Шриксдейл Третий, что он из Филадельфии и приехал в Денвер на неопределенный срок, покидает вестибюль.
(В конце концов, большинство приезжающих в Колорадо проводят здесь — а в сущности, и вообще на этой земле — «неопределенный срок».)
На следующее утро, в половине девятого, войдя в ресторан отеля, чтобы позавтракать, и увидев за столом в противоположном конце зала своего «близнеца», о котором, как ни странно, успел забыть за прошедшее со вчерашнего дня время, Хармон Лиджес снова испытывает шок.
(Впрочем, не снился ли ему ночью этот пухлый улыбчивый человек? Иначе почему бы Хармон проснулся с отвратительным привкусом во рту, тревожным сердцебиением и ощущением поднимающегося в паху возбуждения?)
Он!..
Опять он!..
Лиджес намеренно садится поближе к незнакомцу, хотя само присутствие мужчины лишает его спокойствия. «Неужели это я сам, причудливо преображенный? — думает он, искоса наблюдая за приезжим. — Или это какой-нибудь неизвестный мне кузен, даже брат? Не сомневаюсь, что отец наплодил множество ублюдков по всему континенту». Молодой господин на сей раз одет щеголевато: в замшевую куртку с галстуком-ленточкой и брюки легкомысленного покроя, он в одиночестве поглощает свой завтрак и делает вид, что рассеянно просматривает «Денвер газетт», хотя на самом деле беспокойно обшаривает взглядом зал. Несмотря на то что лысина у него намечается такая же, как у Лиджеса, его волосы значительно более светлые и вьющиеся; кожа тоже грубая, но прыщеватая и бледная, в то время как у Лиджеса она покрыта загаром. Можно сказать, что приезжий выглядит как не совсем оправившийся от болезни человек, который надеется, что окончательно прийти в себя ему поможет путешествие на Запад, где климат, как принято считать, способствует приобретению здорового вида — точь-в-точь как на широко пропагандируемых портретах Тедди Рузвельта.
Наверняка он избалованный сын богатого отца — и отнюдь не незаконный, как я, — думает Хармон Лиджес, и по спине у него от ненависти пробегают мурашки.
Вскоре, впрочем, когда ему тоже приносят завтрак, Лиджес успокаивается, с обычным аппетитом поглощает бифштекс, яйца и картофель, выпивает несколько чашек черного кофе и склоняется над своим экземпляром «Денвер газетт», хотя от печатных колонок у него болят глаза, а внутри поднимается смутное чувство неприязни и желание причинить боль; он лениво дымит длинной тонкой мексиканской сигарой, отравляя воздух вокруг себя, как бы случайно встречается взглядом с джентльменом, сидящим за столиком напротив… и самодовольно улыбается типичной улыбкой человека с Запада, ожидающего ответной улыбки. (Судя по всему, незнакомец не замечает своего сходства с Лиджесом, потому что сегодня Лиджес и на себя-то не похож, он существенно изменил внешность, не похож он — весьма предусмотрительно — и на Илиаса Хардена, который предыдущей зимой провел на удивление успешную игорную операцию в Уорее, Колорадо, так же, как тот в свое время был лишь отдаленно похож на Джеба Джонса, коммивояжера, предлагавшего универсальный эликсир доктора Мертона.) Воодушевленный, Лиджес тепло улыбается, не выпуская изо рта сигару; как стопроцентный житель Запада, он чувствует себя обязанным оказать гостеприимство и помощь приезжему с Востока. Эта улыбка чудодейственна! Как говорил отец, улыбайся — и любой дурак улыбнется в ответ. Молодой человек, одинокий Роланд Шриксдейл, с готовностью, словно щенок, подается вперед, чуть не перевернув при этом чашку кофе со сливками, и посылает улыбку в направлении Лиджеса.
Итак, начинается! И никто в этом не виноват.
Таким образом Лиджес и Шриксдейл знакомятся утром 10 апреля 1914 года в просторном зале ресторана в отеле «Эдинбург», и Лиджес приглашает Шриксдейла выпить с ним кофе; молодые люди оживленно обсуждают туристические возможности Колорадо: охоту и рыбалку в дальних горах Медисин-Боу, где Лиджес неоднократно бывал; странность заключается в том, что Хармон Лиджес честно представляется как управляющий компанией «Кэмп янки бейсин», хотя на самом деле является бывшим управляющим этой злополучной компанией, в то время как Роланд Шриксдейл называет себя — Робертом Смитом!
(«Это означает, что Шриксдейл — известная фамилия, предполагается, что я должен знать ее, — догадывается проницательный Лиджес, — и он хочет скрыть свою принадлежность к ней. Что ж, скоро я ее узнаю».)
Однако в течение нескольких недель, на протяжении которых длилась их дружба, вплоть до своего исчезновения в диких предгорьях графства Лэример, молодой пришелец с Востока остается для Лиджеса «Робертом Смитом» — безобидная, хотя и озадачивающая увертка, которая Лиджесу скорее на руку. Если человек лжет тебе, всегда поощряй его, говорил отец, потому что, пока он изо всех сил старается не проговориться, ему и в голову не придет, что другой человек тоже может вести свою игру. Как человеку, не имевшему друзей, которым он мог бы доверять, а в сущности, и вообще никаких друзей, Лиджесу было приятно играть роль доброжелательного «опекуна» инкогнито с Востока, избегавшего говорить о своей семье, — как-то он лишь обронил, что она «весьма состоятельная, хотя, к сожалению, „вздорная“», и что его вдовствующая мать любит его — и только его — быть может, «слишком уж сильно». Между тем Лиджес прекрасно знал, с кем дружит на самом деле: с Роландом Шриксдейлом Третьим, в свои тридцать два года являющимся основным наследником огромного состояния Шриксдейлов. (Не выезжая из Денвера, Лиджес в течение одного дня узнал, что Роланд — сын и внук пресловутых «твердокаменных» Шриксдейлов, заработавших свои миллионы в бурные годы, последовавшие за окончанием Гражданской войны: они вкладывали деньги в железные дороги, угольные разрезы, торговлю зерном, производство асбеста и, главным образом, гвоздей. Мать Роланда, в девичестве Анна Эмери Сьюэлл, была наследницей состояния Сьюэллов (производство бочек и гвоздей) и истинной христианкой, за несколько лет до того она навлекла на себя осуждение и насмешки, подарив более миллиона долларов филадельфийской клинике для животных «Добрый самаритянин», в результате чего больница для животных оказалась оснащена лучше, чем почти любая больница для людей в округе. Шриксдейлы и впрямь были вздорным семейством, они ссорились между собой из-за того, что делать с бастующими шахтерами у себя в штате: привлекать ли милицию или нанять батальон, а то и больше, кровожадных людей Пинкертона, рискуя возбудить общественное негодование. (В конце концов наняли пинкертоновских головорезов.) Роланд был единственным ребенком, которого, по слухам, мать любила до безумия, и хотя его возмущала жестокость родственников, особенно по отношению к рабочим, Роланд намеревался принять подавляющую часть наследства после смерти матери. Поскольку существовало большое количество кузенов приблизительно его возраста как со стороны Шриксдейлов, так и со стороны Сьюэллов, иные из которых принадлежали к руководству семейных компаний, предполагалось, что им также кое-что достанется. Согласно источникам Лиджеса Роланд, или «Роберт Смит», считался кем-то вроде простака — не то чтобы он был умственно отсталым, но и за умственно продвинутого его не держали; пассивный, трудно сходящийся с людьми, набожный молодой человек мало интересовался богатством Шриксдейлов, не говоря уж о том, чтобы заботиться о его приумножении.)
«К тому же „Роберт“ на удивление доверчив, — думал Лиджес. — Идеальный тип друга».
Так получилось, что Хармон Лиджес, бывший управляющий «Кэмп янки бейсин», вызвался показать Роберту Смиту Запад и быть его защитником, потому что в наши дни доверчивый молодой человек, к тому же явно состоятельный, разъезжая в одиночестве, нуждается в защите от более опытных путешественников. Какие планы они строили! Какие приключения ожидали домашнего ребенка миссис Анны Эмери, чье воображение с детства было воспламенено такими популярными сказками о Западе, как «Виргинец» Оуэна Уистера, «Счастье Ревущего стана» и «Изгнанники Покер Флета» Брета Гарта, «Налегке» Марка Твена, а также панегириками Тедди Рузвельта англосаксонской мужественности, спетыми им в «Завоевании Запада» и «Тяжелой жизни». Хармон Лиджес ничего этого не читал, да и не собирался читать, но, судя по всему, с братским восторгом предвкушал, как они с его подопечным будут бродить по горам, ночуя в палатке, охотиться и рыбачить, как посетят «типичный золотой прииск», «типичное ранчо», как будут скакать верхом, «словно аборигены», по коварным тропам каньона. А кроме всего прочего, их повсюду поджидали такие широко известные заведения, как клуб «Тиволи» в Денвере, «Отель де ля Пэ» в Боулдере или «Черный лебедь» в Сентрал-Сити, куда он поведет Смита, если Смит того пожелает, сказал Лиджес, запнувшись, потому что эти заведения могут показаться респектабельному филадельфийцу вульгарными и недостаточно приличными.
— Вульгарными и недостаточно приличными? Что это значит? — оживившись, спросил Роберт Смит. — В каком смысле?
— В том, как они представляют женский пол, то есть женщин, — ответил Лиджес, опустив глаза и уставившись на свои руки словно бы в смущении. — Вернее, в том, как подобные женщины сами себя выставляют. Перед мужчинами.
Оказалось, что Смит никогда прежде не углублялся на Запад дальше Акрона, штат Огайо, куда они с матерью ездили навестить родню, и что нынешняя вылазка в Колорадо была самым отчаянным приключением в его жизни. Признаться, он уехал вопреки возражениям матери… и уехал один, чего прежде никогда не делал.
— Так что, вероятно, именно с такими людьми мне и следует знакомиться, если я собираюсь наконец «стать мужчиной», — сказал он, неловко ерзая на стуле. — Но разумеется, только в том случае, Хармон, если ты будешь моим спутником.
С тех самых пор, когда Тедди Рузвельт разводил скот на ранчо в Дакоте, а также совершал свои широко известные охотничьи экспедиции в Скалистые горы, в Африку и другие места, для мужчин из хороших семей стало делом престижа отличиться на просторах дикой (или в большинстве случаев, как это было и с самим Рузвельтом, псевдодикой) природы: чтобы их абсолютно и неоспоримо признали образцами мужественности, должны были умереть сотни, а то и тысячи диких животных. (Только в Африке Рузвельт убил двести девяносто шесть львов, слонов, буйволов и более мелких представителей фауны.) За неполных пять лет жизни на Западе Хармон Лиджес успел повидать много спортсменов-здоровяков, жаждавших принять участие в как можно более «дикой охоте» при минимуме дискомфорта и опасности, но человека, подобного Смиту, не встречал никогда. Обычно такие джентльмены путешествовали в сопровождении небольшого каравана — с поварами, камердинерами и даже дворецкими, — возили с собой укрепленные палатки и разбивали свои лагеря в самых идиллических окрестностях. (Одна из пресловутых экспедиций такого рода, которую в 1909 году принимал мистер Поттер Палмер со знаменитого ранчо Палмера в Ларами, Вайоминг, насчитывала около пятнадцати крытых фургонов, приблизительно сорок лошадей, и на каждого из двадцати пяти почетных гостей приходилось по двое слуг; охотники убили сотни диких животных и птиц, из которых в пищу пошло всего несколько, потому что гости предпочитали менее «дикую» пищу, привезенную с собой в консервных банках.) Но вот явился наследник огромного состояния Шриксдейлов, один, без сопровождающих и без защитников — если не считать Хармона Лиджеса.
В целом Лиджес находил это восхитительным.
В целом Смит ему скорее нравился. Или, точнее, понравился бы, если бы ему вообще было знакомо чувство привязанности. Во всяком случае, Лиджесу трудно было удержаться, чтобы не представить себя мысленно неким искаженным воплощением Смита: его кожа была обветренной и темной в отличие от бледной кожи Смита; он был мускулист, Смит — рыхл; вандейковская бородка придавала его грубому лицу своего рода надменный вид — гладко выбритое лицо Смита выглядело детским и излучало искренность, невинность и безграничную надежду. («Этим человеком мог бы стать я, будь его отец моим», — как-то бессонной ночью пришло в голову Хармону Лиджесу, и боль пронзила его сердце.)
Сидя за столом с остатками оленины в прокуренной пикантной атмосфере клуба «Тиволи» после дружеского ужина, Смит — потягивая кофе со сливками и огромным количеством сахара, Лиджес — попыхивая мексиканской сигарой, говорят о самых разных вещах, вернее, говорит Смит, а Лиджес внимательно слушает. Как большинство робких, замкнутых людей, Смит вдруг обнаруживает, как легко и приятно изливать душу, если кто-то тебя слушает.
Хитрый «Роберт Смит»! Он ни разу не проговорился, не назвал фамилии Шриксдейл, не упомянул о Кастлвуд-Холле — фамильном имении в Филадельфии, ничем не выдал, что его семья и он сам обременены богатством. Требовалась незаурядная наблюдательность (каковой Хармон Лиджес, несомненно, обладал), чтобы по смутным намекам и оговоркам понять, что «Смит» — разумеется, никакой не Смит, эдакий анонимный американец, а представитель весьма незаурядного рода. Няня-шотландка по имени Мэри Маклин… английская гувернантка мисс Крофтс… шетландский пони по кличке Блэкберн… дедушкин дом в Филадельфии… его персональный железнодорожный вагон… коттедж в Ньюпорте… дом на Манхэттене (напротив Центрального парка)… питомник на Лонг-Айленде… небольшая ферма по разведению лошадей в графстве Бакс, Пенсильвания… мамины сады, мамина коллекция произведений искусства, мамина благотворительность… спортивные развлечения (яхты, плавание на парусной шхуне, поло, теннис, коньки), в которых неуклюжий юноша не мог участвовать, к его собственному сожалению и сожалению всей семьи… приготовительная школа в Сент-Жероме, колледж в Хаверворде и год в Принстонской теологической семинарии…
— Надеюсь, ты не будешь смеяться надо мной, — серьезно говорит Смит, глядя на Лиджеса влажными карими глазами, — но я жажду набраться опыта — только опыта. Тебе не понять, наверное, что значит, дожив почти до тридцати трех лет, не иметь опыта мужской жизни, нигде не бывать без матери — только в школе, да и там она старалась навещать меня как можно чаще. (Не то чтобы тогда мне это было неприятно, нет, я чувствовал себя ужасно одиноким, по-детски несчастным, тосковал по дому и искренне любил ее, но это всегда было моим крестом!..) Я хотел начать самостоятельную жизнь, быть может, серьезно заняться религией, но не смог, потому что мама настаивала, чтобы я все время сопровождал ее то в Ньюпорт, то в Париж, то на Тринидад; хотел завести собственных друзей, познакомиться с молодыми женщинами, но так и не смог, потому что всегда либо мама заболевала, либо я сам. А годы шли. И, обнаружив наконец, сколь мало у меня возможностей проявить себя, я испугался… Прошлой зимой, например, я заболел какой-то таинственной болезнью, которая поселилась у меня в груди, температура доходила до ста трех градусов, в течение двух месяцев мне приходилось отменять все свои планы… все это время я лежал в постели, от безделья листал иллюстрированные книги о Скалистых горах и мечтал об этом… об этом путешествии, о бегстве, чтобы познать — сам не знаю что!.. Хотя мама ухаживала за мной… она настояла на том, чтобы лично ухаживать за мной, несмотря на собственное слабое здоровье… несколько лет назад она перенесла какой-то удар, хотя так это никогда не называли, доктор Турмен называл это «обморочным периодом» или «спазмами сосудов головного мозга», от которых она в конце концов избавилась, точнее, считается, что избавилась. Как бы то ни было, я лежал, ослабевший от высокой температуры, очень долго и, как ни постыдно это признавать, часто радовался своей болезни, потому что мог свободно мечтать о горах, пустынях, лошадях, реках, об охоте, рыбалке и таких людях, как ты… хотя, милый Хармон, я никогда не мог себе представить тебя!.. Никогда. Но в то же время я мог расслабиться под маминой опекой и не думать о семейных проблемах, я запретил ей даже упоминать о каких бы то ни было конфликтах между моими кузенами… потому что, видишь ли, Бертрам всегда борется с Лайли, а Лайли всегда борется с Уиллардом, а дядюшка Стаффорд подначивает их обоих, как будто ему доставляет удовольствие их вражда… да и моя двоюродная бабушка (мамина тетка) Флоренс ничуть не лучше. О, что это за семейка! Мы с мамой просто в ужасе от них с тех пор, как умер отец и все пошло не так. (Это случилось вскоре после убийства бедного президента Мак-Кинли и вступления в должность Рузвельта. У мистера Моргана начались неприятности и… у мистера Хилла, так, кажется? А потом неприятности с «Нортен пасифик рейлроуд»… Обрушился рынок ценных бумаг — я в этом никогда ничего не смыслил и в любом случае нахожу биржевую торговлю отвратительным бизнесом, как можно извлекать выгоду за счет других!) Несмотря на болезнь, я не был так уж несчастен, потому что рядом всегда была… всегда есть мама. У тебя близкие отношения с матерью, Хармон?
Хармон Лиджес, пожирающий друга глазами, похоже, поначалу даже не осознает вопроса, но потом хмурится и коротко отвечает:
— Моя мать умерла при моем рождении. И отец тоже, то есть, я хотел сказать, вскоре после. Конец истории.
— Неужели? Так ты — сирота?
Лиджес безразлично пожимает плечами.
— Но каково это — быть сиротой?
Лиджес снова отвечает небрежным пожатием плеч.
— Наверное, сироте его положение кажется… естественным. Так же как мне мое — совершенно другое, — медленно произносит Смит, в приливе чувств прикрывая ладонями глаза: быть может, это жалость к другу или неожиданная ностальгия по матери. Однако спустя несколько секунд он с улыбкой продолжает: — Как же утешительно это действовало, когда мама сидела у моей постели и часами читала мне, как в детстве! В Библии она больше всего любит Притчи, это действительно прекрасная книга, хотя и трудная для понимания. Мама так чудесно читает — почти не замечаешь, что стихи порой похожи на загадки… «Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник»[20]. Очень поэтично, но как ты думаешь, что это значит?
Видя, что пухлый молодой Смит относится к вопросу очень серьезно и глаза его пылают искренним восторгом, Лиджес удерживается от того, чтобы снова безразлично пожать плечами, и говорит со всей печалью, какую способен изобразить:
— Сказано ведь: пути Господни неисповедимы. Не нам разгадывать Его загадки.
Как же, в сущности, напичкан загадками наш мир.
Фантомами поэтического воображения и фантастическими представлениями, которые большинству человечества кажутся абсолютно реальными.
Если общество приходит к согласию, они становятся коллективными верованиями.
Взять, например, ценность золота.
Золота, серебра, бриллиантов.
Ведь все это, если вдуматься, чистая фантазия. Сами по себе «драгоценные камни» — бесполезные минералы, если они не являются предметами потребления, формами соучастия; стоимость иллюзии достигает бессчетного количества миллионов долларов… всего лишь, если люди соглашаются верить в их ценность.
А здесь, на необозримом Западе, человеческое воображение и вовсе кажется безграничным. В то время как на излишне упорядоченном, расписанном и классифицированном Востоке слишком многие так называемые радетели за общественное благо считают своим долгом совать нос в чужие личные дела.
В штате Нью-Йорк, например, и даже в захолустном Мюркирке, где ему довелось быть Харвудом Лихтом. Пока отец-тиран руководил его жизнью, ему суждено было оставаться Харвудом Лихтом. Впрочем, глубоко в душе он понимает, что он и есть Харвуд Лихт и всегда им будет, от кровного родства не уйдешь, могучая кровь Лихта течет в его жилах. Из мюркиркской грязи путь пролегает прямо к покорению небес. Поэтому временные превращения, скажем, в Илиаса Хардена, Джеба Джонса, Хармона Лиджеса или в их предшественников Харрикейна Брауна и Хэрри Уошберна мало что значат; все они — не более чем маски, которые можно надевать и снимать по желанию. Или исходя из каприза. Или по необходимости.
Это отец Харвуда прекрасно понял бы. Отец прекрасно бы понял все, что делает Харвуд, и одобрил, поскольку в жилах сына течет кровь старика.
«Когда-нибудь он обо мне еще услышит, — мысленно клянется Харвуд. — Я заставлю его гордиться мной… когда-нибудь. А Терстон сгинул навсегда».
(Потому что Харвуд смутно уверен, что на самом деле Терстона действительно повесили и он больше ни для кого ничего не значит. Конец истории.)
Удивительно, но за последние несколько лет Харвуд стал много думать, по крайней мере когда ему нечего делать и он не захвачен энергией Игры. Как и Абрахам Лихт, он не видит особого смысла в раздумьях о прошлом, если такое умственное упражнение не сулит вознаграждения в будущем; но, разумеется, в жизни мужчины случаются периоды затишья (например, если он прячется в необитаемых горах неподалеку от Уорея или на шесть дней оказывается запертым в вонючей тюрьме графства Лаример, где его чуть не съели вши), периоды, когда ему только и остается что размышлять.
И замышлять.
Выстраивать идеальную стратегию мести.
Потому что весь окружающий мир — это враг, как говорил отец.
«И уж я-то никогда не повторю ошибки Терстона, — с содроганием думает Харвуд. — Убить такую суку, как та верещавшая тетка, и не суметь сбежать! — Он смеется, представляя, как Терстон дергается в петле. Его высокий, похожий на викинга старший брат, на которого женщины на улице смотрели коровьим влюбленным взглядом, в то время как его, гораздо более зрелого и сильного, они вообще не замечали. — Единственный непростительный грех — не суметь сбежать».
Как и Абрахам Лихт, Харвуд — человек сердитый.
Не важно, почему или на кого, это чувство само себя питает и само себя оправдывает.
Он всегда подозревает, что его обманывают. Таково кредо американца — меня обманывают! Кто-то другой, любой другой, живет лучше, чем я, не потому, что заслуживает, а потому, что ухитряется урвать больше моего; жизнь меня надувает, или меня надувают другие люди, мужчины и женщины; я должен получить то, что мне причитается, но никогда не получу. Если я кому-то нравлюсь, то нравлюсь недостаточно. Если меня любят, то любят недостаточно. Если мной восхищаются, то восхищаются недостаточно. Если боятся, то боятся недостаточно. Под разными личинами Харвуд сорвал не один куш, это правда, и бывали времена, когда его карманы лопались от долларов, но денег никогда не бывало столько, сколько он ожидал и заслуживал. Их никогда не было столько, сколько мог на его месте заграбастать другой.
Я мог бы всех вас поубивать, не без удовольствия думает он, бредя в толпе по шумным улицам Денвера.
Если бы у всех у вас была одна-единая шея, я мог бы всех вас убить собственными руками. Он вспоминает, как шея той женщины (ее имя он уже забыл, потому что Харвуда не интересуют мелочи) хрустнула под его пальцами.
Ему сейчас двадцать восемь лет, и он похож на человека, который никогда не был ребенком. Набрякшие веки, сердито поджатые губы, волосы, словно перья калечного цыпленка, неопрятные усы и бачки, мощные мускулистые плечи, походка вразвалку, как у борца… У стороннего наблюдателя, даже мужчины, при виде Харвуда возникает неприятное ощущение, которое он, наверное, испытал бы при виде разъяренного бизона или извивающейся гремучей змеи. Бедный Харвуд: даже когда он улыбается, его зубы сверкают злобно, даже когда на нем чистое белье, оно почему-то не кажется свежим, каким бы лосьоном он ни пользовался, от него пахнет свиным жиром, краденый золотой перстень-печатка, окантованный бриллиантами, на его мизинце выглядит дешевой подделкой. Однако свое достоинство у него есть. Есть своя гордость. И свои планы.
«Когда-нибудь всякий человек в Соединенных Штатах будет знать меня, — думает он, — каким бы ни было мое проклятое имя».
Роланд Шриксдейл Третий, известный также как Роберт Смит, занимает видное место в его планах.
Все же удача существует, думает Харвуд, хотя отец учил их презирать веру в удачу как свойство слабых и инфантильных. Удача существует, никаких сомнений, просто до сих пор у Харвуда ее не было.
Если он выигрывает (его специальность — покер и кости), то через несколько дней проигрывает больше, чем выиграл. Когда он торговал вразнос универсальным эликсиром доктора Мертона, ему удалось продать множество склянок этого зелья больным женщинам, но поставщик из Канзаса обманул его, не сообщив о побочных эффектах, включая — в отдельных случаях — летальный исход: череда смертей следовала за ним по пятам.
Или взять его деятельность в «Кэмп янки бейсин».
Хармон Лиджес не был в этой компании управляющим в строгом смысле слова. В сущности, он не имел почти никакого отношения к шахтам, а являлся помощником мастера на дробилке — не слишком хорошо оплачиваемая должность, но это по крайней мере менее унизительно, чем быть рабочим. (Хотя ему явно недостает внешнего лоска и воспитанности джентльмена, Лиджес, родной сын Абрахама Лихта, наделен предубеждениями аристократа, для которого физический труд оскорбителен.) Вскоре по прибытии на разрез компании «Янки бейсин», располагавшийся в горах Медисин-Боу, Лиджес понял, что здесь занимаются не столько добычей, сколько обработкой руды, и возможности для воровства в высшей степени благоприятны: мелкие обломки минералов, которые проваливаются в щели транспортеров и собираются в поддонах, богаты золотой пылью, нужно лишь научиться извлекать ее и быть достаточно сообразительным, чтобы не попасться. В качестве помощника мастера Лиджес нанял команду подручных, которые после работы должны были помогать ему загружать лохани отходами руды, скопившимися в поддонах барабанной дробилки, соскребать тонкую амальгаму с медных поддонов и отчищать сами поддоны — то есть выполнять самую трудоемкую, но и самую выгодную из всех работ. Неосведомленному человеку эта операция может показаться безобидной: остатки породы, грязь, мелкая черная пыль. И в самом деле, кто, кроме человека с богатым воображением, догадается, что из всего этого можно добывать несметные сокровища и играючи наполнять карманы тысячами долларов? Разумеется, затея была опасной, потому что можно было попасться; сомнительное занятие может довести до беды. Но разве результат не стоит риска? «Бунт рабов против хозяев — чертовски правильная вещь», — решил Лиджес. Со времени своего прибытия на Запад он слышал бессчетное число рассказов о том, как рабочие-золотодобытчики сколачивали огромные богатства, день за днем тайком вынося маленькие «красивые камешки» из разрезов, в которых работали, и продавая их скупщикам краденого; «красивыми камешками» называли редкие экземпляры рудных обломков с вкраплениями твердого золота, слишком драгоценные, чтобы смиренно отдавать их хозяевам. Но предприятие Лиджеса закончилось внезапно и унизительно всего через месяц после того, как началось, когда один из его самых надежных, как казалось, помощников сбежал, прихватив большую часть добычи, а другой, надышавшись ядовитых ртутных паров в процессе конденсации амальгамы по заданию Лиджеса, обезумел, решил, что это Божье наказание, и во всем сознался мастеру. После этого Лиджесу пришлось сматываться из «Янки бейсин» верхом на лошади с прогнутой спиной, бросив все, что могло бы свидетельствовать о его гениальности, и имея при себе лишь прохудившийся мешочек с черным песком, из которого, когда в Манассе его просеяли, вышло золота всего на 97 долларов, каковые Лиджес и проиграл в покер тем же вечером.
Была ли та катастрофа судьбой или просто временной неудачей, но «кто-то должен был за нее заплатить».
Хармон Лиджес и Роберт Смит, готовые к приключениям, выехали из Денвера утром 15 апреля 1914 года. Смит робко признался, что у него есть приличная сумма денег в дорожных чеках и что он может получить еще, «когда бы и где бы они ему ни понадобились».
По плану Хармона Лиджеса они должны были доехать по железной дороге до Эль-Пасо; если обстоятельства сложатся благоприятно, возможно, они рискнут пересечь границу с Мексикой.
По плану Хармона Лиджеса они совершат бросок на север до окрестностей Биг-Хорна в южной части Монтаны.
Они будут пешком бродить по горам, пересекут ледник Лонга, исследуют неизвестный каньон, тянущийся вдоль реки Колорадо; посетят золотые прииски; наведаются на одно из крупных ранчо (например, на «Флаинг-Эс» к востоку от Ларами, где Лиджеса, по его словам, всегда радушно принимают); будут охотиться — на медведей, лосей, антилоп, горных львов!.. будут ловить рыбу — горную форель, черных окуней, щук! (Не слишком опытный охотник, Лиджес имеет смутное представление о том, как нужно экипировать экспедицию, но, к счастью, его взволнованный партнер этого не замечает.)
— И будем часто ночевать на природе, правда? Если погода позволит, — говорит Смит.
— Конечно, — отвечает Лиджес. — Мы все время будем ночевать в палатке.
Смит так увлечен планами на предстоящие несколько месяцев и прокладыванием на крупномасштабной карте маршрута по западным штатам, что напрочь забыл бы послать телеграмму матери, если бы Лиджес предусмотрительно не напомнил ему об этом.
— Да, спасибо! Я напишу, чтобы мама не волновалась, если от меня некоторое время не будет известий, — говорит Смит, оттягивая пальцами губу. — Минимум две недели, да, Хармон? Или три? Или четыре?
— Почему бы тебе не написать на всякий случай — пять, чтобы она не тревожилась? — отвечает Лиджес.
Итак, двое друзей покидают Денвер весенним днем, таким сияющим и солнечным, что Хармону Лиджесу приходится надеть солнцезащитные очки; Роберт Смит возбужден, как ребенок. Он заявляет, что уже «полностью оправился от болезни». Хватая спутника за руку, он объявляет, что уже чувствует себя «стопроцентным мужчиной».
На что Лиджес с широкой ухмылкой отвечает:
— Надеюсь, что так, Роберт.
Хотя Смит сообщил матери, что они с другом направляются на юг, в Нью-Мексико, Лиджес внезапно меняет план: от проводника-индейца он услышал, что к северу от Боулдера, в горах Медисин-Боу, сейчас отлично клюет форель, поэтому им посоветовали сначала отправиться в горы. Естественно, Смит соглашается:
— Я целиком в твоих руках, Хармон. Едем куда скажешь.
Тогда Лиджес на деньги Смита покупает два железнодорожных билета до Боулдера, и мужчины, уютно устроившись в отдельном купе, разглядывают пробегающие мимо окна пейзажи или смотрят друг на друга и разговаривают по-мужски. Их беседа течет естественно — они спокойны и свободны. Смит признается, что у него никогда не было друга, с которым он мог бы говорить открыто.
— Для меня это — как откровение, — застенчиво произносит он. — Не только Запад, Хармон, но и ты. Особенно ты!
Это признание заставляет Лиджеса покраснеть от полусердитого удовольствия.
Путешествуя в поездах, наемных экипажах, взятых напрокат автомобилях, ужиная вдвоем, Лиджес и Смит становятся такими близкими друзьями, что в душе Смита для Лиджеса не остается ни одного потаенного уголка, хотя сын богача ни разу даже не намекнул на свое истинное происхождение. Иногда Лиджесу бывает трудно ненавидеть его, хотя он понимает, что должен; иногда это не составляет для него никакого труда. Потому что Смит болтает без умолку. Потому что Смит ест нервно и рассеянно, словно не чувствует вкуса пищи. Потому что Смит потеет даже больше, чем сам Лиджес, и часто, преодолев всего лишь один лестничный пролет или быстро пройдясь по улице, задыхается. Глаза у Смита карие, подернутые туманной пленкой (у Лиджеса они серо-стальные), кожа у Смита пастельно-бледная, а теперь покрытая солнечными ожогами (у Лиджеса она имеет оттенок мореного дуба). Его голос нередко звучит слишком пронзительно и заставляет людей оборачиваться. Он скорее хихикает, чем смеется, причем хихикает слишком часто. (Лиджесу, чтобы рассмеяться, приходится делать над собой усилие. Зачем люди вообще смеются — для него остается тайной.) Особенно раздражает Лиджеса толстая родинка Смита возле левого глаза, он замечает, что на руках у него — множество бородавок. У Смита, как и у него самого, четко очерченные брови, кустистые и темные (темнее, чем волосы на голове), и он имеет привычку смотреть искоса. (Лиджес не может припомнить, была ли у него самого такая привычка прежде или он перенял ее у Смита.)
Странно, думает Лиджес, что Смит никогда не заговаривал об их внешнем сходстве. Неужели он настолько туп? Неужели никогда не посмеет открыто взглянуть Лиджесу в лицо? Неужели он не видит?
Впрочем, никто вокруг тоже не замечает их сходства, в общественных местах, во всяком случае, их пара пока не привлекала нежелательного внимания.
«Какой он уродливый! — думает иногда Лиджес, вопреки собственной воле продолжая изучать лицо Смита. И тут же, смутившись, жалеет его: — Но ведь он же ничего не может с собой поделать, как и я».
— Знаешь, Хармон, — вдруг говорит Смит как-то утром в конце апреля, когда они выезжают во взятом напрокат автомобиле туристского класса «пирс-эрроу» из Форт-Коллинза, Колорадо, — я не всегда просыпаюсь по утрам с Богом. С верой в Бога. То есть я знаю, что Бог существует, но не всегда в это верю.
На что Лиджес невнятно отвечает, что, мол, его тоже посещают подобные сомнения.
— Боюсь, я иногда совершаю грех перед лицом Святого Духа, — говорит Смит дрожащим голосом, невидящими глазами глядя на замечательный пейзаж. — Я имею в виду, что порой отчаиваюсь и не верю, что буду спасен. И только совершенная любовь Иисуса Христа позволяет мне вернуться к себе.
На что Лиджес отвечает, что с ним, мол, это тоже часто случается.
— …А кроме того, здесь, на Западе, на этих бескрайних просторах, кажется, что Христу слишком далеко идти до меня, — продолжает Смит. Он ерзает на своем пассажирском сиденье, смотрит на спутника и, волнуясь все больше, добавляет: — Видишь ли, Хармон, Бог есть, это безусловно. И Христос есть — я в этом не сомневаюсь. Но порой здесь, так далеко от всего, я не совсем понимаю, какое они ко мне имеют отношение.
— В самом деле, — бормочет Лиджес.
— …И тем не менее, — теперь Смит говорит почти агрессивно, словно намеренно взвинчивая себя, — я должен всегда помнить, что даже если мы теряем веру, Бога это не касается. Он продолжает существовать, понимаешь, Хармон, даже если мы не существуем.
— Он — продолжает! — тихо восклицает Лиджес.
Два с половиной дня в Боулдере… день в Эстес-Парке… потом на арендованном автомобиле — через Пассавей, Блэк-Хок, Флинт, Эзьюр… в Форт-Коллинз… в Брофи-Миллз… к озерам Ред-Фезер и горам Медисин-Боу, к той самой горной речке, в которой Лиджес ловил форель раньше, как он говорит, много раз, и которая ни разу его не разочаровала.
— Хармон, как называется эта речка? — спрашивает Смит.
— Да у нее нет названия, — отвечает Лиджес.
— Ну тогда назови что-нибудь, что находится поблизости от нее. Может, я найду ее на карте.
— Ты не сможешь найти ее на карте, — довольно резко отвечает Лиджес. — Такие места на карту не наносят… Когда увижу, я ее узнаю. Не бойся.
Так они едут сначала по предгорью, потом поднимаются в горы, Лиджес — за рулем аккуратного черного автомобиля, Смит — глядя в окно. Проведя много дней на солнце, Смит уже не выглядит таким мертвенно-бледным, и в ознаменование их славной экспедиции он даже начал отращивать бороду — пока она еще очень жидкая и клочковатая. («Может быть, я больше никогда не буду бриться, — говорит он, и у него невольно вырывается смешок. — Как бы ни умоляла меня мама».)
В последнее время на Смита иногда нападает не свойственная ему молчаливость: он то ли размышляет о чем-то, то ли раскаивается, то ли что-то предчувствует. Здесь, вдали от шумного города, очень одиноко. До странности одиноко. Ведь горы такие высокие, а небо такое пронзительно-синее, что душа человеческая чувствует себя потерянной. И холодно. Хотя уже почти май, холод пробирает до костей. Дома, в Филадельфии, мечтательно говорит Смит, должно быть, уже цветы зацвели.
— А нам-то до этого какое дело? — спрашивает Лиджес.
28 апреля, ясным ветреным днем, вскоре после полудня они подъезжают к речушке, которую искал Лиджес. Она находится более чем в двадцати милях за озерами Ред-Фезер в необитаемом месте среди невысоких гор, крутых известняковых каньонов, узких бурных ручьев, берега которых все еще по краям скованы льдом. Дорога, по которой ехал Лиджес, в этом месте сужается до размеров тропы; на отвесных стенах каньона видны шрамы от камнепадов и снежных лавин.
Ошеломленный Смит выбирается из машины и останавливается, упершись руками в бока, с видом, выражающим безграничное удовлетворение. Изо рта при выдохе вылетают струйки пара, глаза начинают наполняться слезами, губы беззвучно шевелятся. Вот оно.
Через плечо он кричит Лиджесу, как ему здесь нравится, но тот, невозмутимо занятый подготовкой рыболовных снастей, похоже, его даже не слышит.
(В Форт-Коллинзе путешественники приобрели снасти высшего качества в самом дорогом спортивном магазине: одинаковые удочки и катушки, прочную эластичную леску, нож из нержавеющей стали для потрошения рыбы, набор изящных перьевых поплавков, резиновые сапоги до бедра, прорезиненные перчатки, сети и прочее.
— И все это хозяйство — лишь для того, чтобы поймать рыбу! — удивился Смит, но тут же поспешно исправился: — Однако оно, разумеется, стоит каждого истраченного пенни.)
Приходится повозиться, чтобы приделать катушки к удилищам, намотать леску, пригнать по ноге резиновые сапоги, но в двенадцать десять по часам Лиджеса мужчины с величайшей осторожностью входят в ледяную воду и забрасывают удочки.
Проходят минуты.
Минуло уже полчаса.
С гор дует несильный холодный ветерок. Плещется горный поток, белый от пены и холодный. Лиджес ловит себя на том, что смотрит на Смита со своего рода братским состраданием. Наконец они на месте, все хорошо; он не торопится, потому что, когда торопишься и действуешь в спешке, теряешь достоинство — как, например, тогда, когда он схватил ту женщину за горло. Хотя ее нужно было убить в любом случае. С возрастом Лиджес, он же Харвуд Лихт, сын своего отца, постигает логику Абрахамовой философии, согласно которой преступление растворяется в соучастии и многое предопределено прежде, чем происходит малейшее движение. Он знает, что в прошлом часто действовал неуклюже, но он учится, и однажды, скоро, быть может, уже на следующее Рождество, заставит своего отца-тирана восхититься им; а Терстон и Элайша и даже эта испорченная сука Миллисент будут забыты.
Так он размышляет, стоя с удочкой в идиллической горной речке и глядя на Роланда Шриксдейла Третьего с мрачной полуулыбкой. У того пухлое детское лицо сосредоточенно сморщилось; прищурив близко посаженные глаза, он неотрывно наблюдает за плещущей водой, словно боится ее; ноги широко расставлены, чтобы не потерять равновесия, когда рыба заглотнет крючок и дернет. (Потому что рассказывают множество историй о том, как рыбаки, упав в ледяную реку, набирают полные сапоги воды и те становятся такими тяжелыми, что утаскивают их на дно, рыбаки тонут, если не умирают прежде от переохлаждения.) Теперь, начав отращивать бороду, Смит выглядит не таким уязвимым, как прежде; теперь, когда кожа у него уже не такая бледная и прыщеватая, он начинает походить на… Хармона Лиджеса.
Бедный Роланд, бедный Роберт! Он снова и снова закидывает удочку, но его леска снова и снова запутывается; а теперь она застряла в катушке, и веселый разноцветный маленький поплавок из красных, оранжевых и желтых перышек зацепился за его брюки. Лицо Смита сморщилось от детского отчаяния, словно, будь он здесь один, он бы непременно расплакался… но, к счастью, он не один, его друг и товарищ Хармон Лиджес наблюдает за ним и придет на помощь.
Да. Пора. Лиджес вынимает из висящих на поясе ножен блестящий нож из нержавеющей стали и не спеша подходит к Смиту.
— Ну, что тут у тебя, Роберт? — говорит он. — Давай помогу.
«…Не мир пришел я принести, но меч»[21]
Юный Дэриан Лихт с его обращенным внутрь себя взглядом, мечтательной грустной улыбкой, со светлыми и легкими, словно перышки, волосами, с его обыкновением появляться внезапно, как вспыхнувший огонек, незаметно исчезать и снова появляться, будто бы соткавшись из воздуха, кажется его товарищам по Вандерпоэлской мужской академии таким загадочным, что однажды сосед по комнате Тигр Сэттерли (из Балтимора, Мэриленд; отец — адвокат фирмы «Балтимор и Огайо рейлроуд») спрашивает его грубовато-добродушно — в британской манере, усвоенной элитой академической братии, — почему он такой, как он есть.
Запыхавшийся Дэриан, только что вернувшийся из школьной часовни, где играл на органе, непонимающе моргает:
— А какой я «есть»? Что ты имеешь в виду?
В комнате, кроме Сэттерли, находятся еще несколько мальчиков — все они смотрят на Дэриана насмешливо. Это почти пугает его, хотя — с чего бы им хотеть обидеть его? Это всего лишь товарищи Сэттерли по футбольной команде.
Сэттерли с осуждением поясняет:
— Ты какой-то чертовски счастливый.
— В самом деле? Я не нарочно.
— Черт побери, но ты ведь действительно счастливый, разве нет?
Дэриан бросает нервный взгляд на остальных: Чики Честерсона, Фрици ван Гелдера, Бенбо Моргана — и видит, что те, здоровые ребята со скрещенными на груди руками, с пробивающимися на подбородках и над верхней губой усиками (в то время как у самого Дэриана лицо совершенно гладкое), не улыбаются. Все люди — наши враги, потому что они — чужаки.
Дэриан запинается:
— Я… я не знаю, — и видит, что непредсказуемый Сэттерли, кажется, начинает опасно сердиться. — Я не задумываюсь о таких вещах. Просто я играл… свою музыку.
Сэттерли вспыхивает, словно к нему поднесли зажженную спичку.
— Твоя музыка! «Твоя» музыка! Нет, ты скажи, отчего это ты такой счастливый, может, есть какое-то особое место, куда ты ходишь? Может, это какое-то место, которое находится вне школы? Или ты забавляешься сам с собой?
Сэттерли топает своими слишком большими для четырнадцатилетнего подростка ногами так, что пол начинает дрожать. Да, вот такой он сильный, будьте уверены.
Дэриан, испытывая неловкость, повторяет:
— Но я действительно не знаю.
Бенбо, внук Дж, П. Моргана, с угрожающей улыбкой делает выпад вперед.
— Нет знаешь! Ты ведешь себя так, будто тебя ничего не трогает. Будто ты, Лихт, выше всего и всех.
— Да нет же, меня все трогает, — протестует Дэриан, пятясь и пугливо улыбаясь. Они хотят не просто командовать им, они хотят его побить. Можно ли этого избежать? Превратиться в дым, чтобы их кулаки молотили по воздуху? Исчезнуть, пройдя сквозь единственное зеркало в комнате — мерцающий ромб над крышкой бюро? Или обернуться несколькими музыкальными тактами, каскадом отрывистых звуков, звенящих, словно скачущие льдинки, и влетающих ему в голову, когда руки блуждают по клавиатуре органа, слишком стремительно, не давая остановиться и быстро записать их —
— Трогает-то оно, может, и трогает, — говорит Сэттерли с южным акцентом, растягивая слова, в его голосе смешиваются злость и обида, — но проходит сквозь тебя. Скажешь, нет? А?
Продолжая пятиться, Дэриан упирается в стол, ноты — двух- и трехголосные инвенции Баха, прелюды Шопена, сонаты Скрябина для фортепиано — выпадают у него из рук, Дэриан застывает и прячется в своей скорлупе, вот он уже в Мюркирке, в своем потаенном уголке, невидимый, как музыкальные звуки, кружит в воображаемом водовороте… Между тем мальчики, улюлюкая и визжа, смыкаются вокруг него.
Что это, что делает тебя таким счастливым? Но об этом счастье он ни с кем не может говорить. Он никогда этого не скажет своим мучителям, они знают, что ничего от него не добьются, Дэриан Лихт не сломается, как сломался кое-кто из других под их враждебным напором, к этим они испытывают лишь презрение, в то время как Дэрианом, о котором говорят, что он гений, они восхищаются и чувствуют к нему если не любовь, то растущее уважение, потому что в нем есть что-то… что-то странное, его глаза излучают свет, они мерцают, словно глаза кошки.
Может быть, начинает думать Дэриан, все дело в том, что он — сын Абрахама Лихта; мастера всевозможных эскапад и превращений. Всего того, что является не тем, чем кажется.
Эта мысль ужасает Дэриана. Потому что, хоть и любит Абрахама Лихта пронзительной, беспомощной любовью, он уже достаточно взросл и зрел, чтобы понимать, что не одобряет отца. Во всяком случае, я никогда его не пойму.
Существует Дэриан Лихт в шерстяном школьном блейзере цвета морской волны и школьном галстуке (унылые ржаво-красные полоски на унылом золотистом фоне). Дэриан со слезящимися от тяжелых приступов головной боли глазами. Дэриан, чье сердце взволнованно стучит, когда на городской башне начинает мелодично звонить старый колокол, мощно и спокойно, как нерасчлененная речь самого Бога, заглушая голоса сотен мальчишек, без умолку болтающих в столовой. Существует Дэриан, корпящий над задачками по планиметрии, существует Дэриан в мешковатой рубашке и шортах, едва поспевающий за ревущей оравой мальчишек, мечущихся по футбольному полю; дрожащий от холода, с посиневшими губами и ногтями, то ли из упрямства, то ли от сознания собственной бесполезности он тем не менее продолжает бегать, семенить, спотыкаться, мотаться из стороны в сторону и в конце концов — будто в каком-то невероятном комичном сне — умудряется все же ударить по мячу раз, другой, третий и… забить гол. Существует Дэриан, молча, послушно выполняющий повеления мальчиков старших классов, отданные по-военному командными басовито-взрослыми голосами: Смирно! Лихт, ко мне бегом марш! Смирно! Лихт, надраить мои ботинки! Смирно! Но мыслями он всегда витает где-то далеко, там, где находятся его убежища: в Мюркирке, в музыке, в ветре, волнующем болотные травы, в свистящем ветре, дующем с гор Чатокуа, в нежном прикосновении материнских пальцев к его затылку… Что это, что делает тебя таким счастливым, таким счастливым… К концу дня, освободившись от уроков, он бежит, задыхаясь, грациозно, как олень, через широкий задний двор школы, по гравийной дорожке на улицу Академии, а оттуда — на Двенадцатую, где на верхнем этаже узкого желтовато-серого дома живет его учитель музыки герр профессор Адольф Херманн, выходец из Дюссельдорфа, что в Германии, со слезящимися глазами за стеклами очков в золотой оправе, с бисеринками пота, стекающими по его толстым щекам и шее; он ни слова не говорит своим (американским) ученикам о печали, терзающей его сердце, о надежде на то, что Германия сокрушит своих врагов, о страхе перед тем, что Германия действительно сокрушит своих врагов… и что тогда? Какой будет судьба немцев в Северной Америке? Дэриан Лихт, самый талантливый из его американских учеников, быть может, вообще самый талантливый ученик, какой когда-либо был у герра Херманна, видит газеты, разбросанные по душной от парового отопления прихожей, их грозные заголовки сообщают: «НЕМЕЦКИЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ПОТОПИЛИ ЧЕТЫРЕ ТОРГОВЫХ СУДНА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ», «Вильсон клянется отомстить». Он отводит глаза от газетных снимков, сразу же проходит к инструменту и, подкрутив табурет себе по росту, начинает нервно играть разогревающие гаммы и упражнения на технику пальцев: сегодня это фа-диез-минор, гармонический, мелодический, в противоходе, а также арпеджио — длинные и ломаные. Дэриан всегда нервничает, всегда внутренне сомневается; профессор Херманн сочувствует ему, потому что хорошо понимает: музыкант — слуга рояля и музыки, которая пронизывает его, он никогда не станет равным ей.
В заключение лихорадочного часа, потраченного преимущественно на разучивание и повторение фрагментов (шопеновского Прелюда № 16, Presto con fuoco[22]), Дэриан дрожит от усталости, а профессор Херманн вытирает платком лоснящееся лицо, от него исходит запах сердитого волнения, или взволнованной сердитости: Быть равным подобной музыке?! Быть равным… Богу?! После Дэриана у профессора уроков больше нет, у него вообще не много учеников, и количество их все сокращается, поэтому он занимается с Дэрианом еще час… а то и больше.
— Как жаль, мой мальчик, — говорит профессор Херманн, снова вытирая лицо уже грязным носовым платком, — что ты пришел ко мне только сейчас, когда уже почти поздно, в твоем нынешнем возрасте, с твоей испорченной техникой, и когда сама цивилизация катится к своему концу.
С точки зрения Абрахама Лихта, мир, разумеется, идет вовсе не к концу, а к новому началу.
Война разразилась в Европе первого августа, однако Абрахам Лихт, как и многие другие, проницательно предвидел ее задолго до того, он прочитывал все газеты, которые мог достать, выискивая в них подтверждение чутьем угадываемой судьбы, сулящей хаос и… богатство. Он говорит Дэриану, что будущее и прошлое будут разделены: все старое, изжившее себя, мертвое быстро исчезнет; а все ныне живущие получат привилегию родиться заново, если только окажутся достаточно сильными.
Как силен он сам, как должен быть силен Дэриан.
— В прошлом нас, Лихтов, обманом лишили того, что причитается нам по рождению, — горячо восклицает Абрахам, — но будущее принадлежит нам, клянусь.
Да, это прекрасное время, многообещающее: большинство горожан, словно завороженные (страхом, пугающим обаянием), устремляют взоры через Атлантический океан, утратив бдительность в том, что касается окружающей их жизни. Это эпоха больших планов, быть может, слишком многих планов; нужно сузить поле обзора, нужно продвигаться медленно, хитро, осторожно… Осенью 1914 года, будучи учеником Вандерпоэлской мужской академии, Дэриан Лихт имеет возможность — при желании воспользоваться ею — подружиться с сыновьями, внуками, племянниками и юными кузенами таких прославленных американцев, как Ф. Огастас Хайнце, Эдвард X. Гарриман, Элиас Шриксдейл, Стайвесант Шриксдейл, контр-адмирал Робли Эванс (Воинственный Боб), Элфред Гвинн Вандербильт, преподобный Корнелиус Кроуэн, Дж. П. Морган. Когда Дэриан заявляет, что ему не нравятся эти мальчики, Абрахам Лихт раздраженно отвечает, что это не имеет значения:
— Важно самому им понравиться, мой дорогой.
Несмотря на мрачный вид новоготических гранитных зданий и печально известную воинственную атмосферу, царящую в классах, дортуарах и на игровых площадках академии, преподавание там поставлено превосходно, потому что, как объясняет Дэриану Абрахам Лихт, это одна из старейших в Соединенных Штатах частных школ, основанная еще в 1721 году, — точная копия Харроу, хотя здесь больше играют в американский футбол, чем в регби, и мальчиков не заставляют по воскресеньям носить галстуки и цилиндры; а среди выпускников академии столько выдающихся (в области бизнеса, политики, религии) людей, что устанешь перечислять имена.
Само упоминание Вандерпоэла (так же как Гарварда, Принстона, Йеля) в определенных кругах дает бесценное преимущество.
— Поэтому о высокой плате за обучение жалеть не приходится, когда речь идет о твоем образовании.
Дэриан не хотел покидать Мюркирк, не хотел поступать в Вандерпоэл, несмотря на его репутацию; сам вид старых, величественных, неприступных корпусов школы угнетал его. Ему казалось, что вдали от Мюркирка он навсегда потеряет мать, утратит собственную душу, что он как минимум будет тосковать по дому. Тем не менее, оказавшись в своей аскетической комнате на третьем этаже казарменного общежития, фамильярно именуемого учениками «Фишем» (на фронтоне корпуса на самом деле значилось: «Маркус-Фиш-Холл, 1844»), которую он делил с четвероклассником по фамилии Сэттерли, иногда жестоким, иногда снисходительным, иногда неожиданно дружелюбным, а то и приставучим, Дэриан обнаружил, что, независимо ни от чего, ему здесь в общем-то хорошо. Потому что Мюркирк остается моей музыкой, и я могу оказаться там в любой момент, когда захочу. Даже тишина — это разновидность музыки. Соученики, похоже, уважали его, хотя и не любили; в нем было упрямство, обескураживавшее даже драчунов, — бич подобных частных учебных заведений.
— Но, Дэриан, ты должен постараться завязать с ними дружбу из практических соображений, — учит его отец, — а не отдаваться на волю слепого случая. Ты должен сознательно прилагать усилия, как это делаем все мы. — Отец постукивает пальцами по столу, ногти у него желтые от никотина, суставы припухли.
— Да, папа. Наверное.
— Это не всегда легко: придется проглотить врожденную лихтовскую гордость и поступиться своими симпатиями.
— Да, папа. Наверное.
— Этот Сэттерли довольно обаятелен, хотя и груб… но он всего лишь какой-то балтиморец. А как насчет внука мистера Моргана? Или внука мистера Гарримана?.. Директор рассказывал мне, что в футбольной команде его считают героем. Или тот парень, Сьюэлл, кажется, Родди Сьюэлл, племянник жены покойного Роланда Шриксдейла Второго из Филадельфии. Он тоже, говорят, увлекается музыкой, хотя и несколько эксцентричен. Не хмурься, Дэриан, не делай такой раздраженный вид! Твой отец проведет тебя по опасным водам. — Абрахам делает паузу, испытующе смотрит на сына, одобрительно улыбается, замечая в мелких утонченных чертах его лица сходство с собой. — Ты должен вырабатывать в себе индивидуальность, а не просто плыть по течению. Ты понимаешь, что я имею в виду под понятием «индивидуальность»?
— Да, папа. Думаю, что понимаю.
— Тогда скажи мне: что такое «индивидуальность»?
— Ну, это манера… говорить? Смеяться? Быть счастливым, или печальным, или…
Голос Дэриана затихает, сходит на нет, он в смятении начинает, как отец, постукивать по столу своими нервными неуверенными пальцами, ударяя по невидимым и немым клавишам.
— «Индивидуальность» — это призрачная аура, которая окружает человека, а не то, что он есть на самом деле, — объясняет отец. — Это своего рода облачение, такое же, как одежда: теплое в холодную погоду, более легкое в теплый день. Вот твоя сестра Миллисент — сам дьявол по части создания «индивидуальности», она могла бы даже своего старика отца обучить кое-каким трюкам! Нет, сынок, — быстро перебивает он, заметив, что Дэриан собирается спросить его о Милли: что сталось с Милли, почему он так давно не видел ее и где его братья, которых он обожает, Терстон и Лайша. — Мы сейчас говорим о тебе. Тебе недостает умения в том, что называется человеческими отношениями — поведением в обществе, — недостает индивидуальности. Директор, с которым мы легко сошлись за бренди и сигарами, утверждает, что ты «тихий», «прямой», «добрый, вежливый, умный» мальчик, которого «все любят», но я без труда понял, что больше ему сказать о тебе нечего. Дэриан, ты человек, которому недостает индивидуальности. Чтобы исправить положение, понаблюдай за мальчиками из старших классов, за теми, что пользуются наибольшей популярностью. Обрати внимание на то, как каждый из них выработал свой определенный стиль поведения: каждый говорит, смеется, улыбается, ходит по-своему; даже не будучи знаком с ними, я знаю, что они прямо смотрят в глаза собеседнику, заставляя его вступать с ними в контакт. Ты должен этому научиться, а не смотреть вечно в пол! Как сказал наш великий американский философ Уильям Джеймс, индивидуальность имеет столько же обличий, сколько людей встречается на ее пути. И в этом нет ни грана лицемерия, это всего лишь прагматическая этика. Потому что далеко не все заслуживают того, чтобы с ними знакомиться, и общение с разными людьми требует от нас разного времени и разных усилий. Свою самую ценную индивидуальность мы приберегаем для самых ценных людей. И лики своей индивидуальности собираем постепенно. Ты понимаешь, сын?
Дэриану хочется вопить. Выкрикивать непристойности. Молотить кулаками, выстукивать ногами по полу и по столу какое-нибудь бешеное стаккато. Перевернуть отцовскую лампу с абажуром из цветного стекла, изорвать в клочья бумаги, разбросанные по его письменному столу. Но вместо этого он закусывает нижнюю губу и мысленно обрушивает бурные аккорды на басовую и дискантовую части клавиатуры, музыка звучит у него в ушах так громко, что ему кажется странным, как отец может не слышать ее. Лицо у него горит, вид несчастный, невидящий взор опущен долу.
Абрахам Лихт вздыхает, на него вдруг наваливается усталость, однако он по-отцовски кладет руку на плечо Дэриана:
— Ладно, сынок. Хочешь — не хочешь, но в конце концов ты этому все равно научишься. Потому что именно это и есть то, что мы подразумеваем, когда говорим «жизнь».
— Здравствуйте, сэр. Для меня большая честь познакомиться с вами.
Дэриан внутренне содрогается, наблюдая за нарочито бурным поведением отца на публике: то, как он жмет руку доктору Мичу, глядя директору прямо в глаза, словно они с ним давние и близкие друзья; то, как он подносит к губам затянутую в перчатку руку миссис Мич и почти — но не совсем — прикасается к ней губами, бормоча «Enchanté, madame»[23]. Однако никто не обижается. Никому и в голову не приходит, что Абрахам Лихт может быть неискренним, что он, вероятно, даже насмехается над ними. Ведь он так горячо интересуется всем, что касается Вандерпоэла, и он такой обаятельный.
Мичи, обычно чопорные и надменные, заместитель директора Данн со своими узкими безрадостными глазками, капеллан, вечно озабоченный тем, что ученики недостаточно уважают его, староста класса, учителя, мальчики, всегда шаловливые, насмешничающие, ребячливые, непоседливые, — все эти люди, такие разные, одинаково подпадают под обаяние Абрахама Лихта и соперничают за его благосклонное внимание. Дэриан не знает, стыдиться ему или радоваться тому, как легко отец завоевывает сердца таких сложных вандерпоэлских персонажей, как Филбрик, учитель латыни, Коуэн, преподаватель естественных наук, считающий себя истинным джентльменом, как высохший маленький желтушный Мосли, учитель математики, язвительного остроумия и «удивленных» замечаний которого по поводу греховности человеческой натуры побаиваются даже самые отчаянные мальчишки… Эти люди напоминают безводные, унылые, тусклые планеты, на мгновение вспыхнувшие отраженным светом сияющего солнца — Абрахама Лихта.
«Интересно, — думает Дэриан, — от меня-то они чего хотят?»
Потому что ему кажется, будто все эти люди с улыбкой переводят взгляд с Абрахама Лихта на него, потом снова на Абрахама Лихта, стараясь отыскать скрытое сходство. То, что раньше принималось за робость Дэриана, впредь будет считаться сдержанностью, скрытностью и самоуверенностью. Проявлением в сыне отцовской силы.
Доктор Мич настаивает на том, чтобы лично устроить для Абрахама Лихта экскурсию по академии: показать ему почтенный старинный Рутледж-Холл, новую (построенную только в 1896 году) часовню, прогуляться вокруг игровых полей (на которых одноклассники Дэриана играют в буйный, безо всякого судейства футбол), даже посетить краснокирпичную больницу, где Дэриан с его слабой грудью проводит изрядное количество времени и где расположенная к нему школьная медсестра даже отвела ему постоянную, «его» кровать. Абрахам восхищается величественной и в то же время демократичной планировкой школы, которая представляется ему, по его собственным словам, более рациональной, чем планировка Харроу, где он в свое время проучился два года, он высоко оценивает недавно построенный Фрик-Холл — дар богатого выпускника, как оказалось, его гарвардского однокурсника; он проявляет горячий интерес к несколько убогой обстановке дортуаров и намекает, что хотел бы когда-нибудь «сделать дар» Фиш-Холлу, в котором живет его сын; его веселит и забавляет вид комнаты Дэриана и Сэттерли — тускло освещенной, с низким потолком и комичными кроватями, точнее, койками, которые откидываются от стены на пружинах. «Вижу, здесь нет места для подростковой самоозабоченности», — смеется он. Они с Сэттерли обмениваются шутками; они с Сэттерли прекрасно понимают друг друга; они с Сэттерли, можно сказать, естественно составляют команду. Вот такого бы мальчика мне в сыновья! — так, с легкой примесью ревности, истолковывает Дэриан восхищенную улыбку отца.
Позднее Сэттерли скажет Дэриану:
— Черт побери, какой же ты счастливый, Лихт, у тебя такой отец! А вот мой… — Он не заканчивает фразы, на скулах у него нервно ходят желваки. Дэриан бормочет что-то одобрительное. О да! Я знаю.
Будучи чрезвычайно занятым человеком, Абрахам Лихт планировал провести в школе всего полдня, но Вандерпоэл, традиции школы так увлекают его, и все так радушно его здесь принимают, что он решает остаться на сервированный в общей комнате ранний ужин с чаем, во время которого у него завязывается оживленная беседа с пятиклассниками о футболе, боксе и «сложном для Европы историческом моменте», а потом — и на ужин у Мичей в их красивом англо-тюдорианском доме, он даже соглашается переночевать в апартаментах для гостей. А поскольку следующий день — воскресенье, то, может быть, мистер Лихт окажет им честь сказать несколько слов с кафедры проповедника? В Вандерпоэле существует давняя традиция: отцы учеников выступают иногда с проповедью на какую-нибудь духоподъемную тему в назидание детям.
— Свежий, отцовский, взгляд им бывает очень полезен, — говорит мистер Мич. — Потому что, знаете ли, некоторым из них — исключая вашего талантливого сына, разумеется, — недостает необходимого духовного руководства со стороны старших родственников. Вот мы и стараемся использовать любую возможность приобщить их к той мудрости, которая оказывается в нашем распоряжении, чтобы наставить для дальнейшей жизни в этом неустойчивом мире.
Абрахам Лихт колеблется: у него неотложные дела — то ли в Бостоне, то ли на Манхэттене; но потом, улыбнувшись своей теплой неотразимой улыбкой, сдается.
— Только прошу учесть, что с тех пор, как я в качестве друга архиепископа Кокберна в последний раз выступал с гостевой проповедью в храме Святого Иоанна на Манхэттене, прошло уже пятнадцать лет, так что мое ораторское мастерство изрядно заржавело!
Тема проповеди Абрахама Лихта — «Священные ценности в земной жизни».
Суть в том, что каждый мальчик, находящийся в этой часовне нынешним утром, каждый без единого исключения, наследует как мирское («сегодняшнюю Америку»), так и священное («мир Бога и Вечности»), и каждый, сверяясь с образом Иисуса Христа, должен сам разобраться, достаточно ли он мужествен и отважен.
Мастерская проповедь. С первого же момента у собравшихся мальчиков и их наставников от обычной воскресной расслабленности не остается и следа, потому что явление на кафедре Абрахама Лихта разительно отличается от привычных проповедей директора Мича и капеллана; с помощью умелых модуляций его густой богатый баритон звучит то ровно и уверенно, то иронически, то напористо, то дрожит от едва сдерживаемой страсти. Это голос мощного авторитета. Голос доброй мудрости. Голос отеческой заботы. Голос, который заставляет волосы на затылках наследников шевелиться. Ибо что остается человеку, если он лишается чести и самой души? Кому нужна примитивная животная жизнь без чести? Сегодня в Европе, например, повторяется вечная история: после подлого сербского удара, нанесенного 29 июня, честь Австрии оказалась оскорблена; немецкая гордость, судьба Германии тоже требуют возмездия; а существует еще и гордость англичан, и гордость американцев, равно как гордость французов, русских и малых народов. Для тех, кто проливает сегодня свою кровь, происходящее — трагедия, но, возможно, таков промысел самого Бога, Он послал это испытание, чтобы очистить Старый Свет от скверны, излечить его от самодовольства и слепой невосприимчивости к прогрессу, спасти от разложения. Ибо, как сказал Спаситель наш Иисус Христос, «…не мир пришел Я принести, но меч»… а значит, не только мир, но и меч есть судьба человечества.
Эту памятную речь Абрахам Лихт произносит с кафедры часовни Вандерпоэлской академии воскресным утром 11 октября 1914 года. Его вдохновенные слова, смысла которых Дэриан почти не различает, парят под сводами причудливыми звуками, которые слагаются из биения его сердца, крохотных бисеринок пота, выступающих на лбу и под мышками, невидимого судорожного подергивания пальцев на ногах; в этом каскаде звуков — его спасение. Не слушайте! Не верьте! Не дайте искусить себя! — мысленно умоляет Дэриан своих одноклассников и их восхищенных, одобрительно кивающих наставников. Тем не менее позднее практически все ученики, особенно мальчики с третьего этажа «Фиша», поздравляют Дэриана с тем, что его отец произнес замечательную проповедь, и заверяют, что «ему чертовски повезло с отцом», на что Дэриан с мимолетной болезненной улыбкой отвечает: «Да, я знаю».
Оказалось, что жизнь в Вандерпоэле, которая так страшила Дэриана, протекает в некоем подобии сна наяву. Клети, окружающие внутреннюю суть извне. У каждой — своя музыка; удивительная гармония, неподвластная внешней дисгармонии. Мальчишеские голоса, крики, топот ног, даже звук спускаемой в туалете в конце коридора воды — когда-нибудь Дэриан Лихт включит и эти звуки в свои композиции-коллажи, чтобы ошеломить, бросить вызов традиционному вкусу, заинтриговать, восхитить. Это будет моим наследием лет, проведенных по воле отца в изгнании.
Он умный, способный мальчик. Его натянутые нервы можно ошибочно принять за пугливость. Его склонность уходить от реальности в мечты — за серьезные размышления. Он обнаруживает, что ему нравится строго регламентированный распорядок учебного года с рутиной уроков, завтраков, обедов, ужинов, церковных служб, собраний, спортивных занятий, экзаменов и выходных дней, все это течет естественно, как само время, как мерные колебания огромного метронома. Все реально, но лишено духовной значимости.
Потому что всегда впритык к бурлящему внешнему миру, однако, не замутненный им, существует его тайный внутренний мир, истинный мир Дэриана Лихта. В нем он может свободно беседовать со своей матерью Софи; ее он видит отчетливее, чем Сэттерли и других, находящихся рядом; в нем он слышит музыку такой, какой она должна быть, — Моцарта, Шопена, Бетховена, а также собственные сочинения, которым еще предстоит излиться на бумагу. Тоскуя по дому, Дэриан способен, словно ястреб, парить над Мюркирком, глядя с высоты на старую каменную церковь, которая и есть его родной дом, на кладбище позади нее, на топь, на проступающие в туманной дымке дальние горы. Иногда он видит Катрину так отчетливо, что может поклясться: она тоже видит его; что касается Эстер, выросшей и превратившейся в симпатичную простушку подростка, жизнерадостную девочку, чьи волосы Катрина по-прежнему заплетает в тугие косы, то она смотрит на него испытующе… неужели Эстер и впрямь ощущает его присутствие? Неужели действительно слышит, когда он с ней разговаривает?
Как все одержимые музыкой пианисты, Дэриан мысленно воображает себе волшебную клавиатуру, на которой можно играть когда пожелаешь, легко шевеля пальцами (на уроках Филбрика, например, где двадцать шесть мальчиков, испытывая отвращение к латыни, неделями вынуждены переводить отрывки из Цицерона); когда настоящего инструмента нет под рукой, можно играть на этой невидимой клавиатуре и слышать, или почти слышать, звуки, выпархивающие из-под пальцев. Если все складывается благополучно и Дэриана не вызывают к доске, он каждый день часами играет на этом своем пианино.
Поскольку в академии, несмотря на ее высокую репутацию превосходного учебного заведения, официально музыку не преподают, Дэриан получил разрешение упражняться на органе в часовне; менее чем через две недели после прибытия он стал брать частные уроки у профессора Херманна, который живет в миле от школы и которому Дэриана рекомендовала жена капеллана. (Эти уроки Дэриан оплачивает из карманных денег, присылаемых отцом «на удовольствия, а не на то, что необходимо»). Хотя мистер Мич не одобряет подобных внешкольных занятий, для Дэриана делают исключение, потому что он — сын Абрахама Лихта и очень способный парень. «Мистер Мич, благодарю вас от всего сердца. Отец будет так рад». Дэриан старается, чтобы его благодарность прозвучала громко и ясно.
Играя на органе, зачастую в темноте, Дэриан впадает в транс… и рядом с ним тихо появляется его молчаливая покойная мать — прозрачная, но четко очерченная фигура с длинными распущенными волосами; она слушает, восторгаясь каждым извлекаемым из органа звуком; если Дэриан играет без ошибок, подходит все ближе, ближе… чтобы легко прикоснуться своими холодными пальцами к волосам на его затылке… и шепчет. Дэриан, Дэриан, сыночек мой. Я тебя люблю. Но иногда напряжение становится невыносимым, Дэриан непроизвольно вздрагивает, отдергивает руки от клавиш и устремляет горящий взор назад, где… никого нет.
И все же он шепчет: мама?..
В середине семестра Дэриана Лихта неожиданно переводят в другую, более просторную комнату с более высоким потолком в том же Фиш-Холле. Хотя отношения с Тигром Сэттерли и остальными обитателями этажа после визита Абрахама Лихта стали у него дружескими, он вдруг оказывается на четвертом этаже, в хорошо обставленном двухкомнатном номере с видом на парк вместе с мальчиком, которого едва знает, — с Родди Сьюэллом, грузным, хмурым, имеющим привычку кусать ногти и нервно пискляво хихикать.
— Но почему? — спрашивает Дэриан директорского помощника, организовывающего переезд, и узнает, что это сделано по просьбе отца, обеспокоенного сквозняками в прежней комнате, которые вредны для дыхательных путей Дэриана.
Родди Сьюэлл. Знакомая, кажется, фамилия? Но занятый своими мыслями, Дэриан тут же оставляет попытки вспомнить, что она значит — и значит ли вообще — если не для него, то для Абрахама Лихта.
Как мне удалось пройти через их мир, оставшись им не затронутым?
Смерть Маленького Моисея
Сначала он мерил свое изгнание часами и днями, потом неделями, потом недели в его помутненном сознании стали сливаться и превращаться в месяцы, времена года; солнце в небе свершало свой привычный круговорот, а ему не становилось лучше, прошло много времени с тех пор, как он перестал быть самим собой.
Из него ушел ДУХ, ДУХ покинул его, оставив лишь головокружение в лишенной всяких мыслей голове и время от времени посещавшую его боль в животе. (Ибо плоть остается, продолжая обтягивать темной оболочкой светящиеся кости. Ведь плоть — единственное, что остается.)
«Отец дал мне жизнь, — думает он без гнева, — а теперь он посылает мне смерть. Но я не умру».
Он не сердится. Не являет собой сосуд, переполненный гневом.
Этого ему не позволяет гордость.
А он исполнен гордости даже в своей тесно облегающей ливрее, на службе у хозяина дома, когда, в нужных местах бормоча: «Да, сэр», «Нет, сэр», «Да, сэр», выносит туалетные принадлежности, грязное белье, засаленные полотенца, полные до краев ночные горшки, когда принимает шляпы хозяина (цилиндр, котелок, соломенное канотье, кепочку-дерби), кашемировое на шелковой подкладке пальто хозяина, дамские меха; он передвигается без робости, с достоинством, потому что это знаменитый дом Силвестра Харбертона в Нотога-Фоллз, огромный Харбертон-Холл, стоящий над рекой, и он знает: ему повезло, что его приняли сюда на службу вопреки явному нежеланию дворецкого-«негра» со свинячьим рылом, его нынешнего начальника.
Однако его пребывание в Харбертон-Холле оказывается непродолжительным и заканчивается внезапно.
Хотя почему, он так и не понял.
Ведь он — образец корректного поведения, не так ли? — ну, почти. Он никогда не теряет самообладания. Не дрожит от затаенной ярости. Весь рабочий день носится рысью: «Да, сэр, да, мэм, разумеется, сэр» — гибкое молодое животное, всегда в движении; сон его примитивен и невинен, хотя иногда он просыпается со стонами, едва ли не с рыданиями — след тяжелой отцовской руки пылает на его щеке; иногда же — оттого, что его внутренности превратились в жидкое пламя и грозят изгадить постель.
Бедный Эмиль — так он себя называет.
Бедный Эмиль — после двух недель службы он становится странным: тихо (насмешливо?) бормочет что-то, закатывает глаза, губы его кривятся, словно он хочет что-то произнести, но не произносит — только «Да, сэр, да, мэм»; когда на него смотрят, лицо его невозмутимо, но внутри, тайно, все бурлит. (Потому что в его бездумной голове — ужас: ведь время идет, а у Эмиля нет ни малейшей возможности исполнить хоть какую-нибудь роль здесь, в Харбертон-Холле, или где-нибудь еще; летят дни, а Эмиль как бы и не существует вовсе, ибо никто не направляет его, никто не обожает, не смотрит на него с восхищением, изумленно, с любовью.)
ДУХ вышел из него, оставив лишь ПЛОТЬ.
Впрочем, этого, кажется, никто не замечает, потому что Эмиль слишком осторожен, чтобы раскрыть себя.
А Харбертон-Холл — такое оживленное место! Такое праздничное! Такое безоглядно веселое! Похоже, несмотря на войну в Европе, для определенных кругов настало время тайного торжества.
Они наживаются на войне, продавая оружие. Торгуя Смертью.
И из этих денег платят Эмилю ничтожное жалованье.
Обеды более чем на сто персон. Официальные балы с приглашением до полутысячи гостей. Ранние чаи, ужины, вечерние приемы, музыкальные вечера, званые обеды с охотой на лис, катанием на коньках, на санях с гор, поздние ужины за полночь… Миссис Ри Лудгейт Харбертон, хозяйка дома, ревниво оберегает свою славу выдающейся хозяйки Долины и внимательно изучает страницы светской хроники нью-йоркских газет, чтобы быть в курсе того, что делают ее манхэттенские соперники (Асторы, Морганы, Фиши, Хантингтоны и прочие). Богатство Харбертонов не сравнить с их богатством, но миссис Харбертон изобретательна, как все не желающие ни в чем уступать хозяйки. Если шикарная миссис Фиш дает званый ужин у себя на Пятой авеню в честь гостящего в Америке корсиканского «принца дель Драго» (к удивлению приглашенных, «принц» оказывается паукообразной обезьяной в полном вечернем облачении и при шпаге), миссис Харбертон закатывает расточительный прием на лужайке в честь заезжей эфиопской «принцессы Квали Алибаумба» (на поверку оказывающейся большой черной пуделихой с испуганными глазами и неисправимыми собачьими повадками — как смеялись гости миссис Харбертон!); если миссис Джон Джекоб Астор устраивает карнавал в восточном стиле, миссис Харбертон — такой же, но на египетскую тему, причем лично наряжается царицей Нефертити: украшенный золотыми пластинами головной убор, платье из серебряного шитья, золотой скипетр и двенадцатифутовый шлейф, который несут за ней два «негритенка» в ливреях, так пригибают ее к земле, что она едва передвигается. На Манхэттене младшая миссис Хантингтон шокирует старших представителей светского общества, устраивая «детский ужин», на котором все гости должны быть в детской одежде, лопотать на птичьем детском языке и есть всякую детскую еду; в Нотоге происходит «ужин для прислуги», где гости предстают в образе собственных слуг, причем у большинства лица уморительно вымазаны черной краской.
А Эмиль обязан прислуживать, скользя между ними.
Эмиль обязан улыбаться… обязан?
Новая причуда на Манхэттене — «танцы под джаз». Поэтому в Харбертон-Холле танцы устраиваются каждые выходные: танцы с чаем, танцы с ужином, танцы в полночь, даже танцы с завтраком. Эмиль в своей обезьяньей ливрее широко открытыми, чуть покрасневшими глазами смотрит, как танцуют со своими партнерами белые женщины в дорогих одеяниях — отнюдь не всегда изящно исполняют они новые революционные па: одни по-индюшачьи семенят в быстром танце… другие топчутся, как сцепившиеся кролики… третьи скачут, как техасские простаки… четвертые вихляются, как хромые утки… ни рыба ни мясо… танго под джаз, матчиш под джаз, вальс под джаз. Вероятно, кто-то из гостей Харбертонов заметил, как он глазел на них вместо того, чтобы разносить шампанское, растянув губы в насмешливой улыбке и обнажив стиснутые зубы, смотрел, как развеселые пьяные пары танцевали, вернее, пытались танцевать под синкопированные ритмы популярных композиций: «Слишком много горчицы», «Носатые придурки», «Все так делают, не так ли, не так ли?».
Эмиль? Он с Ямайки.
Эмиль забавляет слух белых своим безошибочно точным английским акцентом с проглатыванием слогов.
— …совсем как белый, правда? Я имею в виду, что он говорит, как белый — если, конечно, на него не смотреть.
— …как один из этих, как их там — шимпанзе, что ли? — на задних лапах.
— …черный, как деготь, негритос. Ха!
— Ш-ш-ш-ш! Стью, ты невыносим.
В конце концов увольняет его не кто-то из самих Харбертонов, а надзирающий за штатом слуг-негров дворецкий, в чьи обязанности входит следить, чтобы они ходили по струнке. Он и прочая челядь наблюдают, как Эмиль одиноко сидит в углу кухни для слуг: его молодое лицо искажено думой, губы беззвучно шевелятся, словно он мысленно спорит с кем-то. Они верят его сказке о том, что он не американский чернокожий, потомок рабов, а карибский, ведущий свое происхождение от подданных Британской империи; верят, но не испытывают к нему симпатии, он им не брат, он чужак с повадкой белого и вечно обиженным видом, будто нынешнее положение недостойно его. Опасный человек.
Его предупредили об увольнении. Выплатили жалованье за две недели.
Гордость не позволяет ему протестовать. Он уходит, высокомерно подняв голову и не сказав ни слова. Как если бы за ним наблюдали, оценивали его, восхищались им, как в былые времена, когда он жил в семье, где его любили и знали, кто он.
В Барр-Сити, в Норидже, в Ниагара-Фоллз… в Маунт-Морайя и Уэллсе… в Олине, Бингемптоне, Йонкерсе, Питсбурге. Воспитанный, вкрадчивый чернокожий джентльмен, молодой, во всяком случае, молодо выглядящий, предлагает себя на разные «должности»: похоже, он достаточно квалифицирован, чтобы работать библиотекарем, или учителем, или сборщиком налогов, или страховым агентом, или менеджером в сфере малого бизнеса… но ни одно из собеседований ни к чему не приводит. Зачастую сам его вид, его сдержанность, достоинство, с каким он говорит, вызывают улыбку.
Его совершенно не видят и не слышат.
То ли Эмиль, то ли Элиху, то ли Эзра беседует с заместителем редактора «Питсбург газетт»: да, у него есть образцы написанных им статей и юмористических колонок, которые были напечатаны, они остроумны, как марктвеновские; есть у него и идеи по организации рекламных кампаний и лотереи, которую могла бы провести «Газетт»… как хорошо он говорит, какая правильная, образованная речь, почтительная, но не подобострастная, какой приятный британский акцент, разумеется, это не американский чернокожий — слишком уж он энергичен и инициативен; однако его прерывают на полуслове и довольно грубо сообщают, что в «Газетт» для него нет вакансии, лучше ему попытать счастья в каком-нибудь городском издании для цветных.
Но как же тогда выжить? Если ты и не черный, и не белый? Если замкнут в своей коже, как в ловушке.
Странно, как часто ему снится… человек, который когда-то был его отцом. Так же часто, как Миллисент.
Хотя, разумеется, он давно отверг их обоих. С презрением и отвращением. Эта лихтовская кровь… «Если бы я мог капля за каплей выдавить ее из своих жил!»
И все же ему снится человек, который был его отцом. Его Дьявол-Отец. Вот он склоняется, чтобы выловить его из воды, вот крестит его именем Маленький Моисей. Дитя, я люблю тебя больше всех. Я всегда любил тебя больше всех. Не заставляй меня ударить тебя, Маленький Моисей!
От таких снов он пробуждается в холодном поту, с колотящимся прямо о ребра сердцем. Как он похудел… Милли была бы потрясена. Его лицо мучительно болит от кулаков Абрахама Лихта, а душа корчится от стыда. Но он полон решимости. Он не сдастся. «Вы воображаете, что обрекли меня на смерть, — бросает он в их бледные, восхищенные лица, — но я не собираюсь умирать. Во всяком случае, еще долго».
Хотя Смерть зреет в нем, как злокачественная опухоль.
В Питсбурге, Джонстауне, Алтуне… в Уильямспорте и Скрантоне… в Ньюарке… он — Эмиль с Ямайки или Эли из Онтарио, Канада, чьи предки, никогда не бывшие рабами, во время революции сражались на стороне лоялистов; он — Элиху, замкнутый неразговорчивый Элиху, чье происхождение неизвестно… он работает в леднике за пятьдесят центов в сутки… работает в платной конюшне, пока не заболевает от вони и истощения… на элеваторе в Саскэуханне, где хозяин отказывается заплатить ему за последний рабочий день… на пивоварне, где по десять часов в день грузит бочки в вагоны, от чего болят и дрожат руки, плечи и вдоль всего позвоночника воспаляются нервы.
Ему кажется, что от тяжелого труда кожа его сделалась темнее, чем была в Мюркирке.
Черты лица загрубели. Он перестает быть похожим на Лайшу. Теперь у него широкий расплющенный нос с растопыренными ноздрями и толстые губы. Глубоко посаженные, налитые кровью глаза. Эта маска пугает его, когда случайно доводится увидеть себя в зеркале.
«Нет, это не я. Не я. Только не это».
Тем не менее, глядя на маску, в которую превратилось его лицо, другие представляют себе… именно то, что видят. Другие негры ошибочно принимают его за одного из своих, во всяком случае, пока он не начинает говорить.
И он принимается играть на этом: можно ведь обмануть целую расу, заставив ее видеть в нем своего, если только умело подойти к делу.
Но надо признать: Лайша боится негров. Они пугают его. Особенно мужчины. Жестокие, непредсказуемые, опасные, тем более когда они пьяны, а поблизости нет белых; в прошлом году его несколько раз ограбили и избили. Ударили в пах и оставили захлебываться собственной кровью. Их речь так отличается от его собственной: утробная, грубая, большей частью он их даже не понимает, так же, как и они не понимают его. Они говорят не по-английски! — в замешательстве думает он. Не так, как говорят американцы.
Боится он и того, что, если негр прямо посмотрит ему в глаза, он разгадает его секрет: Элайша Лихт, Маленький Моисей, — фальшивка.
После тяжелой зимы 1914-го и весны 1915 года он решает изменить свою судьбу. Он заставляет себя разговаривать с неграми. С трудягами — своими товарищами по работе на вонючей сыромятне на берегу реки Делавэр неподалеку от Истона. Он изо всех сил старается подражать их речи. Хотя они по-прежнему с трудом понимают его. Эти парни — здоровяки-верзилы, гораздо более сильные, чем он, руки у них толщиной с его бедро, ведь они на подобной работе вкалывают с детства. Тем не менее, как сказал бы отец, улыбайся — и любой дурак улыбнется в ответ, улыбайся, «завязывай разговор», горько жалуйся на условия труда, на его низкую оплату, на белых хозяев, вообще на белых, которые заграбастали все. Но его голосу недостает уверенности, ему трудно заставить себя смотреть в глаза товарищам из страха, что они раскусят его, поймут, что он — не настоящий. Или, того хуже, подумают, что он — шпион на службе у компании. Или организатор большевистского союза, и из-за него они могут потерять работу… тогда они будут бить его, пока он не начнет харкать кровью.
— Неа, сэ, спасибвам. Я счас спешу, сэ.
— Нада идти, сэ. Виноват.
Он оскорблен. Раздавлен. Зол. Твари, недочеловеки, длинноногие обезьяны, а смеют унижать его.
Вот он идет вдоль шоссе, ведущего в Патерсон, Нью-Джерси. Где бы ни ступала его нога — повсюду ревущее оцепенение. Он обессилел от голода. Маленький Моисей с подведенным животом. Не больной, но и не здоровый. И что у него с глазами? Какие-то огненные солнечные нимбы плавают перед ними, выжигая мозг.
Он спит на завшивленных матрасах, а то и просто под открытым небом. Он потеет, как загнанная лошадь, пока вся влага не выходит из него, а внутренности высушивает дизентерия. Он пьет из грязных луж, как бродячий пес. Он брызгает в лицо ледяной водой и замечает в ней свое отражение: маска… с его глазами. Да, это я. Хотя у меня нет имени.
Свои многочисленные имена он растерял по обочинам дорог. Они выпотели из него. Есть особый покой в том, чтобы не иметь имени. Только кожу, только глаза.
Вот он вступает на городскую окраину, не вполне уверенный, что это Патерсон и даже что это штат Нью-Джерси. Яркое, слепящее солнце. Красные глаза. Красивая пара в застрявшем в грязи автомобиле. Водитель, белый мужчина лет тридцати — сорока, присев на корточки, неловко дергает заводную ручку, но никак не может завести машину; его пассажирка — белая женщина приблизительно того же возраста, с пухлым бледным лицом и нарумяненными щеками, в персикового цвета шляпе колпаком поверх завитых волос.
На помощь! Он поможет им, а они помогут ему. Они его подвезут. А расстроенная женщина в шляпе разглядит в нем то, что он на самом деле из себя представляет, а не это вот… заляпанное грязью существо с больными глазами, опухшими губами и выпирающими костями.
Автомобиль — четырехместный кремовый «уэлш» с шоколадного цвета кожаной обивкой, безупречно элегантными медными аксессуарами (круглыми фарами, большим рогом-клаксоном, далеко вперед выступающей решеткой радиатора) и величественными колесами с блестящими спицами. В бытность свою Элайшей Лихтом — или Маленьким Моисеем — он ездил на таких же роскошных машинах, принадлежавших человеку, который был его отцом; ему даже доводилось водить такой автомобиль, а рядом, уютно устроившись, сидела светловолосая молодая красавица, смеясь и перешептываясь с ним. Вы не поверите, подозрительные белые люди не поверят, но так оно и было.
— Неприятности, сэр? Могу я вам помочь?
— Ты?..
— Давайте хоть попытаюсь.
В своем тряпье, с небритым, искусанным вшами лицом, похожим на маску, он дергает заводную ручку обеими руками, чтобы усилить действие рычага, наконец опускается на колени прямо в грязь и… «Есть! Есть, сэр!» Чудо: ему удается завести заглохший двигатель «уэлша», вдохнуть в него искру ревущей, вибрирующей жизни. Он украдкой поглядывает на хозяина машины, вытирает руки о штаны, пытается встать, но на него нападает приступ головокружения, его полные надежды слова тонут в реве мотора, а джентльмен-водитель в забрызганном грязью бежевом дорожном костюме, с раскрасневшимся лицом, жирным подбородком и неприязненным взглядом кричит:
— Спасибо, парень! Ты наш спаситель.
Женщина в шляпе тоже кричит:
— О-о-о! Спасибо! Как тебе это удалось?
К тому времени он уже на ногах, улыбается робко, но с надеждой, что пара пригласит его забраться внутрь сверкающего кремового автомобиля, он продолжает улыбаться даже тогда, когда водитель, небрежно бросив ему монету — десятицентовик? четвертак? — которая падает в грязь на обочине дороги, уезжает.
От ее острого пряного запаха у него стучит в висках: он буен, весел, пьян, из шкуры вон лезет просто веселья ради.
У девушки белокурые волосы, невинные широко раскрытые глаза и пылающие губы, горячая кожа; она прижимается к нему, виснет на нем, сдавленно смеется, потому что она тоже пьяна — пьяна от любви, от любви, от любви…
Сердце у него готово выскочить из груди, он не контролирует себя, он обожает ее, может за нее умереть, он и умер за нее, много раз: тем не менее она сердится, она ненасытна, она обвивает его своими скользкими от пота ногами, страстно трется об него. О Элайша, я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя…
О Элайша, я люблю тебя…
О Элайша, я твоя жена…
Теперь он видит их повсюду и сам не может спрятаться, чтобы на него не смотрели. Не узнавали. Черные, цветные, ниггеры. На улицах, на обочинах дорог, в кварталах многоквартирных, забитых людьми домов на северной оконечности Парка.
Эти люди идут по жизни, полностью сознавая место в ней белого человека и каждого из себе подобных. В то время как белый человек слеп, ни в чем не отдает себе отчета.
Он же не принадлежит ни к той, ни к другой расе. И поэтому на обе смотрит с олимпийским спокойствием.
Потому что гордость не велит суетиться и гордость не позволяет впадать в отчаяние.
Давно прошли те времена, когда он мог жить в отеле «Парк-Стайвесант» в качестве личного камердинера (как верил администратор отеля) богатого бизнесмена по фамилии Фэйрбрейн; давно прошли и почти забыты воскресные прогулки в экипаже по Парку, маленькая ручка Милли, сквозь красивую, в оборках, юбку тайно прижимающаяся к нему. Он еще не совсем оправился от болезни, но уже достаточно окреп, он снова жизнерадостен, он стал самим собой, или почти стал… длинноногий, с кожей цвета красного дерева антрепренер Эмиль Гастон или Дьюпи Джонс, родом с Барбадоса… родом из Мехико… подверженный приступам кашля, кратким, но жестоким спазмам, от которых лопаются в глазах мелкие сосуды… но, в общем, фигура достойная, сильная фигура, в элегантной черной шляпе, в строгом двубортном пальто из ткани, имитирующей верблюжью шерсть, великоватом в плечах, со звенящими в карманах монетами… вырученными от розничной торговли в Гарлеме выпрямителем волос по пятьдесят центов за флакон, отбеливателем кожи в ярких тюбиках, разноцветными лотерейными билетами, билетами на воскресную прогулку по Гудзону на пароходе — действителен только на один день, возврату не подлежит. Да, он снова стал собой! Или почти стал.
Однако деньги быстро кончаются.
И на улицах у него появились враги.
Тем не менее ходит он с изяществом, с каким-то неустойчивым, шатким изяществом, в полдень выпивает джина, никогда не напивается допьяна, но никогда не бывает и совершенно трезв, ни одно человеческое существо во всем мире не смеет подойти к нему, прикоснуться, заглянуть в глаза: этого не посмели бы даже его враги.
Ему двадцать семь лет — или тридцать? — но с этой тонкой ниточкой аккуратно подстриженных усиков и в надвинутой на лоб шляпе он кажется старше. С этой изъеденной укусами кожей и этими потухшими пепельно-серыми глазами он выглядит намного старше.
Эмиль Гастон, Дьюпи Джонс, Элиху Уошберн…
Когда в кармане заводятся деньги, он позволяет себе блюда, от которых у него потом сводит желудок и может даже вырвать, — не важно, это подарок, который он дарит самому себе. Он покупает черную мягкую шляпу и трость с набалдашником из слоновой кости. Человек с тростью, говаривал отец, в глазах слабого владеет силой. Если он владеет ею хорошо. Этот разодетый джентльмен владеет ею хорошо. В вестибюлях отелей для белых он покупает газеты, чтобы быть в курсе военных новостей: Лондонский пакт… сражение союзнических войск с немцами на Марне… блокада турецких военных судов и немецких подлодок, высадка войск союзников в Дарданеллах… тайные договоры, злодеяния… британский лайнер «Лузитания» потоплен немецкой подводной лодкой, около полутора тысяч человек погибли.
Так много! Он испытывает укол жалости, сострадания. «Но ведь они были белыми — ну конечно. Белые дьяволы».
Теперь он видит их повсюду. Не может не видеть.
Такие же, как он. С такой же кожей. С таким же, как у него, потухшим взглядом.
Маленький Моисей, брошенный на дороге, ошеломленный своей судьбой. Актер, лишившийся не только зрителей, но и самой сценической площадки, цели своего существования, огней рампы, которые освещали ему себя самого.
Однажды дождливым днем, ослабевший то ли от голода, то ли от отчаяния, то ли от гнева, разъедаемый внутренней болью, он падает прямо на улице, и его строгое пальто, и без того уже испачканное, становится совсем грязным — от слякоти, конского навоза, гнили, — а элегантную черную шляпу, дико хохоча, срывает у него с головы маленький мальчишка с коричневой кожей.
Он едет на громыхающем трамвае, он едет на пароме «Стейтен-Айленд», он спит там, где застает его сон, если только в карманах не звенят монеты. Иногда он спит один, иногда — нет. Иногда он с отвращением закрывает глаза, чтобы не видеть города, чтобы не видеть Гарлема, их города, а иногда, словно в трансе, бродит по улицам, из-под полей своей щегольской шляпы незаметно глядя вокруг. Многоквартирные дома из коричневого камня напоминают обнаженный пласт горной породы — квартал за кварталом, впритык друг к другу; на тротуарах толпа, проезжая часть кишит машинами и экипажами, от их движения на Бродвее невыносимый шум — троллейбусы, грузовики, конки, пожарные машины, кренящиеся полицейские фургоны, верховые полицейские в форме; крики, вопли, сирены, клаксоны, рожки; цокот лошадиных копыт по мощеной мостовой; резкие запахи — серы, какой-то тухлятины; мутные, душные, острые, кажется, они исторгаются из чрева самой Земли, и, когда он слаб, проникают вместе с вдыхаемым воздухом прямо в голову, как наркотический порошок.
Гарлем. Их город.
«Мой город?»
Он бредет по нему в оцепенении, словно молодой влюбленный, но постепенно начинает узнавать дорожные знаки, магазины, таверны, уличных продавцов, начинает понимать музыку их речи и в один прекрасный день, открыв рот, ловит себя на том, что говорит так же, как они, или почти так же — теперь он один из них! Он здоровается за руку с новообретенными знакомыми, друзьями и деловыми партнерами. Эй, доброе утро, мистер Джонс! — раздается внезапное приветствие. — Как вы сегодня? Прекрасный денек, мистер Уошберн! — Широкие улыбки, сверкание золотых коронок, мерцание черной кожи, элегантно подстриженные усики, белые накрахмаленные сорочки с жесткими целлулоидными воротничками, галстуки-бабочки, аккуратно сидящие на месте. — Давненько не жал вам руку, доктор, — седые дымчатые волосы, сияющие, предварительно накаленные, потом смазанные кремом и уложенные в покрытый лаком панцирь, на сторонний взгляд, не имеющий ни единого шва, словно отполированная шляпка желудя, — сто лет не видел вас, мистер Гастон. Прекрасно выглядите.
«И прекрасно себя чувствую. Наконец».
В карманах позвякивают монеты. В карманах пусто. ДУХ наполняет его (весна, начало нового года), ДУХ оставляет его, съежившегося в полубессознательном состоянии в аллее… вместе с вырывающимися из души рыданиями он изрыгает из своего нутра выпитое… он близок к смерти настолько, насколько приблизился к ней, и в этом только его вина. В тот вечер, в удушливой жаре Объединенной африканской баптистской церкви на Коламбус-авеню, где со всех сторон его окружает пульсирующая масса жизнерадостно поющих, хлопающих в ладоши, кричащих, извивающихся людей… он погружается в черную, как смола, грязь… успокоительную грязь, перегной Иисуса; Черного Иисуса.
Его братья и сестры кричат, дергаются, смеются в экстазе. Иисус здесь, с ними, Иисус у них в сердцах, брат, ты чув-ствуешь его, ты чувствуешь его, сес-тра, сладковато-прокисший запах плоти, медленно сочащейся маслянистой плоти, Иисус возьмет тебя к се-бе, брат; сес-тра, Иисус возьмет тебя к себе.
Слабея, он чувствует облегчение, слезы текут по его лицу, он не собирается умирать, как пророчествовал тот человек, который был когда-то его отцом, тот человек, который был белым Папашей-Дьяволом.
Хотя все равно тот, кто возьмет к себе его, не будет Черным Иисусом.
Преподобный Дрискус Прайс из Объединенной африканской баптистской церкви… праведный преподобный Слокум Диггз из Свободного евангелического братства… отец Моисей из Африканской методистской епископальной церкви… преподобный Ти. Джей Скирм из Африканской церкви Христа в Маунт-Писга… брат Друз Мохаммед из Святого африканского братства… доктор Уиллард Грейвер из Американо-либерийской лиги на Ленокс-авеню… Верховный властелин Дуглас Фокс из Объединенного негритянского общества колонизации… брат Эбенизер Кинг из Первой сионистской церкви Христа в Гарлеме… командир Диас Аттукс из Сводной свободной афроамериканской христианской лиги…
Одни из этих священников убеждают свою паству беззаветно верить в Христа, другие призывают к массовой миграции обратно в Африку, третьи страстно веруют, что второе пришествие Христа случится в Африке, в Суверенном свободном государстве Либерия (основанном американскими рабами в 1847 году) или в Суверенном свободном государстве Сьерра-Леоне…
Как много проповедников, и как много истинной веры: но изменило ли это хоть что-нибудь в вашей жизни, братья и сестры?..
Несмотря на все его уловки, Маленькому Моисею суждено в конце концов умереть негром: 7 июня 1915 года, вскоре после полуночи в окрестностях Амстердам-авеню и Сто сороковой. Прямо на улице.
Он умрет, свирепо избитый тремя нью-йоркскими конными полицейскими, полицейскими, обученными подавлять «бунты», в разгар шестичасового восстания негров, поводом для которого, по слухам (впоследствии подтвердившимся), послужило убийство полицейскими где-то в Гарлеме семнадцатилетнего негритянского юноши.
(Парня арестовали на Сто сорок третьей улице, когда он «убегал с места происшествия», надели на него наручники и варварски избили «за сопротивление при аресте и угрозы в адрес офицеров полиции». Его изувеченное, истекающее кровью тело с болтающейся сломанной рукой увез примчавшийся полицейский фургон. Все это видели более десятка потрясенных свидетелей; инцидент имел место на улице, где располагается Афроамериканская баптистская братская лига, прямо напротив.)
Всего во время того восстания погибло одиннадцать негров: девять мужчин, сорокатрехлетняя беременная женщина и шестилетняя девочка.
Среди них оказался и Маленький Моисей… хотя официального свидетельства о его смерти не существовало, как не существовало ни официального, ни неофициального, ни какого бы то ни было иного свидетельства о его жизни.
Разве что вот это. Вечером 6 июня 1915 года, менее чем за шесть часов до своей смерти, он имел в баре дискуссию со знакомым (Маркусом Цезарем Смитом, выходцем с Барбадоса) по поводу метафизической загадки: определяется ли личность тем, как ее представляют себе окружающие, или тем, что она есть на самом деле.
Ведь, хотя человек и наследует определенный оттенок и фактуру кожи, это едва ли может служить доказательством того, что этими особенностями кожи можно определить его личность. И хотя он похож на других людей, имеющих такой же цвет кожи, недоказуемо, что его можно с ними отождествлять.
Подмигнув собравшейся вокруг них толпе, Смит отвечает:
— Брат, послушай: если ты говоришь о себе, или обо мне, или о ком-то из них, то так и скажи — не надо пудрить нам мозги дальше. Если же ты хочешь сказать, что ты не ниггер, как все мы, тогда кто же ты?
Раздается смех, гиканье, свист.
Маленький Моисей, не привыкший к тому, чтобы его осмеивали, напрягается, но умудряется выдавить из себя улыбку и подмигивает, в свою очередь, чтобы перетянуть слушателей на свою сторону. Он говорит:
— Друзья, метафизика этого явления — тайна, недоступная невежественному воображению. Некоторые представляют собой лишь то, чем они кажутся, если судить по цвету кожи, другие же — только то, что они есть на самом деле.
— Говори, брат, говори! — смеется Смит.
— …и два эти типа людей разделены, они никогда не смешиваются, как масло… — Маленький Моисей выпил, язык у него немного заплетается, — …и кровь.
— Неужели, брат? Как же это?
— Потому что некоторые люди существуют, — отвечает Маленький Моисей. — А некоторые — нет.
Смит, подыгрывая подвыпившей толпе, говорит:
— А теперь подумай, парень, и объясни, откуда это ты знаешь так чертовски много, в то время как я, который настолько старше и опытнее тебя, не знаю ничего.
И Маленький Моисей, глотнув чего-то, что он в тот вечер пил, и ощутив такое жжение в горле, что на глазах у него выступили слезы, признается:
— Потому что это внутри, брат. Это дано мне из-нутри.
— Как это? Изнутри чего?
— Из-нутри.
— Послушай, друг, должно же быть что-то и снаружи, как скорлупа или кожица того, что внутри, разве нет? Разве не так? — кричит Смит.
— Нет. Не так.
— Ну, возьми, например, сома — как он может существовать, если его не будет держать шкура? По-твоему, боров, дыня, ребенок или цветок могут существовать без чего-то внешнего, что будет сжимать их внутренность вместе? Это вряд ли!
Маленький Моисей в раздражении сдергивает с себя мягкую шляпу с широкими полями.
— Проклятие! Думаешь я кого-то дурачу? — кричит он, в свою очередь. — Я хочу сказать, зачем мне дурачить тебя! Это дерьмо, которое ты тут несешь, гроша ломаного не стоит.
— Тогда зачем ты со мной говоришь, брат? Какого черта ты явился сюда и потеешь здесь?
— Потому что надо же мне где-то находиться.
— Да, но почему ты решил, что именно здесь?
— Потому что так получилось, — отвечает Маленький Моисей, вдруг запаниковав. — Потому что… я не знаю.
— Значит, ты нам прямо заявляешь, что знаешь не больше, чем любой из нас, — радостно вопит Смит, хлопая Маленького Моисея по спине с такой силой, что тот начинает кашлять. — Потому что ты такой же, как все, и внутри и снаружи. Потому что ты — это я, ниггер, изнутри так же, как снаружи, если бы кому-нибудь пришло в голову заглянуть в наши внутренности, кишки и остальной хлам. Вот выпотрошит кто-нибудь когда-нибудь тебя, дружище, а потом меня — думаешь, они найдут какую-то разницу? Как ты считаешь? Что они там найдут?
Маленький Моисей ложится грудью на стойку, опускает голову, плотно закрывает слезящиеся глаза. Во рту такое ощущение, словно его ударили.
— Дерьмо, парень… Я не знаю.
— Громче, мужик!
Но Маленький Моисей трясет головой, раздавленный и оскорбленный. Если бы он мог куда-нибудь убежать, если бы он мог спокойно подумать где-нибудь, он бы нашел что ответить; но здесь, где эти дураки смеются над ним, улюлюкают и показывают пальцами, это невозможно.
Но Смит настаивает, как лошадь, которая не может остановиться и продолжает топтать уже переломанного бедолагу, оказавшегося под ее копытами.
— Думаешь, у одного они найдут черные кишки, а у другого — бесцветные? Я видел, как у ниггера вывалились кишки, не очень-то приятное зрелище, доложу я вам, и второй раз мне бы не хотелось это увидеть, но клянусь, они были не более черными, чем кишки белого — белыми; но, может, тебе, друг, надо увидеть это собственными глазами, как Фоме, которому надо было вложить палец в бок Иисуса, чтобы поверить? Или ты уже все понял? — Смит великодушно кладет горячую, тяжелую ладонь, напоминающую небольшое волосатое животное, на шею Маленького Моисея. Маленький Моисей содрогается. — Скажи-ка лучше, что будешь пить. Выпьем еще по одной и забудем все это «мета-как-его-там-физическое-что-ли» дерьмо. Эта зараза, парень, только мешает.
Следующим вечером он бежит по улице, не обращая никакого внимания на женщину, которая кричит ему: «Вернись, там людей убивают!» В ночное небо взвиваются огненные всполохи, верховые полицейские размахивают тяжелыми дубинками, из головы девочки струей бьет кровь; он, совсем не пьяный, трезвый как стеклышко, чуть не падает под самые копыта разъяренной лошади, кричит, хватается за поводья, хватает за ногу полицейского, стараясь вытащить его из седла, но в этот миг полицейский поворачивает лошадь и бьет его по плечу, по виску, по темени, он падает, корчится на булыжной мостовой, пытается прикрыть руками окровавленную голову, живот, пах, но дубинки белых полицейских равномерно, словно маятники, взлетают над ним… лошади ржут и шарахаются в ужасе… трещат кости под их беспорядочно топчущимися копытами… его правая рука, правая нога, его позвоночник… незащищенная голова лопается, как спелая дыня.
Одно из неопознанных тел. Негр, мужчина, жертва гарлемского восстания.
Венера Афродита
«Дрожит ли моя рука? Нет, не дрожит. Сомневаюсь ли я? Нет, не сомневаюсь. Обычный ли я поклонник, страшащийся быть отвергнутым? Нет, я не таков».
Алберт Сент-Гоур, джентльмен с серебристой шевелюрой, в самом расцвете лет (кому придет в голову, что ему уже почти пятьдесят пять? — у него такая румяная кожа, она так и светится здоровьем, на ней ни морщинки), критически осматривает себя в зеркале у себя в спальне, в квартире на Риттенхаус-сквер, и с облегчением видит, что мешки под глазами исчезли; он с одобрением отмечает новый стиль, который модный парикмахер придал его волосам, зачесав их не назад, а вперед пышными на вид прядями, чтобы скрыть намечающиеся залысины; он репетирует свои самые удачные улыбки — неуверенную, мальчишескую, довольную, удивленную (будто он ошеломлен неким сюрпризом), «робкую».
А также улыбку искреннего восхищения при виде возлюбленной.
(Ибо Алберт Сент-Гоур, несмотря на зрелость лет и видимую поглощенность земными заботами, влюблен и в присутствии дамы своего сердца обязан продемонстрировать восхищение, которое испытывает… чтобы дама, будучи особой знатной и, возможно, втайне такой же тщеславной, как и он, по ошибке не сочла его чувство недостаточно сильным. «Потому что это тот случай — нередкий в моей жизни, — когда недостаточно просто обладать неким достоинством, требуется еще и „подать его лицом“», — думает Сент-Гоур.)
Он медленно поворачивает голову слева направо… справа налево… изучает свой профиль (чуть-чуть излишне мясистые шеки и, да, все же небольшая припухлость вокруг глаз) и при этом мурлычет восторженную арию Зигфрида в сцене встречи с Брунгильдой… Брунгильдой в языках укрощенного пламени.
«Таков ли я, как другие мужчины? Нет, я не таков. Нужно ли мне бояться, как другим мужчинам? Нет, не нужно. Сможет ли она найти в себе силы отказать мне? Не сможет».
Он похлопывает себя по щекам… еще раз поправляет накрахмаленный воротничок и черный шелковый галстук, завязанный свободным узлом, улыбается своей особой лихтовской улыбкой (обнажая два ряда сильных белых сомкнутых зубов) и решает, что готов к свиданию с богатой молодой вдовой миссис Эвой Клемент-Стоддард.
В начале осени 1915 года, когда в далекой Европе французы и англичане высаживались в Греции, а Болгария наконец объявила войну Сербии, все филадельфийское общество было охвачено возбуждением, так как стало почти очевидно, что Эва Клемент-Стоддард и космополит Алберт Сент-Гоур (прежде живший в Лондоне и Ницце, а теперь обосновавшийся на Риттенхаус-сквер вместе с очаровательной дочерью Матильдой) могут вскоре объявить о своей помолвке. И это несмотря на то, что Эва несколько лет назад, когда умер ее муж, поклялась больше никогда не выходить замуж, а также на то, что красивый мистер Сент-Гоур был в филадельфийском обществе более или менее чужаком.
А иначе с чего бы это Сент-Гоур с таким вниманием относится к каждому слову, каждому взгляду, вздоху и оттенку настроения миссис Клемент-Стоддард? И почему взгляд его неотступно следует за ней, хотя его окружают женщины (замужние, незамужние, вдовствующие), столь же, а то и более привлекательные и обладающие вполне сопоставимым богатством? В конце концов, есть ведь женщины, которые прилагают некоторые усилия, чтобы понравиться мужчинам, а не остаются такими капризными и холодными, как непредсказуемая Эва, и к которым, если верить слухам, поклоннику приблизиться не так невозможно, как к ней. (Судачили даже, что Эва, вероятно, вообще не любит мужчин.) Со своим широко признанным «любительски-профессиональным» знанием классической музыки, вкусом к изысканной кухне, пониманием искусства, архитектуры, домашнего дизайна и тому подобного она явно гордилась ролью гостеприимной хозяйки, а будучи приглашенной в другие дома, не стеснялась высказываться неодобрительно, если что-то не соответствовало ее высоким требованиям. «Вкуса за деньги не купишь, — обычно говорила она, — а тем паче — таланта».
Благодаря вдовьей царственности осанки и вечной поглощенности своими мыслями Эва Клемент-Стоддард казалась выше и крупнее, чем была на самом деле; ее естественную сдержанность и робость ошибочно принимали за высокомерие. В течение многих лет она носила простые (но дорогие) вещи английского производства и зачесывала свои тусклые каштановые волосы так строго, что стиль ее мог быть назван «классическим». Кое-кто находил ее необычной, но привлекательной женщиной — живые темные глаза, маленький нос и прекрасно очерченный рот; другим откровенно не нравились ее странное угловатое узкое лицо, «иронический» взгляд, начинающая увядать кожа, а пуще всего — ее манера улыбаться так, будто она и не улыбается вовсе.
Ее муж умер, когда ей было всего двадцать девять лет, оставив ей на условиях доверительной собственности два фонда (как выяснил Алберт Сент-Гоур, оценивавшиеся приблизительно в три миллиона долларов) и всевозможную недвижимость в Филадельфии и ее окрестностях, в том числе состоявший из тридцати двух комнат дом в стиле греческого Возрождения на Мейн-стрит и особняк в Ньюпорте. Обнаружив в себе любовь к искусству фламандского Возрождения, она начала коллекционировать живопись под руководством известного знатока и высокоуважаемого торговца предметами искусства Дювина (джентльмена, которому Сент-Гоур завидовал); у нее было несметное количество редких драгоценностей, в частности знаменитое ожерелье Картье с дюжиной изумрудов, рассредоточенных на нити из тысячи бриллиантов, которое стоило, по слухам, более миллиона долларов… хотя Эва, разумеется, никогда его не носила, поскольку считала вульгарным такое афиширование богатства и такие, как она это презрительно называла, «кричащие символы».
Родня ее мужа считала, что тайной трагедией Эвы, о которой та никогда не говорила из гордости, является ее бездетность, из-за нее, несмотря на всю свою внешнюю самоуверенность и надменность, она не чувствует себя полноценной женщиной. Иначе чем еще объяснить ее внезапные смены настроения по отношению к племянникам и племянницам: то маниакальный интерес, то высокомерное и полное отсутствие такового? Хотя ей было всего лет тридцать пять, она уже начинала приобретать репутацию эксцентричной дамы: каждый год в начале декабря, в очередную годовщину смерти мужа, она в течение недели носила по нему траур; по воскресеньям неизменно посещала службы в разных церквях, утверждая, что «все боги равны — равно истинны и равно ложны»; полгода напряженно изучала то, что называла «юриспруденцией», еще полгода — то, что называла «медициной»; с каким-то отчаянным рвением предалась как-то даже спиритизму, но в конце концов объявила, что он «слишком оптимистичен, чтобы внушать доверие». Она заказывала портреты покойного мистера Клемента-Стоддарда, но отвергала их все; она заказывала оригинальную музыку, испытывая особое пристрастие к «симфоническим поэмам», но ни одно из сочинений ей тоже не понравилось. Как было принято в их кругу, они с мужем каждое лето путешествовали по Европе, но после его смерти и своего собственного «свидания с судьбой», как она это называла (Эва Клемент-Стоддард в апреле 1912 года собиралась совершить плавание на «Титанике», даже заказала каюту, но в последний момент отказалась от нее из-за болезни), так вот после всего этого она стала чрезвычайно суеверной и поклялась больше никогда не покидать цивилизованных пределов Соединенных Штатов, а точнее, окрестностей Филадельфии.
— Пусть я лучше потону в тоске, — смеялась она, — чем в Атлантике.
Еще более странным был обычай Эвы — нечто вроде религиозного отшельничества — на несколько недель уединяться в своем филадельфийском доме. В такие периоды она отклоняла все приглашения, никого не принимала, забрасывала свою благотворительную деятельность и переписку и предавалась духоподъемным, или «искупительным», материям. Читала «Историю Римской империи» Гиббона, непричесанную рапсодическую лирику Уолта Уитмена, один месяц могла жить, целиком погрузившись в стихию Упанишад, другой — в стихию «Бхавагадгиты»… Как все же американки из высших классов жадны до просвещения! Однажды Эва даже попыталась под руководством индийского мудреца изучать древний мертвый язык — санскрит, с каким успехом — никому не ведомо. А также она всегда была «в курсе» политических и военных новостей и любила обсуждать их с мужчинами: англофилов она убеждала, что Англия сама навлекла на себя беду и Соединенным Штатам не следует, руководствуясь сентиментальной памятью об узах лояльности, позволять втягивать себя в войну; изоляционистам еще более горячо доказывала, что президент Вильсон, с которым она была связана родством, но которого никогда не любила, ставит под удар честь Соединенных Штатов, оттягивая объявление войны Германии.
— Как сказал Тедди Рузвельт, президент — трус. Он не мужчина.
Когда господин, известный как Алберт Сент-Гоур, в прошлом лондонец, впервые увидел Эву Клемент-Стоддард в сентябре 1915 года, даже еще не будучи представленным ей миссис Шриксдейл на благотворительном спектакле «Так поступают все женщины» в филадельфийском оперном театре, он вслух произнес: «Это она!»
Потому что ему показалось, будто он давно знает эту женщину и уверен, что она тоже знает его.
Потому что со времен молодости, когда он был роковым образом уязвлен женщиной, никогда еще женское лицо, само присутствие представительницы противоположного пола не поражало его так сильно; и никогда так мгновенно не пронизывала его мысль, что именно в этой женщине он наконец осуществится в полную силу.
Вот она, моя мечта о ребенке, о сыне — взамен тех, что предали меня. Чьи имена я вычеркнул из своего сердца.
Однако в первую очередь это была мечта о Женщине… о конкретной женщине. Женщине таких исключительных достоинств, обладающей такой энергией, что ей под силу будет вернуть его к жизни; в ней он растворится без остатка и воскреснет вновь. А главное — эта женщина позволит забыть все обиды, нанесенные ему женщинами в прошлом. (Бессердечными женщинами. Не достойными любви и преданности Абрахама Лихта: Арабеллой, Морной, Софи, которые предпочли смерть жизни с ним. Они были «женами», с которыми он никогда не вступал в брак официально и, следовательно, не мог развестись.)
Он станет ухаживать за этой женщиной и преодолеет ее сопротивление. Он женится на ней — на сей раз действительно женится. И у них будет ребенок, наследник.
«Ведь я еще в самом расцвете сил, — горячо убеждает он себя. — Я едва начал жить. Мои самые великие победы — впереди».
С самого начала в определенных кругах было не без зависти отмечено, что Эву Клемент-Стоддард и стремительного Алберта Сент-Гоура таинственно влечет друг к другу. Их разговоры, беглые, полные недомолвок, похожи на виртуозную дуэль фехтовальщиков, которые нападают друг на друга не для того, чтобы ранить, а для того, чтобы продемонстрировать свое мастерство. На исходе осеннего дня Сент-Гоур, например, к слову упоминает о своей романтической привязанности к Кенсингтон-гарденс — миссис Клемент-Стоддард тут же делает ответный ход, спрашивая, к каким именно цветам, к каким именно кустам, растущим на каких именно аллеях, — потому что, судя по всему, разделяет его любовь к этому парку, с которым у нее связаны ранние детские воспоминания, когда ее семья каждый год осенью проводила в Лондоне не менее полутора месяцев. В другой раз дама цитирует слова Токвиля о пагубных последствиях равенства («в демократические времена самой переменчивой из всех окружающих нас переменчивых вещей является человеческое сердце»), и Алберт Сент-Гоур горячо подхватывает тему, обрушиваясь на «фанатичного французского циника», как он его называет, за то, что тот никогда не понимал американской души и оклеветал всех американцев своими огульными суждениями, основанными, по необходимости, на ложном применении своих принципов к нашим условиям.
— Как можно всерьез воспринимать человека, — говорит Сент-Гоур, обращаясь ко всем, но не сводя внимательного взгляда со смущенной миссис Клемент-Стоддард, — который настолько мало понял в нашей демократии, что сделал вывод, будто, я цитирую: «Любовь к богатству, либо как принцип, либо по наследственным соображениям, лежит в основе всего, что делают американцы…»?Это навет! И это недоказуемо.
Все в безропотном восхищении слушают, как Сент-Гоур и Эва бурно обсуждают текущую политику, ошибки недавней истории, неопределенное состояние современного искусства; погружается ли культура в глубокий декаданс с начала этого века, была ли необходима война с Германией или это просто, как зловеще замечает Сент-Гоур, «неизбежность». Уже несколько недель в тех кругах, где вращается миссис Клемент-Стоддард, все разговоры крутятся вокруг широко разрекламированной инициативы Генри Форда снарядить корабль мира «Оскар Второй», который должен доставить в Европу миллион долларов золотом, предназначенный любому, кто сможет остановить войну. («Любому, — остроумно замечает Сент-Гоур, — кто говорит с немецким акцентом».) Богатый производитель автомобилей хвастается, что именно он вернет наших парней домой к Рождеству (к тому времени значительное число американских мужчин добровольно отправилось сражаться на стороне союзников), чего до сих пор не смогли сделать такие правители, как Вудро Вильсон. Весь христианский мир, провозгласил Форд, должен объединиться, чтобы остановить эту бессмысленную бойню. И знаменательно, что именно он, гениальный изобретатель «Форда А» и «Форда Т», а также инициатор спорной идеи пятидолларовой оплаты труда, будет вести переговоры о мире. Ибо если у американского бизнесмена деньги и стоят на первом месте, то уж по крайней мере на втором у него — спасение людей. Эва Клемент-Стоддард заявляет, что сочувствует целям Генри Форда, хотя, как и многие другие люди ее круга, считает детройтского миллиардера жестоким и крайне неприятным в общении человеком; она внесла несколько тысяч долларов в его затею и даже подумывала присоединиться к ста шестидесяти избранным пассажирам «Оскара Второго». Алберт Сент-Гоур, однако, беспощаден в своей едкой критике проекта.
— Да был ли на свете человек, настолько же тщеславный и ослепленный самомнением, как ваш Форд?! — изумляется он. — Если не знать, насколько он богат, можно было бы заподозрить, что «Оскар Второй» не что иное, как мошенническая спекуляция на любви к благотворительности «добрых христианок» обоего пола.
Сент-Гоур так красноречив и так остроумен, что Генри Форд с его поисками путей к миру мгновенно превращается в предмет насмешек для всех присутствующих, и Эва Клемент-Стоддард смеется громче всех.
В тот вечер, попрощавшись со своими почтенными гостями, приятно разогретая выпитым вином и осмелевшая, Эва в приливе девчачьего кокетства замечает:
— Даже древняя богиня не могла бы «добиться успеха» у такого скептика, как вы, Алберт Сент-Гоур!
И это так потрясает Сент-Гоура, что взгляд его сразу становится нежным и беззащитным и он не находит остроумного ответа.
Прогуливаясь однажды воскресным днем по элегантной Риттенхаус-сквер, где повсюду — знакомые лица и где приходится следить за тем, чтобы соответствовать манерам этих влиятельных особ, Алберт Сент-Гоур небрежно замечает своей эффектной дочери Матильде, которую ведет под руку:
— Дорогая, ты не огорчишься, если я попрошу Эву выйти за меня замуж? Пора, знаешь ли, твоему отцу жениться снова. В сущности, — вздыхает он, — давно пора.
Матильда, в черной соломенной шляпе с опущенными полями, завязанной под подбородком узорчатой голубой шелковой лентой, с опущенной на глаза вуалью из кисеи с горошинами, продолжая идти все той же небрежно-ленивой походкой, отвечает тихим довольным голосом:
— Если Эва действительно так богата, как говорят, дорогой папочка, с чего бы я стала возражать? Кто я такая, чтобы возражать? Тебе это прекрасно известно.
Алберт Сент-Гоур отвечает обиженно:
— Послушай, Матильда, я хочу жениться на Эве вовсе не ради денег, а ради нее самой; по любви.
— Ах, на сей раз это «любовь», — весело подхватывает Матильда. — И на сей раз ты хочешь «жениться»! Кажется, впервые в твоей карьере, папочка?
Напрягшись, Сент-Гоур так же тихо отвечает:
— Но ты ведь знаешь, что я вдовец, дорогая. И знаешь, что я не хотел жениться после смерти твоей матери… случившейся в июле 1905 года на юге Франции.
— Ах да, я почти забыла бедную маму… — говорит Матильда, с притворной скорбью опустив уголки губ, — убитую в собственной постели, не так ли, «неизвестным преступником». Бедная мама! Она так много значит в нашей жизни!
— Твоя мать умерла от чахотки, Матильда, — багровея лицом, возражает Сент-Гоур. — Ты отлично это знаешь.
— Да-да. От чахотки, ну разумеется, от чахотки, — поспешно исправляется Матильда. — Я забыла. Знаешь ли, столько смертей, что их трудно запомнить.
— Твой тон, Матильда, если я правильно его понял, меня совершенно не трогает, — замечает Сент-Гоур. — Хотя ты ведешь себя так специально, чтобы спровоцировать меня.
— Я вообще никак себя не «веду», — отвечает девушка, — я ведь всего лишь «Матильда», твоя истинная дочь, только твоя и больше ничья.
— Ты уже несколько недель, даже месяцев, ведешь себя по-детски, — настаивает Сент-Гоур, — с самого нашего приезда в Филадельфию. А точнее, с твоего возвращения от Фицморисов. Мне неприятно выступать в роли поучающего отца, потому что это совсем не в духе Сент-Гоура, тем не менее вынужден сказать тебе, моя дорогая, что это вовсе не твое амплуа — сердить меня подобным образом. Ты должна свыкнуться с нашей новой жизнью и забыть старую; удивлен, что ты не забыла…
— О, я забыла! — перебивает Матильда, слегка касаясь его подбородка затянутыми в перчатку пальцами. — Я, знаешь ли, папочка, забыла гораздо больше, чем когда-либо помнила.
— В любом случае, — натянуто говорит Сент-Гоур, отодвигаясь от дочери, — мне не нравится твой тон. Мне не нравится манера поведения игривой и насмешливой Матильды. Потому что такая Матильда — не моя дочь, а пародия на нее. Моя Матильда милая, благовоспитанная, всегда улыбчивая и сострадательная… хотя внутри — очень сильная девушка, которую никому не удастся обвести вокруг пальца. Вот такой должна быть Матильда, а ты — и есть она, так что вся эта клоунада ни к чему, и ты ведешь себя так, только чтобы позлить меня. Не сомневаюсь, что Фицморисам это тоже пришлось не по вкусу и шокировало их так же, как шокирует меня. И я этого не допущу; не желаю больше этого видеть.
— Да, папа, — смиренно отвечает Матильда.
— В присутствии миссис Клемент-Стоддард ты бываешь молчалива настолько, что это граничит с грубостью, зато потом, когда мы остаемся наедине, трещишь как сорока, — продолжает выговаривать дочери Сент-Гоур. — Мне это не нравится.
— Да, папа, — так же покорно говорит Матильда, хотя странная полуулыбка кривит ее губы.
— У тебя нет причины ревновать к Эве, поверь мне, — убеждает Сент-Гоур. — Ты исключительно красивая молодая женщина, у которой скоро, как только все уладится, будет, не сомневаюсь, своя жизнь. Надеюсь, ты не сосредоточилась полностью на прошлом? Потому что это неплодотворно.
— Разумеется, нет, папа, — отвечает Матильда. — Разве я не сказала тебе, что забыла гораздо больше, чем когда-либо помнила.
— Ты ведь не думаешь, например, о… нем? — спрашивает Сент-Гоур.
— О «нем»? Что ты имеешь в виду? — Матильда вопросительно склоняет голову набок. — Уверяю тебя, что нет. Я вообще ни о чем не думаю.
— Дорогая, у тебя в Филадельфии уже полно поклонников, во всяком случае, будет полно, если ты их поощришь. Тебе незачем привязывать себя к старшему поколению.
— Да, папа, — соглашается Матильда.
— А я нахожусь в расцвете сил, я одинок после стольких лет вдовства и нуждаюсь в женском обществе, в семейном очаге. Завоевать Эву будет нелегко, вероятно, даже невозможно, потому что она не такая, как другие женщины. Она стоит особняком даже среди дам своего класса и положения.
На это Матильда не отвечает ничего.
— Естественно, мне приятно, что она богата, не стану этого скрывать, — продолжает Сент-Гоур, — но больше всего мне нравится, что она именно в том возрасте, в каком она есть, что лицо, глаза, рот, волосы у нее такие, какие они есть, и что она так потрясающе остроумна. Когда человек влюблен, ему нравится в возлюбленной все, это и есть любовь.
— Неужели, папа? — бормочет себе под нос Матильда.
— Твоя мать обманула меня, лишив счастья и семейного уюта, — продолжает Сент-Гоур. — Она и остальные. Но я не желаю оставаться обманутым. Я заявлю свои права на любовь прежде, чем станет поздно.
— Да, папа.
— И надеюсь, что ты порадуешься за меня, когда увидишь, что я счастлив, а не будешь и дальше огорчать меня, как теперь.
— Но это же «Матильда», — говорит девушка, туже затягивая под подбородком красивую голубую ленту. — Кто она тебе, в конце концов? Ее можно забыть так же легко, как других.
— Что ты такое говоришь? — отмахивается Сент-Гоур. — Ты ведь знаешь, как я предан тебе, дорогая. К тому же я уверен, что из моего счастья проистечет и твое.
— Неужели?
— В любом случае, знаешь ли, мне едва ли требуется твое разрешение, чтобы жениться, — заключает Сент-Гоур, — не более чем твое разрешение любить.
— И впрямь не требуется, — смеется Матильда. — А посему я желаю, чтобы у вас с миссис Клемент-Стоддард все уладилось и чтобы свадьба состоялась уже на следующей неделе. Потому что, чем богаче будешь ты, папа, как наш «Роланд», тем меньше необходимости будет для «Матильды» вообще выходить замуж.
При этих словах Сент-Гоур резко отстраняется от дочери: он оскорблен.
— Ты никогда не должна говорить о нем в этом контексте, Милли, — шепчет он, глядя ей прямо в глаза. — Что ты думаешь в таком случае о… себе?!
— Что я думаю о… себе? — невинно улыбаясь, отвечает Матильда. — Я, собственно, не знаю. Может быть, ты мне это скажешь?
«Любит ли она меня так же, как люблю ее я? Да, любит. Откажет ли она мне в третий раз? Она не может».
30 марта 1916 года, вечер, скоро восемь. Больше медлить нельзя, нужно идти, очень скоро он должен быть у миссис Клемент-Стоддард на ужине (с глазу на глаз) и в последний раз настоятельно попросить ее выйти за него замуж. (Потому что если гордость не позволит вдове капитулировать, то гордость не позволит вдовцу Сент-Гоуру унижаться и делать предложение снова.)
Он допивает рюмку английского хереса и, хмурясь, вертит головой перед зеркалом: вид в левый полупрофиль находит самым выгодным.
«Неужели она откажет мне в третий раз? — шепчет он. — Нет, она не может!»
Первый раз он сделал предложение Эве Клемент-Стоддард в ноябре 1915-го, менее чем через два месяца после знакомства, и тем самым совершил тактическую ошибку. Естественно, дама была изумлена и глядела на поклонника почти в панике. Свой ответ: нет, благодарю вас, мистер Сент-Гоур, но нет, — она пробормотала так быстро и тихо, что он с трудом разобрал его.
Повторного отказа, однако, сделанного в январе 1916-го, он едва ли ожидал, поскольку в промежутке Эва определенно давала своему поклоннику поводы думать, что восхищается им. В обществе она лестно уделяла ему большую часть своего внимания, весело смеялась его шуткам, иногда брала его под руку и прогуливалась с ним наедине, часто приглашала его к себе домой на вечеринки, как в узком, так и в широком кругу, и, казалось, не возражала против того, что о них шептались как о паре. Когда Сент-Гоур признался, что любит ее и хочет на ней жениться, она зарделась, отвернулась и, заикаясь, ответила, что скорее всего «слишком стара и слишком благополучна», чтобы думать о подобных вещах, что ему, несомненно, нужна не она и что она не позволит себе поддаться иллюзии, будто это не так. Сент-Гоур горячо возразил: он говорит правду, он действительно любит ее и действительно хочет на ней жениться; но Эва была слишком смущена, чтобы расслышать его.
— Я должна сказать «нет», Алберт, — прошептала она, отстраняясь, — потому что не могу позволить себе сказать «да».
А сегодня вечером — каким будет ее ответ сегодня?
— Она не посмеет мне отказать, — вслух говорит Сент-Гоур, машинально поднося к губам пустую рюмку из-под хереса. — Потому что другие женщины меня предали, лишив законного счастья и домашнего очага; и настало время Венере Афродите вознаградить меня — богиня это прекрасно знает.
Новая черная шляпа с атласной лентой вокруг тульи, тончайшие белые перчатки, эбеновая трость с элегантной ручкой из золота и слоновой кости… Быстрый взгляд на карманные часы (Боже, уже так поздно!) — и Сент-Гоур отправляется в путь.
Заботливый отец, он хочет заглянуть к дочери, чтобы пожелать ей доброй ночи, но угрюмая Матильда, отказавшаяся от всех приглашений на этот вечер (в том числе и от приглашения на Большой бал в Филадельфийской музыкальной академии в пользу Детской больницы милосердия), заперлась в своих апартаментах, чтобы, приняв ванну, полежать en deshabille[24], покуривая запретные сигареты и просматривая запретные газеты: дерзкая молодая дама желает быть информированной по части современных безумств, тем более что знание это совершенно бескорыстно.
— Вам нужен экипаж, сэр? — спрашивает ливрейный швейцар. — Вечер холодный и ветреный, сэр.
Но Сент-Гоур предпочитает пройтись пешком, чтобы развеять печальные сомнения перед встречей с возлюбленной Эвой.
«Афродита, услышь меня — на этот раз!»
Жизнь жестоко испытывала его: пробуждала в нем страсть, обманывала в любви, предавала в лице каждой женщины, которой он отдавал свою душу.
Была у него Арабелла Дженкинс — проницательная, обладающая острым умом красавица, мать двух его здоровых сыновей… Но что ему в ее даре — лишь горечь от неопределенности конца: она покинула его, сбежала с другим мужчиной, как в пошлейшей комедии. Была Морна Хиршфилд, дочь священника и сущий дьявол в постели, пока ее не обуяло безумие… Роковая мать Милли. И была милая бедняжка Софи, мать Дэриана и Эстер, о ней он позволяет себе вспоминать только как об имени, высеченном на гранитном надгробии, стоящем на кладбище, принадлежащем Абрахаму Лихту. Подходящий конец — покоиться на «моем» кладбище. Пусть все они, растоптавшие мне сердце, будут там похоронены.
Странно, но как только Венера Афродита отступается от женщины, та становится просто… женщиной. Можно увидеть ее на улице, и взгляд скользнет мимо. А вот когда в женщину вселяется лучезарная богиня, ее лицо, все ее существо бросает вызов твоему рвущемуся от восторга из груди сердцу, и сам звук ее голоса пробуждает радость.
И вот теперь Эва.
Эва Клемент-Стоддард, которой предстоит скоро стать Эвой Лихт.
Однако, вероятно, Венера Афродита, к великому неудовольствию и разочарованию Сент-Гоура, снова готова сыграть с ним шутку.
Неужели эта женщина намерена отказать ему в третий, последний раз?
Почти полночь. Вечер близится к концу. Они отужинали в одной из самых интимных из многочисленных столовых Эвы, побывали на представлении «Микадо» и оба нашли спектакль «живым, но заурядным», и вот теперь сидят вдвоем в Эвиной гостиной, на стене которой доминирует недавняя покупка хозяйки: пейзаж (причудливая ветряная мельница, река, покрытое облаками небо) голландского художника XVII века Яна Штеена, о котором Сент-Гоур до сегодняшнего дня только то и слышал, что он стал чрезвычайно моден среди нью-йоркских коллекционеров. Эва, как многие другие богатые вдовы, следует советам манхэттенского торговца произведениями искусства Джозефа Дювина, срывающего завидные комиссионные с каждой продажи; восхищаясь картиной, Сент-Гоур, стиснув зубы, думает об интригах этого пройдохи.
— Исключительно красиво, это — одна из лучших работ Штеена, — говорит он, в душе давая себе клятву, что, как только они поженятся, он, а не хитрый Дювин будет руководить выбором Эвы по части приобретения произведений искусства. Он предвкушает схватку со знаменитым Дювином, который смеет уверять своих богатых и невежественных клиентов, будто они должны доказать, что достойны искусства, которое покупают его стараниями; например, что они должны дорасти до Старых Мастеров, сначала пройдя через барбизонскую школу и малых фламандцев! Ходили слухи, будто богатой вдове миссис Анне Эмери Шриксдейл он сказал, что она может приобрести картину Джорджоне (которая как раз была у Дювина на руках), но ни в коем случае не Тициана; Пирпонту Моргану позволил, если тот пожелает, купить полдюжины второстепенных работ Рембрандта, но счел, что он «еще не готов» стать обладателем одного из более монументальных произведений; Генри Форду и Хорейсу Доджу, жителям Детройта, Мичиган (города, недостойного великого искусства), вообще не позволял в течение многих лет покупать что-либо из его запасов. («Дювин, должно быть, гений, ибо никто, включая даже самого Абрахама Лихта, до этого не додумался», — вздыхает Сент-Гоур.) Ведь факт, что Генри Фрик, питсбургский миллионер, вынужден был оставить Питсбург, переехать в Нью-Йорк и выстроить дом на Пятой авеню, прежде чем Дювин согласился продать ему кое-какие ценные картины; и, что самое главное, хотя Эву Клемент-Стоддард не назовешь дурочкой, она инстинктивно верит Дювину и не сомневается, что в его руках ее деньги в полной безопасности.
Наконец Эва отворачивается от картины решительно, словно предчувствуя — со страхом? с восторгом? — намерения своего поклонника, садится и, не шелохнувшись, слушает, как Алберт Сент-Гоур голосом, дрожащим от волнения, снова говорит ей то, что она уже хорошо знает: он любит ее, боготворит, уважает, как никакую другую женщину на свете, и хочет жениться на ней как можно скорее.
Эва молча смотрит на свои унизанные кольцами руки, она слишком растроганна, чтобы говорить.
— Надеюсь, я не огорчил вас, Эва? Мне нужно было излить душу. Но если… если вы желаете… если я отвергнут, я больше никогда не вернусь к этой теме. Просто уеду из Филадельфии навсегда.
Смелое, но искреннее заявление. В данный момент — болезненно-искреннее.
Потому что он по-настоящему любит эту женщину. Восхищается ее зрелой трезвостью, ее умом, остроумием; классическими чертами ее лица, строгой простотой и достоинством облика. А богиня любви, несомненно, может вселиться и в женщину, подобную Эве, так же, как и в более молодую.
Сент-Гоур импульсивно целует руку Эвы. Она позволяет ему это, делая лишь робкую попытку отнять руку, словно юная девушка.
Медленно, неуверенно она говорит, что, знай он ее лучше, возможно, и не захотел бы жениться на ней.
С улыбкой, однако насторожившись, Сент-Гоур отвечает, что это невозможно: он и не надеется узнать ее достаточно хорошо.
Продолжая изучать собственные руки, сверкающие драгоценными камнями, которые кажутся неуместными на ее неизящных коротковатых пальцах, Эва говорит, что существуют разные типы знания.
Да? И что же это за типы?
Тщательно подбирая слова, словно опасаясь быть неправильно понятой, Эва объясняет, что один из них связан не с чувствами, а с общественным положением, и что, если бы он знал ее тайну, вероятно, испытывал бы к ней другие чувства… и не так уж стремился бы жениться на ней.
Другие чувства? Это невозможно!
Тем не менее Сент-Гоур начинает ощущать какой-то холодок внутри. Он нерешительно придвигается, чтобы снова взять руку Эвы, вернее, обе ее руки — такие маленькие, такие холодные! — и согреть их в своих ладонях; он мягко говорит, что не может существовать тайны, которая повлияла бы на его любовь к ней… потому что сама душа его тянется к ее душе, ему кажется, он знает ее тоньше и глубже, чем она сама.
Опустив глаза, Эва отвечает, что он добр, очень добр, тем не менее у него о ней ложное представление, если он верит тому, что говорят люди… например, что, будучи вдовой богатого человека, она и сама богата.
Сент-Гоур нежно сжимает ее руки и возражает: для него не имеет никакого значения, ни малейшего, ее финансовое положение.
Но Эва упрямо настаивает, что имеет, должно иметь, потому что он, человек земной, должно быть, возлагает какие-то надежды на этот брак, «как это делали все многочисленные поклонники», которых впоследствии грубо отвратила от нее правда.
— Но, Эва, дорогая, что же это за правда? — тихо спрашивает Сент-Гоур.
Эва делает глубокий вдох и быстро отвечает:
— Я скажу вам, Алберт, но прошу вас сохранить это в тайне. Как известно только моим поверенным и еще двум-трем лицам, у меня, Эвы Клемент-Стоддард, фактически нет денег, я всего лишь являюсь распорядительницей состояния моего покойного мужа, большая часть которого отойдет к его молодому племяннику через два года, когда тот достигнет совершеннолетия. Разумеется, кое-что и мне останется, нищенкой я никогда не стану, но я вовсе не так богата, как полагают многие. Из гордости мне приходилось играть некую роль. Должна признаться, что при всей своей цельности, я лицемерка, существо тщеславное… Этот дом, его обстановка и даже приобретенные мной произведения искусства, в сущности, не мои, я всего лишь их хранительница. И когда это станет известно, Алберт, когда все узнают, каково мое истинное положение, на снисхождение рассчитывать не придется — да я его и не заслуживаю.
Эва говорит таким тихим и пристыженным голосом, что поначалу Сент-Гоур едва понимает ее. Неужели? Вот, значит, в чем он — вдовий секрет! Стало быть, она только хранительница чужого богатства. Он делает движение, чтобы успокоить ее, но она сидит неподвижно и напряженно, чуть отвернувшись, прикрыв глаза отяжелевшими веками, на ресницах блестят слезы. Она не смеет взглянуть на возлюбленного, опасаясь, что он ее больше не любит, но если бы посмела, увидела бы, что он смотрит на нее со странно возбужденным состраданием: его лицо светится уверенностью в своей Любви. Мягко, медленно, он притягивает ее к себе, обнимает, шепчет слова, которые она и не мечтала услышать:
— Моя самая дорогая, милая Эва, ну конечно же, то, что вы рассказали, не имеет для меня никакого значения и нисколько не умаляет моей любви к вам. Как вы могли такое подумать! Любовь моя, — говорит он, прижимая ее к своей груди и обхватывая ладонями ее разгоряченное лицо, — если это не покажется бесчувственным с моей стороны, признаюсь вам: в сущности, меня радует тот факт, что у вас нет земного богатства. Потому что теперь, имея скромную ренту и кое-какие доходы от разных инвестиций, я, Алберт Сент-Гоур, буду иметь честь «оберечь» Эву Клемент-Стоддард от… если вы мне, конечно, позволите.
Чуть испуганная, Эва говорит, что не заслуживает такой доброты, поскольку обманывала его все это время; а Сент-Гоур отвечает, что едва ли это доброта с его стороны — это Любовь.
Здесь Эва внезапно разражается судорожными рыданиями.
Сент-Гоур крепко обнимает ее.
Церковные колокола начинают звонить полночь, и Сент-Гоур, полупьяный от счастья, покидает дом миссис Клемент-Стоддард; он шагает по улице и сам не может теперь взять в толк, почему он сомневался в своих силах. Венера Афродита по-прежнему улыбается ему, и улыбалась всегда, она щедро вознаградит его за то, что он боготворит ее.
Разумеется, он слишком возбужден, чтобы сразу возвратиться на Риттенхаус-сквер. Он заходит в бар сомнительного отеля «Пенсильвания юнион», где ни лица, ни имени его никто не знает и где он не рискует столкнуться с кем-нибудь из своих филадельфийских знакомых. Один, стоя у стойки, он опрокидывает стакан ржаного виски с водой в честь победы и еще один, и еще: потому что Эва Клемент-Стоддард согласилась выйти за него замуж в январе 1917 года, и все прошло так, как он представлял себе в самых буйных мечтах.
Любит ли он ее? Да, любит.
Поверил ли хоть на миг, что она действительно всего лишь «распорядительница» своего богатства? Нет, не поверил.
«Эва совершенно не умеет лгать, — думает он, — конечно же, потому, что очень редко это делает». А он-то и вовсе последний, кто мог поверить в ее неправдоподобную историю — в ее «позорную» тайну! Да уж, Милли в возрасте шести лет могла бы сыграть эту сцену убедительнее…
Вскоре, быть может, даже на следующий день, Эва сделает еще одно признание: ей посоветовали (вопреки ее собственному желанию, безусловно) притвориться бедной, чтобы испытать любовь Сент-Гоура.
И Сент-Гоур изобразит полное изумление.
Сент-Гоур даже прикинется несколько… оскорбленным, что ли.
Но в конце концов, разумеется, простит ее, потому что любит независимо ни от чего и всегда будет любить.
Потому что Афродита снова ему улыбнулась и спасла самое его жизнь.
Зачарованная жизнь
Жарким засушливым летом 1914 года на всей территории Вайоминга, Колорадо и в самых людных районах Нью-Мексико были развешаны сотни объявлений о пропаже жителя Филадельфии Роланда Шриксдейла Третьего, которого последний раз видели в середине апреля в Денвере, в отеле «Эдинбург». Любому, кто предоставит информацию, которая поможет установить местонахождение Шриксдейла, в местные органы правопорядка или передаст ее по телеграфу в Филадельфию миссис Анне Эмери Шриксдейл, матери пропавшего, была обещана награда в пятьдесят тысяч долларов. Приводилось описание внешности Шриксдейла: джентльмен с изысканными манерами, возраст — тридцать три года, рост — пять футов семь дюймов, вес — приблизительно сто восемьдесят фунтов, глаза карие, родинка возле левого глаза, густые вьющиеся светлые волосы. Контрастно напечатанная фотография изображала робко улыбающегося болезненно-полного молодого мужчину.
Газеты живо ухватились за эту историю, поскольку Шриксдейл был основным наследником одного из крупнейших на Востоке состояний; с большим пафосом сообщалось, будто мать пропавшего так решительно настроена найти его, что лично отправилась было поездом на Запад, однако в двух часах езды от Филадельфии слегла от тяжелой болезни. Прикованная к постели в Кастлвуд-Холле, она тем не менее отважно согласилась дать интервью одолевающим ее репортерам в надежде, что их статьи, написанные чаще всего с сочувствием к Роланду (она предоставила журналистам его фотографии, карандашные портреты и даже масляный портрет времен окончания им Хавервордского колледжа, написанный Уильямом Мерритом Чейзом) и перепечатанные по всей стране, помогут вернуть его домой. По ее словам, она никогда ни минуты не сомневалась, что ее мальчик жив, и знала, что его скоро найдут («Ибо я уверена, что Бог не может наказать нас так жестоко»), хотя боялась, что он болен, заблудился или лежит, раненный, где-нибудь в диких дебрях. Запад так немилосердно безграничен! Один только штат Нью-Мексико, о котором она никогда и слыхом не слыхивала, на карте кажется чудовищно огромным.
— И все же я уверена, я знаю: Роланд жив, — заявила миссис Шриксдейл.
В последнем письме от сына, датированном 15 апреля и написанном на фирменном бланке отеля «Эдинбург», Роланд взволнованно сообщал ей о предстоящем путешествии по железной дороге на юг, в Нью-Мексико, в поисках мест «для рыбалки, охоты и приключений». Его спутник — житель Запада, от которого он в восторге и которому, по его словам, не задумываясь, доверил бы свою жизнь. («Хармон — джентльмен, обладающий исключительными христианскими и в то же время мужскими достоинствами, мама, — писал Роланд, — которые так редко встретишь у наших филадельфийских знакомых! Если вам с ним когда-нибудь доведется познакомиться, не сомневаюсь, вы понравитесь друг другу, однако едва ли удастся уговорить его посетить восточные штаты».) В явной спешке Роланд приписал постскриптум, из которого следовало, что он пробудет на просторах дикой природы неопределенное время, а посему миссис Шриксдейл не следует ожидать известий от него раньше чем недель через пять, то есть минимум до середины мая.
Поскольку миссис Шриксдейл с самого начала умоляла его не совершать таких безрассудных вылазок (Роланд тем не менее таинственно намекал в письме, что предпринимает это путешествие ради своего «физического и духовного здоровья»), она страшно встревожилась по получении письма и перебаламутила всю семью задолго до середины мая, требуя, чтобы кузены Роланда — Бертрам, Лайли и Уиллард — поехали и привезли ее сына домой. (Поскольку само существование Роланда омрачало счастье этих горячих молодых людей, которые в случае его смерти получали значительную часть состояния, наивные требования миссис Шриксдейл встречались с упорным сопротивлением.) Однако к концу мая, когда от Роланда не пришло ни строчки, семья наконец официально заявила о его пропаже и, не полагаясь только на силы правопорядка, наняла команду лучших детективов, которым надлежало немедленно отправиться на Запад. Потому что Роланд, как утверждала миссис Шриксдейл, был, безусловно, жив. Бог не мог оказаться столь жестоким к ней, бедной вдове, всегда поклонявшейся Ему.
Так, с гораздо большим шумом, чем желали бы Шриксдейлы, начались поиски Роланда, «пропавшего наследника», или «пропавшего миллионера», как его называли в прессе. Повсюду на просторах Запада как служащие полиции, так и гражданские лица вступили в ожесточенное соревнование за награду в пятьдесят тысяч долларов. (По настоянию отчаявшейся матери к осени, когда Роланда наконец нашли, эта сумма была увеличена до семидесяти пяти тысяч.) В частности, в Нью-Мексико говорили, что, похоже, наступила эпоха новой «золотой лихорадки»: охотники-браконьеры рыскали повсюду в поисках Роланда Шриксдейла; людей, хотя бы отдаленно напоминающих его, хватали, зачастую насильно, и, порой связывая или надевая наручники, бросали на спины мулов! В Лас-Крусесе, к северу от Эль-Пасо, какой-то человек привел агентов ФБР к неглубокой могиле, в которой, по его мнению, покоились останки Роланда Шриксдейла Третьего, однако в могиле нашли лишь отполированные кости человека, умершего давным-давно, судя по всему, насильственной смертью. В Сентрал-Сити, Колорадо, женщина из пользующегося сомнительной репутацией спортивного клуба «Черный лебедь» заявила репортерам, что незадолго до его исчезновения она сочеталась браком с молодым наследником, в доказательство чего показала кольцо (бриллиант в десять каратов в дешевой позолоченной оправе), и что она носит его ребенка. И уж совсем нахально некий бородатый головорез не моложе сорока лет из округа Пуэбло, Колорадо, сообщил шерифу, что он и есть Роланд Шриксдейл Третий (!), и потребовал, чтобы награда была немедленно выплачена ему самому.
Своего апогея поиски достигли к середине лета, и тогда же, вследствие небывалой жары и засухи, бум стал утихать; озадачивающие новости, доходившие из-за границы, наконец стали вытеснять с газетных страниц события местного значения. Никто толком не понимал, что происходит в Европе: почему 1 августа Германия официально объявила войну России? А 3-го — Франции? За считанные дни немцы оккупировали Бельгию, Англия вступила в войну с Германией, даже Япония, находящаяся на другом конце света, объявила себя в состоянии войны с Германией, а президент Вильсон поспешно заявил о нейтралитете Соединенных Штатов. Как могло случиться, что вся Европа начала воевать из-за какого-то пустячного убийства какого-то никому не известного австрийского герцога или эрцгерцога, чьего имени никто не мог вспомнить?.. Что могли из всего этого понять американцы? Поэтому, когда утром 8 сентября на окраине Форт-Самнера, что в штате Нью-Мексико, объявился странный незнакомец, пребывавший в сумеречном состоянии ума, утративший ориентацию, с корками запекшейся крови на лице, в изорванной и вонючей одежде, никто сначала не понял, что это может быть пропавший Роланд. Речь его была бессвязной, он даже имени своего произнести не мог, не то что рассказать, что с ним приключилось; при нем не было никаких документов и никаких личных вещей, кроме сломанных карманных часов.
Однако несколько часов спустя заместитель начальника местного полицейского участка провел тщательную идентификацию с фотографией Шриксдейла, и весь Форт-Самнер пришел в возбуждение.
Потому что, несомненно, это был пропавший миллионер: человек приблизительно лет тридцати трех, среднего роста, коренастый — хотя в настоящий момент кожа на лице у него обвисла, словно он в течение короткого срока сильно похудел; волосы — действительно каштановые и, можно сказать, вьющиеся; глаза карие или что-то вроде того (потому что при определенном освещении карий и серебристо-серый цвета становятся очень похожими). Если он и выглядел не точно так, как улыбающийся мужчина на фотографии, поскольку пострадал от тягот, перенесенных в пустыне, то можно было заметить, что одежда его, хоть изодранная и грязная, имела необычный покрой, и представлялось очевидным, даже в том лихорадочном состоянии, в каком находился этот человек, способный связно произнести одно только слово — Мама! — что это благородного происхождения житель Востока.
Конечно же, это был он и никто другой!
И премия должна была быть разделена между полудюжиной жителей Форт-Самнера, которые его обнаружили!
Некоторые очевидцы с сочувствием отмечали, что красивое лицо миллионера обезображивал уродливый порез, тянувшийся от левого виска к самому подбородку, след какой-то чудовищной раны, уничтожившей родинку у левого глаза; порез был забит грязью и песком и, судя по всему, под запекшейся кровью — сильно инфицирован. Пока доктор обрабатывал рану, мужчина стонал от боли и ужаса и бормотал что-то насчет оползня, под который они со спутником попали, — в потоке камней, грязи и песка их вместе с лошадьми бросило на острый край расщелины, прорезавшей каньон. Его друг (чье имя звучало как не то Герман, не то Хармон) погиб на месте, обе лошади покалечились, и только он остался жив, вернее, еле жив, хотя в течение долгого времени не мог двигаться.
Сколько дней назад произошел этот трагический инцидент, он сказать не мог, не знал он и где это случилось. Название Нью-Мексико, похоже, ничего ему не говорило.
Равно как имя Роланд и фамилия Шриксдейл.
(Хотя доктор, осматривавший его, утверждал, что, когда он произнес прямо в ухо пациенту: «Роланд Шриксдейл», тот обнаружил невольное волнение, выразившееся в явном учащении пульса.)
На следующий день, когда с ним пытались побеседовать представители местных властей, к тому времени уже совершенно уверенные, что он и есть пропавший миллионер, он не смог сосредоточиться и ответить на их вопросы. Уже через несколько минут он начал судорожно, хрипло всхлипывать и так извиваться и корчиться на кровати, что казалось, с ним вот-вот случится припадок. В беспамятстве он кричал: «Мама!», реже — «Хармон!» и «Боже, будь милосерден!»
Безусловно, он стал жертвой амнезии вследствие сильного удара головой, или солнечного удара, или трагического сочетания того и другого, так что было сочтено бессмысленным спрашивать его о чем бы то ни было в настоящее время.
Его оставили в покое. Он лежал, то впадая в забытье, то приходя в сознание, при этом казалось, к его великому смущению, что он совершенно не понимает, где находится и что теперь он в безопасности.
(Чудо, считали в Форт-Самнере, что человек смог выжить в течение нескольких дней, один, в полубессознательном состоянии, посреди обжигающей пустыни, не говоря уж о том, что ему удалось самому выбраться из селевого потока.
Но чудеса, безусловно, случаются время от времени.
И вознаграждают тех, кто того заслуживает.)
Первый пинкертоновский детектив, прибывший в Форт-Самнер, произвел беглый осмотр больного, отметил ряд признаков его сходства с Роландом Шриксдейлом Третьим и объявил, что он и есть Шриксдейл — со скидкой на бедственное состояние обнаруженного мужчины.
Второй детектив, явившийся на следующее утро, был не так категоричен: по его мнению, глаза у потерявшего память человека были не совсем карими… и, даже учитывая его нынешнее состояние, лоб у него был широким и квадратным, а челюсть сильная, в то время как у Роланда Шриксдейла лицо пухлое и невинно круглое. Однако после нескольких часов размышлений и этот детектив пришел к заключению, что это должен быть Шриксдейл: уж больно мала вероятность того, что в одном ограниченном районе могли оказаться два пропавших человека, так похожих друг на друга.
Официальное опознание Роланда Шриксдейла Третьего провел на следующей неделе самый доверенный адвокат Анны Эмери Монтгомери Бейгот, посланный в Форт-Самнер, чтобы привезти бедного Роланда домой.
Бейгот сразу решил, что это, несомненно, Роланд.
В конце концов, он хорошо знал сына своей клиентки с самого его раннего детства и был уверен, что может опознать его везде и в любом состоянии.
Ему показалось, что и больной узнал его, хотя, ослабленный лихорадкой, тот только и мог, что, слабо улыбнувшись, протянуть Бейготу для рукопожатия вялую высохшую руку.
— Мой дорогой Роланд, — сказал глубоко потрясенный Бейгот, — ваша мать будет счастлива, когда получит от меня телеграмму с доброй вестью!
— Хотя я не до конца уверен, что я — Роланд Шриксдейл, — сказал Бейготу несчастный, тревожно заглядывая ему в глаза и улыбаясь той бледной заискивающей улыбкой, которую Бейгот так хорошо помнил и которая, с его точки зрения, была невольным, но наиболее типичным проявлением натуры Роланда. — Потому что, видите ли, мистер Бейгот, я ничего не помню. Помню лишь рев оползня и мгновенно наступивший под слоем камней, грязи и песка кошмарный мрак… помню, как бешено дергались лошади… ощущение стремительного падения… потом чудовищный ужас и беспомощность, словно Бог в гневе Своем простер длань, чтобы уничтожить моего спутника и меня за какой-то неведомый мне грех. Вот этот ужас я помню отчетливо, мистер Бейгот. Но он вышиб из моей памяти все остальное.
Эту тираду человек, которого Бейгот безоговорочно считал Роландом Шриксдейлом, повторял снова и снова на протяжении всего их путешествия в поезде на восток — иногда умиротворенным шепотом, лежа на своей инвалидной кровати, иногда — высоким пронзительным дискантом, который, безусловно, был, по мнению Бейгота, голосом Шриксдейла. Когда врач объявил Роланда достаточно окрепшим, чтобы позволить ему встать с постели, они с Бейготом по-дружески уселись вдвоем у окна в напоминавшем роскошные апартаменты первоклассного отеля пульмановском вагоне, снабженном всеми современными удобствами, красиво обставленном и обслуживаемом пятью высококвалифицированными пульмановскими неграми. Бейгот с адвокатской деликатностью, однако придирчиво изучил внешность своего молодого подопечного, отметив, что при прямом солнечном освещении глаза у Роланда становились не карими, а скорее серо-стальными, или слюдяными; волосы казались жестче и темнее, чем прежде; родинка у левого глаза исчезла вследствие ранения. Тем не менее это был Роланд — никаких сомнений. Кто же еще мог это быть?
А что касается собственных сомнений Роланда, то, насколько помнил Бейгот, робкий наследник всегда, с самого детства, был неуверен в себе. Отца он смертельно боялся, мать ему всегда потакала и относилась как к малому дитяти, поэтому он не мог поставить на своем, даже когда речь шла о детских играх и соревнованиях, например, по крокету или бадминтону. Перспектива Первого бала не раз лишала его способности ходить, не то что танцевать. Из-за обладавшего диктаторским характером отца Роланд так и не стал «в достаточной степени мужчиной», чтобы жениться, не говоря уж о том, чтобы произвести на свет наследника, который смог бы продолжить славный род Шриксдейлов. Незадолго до своей смерти, последовавшей в 1901 году, Элиас Шриксдейл подумывал даже о том, чтобы разделить наследство и значительную его часть передать сыновьям своего брата Стаффорда, трем здоровым молодцам, которые, несомненно, женятся в положенный срок и, безусловно, народят сколько угодно мальчишек Шриксдейлов. Однако между Элиасом и Стаффордом возник конфликт по совершенно другому, ничтожному поводу, и вопрос о наследстве внезапно оказался закрыт. По смерти Элиаса огромное состояние осталось неразделенным и легло тяжелым, как подозревал Бейгот, бременем на неприспособленные плечи Анны Эмери и Роланда.
Даже когда поезд уже шел по центру Филадельфии и пульмановская обслуга готовилась выносить их багаж, Роланд снова сказал Бейготу тем же трусливо-малодушным тоном, что не знает, тот ли он человек, каким является, по мнению Бейгота. И Бейгот, уставший от долгого пребывания с ним с глазу на глаз, резко ответил:
— Тогда кто же вы, по-вашему?..
На что взволнованный молодой человек ничего не ответил.
Легендарное воссоединение в Кастлвуд-холле Анны Эмери Шриксдейл со своим сыном Роландом после ста восьмидесяти пяти дней его отсутствия сопровождалось, как писали газеты по всей стране, исступленным восторгом, ибо миссис Шриксдейл, хоть и была нездорова, хоть и страдала чрезвычайно слабым зрением, не имела ни малейших сомнений в том, что привезенный ей болезненный молодой человек был ее Роландом, «о котором я так молила Бога».
Как истово она молилась о его благополучном возвращении! Она то раболепствовала, то торговалась с Богом! Еще до того, как стало ясно, что с Роландом на Западе случилось что-то ужасное, Анна Эмери предусмотрительно пожертвовала 140 000 долларов городскому приюту для незамужних матерей; к концу лета она передала приблизительно такие же суммы больнице для детей-подкидышей, Филадельфийской академии изящных искусств, Международному Красному Кресту и, что немаловажно, епископальной церкви. Думая о Роланде — бледном, рыхлом, дрожащем, парализованном страхом, — о сыне, которому сам Господь, казалось, объявил войну, она считала, что сможет договориться с Богом к их обоюдному удовлетворению.
Поэтому, когда Монтгомери Бейгот наконец прислал телеграмму, где сообщалось, что человек, который мог оказаться Роландом, и есть Роланд и что, несмотря на вызванные обстоятельствами изменения во внешности, он очень похож на самого себя, Анна Эмери так преисполнилась радостью, что, к удивлению сиделки, выкарабкалась из постели, к которой была прикована, и, опустившись на колени, вознесла благодарственную молитву милосердному Богу.
— Я никогда не сомневалась в Тебе, — заявила она.
Анна Эмери Шриксдейл, урожденная Сьюэлл (внучка и дочь губернаторов штата Пенсильвания), была маленькой женщиной — всего пяти футов роста — с пухлой, но хорошо сбитой фигуркой, не то чтобы толстая (разве что в области живота и бедер), но плотная и кругленькая, как зрелый плод, готовый вот-вот лопнуть. В своем шестидесятидевятилетнем возрасте она сохранила ребячливость манер и была по-прежнему озабочена своей внешностью — особенно состоянием волос, которые были у нее такими тонкими и жидкими, что приходилось носить искусно уложенный жемчужно-серый парик; она страдала от стольких болезней — как женских, так и общих, — что ее личный врач не знал, чем ее лечить. После загадочной смерти Элиаса (вдове сообщили, что он скончался от сердечного приступа, в то время как на самом деле он умер от сифилиса спинного мозга) ее нервная система оказалась настолько подорванной, что восстанавливать ее пришлось долго и мучительно, обучая больную, как ребенка, элементарно говорить и двигаться; нередко у нее сильно поднималось давление, в результате чего случались тяжелые приступы головной боли и обмороки; а еще порой возникала непроизвольная и неконтролируемая дрожь в руках.
— Ах, вы напугали меня! — бывало, восклицала Анна Эмери, задыхаясь, смеясь и прижимая руки к груди, когда ее компаньонка всего лишь отпускала какую-нибудь невинную реплику, делала едва заметный жест или вдох, чтобы что-то сказать.
Кое-кто в Филадельфии считал, что здоровье Анна Эмери начала терять после тяжелых родов (Роланд был единственным выжившим ребенком Шриксдейлов, появившимся на свет, когда Анне Эмери было уже тридцать восемь лет); другие, ближе знакомые с семейством Сьюэллов, утверждали, что она всегда была нервной и легковозбудимой девочкой. Она часто срывалась на слезы, так же часто на нее нападали приступы истерического смеха, она боялась шумных компаний, но приставала к мужчинам и женщинам, без умолку болтая с какой-то серьезной веселостью. В пятнадцатилетнем возрасте она пережила какой-то религиозный шок, суть которого так и не смогла толком объяснить родным, но умоляла их позволить ей перейти в католическую веру и присоединиться к некоему отшельническому монашескому ордену, однако родители, будучи убежденными протестантами, разумеется, запретили дочери и думать об этом. В возрасте двадцати четырех лет Анна Эмери была помолвлена с милейшим молодым холостяком — охотником за наследствами, который вскоре бросил ее ради другой, более молодой и красивой наследницы, и, пройдя через долгий период позора и унижения, в течение которого не смела показаться в обществе, согласилась наконец выйти замуж за пятидесятидвухлетнего Элиаса Шриксдейла — богатого вдовца, известного своими махинациями в сфере железнодорожного строительства, торговли зерном и асбестом, однако во всем остальном пользовавшегося в филадельфийском светском обществе явными симпатиями. У Анны Эмери было несколько выкидышей, потом она родила девочку, умершую через восемь месяцев, и, наконец, после нескольких лет бесплодия произвела на свет Роланда, которого с первых минут его жизни обожала как искупительный дар жизни.
— Теперь я понимаю, почему Бог заставил меня страдать! — воскликнула она, прижимая к груди голодное дитя. — Теперь я понимаю все.
После этого, хотя здоровье Анны Эмери так никогда и не стало надежным, она никогда не жаловалась, ибо теперь у нее был сын, который любил ее почти так же, как она — его.
Спустя несколько месяцев после рождения Роланда Элиас Шриксдейл зачастил в деловые поездки. В Кастлвуде он появлялся редко, хотя, по свидетельству очевидцев, его нередко можно было заметить в том или ином филадельфийском клубе, на бегах или на Манхэттене, часто в обществе привлекательных молодых певичек или актрис, которых он не считал нужным представлять знакомым. Анне Эмери и Сьюэллам он объяснил, что просто слишком занят делами финансовыми и политическими, чтобы заниматься еще и домашними. Если Анна Эмери с маленьким Роландом проводила лето в Ньюпорте, Элиас мог заехать к ним на недельку-другую, а если они уезжали на полгода за границу, мог вовсе отказаться их сопровождать. Свою мужскую жизнь, говорил Элиас, мужчина не делит с женщиной, тем более если это женщина из филадельфийского общества.
— В конце концов, мы обязаны следовать туда, куда настоятельно торопит нас жизнь, — заявил он.
Окружающие удивлялись преданности Анны Эмери мужу независимо от его измен, грубого обращения с ней на людях и его сомнительных деловых операций. Наверное, она, как большинство женщин ее круга и времени, верила, будто делание денег — любимое мужское времяпрепровождение, не имеющее отношения ни к этике, ни даже к закону. Она отказывалась выслушивать какую бы то ни было критику в адрес Элиаса, в том числе и от собственной семьи, отказывалась читать газеты, включая «Филадельфия инкуайрер», которые упрекали его в неджентльменском поведении. (Самые серьезные обвинения были выдвинуты против Шриксдейлов во время забастовки 1909 года, которую объявил только что организованный Объединенный профсоюз горных рабочих в восточной Пенсильвании. Тогда Элиас и его брат Стаффорд наняли небольшую армию головорезов, чтобы сорвать забастовку. Много рабочих было убито, еще больше ранено, несколько домов сгорело дотла вследствие загадочных пожаров. После срыва забастовки, однако, Шриксдейлы в течение многих лет переживали период небывалого процветания, когда акции их компаний резко поднялись в цене.) После вынужденных переговоров президента Тедди Рузвельта с хозяевами пенсильванских антрацитных шахт, которые отказывались обсуждать с профсоюзом условия контрактов и вообще выслушивать его требования, Элиас и Стаффорд злобно шутили по поводу того, как «укоротить» Рузвельта, тем более что под рукой был прекрасный недавний пример Маккинли, клеврета Марка Хэнны, получившего пулю в свой толстый живот в тот самый момент, когда он самодовольно протягивал руку убийце, а также пример Старины Эйба, или Старой Обезьяны, схлопотавшего пулю в затылок в театре Форда, — «лучше поздно, чем никогда». Поскольку братья Шриксдейл содержали внушительный штат вооруженной охраны, подобные шутки могли показаться не такими уж смешными. Они обсуждали вероятность «идеального убийства, которое можно списать на большевистских террористов», и в присутствии посторонних, даже во время официальных застолий в Кастлвуде, но, как ни странно, Анна Эмери не обращала на эти разговоры никакого внимания, храня достоинство филадельфийской гранд-дамы, для которой мужские дела непостижимы и не подлежат сомнению, а тем более — возражениям.
После смерти Элиаса, однако, Анна Эмери редко вспоминала его: якобы, умирая в почтенном возрасте восьмидесяти четырех лет, он жестоко отверг ее и был повинен в ее финансовых трудностях, как она это называла, хотя Монтгомери Бейгот и многие другие утверждали, что Анна Эмери Шриксдейл была одной из самых богатых женщин Северо-Востока. Тем не менее она нервно жаловалась родственникам и друзьям, что они с Роландом полностью находятся «во власти судьбы — если только Бог не вмешается».
И это несмотря на то что ко времени исчезновения Роланда на Западе и его последующего возвращения в качестве больного, страдающего амнезией, Анна Эмери получала доходы от имущества Шриксдейлов и инвестиций на сумму, составлявшую более семи тысяч долларов в час.
Несмотря на всю свою эксцентричность, приобретенную на седьмом десятке лет, Анна Эмери не отличалась от большинства филадельфийских вдовствующих особ своего круга, маниакально озабоченных деньгами, независимо от размеров своего состояния. Они могли спокойно отстегивать колоссальные суммы на благотворительность или в порыве чувств заплатить тысяч четыреста долларов за картину, расхваленную Джозефом Дювином, но после этого до минимума сокращали средства на содержание домашней челяди или в течение целого сезона не позволяли себе пополнить гардероб ни одной обновкой. Анна Эмери — по-своему, сурово — гордилась несокрушимо-вдовьим образом жизни: она не позволяла отапливать в Кастлвуд-Холле слишком много комнат (в том числе, разумеется, и помещения для слуг); гости на ее редких званых ужинах с отвращением довольствовались рыбой с овощными гарнирами, маслом и скатертями далеко не первой свежести. Юный Роланд, сын своей матери до кончиков ногтей, вел себя таким же образом — одевался немодно, заказывал самые дешевые места в театрах, выказывал глубокое презрение к принятым в его кругу развлечениям и видам спорта, таким как поло, парусный спорт и лошадиные бега, но у Роланда такая бережливость имела философскую подоплеку. «Если бы транжирство могло прибавить человеку хоть на локоть росту, нас бы окружали колоссы, а не пигмеи, как оно есть на самом деле», — говаривал он.
Позволь ей это Роланд, Анна Эмери с радостью истратила бы на него большую часть своих денег. Но его интересовали только книги, театры и концертные залы, а также временные «побеги», как он их называл, в «уединенные и неожиданные» уголки мира, где никто не знал ни имени его, ни лица. Например, то самое опрометчивое путешествие в Колорадо, предпринятое весной 1914 года, по его словам, ради физического и духовного спасения.
— Если ты покинешь меня сейчас, Роланд, боюсь, мы с тобой больше никогда не увидимся на этой земле, — сказала тогда Анна Эмери, но Роланд, стараясь не поддаться жалости при виде ее слез, ответил:
— Если я не уеду сейчас, мама, я не смогу больше терпеть себя на этой земле.
Анна Эмери не жалела никаких денег, чтобы найти своего пропавшего сына: она платила немыслимые суммы за оформление, печатание и распространение плакатов, которые вскоре стали знакомы каждому жителю Запада; позволяла нанятым детективам неограниченно тратить деньги на поиски. (Один из них рискнул представить счет только за текущие расходы и только за один месяц, июль, на одиннадцать тысяч долларов, и Анна Эмери оплатила его немедленно.) Бейгот, которого Анна Эмери считала старым другом и одним из лучших адвокатов Филадельфии, получил восемь тысяч только за то, чтобы поехать в Форт-Самнер, произвести решающую идентификацию и привезти бедного Роланда домой.
И конечно же, это оказался Роланд — Анна Эмери поняла это с первого же взгляда, когда Бейгот ввел его в комнату, хотя сердце у нее выскакивало из груди, а глаза заволокли слезы.
Ее Роланд! После стольких дней отсутствия! Ее мальчик! Половину лица сына скрывала нелепая повязка, волосы казались темнее и жестче, чем прежде, губы — не такими влажными, розовыми и мягкими, сама фигура его стала более кряжистой и вследствие пережитых невзгод приобрела некий устрашающе-обезьяний вид. Анну Эмери предупредили, что Роланд страдает временной амнезией, не помнит ни своего имени, ни чего бы то ни было, связанного с предыдущей жизнью, однако в первый же миг ее поразило то, как он посмотрел на нее: это был хорошо знакомый ей косящий, но лучезарный сыновний взгляд из-под полуопущенных век, в котором смешивались страх, восторг и восхищение.
— Мама?..
И уже в следующее мгновение он стоял на коленях подле ее кровати, рыдая в материнских объятиях.
— Мой дорогой Роланд, дитя мое, Бог вернул мне тебя, — плакала Анна Эмери. Так оно и было.
Проницательный старый Стаффорд Шриксдейл с первых секунд встречи понял, что этот «беспамятный племянничек», о котором только и говорили в Филадельфии в эти дни и о чьем возвращении торжественно вещали общенациональные газеты, — самозванец. Но он был так потрясен, так выбит из колеи дерзостью игры, которую затеял незнакомец, что только и смог что пробормотать слабым, прерывающимся голосом какое-то приветствие и, к своему последующему сожалению, пожать ублюдку руку.
Которая оказалась холодной, влажной и липкой, хотя рукопожатие было крепким, как никогда в прошлом, насколько мог припомнить дядюшка Роланда.
И этот косой, на миг вспыхнувший взгляд самозванца не имел ничего общего с водянистым взглядом Роланда.
Тем не менее: существовала бедная Анна Эмери, сияющая и дрожащая от радости, повисшая на руке своего мальчика и хватающая Стаффорда за рукав, словно желая соединить их в объятии, к которому ни один из них не стремился. Все было именно так, как говорили кругом: Анна Эмери ничуть не сомневалась, что этот человек — ее чуть было не потерянный навсегда сын Роланд, а кто решится спорить с ней, во всяком случае, сейчас?
Анна Эмери подтолкнула чужака:
— Роланд, дорогой, ну попытайся вспомнить своего дядю Стаффорда, ну, пожалуйста! Это брат твоего покойного отца. Ну, постарайся.
Здоровенный мерзавец изо всех сил принялся изображать старание, морща лоб, щурясь и беззвучно шевеля губами, как… как настоящий Роланд. А когда он наконец заговорил — это был голос Роланда.
— Д-да, мама. Я постараюсь. Может, с Божьей помощью…
В результате проницательный старый Стаффорд Шриксдейл уходил после первой встречи со своим «беспамятным племянником», одновременно и продолжая верить, что этот человек — самозванец, и поколебленный в своей убежденности. А что, если?.. Может, испытания, через которые он прошел на Юго-Западе, и большие физические нагрузки и впрямь так изменили Роланда Шриксдейла?
Сыновья Стаффорда, приходившиеся Роланду кузенами и никогда не жаловавшие рыхлое болезненное заласканное существо, как всегда, резко разошлись во мнениях, при этом каждый видел то, что казалось очевидным ему, и был готов ополчиться на всякого, кто с ним не соглашался.
Бертрам сказал:
— Он не Роланд. Это ясно и дураку.
Лайли сказал:
— Но он должен быть Роландом — разве можно обмануть стольких людей, а тем более Анну Эмери?
Уиллард сказал с иронической, типично адвокатской интонацией:
— Манера речи этого человека, неуловимо нервная интонация, косые взгляды и усмешки, то, как он по-женски вертит плечами и ягодицами, как ходит, — все это указывает на то, что он Роланд, черт бы его побрал. Однако в то же время, если присмотреться повнимательнее, как это сделал я, изучив его сзади, с боков, издали и вблизи, то кажется, что это наш кузен в оболочке другого человека, незнакомца, который на несколько лет старше Роланда, каким мы его помним.
— Уиллард, ты что, с ума сошел? Что ты такое несешь? — перебил его Бертрам. — «Наш кузен в оболочке…» В какой такой «оболочке»?
— …он не такой рыхлый, как Роланд, гораздо более мускулистый, — раздраженно продолжал Уиллард. — У него немного другие рот и подбородок. И потом, эти глаза… Но в то же время — выражение лица, эта унылая собачья безнадежность…
— А я бы сказал, что он выглядит моложе Роланда, моложе, чем должен был бы быть Роланд.
— Моложе? Да нет же, конечно, старше.
— Я хочу сказать… для человека, столько пережившего… Сколько дней он блуждал в пустыне? И эти раны…
— Глаза у него темнее, чем у Роланда.
— Наоборот, светлее. Они какие-то более… стальные.
— Мне кажется, он узнал меня. Могу поклясться, что он — наш кузен.
— Тетка Анна Эмери — глупая старуха, к тому же полуслепая. Ты же знаешь, над ней все потешаются.
— …жалеют ее, я бы сказал.
— Если бы я уехал, пропал, был изранен, почти умер, а потом вернулся в Филадельфию, ты бы, наверное, и меня не захотел признавать, — горячо воскликнул Лайли, — чтобы лишить меня моего положения! Скажешь, не так? Ну, скажи!
— Ты, Лайли? Какое все это к тебе имеет отношение?
— Это имеет отношение ко всем нам. Если можно вышвырнуть Роланда, то почему бы и не любого другого из нас?
— Но это глупость. Ты — не Роланд. И ты — не самозванец.
— Готов поклясться, что и голова у этого человека крупнее, чем у Роланда. И лоб более квадратный.
— Тем не менее он носит шляпы Роланда. Ты ведь видел.
— И шея у него толще, это очевидно. Как у бычка.
— Но это может быть Роланд, только окрепший и возмужавший там, на Западе.
— То есть больше не девственник?
— Роланд? Нет, это невозможно.
— А вот для такого человека — вполне возможно.
— И тем не менее, да простит меня Бог, сейчас он мне нравится гораздо больше, чем когда мы были мальчишками.
— Кто: этот Роланд или?..
— И уши у него не торчат, как раньше. А кончики ушей — острее.
— И волосы в ушах. Как у меня.
— И брови более кустистые…
— Я бы сказал, что этот человек более… реален. Его существование — более реальный физический факт.
— Да уж, бедолага Роланд никогда не казался реальным.
Некоторое время они молча курили сигары, размышляя.
Наконец Лайли нетерпеливо сказал:
— Нет, все же он должен быть Роландом. Ведь никто не сказал, что это не он.
— Кроме отца. И нас.
— Я не говорил, что это не Роланд, во всяком случае, если и говорил, то без уверенности, — возразил Уиллард.
— Ну а я говорил, — сказал Бертрам. — И точно знаю, что этот человек — не Роланд.
— Послушайте, но это же невероятно, чтобы какой-то чужак мог обмануть всех нас, начиная с Бейгота. Уж Бейгот-то не дурак. К тому же этого «Роланда» видело множество наших родственников, признаюсь, некоторые из них — идиоты, вроде Анны Эмери, но они почувствовали бы, если бы это был не Роланд; всем Сьюэллам он так понравился. И слуги в Кастлвуде его, похоже, признали — впрочем, им-то все равно. Но Бейгот! Как быть с Бейготом?
— Этот парень — себе на уме, — злобно сказал Бертрам.
— Бейгот? Да что ты!
— Да, именно. Ему нельзя доверять, он никогда не был на нашей стороне.
— Папа имел продолжительную беседу с Бейготом…
— И Бейгот, как сказал папа, был с ним груб.
— С папой?!
— С папой.
— Ну, он пожалеет об этом.
— Они все об этом пожалеют.
— А пока…
— А как насчет почерка этого человека? Ведь образец…
— Как раз отчасти по этому поводу папа и встречался с Бейготом.
— Ну и?..
— Почерк этого «Роланда» очень похож на почерк бывшего, разве что несколько более неуверенный, дрожащий. Но, в конце концов, он ведь нездоров, говорят, он чуть не умер в Нью-Мексико.
— Он-то, может быть, и умер, а вот этот фрукт жив.
— И он об этом еще пожалеет. Если, разумеется, он не тот человек.
— …самозванец, наглый преступник, который надеется обмануть Шриксдейлов. Уж кто-кто, а…
— Этого нельзя допустить.
— Непостижимо!
— И мы этого не потерпим.
— И все же, — тяжело дыша, сказал Уиллард, — допустим, что он и впрямь Роланд, а мы ошибаемся. Ведь трудно представить себе — и никакой суд присяжных в это не поверит, — что собственная мать…
— Анна Эмери ему не мать, — перебил Бертрам.
— Она мать Роланда — вот кто она есть на самом деле.
— Нет, ты неточно выражаешься, она — женщина преклонных лет, подверженная самым разным болезненным фантазиям и пребывающая на грани — если уже не за гранью — старческого слабоумия, что докажет любой квалифицированный юрист.
— Но трудно будет даже возбудить столь сомнительное дело, при том, что сама мать этого человека будет свидетельствовать в его пользу.
— Нас высмеют в суде, и мы от этого позора никогда не отмоемся.
— Анна Эмери Шриксдейл не является матерью этого человека. Она — мать Роланда, а этот человек, повторяю, никакой не Роланд Шриксдейл. Он нам не кузен.
— Тогда кто же он? И как это возможно, чтобы он был так похож на Роланда?
Ответил — сердито — Бертрам:
— Это только тебе, как идиоту, кажется, что он похож на Роланда. Мы с отцом ясно видим, что он на него вовсе не похож.
— Надеюсь, Берти, ты не собираешься ставить в неловкое положение всю семью, пытаясь доказать, что тетка Анна Эмери не знает собственного сына, — ехидно заметил Лайли. — Умнее всего — перестать думать об этом и продолжать жить так, словно ничего не произошло.
Уиллард ответил с обычным адвокатским апломбом и высокомерием:
— С одной стороны, я советую быть предельно осторожными. С другой — если этот человек самозванец, то совершенно очевидно, чего он добивается. Не забывайте, какое состояние на кону: по папиным подсчетам, более двухсот миллионов долларов. Наших денег! Мы не можем без борьбы допустить, чтобы какой-то преступник унаследовал Кастлвуд-Холл и нашу фамилию. Хотя…
— Хотя?
— …перспектива долгой тяжбы и открытого разбирательства в гражданском суде меня пугает. Как юрист я знаю, чего от него можно ожидать. У защиты будет очень основательная, чтобы не сказать неуязвимая, позиция, поскольку эта несчастная Анна Эмери станет свидетельствовать, что «Роланд» — ее обожаемый сын, то же скажут Сьюэллы, Бейгот и агенты Пинкертона, а такие свидетельства весьма убедительны для суда. Боюсь, у нас нет шансов. Если только «Роланд» как-нибудь невольно не выдаст себя.
— Ну конечно же, он себя выдаст, — подхватил Бертрам. — Я в этом не сомневаюсь.
— Но как он может это сделать без нашей помощи? — задумчиво произнес Уиллард. — Этот человек дьявольски умен, признаюсь, он меня пугает.
— А, значит, ты на моей стороне! — подхватил Бертрам.
— Не обязательно на твоей, — холодно заметил Уиллард.
— Но ты все же признаешь вероятность.
— «Вероятность» всегда существует в юриспруденции. Но существует и другая вероятность: этот человек действительно наш кузен и со временем к нему вернется память, в судебных анналах числятся самые невероятные случаи, поверь мне. И мы, Шриксдейлы, допустим непростительную ошибку, если предпримем подобные действия против своего кровного родственника…
— Этот подонок мне никакой не кровный родственник, — сердито возразил Бертрам. — И на кону по меньшей мере двести миллионов долларов. А наша тетка, несомненно, скоро умрет…
— Нет-нет, Сьюэллы вечны. Как племя Струлдбруггов, о которых писал Джонатан Свифт, — они не умирают никогда, а, впадая в полное слабоумие, все живут и живут. Она переживет нас всех.
Теряя терпение, Лайли сказал:
— Этот человек и есть Роланд. Могу поклясться. Я вижу в нем то самое существо, которое мы так ненавидели и жалели. Вам просто хочется, чтобы этот слабый, недееспособный переросток оказался кем-то другим; вам просто слишком хочется верить, братья, что наш кузен мертв.
Они снова замолчали, посасывая сигары и уставившись в пол.
Через несколько минут Бертрам с лукавой улыбкой, глядя в сторону, сказал:
— Если он умер однажды, знаете ли… может умереть и вторично.
При этом Уиллард, самый старший и наиболее ответственный из троих, набросился на Бертрама и нанес ему тяжелый удар в плечо, как в детстве.
— Дурак! Черт бы тебя побрал, Берти! Никогда не произноси таких слов, если кто бы то ни было, даже слуга, может тебя услышать.
Роланд Шриксдейл Третий постепенно, трудно, с откатами, но все же приходил в себя. И все признавали, что он действительно поправляется.
К началу зимы он окреп настолько, что чаще всего был в состоянии самостоятельно одеться и спуститься к столу; гулять в окрестностях Кастлвуда без посторонней помощи; присутствовать с матерью на церковных службах; нервно улыбаясь и большей частью не произнося ни слова, сидеть за столом во время не слишком обременительных для него застолий в тесном кругу. Ел он с большим аппетитом, что приводило в восторг Анну Эмери, спал очень крепко — «как дитя», мог провести в постели часов двенадцать кряду, пока Анна Эмери сама весело не будила его. Поскольку Роланд Шриксдейл Третий являлся одним из самых знатных и богатых холостяков Филадельфии, приглашения сыпались на них как из рога изобилия. Анна Эмери с Роландом время от времени принимали некоторые из них, но в общем предпочитали театры и концертные залы, где, как говорил Роланд, дух его трепетал и воспарял, как в былые времена.
О, какой восторг, какой бальзам на душу часами слушать Моцарта, Вагнера, Бетховена! С головой окунаться в причудливую стихию «Риголетто», как он любил делать прежде! Сидя рядом с матерью в собственной ложе Шриксдейлов, ее бледный, коренастый, изуродованный наследник наклонялся вперед и, дрожа от возбуждения, впитывал каждую ноту, не обращая никакого внимания на прикованные к нему со всех сторон взгляды и растворяясь в музыке настолько, что казалось, будто он никогда не покидал безопасных пределов Филадельфии и не переживал таинственных приключений. (А они по-прежнему оставались таинственными, поскольку Роланд так и не смог вспомнить ничего, кроме отдельных, не связанных друг с другом эпизодов. Не было найдено и следов его спутника, который скорее всего погиб где-то на диких просторах Нью-Мексико.)
— Роланд остался маменькиным сынком Анны Эмери, каким был всегда, — отмечали наблюдатели, — хотя и сильно изменился.
Постепенно шрам на щеке Роланда приобрел менее устрашающий вид; если раньше он сильно болел, то теперь Роланд, по собственному признанию, его почти не чувствовал. К тому же теперь возле левого глаза у него не было чего-то, что, как он смутно припоминал, уродовало его: то ли родинки, то ли бородавки.
Анна Эмери отводила от шрама его руку и крепко сжимала ее, как маленькому ребенку, — отчасти укоризненно, отчасти утешительно. Она напомнила ему, что это была родинка, но вовсе не уродливая, потому что в нем вообще не могло быть ничего уродливого — ни теперь, ни в прошлом.
Ну а как же бородавки, которые покрывали его руки! — вспомнил Роланд, содрогнувшись от отвращения. Они-то уж наверняка были уродливыми?
При этом Анну Эмери передернуло, потому что ее собственные руки были сплошь усеяны бородавками — этим проклятием семьи Сьюэллов, раздражающим, но безобидным.
— Дорогой, они были у тебя всю жизнь, но тебя это никогда не огорчало, — обиженно сказала она. — Помню, ты говорил о них лишь как о досадной неприятности, какие бывают у всех.
Роланд устыдился своей грубости и попытался исправить положение. Он обнял дрожавшую мать, поцеловал в щеку и серьезно произнес:
— Да, ты права, мама, мне кажется, я действительно припоминаю: досадная неприятность, какие бывают у всех.
Теперь, нередко в присутствии посторонних, у Роланда Шриксдейла случались приступы озарения — под воздействием случайного слова, жеста или того и другого вместе он вдруг вспоминал целые эпизоды своей прежней жизни. О, какое это было счастье — наблюдать, как сквозь мучительный транс у бедолаги пробиваются благословенные проблески памяти!..
Например, в январе 1915 года во время небольшого званого ужина у приятельницы Анны Эмери, на котором присутствовал и Стаффорд Шриксдейл, Роланд потряс всех, внезапно схватившись за голову, когда хозяйка заговорила об адмирале Блэкберне. Он начал гримасничать, словно испытывал невыносимую боль, раскачиваться на стуле и, наконец, произнес хриплым, прерывающимся, однако восторженным голосом фамилию Блэкберн, которая пробудила в нем такие воспоминания — если, конечно, это были воспоминания, а не детские фантазии — о добродушном шетландском пони, черном с серыми полосками, с длинной густой гривой и таким же густым хвостом, с блестящими влажными глазами, — его любимом пони Блэкберне!
В сильном волнении все слушали, как Роланд, закрыв глаза, медленно, словно в полусне, вспоминал не только своего шетландского пони, но и зеленую тележку, в которой эта лошадка катала его по лужайке, когда Роланду было шесть лет… «большую ферму» где-то в сельской местности (это было в графстве Бакс)… маленького черного мальчика с конюшни по имени Квинси, которому доверяли присматривать за Роландом во время игр… и величественного пожилого джентльмена с острым взглядом черных глаз и белыми-белыми волосами, который, должно быть, был… должен был быть… самим дедушкой Шриксдейлом, умершим в 1889 году.
Бедная Анна Эмери, не в силах больше сдерживаться, начала беспомощно всхлипывать, и именно Стаффорду Шриксдейлу, который и сам дрожал от выдающейся декламации Роланда, пришлось успокаивать ее.
Другой, не менее драматичный эпизод произошел во время приема в доме миссис Эвы Клемент-Стоддард, когда Роланд внезапно впал в состояние гипнотического транса при упоминании фамилии Маклин: она вызвала у него воспоминание о носившей ту же фамилию шотландке, которая была няней маленького Роланда в Кастлвуде; а это, в свою очередь, навело его на воспоминание — поразительное по визуальной достоверности и почти физической осязаемости — о детской комнате, в которой Роланд провел первые восемь лет жизни. Набивные игрушки, с которыми он играл и спал… цветочный узор одеяла… вид из окна на старый розарий с фонтаном… бедная мисс Маклин, которая большую часть времени проводила в слезах и вздохах по причинам, так и оставшимся для маленького Роланда загадкой… и, наконец, самое яркое и самое острое воспоминание: мама с распущенными по плечам волосами, которая качает его, напевая вполголоса, целует и читает его любимые сказки приятным мелодичным голосом…
Когда, замолчав, Роланд вскочил на ноги и застыл, откинув назад голову, с закрытыми глазами и поблескивающей на губах слюной, не только Анна Эмери, но и многие другие дамы разразились слезами, даже джентльмены были тронуты до глубины души. Удивительное озарение памяти для любого человека, не говоря уж о страдающем амнезией бедняге! Казалось, подсознание Роланда так бурно реагировало на случайные ассоциации, что воспоминания невольно прорывались в его сознание, приобретая незаурядную мощь. Судя по всему, сам Роланд не мог их ни вызывать, ни останавливать по своему желанию, и после таких приступов чувствовал себя опустошенным, выжатым, а его кожа, и без того желтоватая, приобретала болезненный серый оттенок.
Филадельфийцы, которым случалось присутствовать при подобных душераздирающих припадках, не сомневались в том, что Роланд — это Роланд, и если время от времени из неких — разумеется, сомнительных — источников доносились сплетни о том, что наследник Шриксдейлов не совсем такой, каким он должен быть, они с раздражением и безоговорочно отметали их как домыслы «желтой прессы».
— Удивительный случай, не так ли? — с гордостью вопрошал личный врач Шриксдейлов доктор Турман. — Когда к Роланду полностью вернется память, я прославлю свое имя — и имя Роланда, разумеется, тоже, — описав историю его болезни. В медицинском мире в это с трудом поверят.
Весной 1915 года, когда газеты были заполнены сообщениями о варварском затоплении британского лайнера «Лузитания» немецкой подводной лодкой и бескомпромиссной реакции президента Вильсона, мистер Абрахам Лихт получил у себя в Мюркирке поистине странную телеграмму:
МИСТЕР СЕНТ-ГОУР, ЭСКВАЙР, НАСТОЯЩИМ ПРИГЛАШАЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЕГО, НЕСОМНЕННО, ПОЗАБАВИТ. ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ, В ДВА ЧАСА ДНЯ В КАСТЛВУД-ХОЛЛЕ, ФИЛАДЕЛЬФИЯ. ДВА БИЛЕТА ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ НА ЕГО ИМЯ НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ОН ЗАХОЧЕТ ПРИБЫТЬ СО СПУТНИЦЕЙ («СОУЧАСТНИЦЕЙ»).
Изумленный, Абрахам Лихт быстро перечитал телеграмму несколько раз кряду и показал ее старой Катрине, которая ничего в ней не поняла; а позднее — хотя отец и дочь находились в тот момент не в самых добрых отношениях — даже Милли, которая тоже перечитала телеграмму несколько раз и посмотрела на отца с испугом:
— Но кто может знать, что «Сент-Гоур» здесь, в Мюркирке? — прошептала она. — Кто-то что-то замышляет.
Однако Абрахам вдруг улыбнулся, хотя улыбка предназначалась отнюдь не Милли, и сказал, словно бы размышляя вслух:
— О да, кто-то что-то действительно замышляет, но мы должны выяснить, кому это на руку.
Итак, Абрахам Лихт вместе с Милли отправился в Филадельфию на своем новеньком «паккарде» (сливового цвета, с роскошной кремовой обивкой и блестящими хромированными ручками) и в то восхитительно солнечное воскресенье присоединился к длинной процессии экипажей и новомодных автомобилей, медленно втягивавшейся в ворота Кастлвуд-Холла и далее следовавшей к дому по длинной, в четверть мили, подъездной аллее. Под именем Алберта Сент-Гоура, пожаловавшего с дочерью Матильдой, он приобрел при въезде два билета стоимостью в триста долларов каждый — выручка от дневного благотворительного праздника предназначалась Объединенной ассоциации больниц милосердия Филадельфии.
Две шеренги ровных деревьев, окаймляющие подъездную аллею… пологая лужайка, а точнее, луг площадью в несколько акров… великолепие цветущих азалий, рододендронов и лилий… сам Кастлвуд-Холл: дом в эклектическом американском стиле (в котором доминировала готика XVIII века) из светло-серого камня, с огромным закругленным портиком и не поддающимся исчислению количеством окон. Зажав в зубах сигару, Абрахам Лихт воскликнул:
— «Это Рай, и мы не хотим быть из него изгнанными!»
Он произнес это с такой искренностью, что было невозможно понять, серьезен он или шутит. Сидя рядом и сцепив на коленях руки в перчатках, Милли обозревала дом, лужайку, прохаживающихся по ней красиво одетых дам и джентльменов и ничего не говорила. Она вообще молчала большую часть пути, ибо считала, что им не следовало сюда ехать.
— Мне в голову приходит только один человек, который мог послать такую телеграмму, папа, — сказала она после долгих раздумий, — и этот человек добра нам не желает.
— Разумеется, есть только один человек, который мог прислать эту телеграмму, — раздраженно согласился Абрахам Лихт, — но, конечно же, он желает нам добра.
У главного входа Сент-Гоур передал ключи ливрейному лакею, отгонявшему машины на стоянку, и отец с дочерью вдруг почувствовали себя одновременно предоставленными самим себе и выставленными на всеобщее обозрение. Тем не менее, пока они пробирались сквозь толпу, мало кто обращал на них внимание; они здесь никого не знали, и, похоже, никто не знал их.
— Сколько мы должны здесь пробыть, папа? — спросила Милли, подозрительно озираясь. — Думаю, это какой-то розыгрыш.
К своему разочарованию, Абрахам Лихт, или, если быть точным, Алберт Сент-Гоур (прежде живший в Англии, в Лондоне, «удалившийся от дел бизнесмен»), вскоре обнаружил, что никаких напитков крепче лимонада, чая со льдом и клюквенного сока гостям не предлагается, а он, как дурак, оставил свою серебряную фляжку в машине.
— Мы пробудем здесь столько, Матильда, — злобно ответил он, — сколько нужно, чтобы сцена была сыграна до конца и стал ясен ее смысл.
Присматриваясь, они прошли сквозь толпу болтающих незнакомцев до выложенной плитками террасы, потом, все так же, под руку, — к парку с фигурно подстриженными кустами, статуями из белого с прожилками мрамора и тихо плещущими фонтанами, постояли в кругу дам и джентльменов, собравшихся возле одного из столов с прохладительными напитками под необозримым красно-белым в полоску тентом, обмениваясь приветствиями — небрежными, но радушными, радушными, но небрежными — с проходящими мимо гостями. Сент-Гоур был одет по последней моде: в легкий шерстяной костюм сизо-серого цвета с белой гвоздикой в петлице, в вышитую шелковую жилетку и белую рубашку из струящегося шелка; на голове у него была соломенная шляпа, такая же, как на большинстве присутствовавших мужчин, на ногах — серые гетры. В целом он выглядел весьма привлекательным и уверенным в себе господином. Его красавица дочь Матильда (учившаяся, пока не разразилась война, в Швейцарии и Франции) была в весеннем платье из тончайшего хлопка с юбкой в широкую поперечную полосу — голубую, как глаз малиновки, и бледно-вишневую, — и с вишневым лифом, искусно демонстрирующим прелесть ее маленькой груди. Длина юбки, к удивлению присутствовавших, была такова, что смело открывала большую часть щиколоток, обтянутых прозрачными блестящими шелковыми чулками. Тщательно завитые белокурые волосы, вероятно, из скромности, были аккуратно убраны под шляпу с широкими зубчатыми полями и кисейной вуалью в горошек.
Однако холодно-высокомерный вид молодой женщины обескураживал джентльменов, не рисковавших приблизиться к ней; к тому же на празднике присутствовало на редкость много хорошеньких молодых дам, несомненно, прекрасно известных в обществе.
— Странно, что хозяин не являет себя нам, — сказал Алберт Сент-Гоур, наблюдая за толпой с милой, но рассеянной улыбкой, — потому что у меня такое чувство, будто он за нами наблюдает и, быть может, забавляется.
— Ничего он не забавляется, — холодно возразила Матильда, высвобождая руку. — Ты забыл — он существо, лишенное чувства юмора.
С этими словами Матильда отошла от отца, а Сент-Гоур, медленно следуя за ней, через несколько минут уже вел любопытную беседу с маленьким лысым раздраженным человечком приблизительно одного с ним возраста (хотя он, Сент-Гоур, выглядел на добрый десяток лет моложе); тему беседы уловить было непросто: собеседник Сент-Гоура перескакивал с политической ситуации на вероломство американцев немецкого происхождения, потом на цену, в которую этому джентльмену обошелся гороскоп жены. («Вы ведь не станете спорить, сэр, что двадцать пять тысяч — это слишком уж крутая сумма. Как вы считаете, сэр?») Инстинкт подсказывал Сент-Гоуру, что этот похожий на мышонка человек, столь очевидно непоследовательный, должен быть очень богат и знакомство могло оказаться весьма полезным. Но хотя Сент-Гоур оживленно поддерживал разговор о шарлатанстве астрологов и о том, что страна наводнена немецкими шпионами, ни одна из этих тем не затрагивала его по существу, все его внимание было приковано к дочери, которая беззаботно прогуливалась в толпе незнакомцев, вертя вскинутым на плечо зонтиком. Ее полупрозрачная верхняя юбка слегка развевалась на ветру, походка была грациозной, и, на сторонний взгляд, девушка казалась неотразимо женственной — в старинном понимании этого слова. Но какая железная у нее при этом воля, и как это начинает пугать отца!..
В этот момент Сент-Гоур заметил коренастого молодого мужчину в панаме, который вез кого-то в инвалидной коляске и случайно оказался рядом с Матильдой. Сент-Гоур увидел, как Матильда тревожно оглянулась и застыла, уставившись на мужчину как невоспитанный ребенок. Направляясь к ней, Сент-Гоур отметил, что она покачивалась, будто готова была упасть в обморок, и держалась за горло, но отшатнулась от молодого человека, когда тот галантно, но несколько неуклюже протянул ей руку, чтобы поддержать.
«Очень странно, очень, очень странно, — сердито подумал Сент-Гоур. — Это совсем не похоже на мою дочь — так эксцентрично вести себя в обществе!»
Поспешно приблизившись к ней, он, однако, увидел сквозь закружившиеся перед глазами блики причину ее странного поведения: неловкий молодой человек в панаме, который в этот момент, улыбаясь и краснея, нервно представлялся как Роланд Шриксдейл, а женщину в инвалидном кресле представил как свою мать Анну Эмери Шриксдейл («хозяйка этого праздника, знаете ли»), был не кем иным, как… Харвудом.
…и одновременно, если только Абрахам Лихт вдруг не сошел с ума, сыном искоса глядящей старой женщины в инвалидной коляске, которая должна была быть вдовой Элиаса Шриксдейла и владелицей Кастлвуд-Холла.
Как точно происходило знакомство и представился ли Сент-Гоур сам, как положено, Абрахам Лихт впоследствии вспомнить не мог, потому что рассудок у него в тот момент помутился.
Харвуд! Его Харвуд!
После стольких лет разлуки!
Хотя теперь он уже не Харвуд: быстрым взглядом тот дал понять Сент-Гоуру и его дочери, что не следует так потрясенно глазеть на него.
Относительно же того, кем он был…
Рыхлый, нервный, с землистой кожей, с безобразным шрамом вдоль левой щеки, с прилизанными густыми волосами, разделенными строгим пробором… Рот меньше, губы краснее и влажнее, чем были когда-то. Недостаточно мужествен, пожалуй; робок, ребячлив, мил; в определенных ситуациях склонен к заиканию, но при этом умен, хорошо говорит. И безукоризненно галантен по отношению к матери — вот сейчас как раз, перегнувшись через спинку инвалидного кресла, сжимает ее трясущуюся руку в кружевной перчатке, чтобы унять дрожь. (С первого взгляда видно, что это мать и сын: они совершенно одинаково косо улыбаются.)
В течение нескольких минут легкой светской беседы Роланд — а говорил преимущественно он — объясняет своим гостям традицию издавна проводящегося Майского праздника (который каждый год устраивается в Филадельфии, при этом каждый шестой год или около того, в зависимости от маминого состояния здоровья, — в Кастлвуде), а миссис Шриксдейл он рассказывает, что познакомился с мистером Сент-Гоуром и Матильдой несколько лет назад в Лондоне, когда Матильда была еще школьницей, а Алберт Сент-Гоур торговал старинными книгами… они общались тогда с удовольствием, но с тех пор, к сожалению, потеряли друг друга из виду и не встречались несколько лет.
— Это было дурно с твоей стороны, Роланд, не познакомить нас тогда, — сказала миссис Шриксдейл слабым, задыхающимся, но кокетливым голосом, не сводя водянистых глаз с Сент-Гоура. А Роланд, чуть покраснев, смущенно пробормотал ей в ухо:
— Но видишь ли, мама, боюсь, я знакомил вас, однажды чудовищно дождливым днем я привел их в наши апартаменты в «Кларидже». Мы все пили чай, и они тебе очень понравились. Просто ты, дорогая, судя по всему, совершенно об этом забыла!
Хотя с тех пор прошло уже несколько лет, Сент-Гоур и его дочь припомнили тот визит с явным удовольствием, что повергло бедную миссис Шриксдейл в крайнее смущение. Она просила простить ее, называла себя глупой старой дурой с куриными мозгами и, протянув дрожащую руку им обоим, настойчиво приглашала поскорее — как можно скорее — навестить ее и поужинать с ней и с Роландом в Кастлвуде.
— О, мы будем счастливы, миссис Шриксдейл, мы будем в восторге, — поблагодарил Сент-Гоур тихо, но прочувствованно.
Вскоре после этой счастливой встречи всем, естественно, стало известно, что Сент-Гоур с дочерью часто бывают в Кастлвуде, что они представлены радушными миссис Шриксдейл и ее сыном многим чрезвычайно важным филадельфийцам и даже решили в середине лета переехать из своего дома в штате Нью-Йорк в фешенебельную квартиру на Риттенхаус-сквер, которую им помог найти Роланд. Миссис Шриксдейл была совершенно очарована Сент-Гоуром, который знал, казалось, все о музыке, истории, поэзии, а о живописи — почти столько же, сколько сам Джозеф Дювин. («Он такой образованный джентльмен! Когда слушаешь его, становится очевидно, что он — просто гений! Ну разве они не идеальная пара — он и Эва Стоддард?» — однажды вечером с девичьим волнением спросила миссис Шриксдейл. И Роланд с готовностью ответил: «Дорогая, мне это пришло в голову уже несколько недель назад».)
Что же касается Матильды Сент-Гоур… Почему, интересно, молодая женщина, отмеченная такой красотой, пребывает в глубокой меланхолии, а если не в меланхолии, то либо в раздражении, либо в возбужденно-игривом состоянии, так что даже смех ее напоминает звон разбитого стекла?
Роланд признался в ответ, что не знает, поскольку никогда не был в близких отношениях ни с Сент-Гоуром, ни с Матильдой, ходят слухи, будто у бедной Матильды разбито сердце, но сама она из гордости об этом не говорит никогда.
Что же до самого Роланда Шриксдейла, то, несмотря на усилия многих заинтересованных лиц, он редко выказывал интерес к противоположному полу, когда сопровождал мать на всевозможные светские мероприятия. И память его так до конца жизни и не восстановилась полностью. А вот здоровье постепенно возвращалось к нему. Более того, по свидетельству изумленного доктора Турмана, оно более чем возвращалось! После тягот, перенесенных в пустыне, новый Роланд становился гораздо более здоровым человеком, чем был когда-либо прежде.
Кроме того, к приятному удивлению людей, знавших его с детства и помнивших, какие надежды возлагал поначалу на него отец, Роланд начал проявлять робкий интерес к лошадям — и к их разведению, и к скачкам, — к чему Элиас испытывал страсть всю свою жизнь. По-своему, неуверенно, начал он выказывать неравнодушие и к заграничным путешествиям, даже поговаривал о том, чтобы вернуться еще раз на Запад, при этом поспешно заверяя мать, что он никогда, ни за что не поедет туда теперь без нее.
— Когда ты почувствуешь себя лучше, дорогая, мы непременно поедем на поезде к Скалистым горам, — весело говорил он. — Потому что они — одно из величайших Божьих чудес, которое нельзя не увидеть.
В разговоре с Бейготом Роланд, тоже впервые в жизни, выказал какое-то детское любопытство по части состояния Шриксдейлов и сожаление о том, что в предстоящие нескольких лет, как неосмотрительно намекнул ему некий родственник, будет вынужден в судебном порядке добиваться опеки над состоянием матери.
— Мама действительно день ото дня слабеет, это правда, — сказал он дрожащим голосом со слезами на глазах, — но я не верю, что придет час, когда она перестанет быть самой собой, я в это не могу поверить. И знаете, я имею весьма смутное представление о том, что значит «опека над состоянием», мистер Бейгот, — вы мне не объясните?
Эти перемены, наряду с внезапным приездом в Филадельфию таинственного господина Алберта Сент-Гоура, не остались не замеченными Стаффордом Шриксдейлом и его сыновьями. Хотя эти четверо ожесточенно спорили по поводу того, какие именно шаги следует предпринять в отношении фальшивого наследника и может ли он даже по прошествии стольких месяцев все же оказаться не Роландом. Лайли упрямо настаивал на том, что он — Роланд, но только изменившийся.
(«В конце концов, установить личность не так уж сложно, — говорил Бертрам. — Человек либо тот, кем он рожден, — либо нет». «Но что, если мы ошибаемся? — повторял Лайли. — И если эта ошибка окажется роковой?»)
Присутствовавший при одном из приступов Роландова «озарения» Стаффорд Шриксдейл презрительно утверждал, что все это было представлением, несомненно, прекрасно сыгранным, почти по-актерски профессионально, но тем не менее представлением. Однако Уиллард тоже однажды оказался свидетелем такого «озарения» — когда, впав в состояние транса, со струящимися по лицу струйками пота, с закатившимися глазами, Роланд продекламировал большую часть Книги Притчей — и признался, что был искренне тронут… на несколько часов даже почти поверил, что Роланд — это действительно Роланд. Но Бертрам, в свою очередь, приводил вполне убедительные аргументы в пользу того, что это самозванец, а Анну Эмери и впрямь ничего не стоило обвести вокруг пальца, так что иногда даже Лайли начинал сомневаться и серьезно рассуждать о тяжести преступления, совершенного Роландом, если это не Роланд.
— Ведь в таком случае это, наверное, означает, что настоящий Роланд, наш кузен, убит? — вопрошал он.
Они не сомневались, что ключом к разгадке тайны является Сент-Гоур, поскольку о нем никто ничего не знал, кроме Роланда. Итак, они наняли частного детектива, мистера Гастона Баллока Минза из Национального агентства Уильяма Дж. Бернса (которое нередко выполняло в Вашингтоне труднейшие задания министерства юстиции). Но после десяти изнурительных месяцев расследования Минз объявил, что не смог раздобыть вообще никакой информации о Сент-Гоуре — даже записи о его рождении или послужного списка.
— Если когда-либо существовал несуществующий человек, — воскликнул в сердцах Минз, — так это и есть Алберт Сент-Гоур.
Шриксдейлы замечали, что на людях Роланд тщательно следит за тем, чтобы оставаться Роландом, но в иных ситуациях становится все более небрежен.
Например, время от времени его видели выпившим.
Например, время от времени его видели курившим — как сигареты, так и сигары.
Например, он или некто, неотличимо похожий на него, по слухам, посещал несколько раз бордель в южной части Филадельфии и там представлялся хозяйке как Кристофер.
Например, в августе в Ньюпорте, катаясь на семейной яхте «Альбатрос», он случайно упал за борт на глубине не менее пятнадцати футов и, ко всеобщему удивлению, легко и уверенно выплыл сам, не дожидаясь помощи, хотя Роланд никогда в жизни не проплыл и дюйма и с детства панически боялся воды! («Где это ты научился так хорошо плавать?» — спросили его родственники, и Роланд несколько уклончиво ответил: «Наверное, там, на Западе, — я действительно не помню».)
В том же месяце, там же, в Ньюпорте, кузены соблазнили ничего не подозревавшего Роланда на прогулку вдоль берега и во время прогулки напомнили ему, как когда-то, когда они были мальчишками, он любил бороться с ними на песке… особенно с Бертрамом. Неужели он не помнит?
— Боюсь, ничего подобного я не помню, — осторожно сказал Роланд, на всякий случай, бочком, отходя подальше.
— Но ты должен помнить, братец, — настаивал Бертрам, наступая на него, — именно ты всегда предлагал поиграть в эту игру!
Под дружный смех Лайли и Уилларда Бертрам притворился, будто готов напасть на Роланда. День был солнечный и ветреный, настроение у всех — ребячливо-задорное и легкомысленное; роскошный обед, длившийся два часа, закончился, а вечером предстоял еще более роскошный четырехчасовой ужин.
— Ну вот, теперь ты это знаешь, — сказал Бертрам высоким мальчишеским голосом, делая ложный выпад в сторону Роланда, — знаешь, что именно ты всегда был зачинщиком! Ты всегда наскакивал на нас сзади, хватал, валил с ног, и мы боролись, топчась и катаясь в грязи, в песке, в зарослях вереска. Да, малыш Роланд был в детстве сущим наказанием.
— Мне трудно в это поверить, — нервно сказал Роланд, лихорадочно размышляя, что делать. Его бросило в жар, и он снял на минуту панаму, чтобы вытереть вспотевший лоб.
— Ему трудно в это поверить! — издевательски повторил Бертрам, оскалив зубы в зловещей улыбке. — Неужели мы стали такими трусливыми старыми козлами, что боимся испачкать рубашки?!
Пока Уиллард и Лайли с интересом наблюдали за происходящим, покуривая сигары, Бертрам прыгнул на Роланда и грубо обхватил его голову и плечи, применив прием, который в борьбе называют «хамерлок». Однако в считанные секунды — никто даже не успел ничего сообразить — Бертрам сам оказался поверженным на землю, причем с такой неистовостью, что у него перехватило дыхание, несколько минут он лежал неподвижно, как мертвый.
Лайли и Уиллард, подскочив к брату, пытались поднять его, а Роланд, склонившись над ним и заламывая руки, не переставал извиняться и утверждать, что ему и в голову не приходило, что такое может случиться. В сущности, он даже не понял, что произошло — у него и в мыслях не было причинить кому-нибудь боль. Бертрам попытался сесть, обхватив руками голову. Его аккуратные темные усы были в песке, кожа стала пепельно-серой. Пока братья утешали его, его вывернуло наизнанку, потом он стал давиться и задыхаться, на него напал приступ безудержного спазматического кашля, потом его снова вырвало чем-то белым и жидким, словно каша. В течение всего этого времени бедный Роланд суетился вокруг, извиняясь и твердя, что он не понимает, что же все-таки произошло. Лайли и Уиллард с мрачно-непроницаемыми лицами смотрели на него, не произнося ни слова, и видели, как, несмотря на все свое волнение, Роланд сохранял оборонительную стойку, чуть наклонив вперед корпус и согнув в коленях жилистые ноги, видели, какими мускулистыми вдруг стали его плечи, как напряглись жилы на его бычьей шее, как через расстегнутую рубаху стальным блеском посверкивали темные курчавые волосы. Панама в ходе потасовки слетела у него с головы, и без нее лоб казался сейчас на удивление широким и квадратным. А пуще всего поражали глаза: холодно-стальные, очень трезвые, мечущие быстрые взгляды.
— Наверное, это там, на Западе, я научился защищаться, — серьезно произнес Роланд, — но во время болезни забыл об этом. Братец Бертрам, прости меня!
Но Бертрам и не собирался прощать, еще меньше — забывать.
Когда после Дня труда Шриксдейлы собрались уезжать из Ньюпорта, Бертрам, как бы случайно проходя мимо Роланда (хлопотавшего об удобствах для матери на время путешествия), тихим, но бешеным голосом произнес:
— Ты ведешь зачарованную жизнь, кузен, но это только до тех пор, пока жива Анна Эмери.
На какую-то долю секунды могло показаться, что Роланд вот-вот сорвется, посмотрит обидчику прямо в лицо и скажет что-то резкое, но вместо этого он с безукоризненной сдержанностью — которая всегда так восхищала Сент-Гоура, — просто, голосом Роланда ответил:
— Моя мама, знаешь ли, еще молода, ей только-только перевалило за семьдесят. Если Бог справедлив, она переживет всех нас!
«Патетическая»
Восьмое декабря 1916 года. Благотворительный концерт в пользу Объединенного церковного фонда Вандерпоэла, штат Нью-Йорк, проходил в только что отстроенном Фрик-Холле, в кампусе Вандерпоэлской мужской академии. Все билеты на вечер были распроданы; аудитория, насчитывавшая более пятисот человек, принимала артистов тепло и доброжелательно. И вот остался последний номер программы: шестнадцатилетний учащийся академии Дэриан Лихт, до того в течение вечера аккомпанировавший большинству солистов — виолончелисту, меццо-сопрано, ирландскому тенору и струнному трио, — исполняет первую часть бетховенской Сонаты № 8 до-минор, больше известной под названием «Патетическая». Сидящий за огромным сверкающим «Стейнвеем» пианист похож на ребенка, его фигура напряжена, как сжатая пружина, когда он встряхивает головой, светло-каштановые волосы взвиваются, словно легкие языки пламени, узкое лицо с удлиненным подбородком в ярких огнях рампы выглядит желтовато-серым — но какие сильные у него пальцы, как летают они над клавишами, кажется, будто, загипнотизированный музыкой, Дэриан сам сочиняет ее у всех на глазах.
Вот теперь детство позади. А ведь я в своем тщеславии полагал, что оно уже закончилось несколько лет назад.
Поскольку для данной аудитории бетховенская соната слишком длинна и требует от слушателя слишком большого напряжения, Дэриан играет усеченную версию, составленную для него профессором Херманном.
— Никогда не следует испытывать любовь любителей музыки к музыке, — шутливо предупредил Дэриана старый немец, — особенно в конце концерта.
Все части великой сонаты представлены в композиции, но каждая соответствующим образом отредактирована. Хотя Адольф Херманн в зале, без сомнения, сидит, подавшись вперед на стуле, не сводит глаз со своего ученика и слушает со всепоглощающим вниманием, даже забывая вытирать маслянистые капельки пота, выступающие на его толстом лице, Дэриан играет так, словно вокруг никого нет. Его покойная мать Софи в этом почти пустом, ярко освещенном зале не появится.
Дэриан Лихт. Ученик пятого класса, создавший себе репутацию независимого, замкнутого и высокомерного мальчика. Одноклассники относятся к нему как к оказавшемуся среди них взрослому: со сдержанным уважением, однако без теплоты. Хотя несколько друзей — во всяком случае, он верит в это — у него есть: такие же неприкаянные, как он сам, словно прыщами, отмеченные необычными талантами (в шахматах, в поэзии, высшей математике, беге на длинные дистанции). Из писем своей сестры Эстер Дэриан знает: отец разочарован тем, что его сын в потоке из девяноста мальчиков занимает всего лишь двенадцатое место и так и не сумел завести важных друзей, например, подружиться с соседом по комнате Родди Сьюэллом.
То ли еще было бы, как разозлился бы отец, узнай он, что Дэриан манкирует уроками, потому что его интересует только музыка, что он и усилий-то никаких не прилагал, чтобы подружиться с Родди или другими богатыми сынками. По правде сказать, Дэриан как раз избегает Родди, когда тот болтается в их общей комнате в ожидании звонка на обед. (В столовой старшие мальчики только и говорят что о войне: США должны объявить войну Германии, пацифисты, как сказал Рузвельт, — просто трусы; мальчики надеются, что война не закончится к тому времени, когда они смогут принять в ней участие.)
Странно, что Дэриан Лихт пренебрегает богатыми однокашниками. По слухам, его обучение оплачено лишь до конца текущего семестра. За весенний не внесено ни пенни. Директор Мич как-то позвал Дэриана к себе в кабинет, чтобы поговорить с ним доверительно, не поставив мальчика в неловкое положение (потому что Мич с гордостью вспоминает выдающуюся гостевую проповедь Абрахама Лихта, произнесенную в их часовне, и его намек на то, что когда-нибудь он создаст фонд в поддержку школы); директор деликатно спросил Дэриана, не в курсе ли тот финансовых дел своего отца, потому что школа располагает некоторыми средствами на случай чрезвычайных обстоятельств и при необходимости их можно использовать. Нет. Я не в курсе, сэр. Можно мне идти, сэр? Я ничего не знаю о делах своего отца.
Эстер переписывалась с Дэрианом, иногда к ее письмам несколько строк добавляла Катрина. Раз в несколько месяцев от Милли приходила открытка, при виде которой сердце Дэриана начинало колотиться от предчувствий и страха, потому что бодрый наклонный почерк Милли было трудно разбирать и порой Дэриан с уверенностью мог прочесть только: «Дорогой Дэриан» и «С любовью, твоя сестра Милли». Абрахам Лихт жил теперь в Филадельфии, но у него был запасной почтовый ящик в Камдене, Нью-Джерси, на другой стороне реки. От Эстер Дэриан с удивлением узнал, что их брат Харвуд вернулся на Восток, но где он живет и воссоединился ли с отцом, было неясно.
О Терстоне никаких известий не приходило никогда. Он отправился «по делам» в Южную Америку и не вернулся, во всяком случае, насколько было известно Эстер и Дэриану; он ни разу не написал оттуда ни единого слова. И все же как странно, что на все вопросы о старшем сыне Абрахам Лихт всегда реагировал лишь молчаливым пожатием плеч. Кто? Терстон? Ах да. Нет, не знаю. Так много времени прошло с тех пор, как Дэриан в последний раз видел Терстона, что иногда он задавал себе вопрос: не был ли его высокий красивый белокурый добродушный брат всего лишь… приснившимся ему видением? Или бурной, душераздирающей музыкальной фразой?
Только спустя несколько часов после неприятного разговора с директором Мичем на Дэриана накатила волна стыда. Папа не заплатил за его обучение! Он сделал из меня нищего. Сообщника преступления. Дэриан как раз направлялся в часовню позаниматься на органе, но при этой мысли развернулся и побежал назад, в директорскую резиденцию, чтобы, задыхаясь, спросить, может ли он сделать что-нибудь, чтобы оплатить отцовский долг. Например, поработать в столовой или в школьном саду? Директор посмотрел на него с жалостью и раздражением.
— Тебе пора бы знать, Дэриан, что подобные вещи — не в традициях Вандерпоэла. К тому же ты поставишь в неловкое положение своих одноклассников.
За спиной сурового седовласого директора виднелись бюсты Шекспира и Мильтона, белые, гладкие, со слепыми белыми глазницами и абсолютно безмятежными лицами. Символ Вандерпоэлской академии, похожий на объятый пламенем скипетр, был выгравирован на бронзовой доске над школьным девизом — «Monumentum aere perennius»[25]. Дэриану было интересно: что испытали бы эти давно почившие в бозе люди, знай они, что неким непредсказуемым для них самих образом станут бессмертны, даже при том, что в обычном смысле слова… умрут? Директор Мич хотел было уже отпустить Дэриана, как вдруг ему пришла в голову мысль: предстоящий концерт. Объединенный церковный фонд снимает зал во Фрик-Холле, и концерт организует фонд, а не академия; возможно, Дэриан захочет принять в нем участие, за что получит скромное вознаграждение?
— В самом деле? — с надеждой спросил Дэриан. — Я с радостью, доктор Мич. — Дэриан согласился сразу же, но потом, в течение многих дней, даже недель, сомневался, правильно ли поступил. Выступать перед публикой, в то время как собственные музыкальные способности казались ему еще такими сырыми, такими далекими от совершенства, что нередко служило для него источником тяжких мучений! Конечно, он совершил ошибку. От маячившего впереди страха сцены его одолевала бессонница.
Гонорар Дэриана за этот вечер как аккомпаниатора и солиста должен был составить тридцать пять долларов.
Адольф Херманн был ошеломлен и раздосадован тем, что Дэриан будет принимать участие в концерте.
— Прежде они просили об этом меня. То есть иногда они по этому случаю нанимали меня, если слово «нанимать» здесь уместно. — Профессор Херманн замолчал, с тоской глядя на ученика. И того пронзила неприятная мысль: неужели учитель музыки обижается на него? — Эти американцы понятия не имеют, что такое серьезный ценитель музыки. Ты должен опасаться их влияния. Они «милые» люди, и им от тебя нужна «милая» музыка. Они даже заплатят тебе — как можно меньше, только чтобы не было стыдно. А единственное, что они заберут у тебя взамен, — это твоя душа.
Дэриан с улыбкой ответил:
— Профессор Херманн, я еще никогда в жизни не зарабатывал тридцать пять долларов. Это не много, но — вот же они! А кроме того, после концерта меня вместе с другими участниками накормят холодным ужином в городской резиденции Фрика.
И я приглашу на концерт отца. И Милли, и Эстер, и Катрану — мою семью!
Профессор Херманн выразил невнятную надежду на то, что, будучи его protégé, Дэриан не продаст себя задешево людям, которые ничего не смыслят в музыке и, следовательно, недостойны ее. В течение долгого времени старик говорил убедительно и страстно, а Дэриан сидел за роялем, испытывая нарастающее беспокойство, его пальцы шевелились — ему хотелось наконец добраться до пожелтевших клавиш старого замусоленного, но по-прежнему прекрасно звучавшего «Безендорсера». Какое ему, шестнадцатилетнему парню, дело до метаний старика, когда ему хочется играть? И какую музыку! Бетховенскую «Патетическую». Он разучивал и репетировал ее много недель и только-только начал обретать почву под ногами. Но профессор Херманн, вытирая платком взмокшее лицо, все продолжал говорить о сложившейся в Европе «трагической» ситуации, которая может отравить весь цивилизованный мир; о безумной воинственности великой германской нации, направленной против слабых нейтральных стран; об огорчительной природе антинемецких настроений в Штатах…
— Похоже, для американцев теперь все немцы — варвары и гунны.
Дэриану трудно было определить по напыщенной, осложненной сильным тевтонским акцентом речи учителя музыки, вызван ли его гнев на вандерпоэлских обывателей их предвзятым отношением к нему как вероятному предателю, затаившемуся среди них, или его собственной нелюбовью к ним как к религиозным ханжам. Поэтому на все это словоизвержение он ответил невнятным согласием, твердо зная, что не изменит своего решения участвовать в концерте.
Собственную музыку я буду играть только для себя, не для чужих ушей.
Ведь музыка возникает на кончиках пальцев и проходит через нас насквозь. Мы не слышим ее, мы ее подслушиваем.
— Дэриан, у тебя должна быть своя гордость, — сказал профессор Херманн, кладя тяжелую руку на плечо Дэриана, как делал это часто, и Дэриан услышал сопение прямо у своего уха, ощутил на щеке влажное дыхание старика. — Мы оба должны быть гордыми, потому что ты — ученик Адольфа Херманна. И поэтому прошу тебя: не продавай себя задешево!
— Да, сэр. — Нахмурившись, Дэриан занес руки над клавиатурой, он был готов играть.
— …потому что как только они поймут, что мы хотим им угодить, как только мы унизимся до их грубого капиталистического уровня ради денег, — продолжал профессор Херманн, — нам конец, наша священная цель — музыка — будет поругана. Ты понимаешь, mein Kind[26]?
Я не ваш Kind. Я вообще ничей не Kind.
Даже Бах, Моцарт, Бетховен продавали свою музыку. Даже великим гениям надо есть.
Но Дэриан ничего не ответил, он с радостью окунулся наконец в начальные такты великой сонаты.
Вскоре после этого Дэриан Лихт начал понемногу зарабатывать музыкой. Он обучал основам музыкальной грамоты детей нескольких школьных педагогов, в том числе внуков Мича; по воскресеньям играл на органе в вандерпоэлской Свободной баптистской церкви; его даже нанимали играть на свадьбах, где он с листа аккомпанировал полногрудой местной певице, которая своим нежным сопрано пела «Не сплетай мне праздничного венка» из «Лукреции». Как легко было понравиться аудитории, заставить людей улыбаться; но какое искушение — взять ассонансный аккорд, исполнить, к их пугливому восторгу, таинственный Первый прелюд Шопена или какое-нибудь аритмичное и какофоничное маленькое сочинение самого Дэриана Лихта! Однако он сдерживался. Он слишком нуждался в добром к себе отношении и в деньгах, которые приносило такое отношение. Я сам буду оплачивать свое образование, я удивлю доктора Мича. Я удивлю отца, который меня бросил.
На самом деле Дэриан не верил, что Абрахам Лихт его бросил. Пока не верил.
Хорошей репутации Дэриана в округе способствовало то, что он был вежливым, доброжелательным и утонченно-привлекательным юношей с ярко выраженными «женскими» чертами лица, особенно глазами — они у него были мечтательными, обрамленными густыми ресницами и огромными, как мистически-задумчивые глаза какого-нибудь экзотически красивого андрогина с картины художника-прерафаэлита. Хотя Дэриан не считал себя робким и в глубине души был весьма надменен, он производил впечатление застенчивого молодого человека, скромного и неуверенного в себе — таких юношей женщины обожают и могут «продвинуть». Абрахаму Лихту не было нужды говорить своему младшему сыну то, что он и без него интуитивно понимал: женщины «продвигают» молодого человека настолько, насколько он, по их мнению, «талантлив», то есть привлекателен для них и не представляет видимой угрозы.
Но в любом случае все это теряло значение, когда Дэриан Лихт садился за клавиатуру: рояля ли, органа ли — не важно. Не важно, был ли то большой концертный «Стейнвей» или фортепьяно, изготовленное безвестным американским мастером, дорогой орган в школьной часовне или сопящий орган с ножными педалями в баптистской церкви. Как только Дэриан начинал играть, верх в нем брала другая, более сильная индивидуальность. Сам ли я, Дэриан, говорю в такие моменты или это во мне говорит музыка? Но что значу «я» отдельно от музыки? Даже когда он исполнял собственные, весьма своеобразные, шероховатые композиции, ему казалось, что он — всего лишь инструмент, посредством которого рождается музыка, что она существует где-то сама по себе, на другой сетке координат или на другой плоскости существования, замороженная в тишину, как статуя, и обреченная на эту тишину, если бы не случайность в лице Дэриана Лихта!
О подобных парадоксах он любил поговорить с Адольфом Херманном, но в последние полгода, после гибели «Лузитании» и подъема антинемецких настроений в Соединенных Штатах, старик испытывал все большие сомнения в будущем Дэриана. Как будто его будущее как-то связано с будущим Германии или самого профессора Херманна! — сердился про себя Дэриан.
— Для таких людей, как мы, ничего, кроме музыки, не существует, — говорил, бывало, вздыхая, Херманн, — но разве может существовать «музыка» без «цивилизации»?
Первым невольным побуждением Дэриана было тут же смело выкрикнуть: «Может!»
Ни для кого не оставалось секретом, что ряды учеников Адольфа Херманна неудержимо редели. Их родители, некогда столь почтительные и льстивые, теперь избегали встреч с ним на улице. Даже соседи, знавшие его много лет, стали с ним холодны, чтобы не сказать грубы; аптекарь, торговец канцелярскими товарами, зеленщик английского происхождения — все они демонстрировали ему теперь открытую враждебность. Какой-то «шутник» испоганил его крыльцо, дегтем намалевав на нем «ГУНН», а однажды, пока профессор занимался с Дэрианом, мальчишки стали бросать камни в окна прихожей и разбили несколько стекол. От вандерпоэлской полиции было мало толку, поскольку и она была настроена против всех немцев — точно в соответствии с тем, что говорил профессор Херманн. Что же делать? Куда бежать? Вандерпоэл был его домом, Соединенные Штаты — его страной, потому что он порвал все связи с Германией, военная доктрина родины вызывала у него глубокое отвращение, он вообще отвергал войны, какими бы целями они ни прикрывалась, а пуще всего — войны за имперскую экспансию.
— Единственное, на что я надеюсь, если говорить о цивилизации, это что война скоро закончится и Германия, осознав свои ошибки, заслужит прощение…
Годом раньше Адольф Херманн бушевал по поводу широко разрекламированной инициативы Генри Форда снарядить корабль мира «Оскар Второй», который и отплыл в Европу в начале декабря с миссией выплатить миллион долларов любому, кто сможет остановить войну. Это была такая безумная, такая тщеславная и ребяческая по своей самонадеянности идея, что, по мнению Херманна, в ней было даже нечто невинное — «наивная американская духовность». Неделями Дэриану приходилось выслуширать суждения Херманна о Генри Форде, «Оскаре Втором» и абсурдности попыток вступить в диалог с такой имперской мировой державой, как Германия; однако, когда предприятие потерпело фиаско и «Оскар Второй», как злорадно кричали газеты, бесславно вернулся со своим невостребованным миллионом долларов и подхватившим тяжелую простуду великим Фордом в Америку, профессор Херманн впал в глубокое уныние.
— Мне следовало бы поддержать идею, вместо того чтобы издеваться над ней, — сказал он. — Я бы должен был добровольно отправиться вместе с ними как американский гражданин немецкого происхождения. Но что теперь говорить об этом, Дэриан, — поздно.
Еще более огорчительным было то, что профессор Херманн становился все более эксцентричен как педагог. Потому что, когда он наконец заканчивал свои напыщенные монологи и переходил к уроку, было уже поздно, занятия, начавшись в полдень, порой затягивались до позднего вечера, и Дэриан оставался без ужина. Иногда старик требовал, чтобы Дэриан играл «Патетическую» от начала до конца, не обращая внимания на ошибки; иногда, если игра Дэриана его не удовлетворяла, обрушивал тяжелый кулак на клавиши и начинал читать испуганному мальчику лекцию. Потому что существовал канон, по которому следовало исполнять сонаты Бетховена, и множество способов, по которым их играть не следовало. Адольф Херманн был уверен, что для глубокого понимания Бетховена необходима тевтонская чувствительность, к примеру, ни один француз не мог, с его точки зрения, правильно исполнять музыку Бетховена. Поэтому учитель приходил в бешенство, когда Дэриан играл Бетховена, Баха, Моцарта или Шуберта в «нетевтонской» манере, во всяком случае, в манере, отличающейся от его собственной, которую он тут же демонстрировал Дэриану.
— Разве ты не Лихт? Разве ты не один из нас, несмотря на свое «американское» рождение, парень? — воскликнул он однажды.
Случались дни, когда Дэриан все делал не так, и дни, когда его игра вызывала у старика слезы.
— Как прекрасно. Как утонченно. И какая мощь скрывается под этой утонченностью. Но все равно когда-нибудь ты предашь меня, Дэриан, я знаю. — Тяжелая теплая рука неловко сжимала плечо Дэриана с любовным упреком.
Дэриан же верил, что музыкальное произведение, даже написанное величайшим композитором, множество разных исполнителей могут интерпретировать множеством разных способов. В зависимости от самых неожиданных факторов: от случая, интуиции, времени суток, погоды, прихоти исполнителя и даже особенностей инструмента. Он вполне мог представить себе сочинение, которое называлось бы «Рояль с оборванными струнами и Покоробившаяся скрипка». Технически сложная пьеса, но слушателей она повеселит! (Правда, не Адольфа Херманна. Его идеальным слушателем такого произведения не назовешь.) Предаваясь мечтам во время уроков, задумчиво глядя в любое окно, попадавшееся на глаза, Дэриан теоретизировал: музыка не должна быть обязательно серьезной только потому, что серьезна «серьезная» музыка; почему бы ей не быть такой же грубоватой, энергичной, шумной и воодушевляющей, как парадный военный марш, или как неслаженный хор баптистов, или как крик кузнеца, погоняющего лошадь, или даже как само пыхтенье кузнечных мехов? Его завораживало шипение воздуха в паровом радиаторе отопления в его спальне; вода, капавшая из крана ритмично и в то же время непредсказуемо: кап-кап-кап… кап… кап-кап; сначала медленное, потом вдруг ускоряющееся постукивание пальцев Абрахама Лихта по крышке стола — тук-тук, — невольно выдававшее его потаенные чувства, даже когда улыбающаяся маска на лице, казалось, скрывала все, что у него внутри. Америка была живой симфонией автомобильных клаксонов, конского ржания, петушиного пения, белья, хлопавшего на ветру… Какая удушливая традиция считать, что каждый такт в музыкальном произведении должен быть сыгран в строго определенной последовательности, строго определенном темпе или даже ключе, в котором написал его композитор. «А как же тогда быть с тишиной, с белыми полями по краям нотных листов?» — размышлял Дэриан, взволнованный собственной дерзостью.
Но для профессора Херманна существовало только два вида исполнения: правильное (то есть такое, какое демонстрировал он сам) и неправильное.
Так было и с «Патетической». Дэриан должен был играть ее быстрыми, ровными, размеренными «обоймами», с громоподобной страстью, как указано, с резкими переходами к пианиссимо, как указано, с не слишком медленным адажио кантабиле, в строго определенном на всей протяженности произведения темпе, идеально выдерживая головокружительные пассажи. Это было необходимо, чтобы соблюдать абсолютную выверенность темпа: вроде того, как метроном, стоявший на рояле, безупречно выдерживал ритм, ни на долю секунды не отклоняясь от него никогда. Какие бы то ни было вариации ритма и тона были verboten[27], они вызывали у профессора идиосинкразию, в то время как взятая то там, то здесь неправильная нота особого значения не имела. (Надо сказать, когда играл сам профессор Херманн, Дэриан замечал, что он порой ударяет не по тем клавишам, нисколько не смущаясь и не останавливаясь.)
— Но почему при исполнении нельзя допустить большей свободы, профессор Херманн? — однажды спросил Дэриан. — Я хочу сказать — большей игры?
И профессор Херманн раздраженно ответил:
— Потому что музыка — не игра.
После подобных долгих изнурительных уроков старик так уставал, что не мог проводить Дэриана до двери. Поэтому, принеся ему из буфета бутылку шнапса, Дэриан сам закрывал за собой дверь тускло освещенного дома.
— Mein Kind, ты высосал из меня все силы, — с тяжелым вздохом говорил Херманн. — Это мое счастье и мое проклятие.
За несколько дней до концерта Дэриан сыграл профессору Херманну свое новое сочинение — маленькую сонату под названием «Поклонение». (Он не сказал учителю, но композиция была посвящена матери.) Эта восьмиминутная вариация на тему из заключительной части бетховенской сонаты состояла из приглушенных аккордов и разрозненных нот, удерживаемых одновременно в дискантовом и басовом регистрах, а сквозь них тонкой струйкой, будто бы подслушанная, робко просачивалась мелодия — инверсия бетховенской, — она медленно, исподволь прокладывала себе путь через всю клавиатуру. Низко склонив голову и уткнувшись подбородком в грудь, Адольф Херманн прослушал сочинение без комментариев; потом, пожав плечами, велел Дэриану сыграть его еще раз. Дэриан сыграл. Теперь, при повторном исполнении, пальцы его бегали увереннее. В ожидании суда он дрожал от волнения. Надо признать, что его «маленькая соната» мало соответствовала принятым канонам; она то и дело выбивалась из тональности фа-диез-минор и не имела разрешения в финале, а просто таинственно затухала, превращаясь в тишину, так что слушатель мог даже не понять, что это конец. После второго исполнения профессор Херманн с иронической улыбкой сказал:
— Дэриан. Tour de force[28]. «Американская Патетическая» — ja[29]? Замечательно сжатая и краткая — но недостаточно краткая.
Дэриан вспыхнул от обиды. Он хотел было встать, собрать ноты и уйти, но профессор Херманн поспешил добавить, что это, разумеется, всего лишь шутка. Юному композитору нельзя быть таким тонкокожим.
— Скажи мне, что подвигло тебя сочинить такую пьесу? Такую… смелую экспериментальную музыку? Можешь объяснить?
Дэриан голосом, лишенным какой бы то ни было интонации, объяснил, что написал «Поклонение» однажды ночью, когда не мог уснуть; он почти непрерывно думал о бетховенской сонате и в преддверии воскресенья начал ощущать страх сцены. В этом нервозном состоянии, испытывая скорее возбуждение, чем страх, он и набросал свою композицию для фортепьяно, которая, по его замыслу, представляла собой песню мальчика и его младшей сестры в память об их умершей матери. Действие разворачивается в середине лета, на закате, в деревне на краю болота. Иногда мальчик поет один, басом; иногда девочка поет одна, дискантом. Их плохо слышно из-за всплывающей в памяти мелодии из бетховенской сонаты, и еще потому, что они поют, преодолевая пространство и время. Поднимается ветер. Скоро осень. Голоса уносит. Неясно шуршат на ветру высокие травы, журчит ручей. Все эти звуки — элементы «Поклонения». Потому что мама мертва, она не может ответить, хотя пытается, слыша пение своих детей.
— Ее молчание — это молчание особого рода, — сказал Дэриан. — Это не просто пустота. Его можно услышать. — Он взял несколько глубоких звучных аккордов и несколько минут не снимал пальцев с клавиатуры, потом медленно отпустил клавиши.
Она почти могла быть рядом. Даже здесь.
Прикасаться к его затылку. Дэриан, я люблю тебя.
На улице началось какое-то волнение, послышались громкие голоса, собачий лай. Адольф Херманн напрягся и посмотрел в сторону окна. Но опасность, если это была опасность, миновала.
— И это тоже могло стать частью «Поклонения», — сказал Дэриан. — Особенно собачий лай. Мне нравится.
Адольф Херманн поерзал в своем огромном кресле и объявил на сегодня урок оконченным.
Вот и все: на сегодня все окончено.
Он попросил Дэриана принести ему из буфета бутылку шнапса и чистый стакан и самому закрыть за собой дверь.
Гармония и дисгармония. Ассонанс и диссонанс.
Почему не то и другое вместе? Почему не все?
Дэриан предчувствовал, что его занятиям с Адольфом Херманном приходит конец. Но не был готов к тому, каким ужасным окажется этот конец, наступивший два месяца спустя.
Утром 4 февраля 1917 года, в тот самый день, когда президент Вудро Вильсон объявил о разрыве дипломатических отношений с Германией и всего через две недели после начала тотальной подводной войны Германии в нейтральных водах, Адольфа Херманна нашли повесившимся на потолочной балке у себя в доме; лицо его было искажено чудовищной гримасой и напоминало скорее звериную морду, покрасневшие глаза выкатились из орбит в немом ужасе и изумлении. Для хозяина дома и прочих жильцов квартала его самоубийство оказалось скорее досадным и вызвавшим гнев, чем трагическим или хотя бы печальным событием, они были шокированы и не испытывали никакой жалости к покойному — только отвращение. Написанную аккуратным почерком по-немецки записку, оставленную на столе, хозяин, которому выпало несчастье обнаружить труп, разорвал на мелкие клочки.
Почему он разорвал ее? Опечаленный Дэриан как-то спросил его об этом, но в ответ услышал лишь, что записка была «нечитаема, написана каким-то шифром» и могла оказаться опасной.
По Вандерпоэлу поползли слухи, что Адольф Херманн тайно сочувствовал немцам, возможно даже, был действующим немецким шпионом.
— Браво! Бра-во!!!
Вечером 8 декабря 1916 года, во Фрик-Холле, Адольф Херманн встает с места и (с иронией? серьезно? в порядке игры? как жест отваги?) первым начинает бурно аплодировать юному Дэриану Лихту, исполнившему «Патетическую сонату» Бетховена, точнее, ее сокращенную версию, с большим чувством и мастерством. Много ли он взял неверных нот, выдержал ли темп на протяжении всего исполнения, знают всего несколько человек в зале, но все едины во мнении, что Дэриан — блестящий пианист. «И такой молодой».
Адольф Херманн, хоть и приглашен на последующее суаре, незаметно исчезает, растворяясь в толпе с ловкостью и грацией, присущими скорее коту, чем грузному пожилому человеку в громоздком пальто. Абрахам Лихт, насколько известно Дэриану, так и не приехал.
Хотя накануне концерта прислал в школу цветы, вложив в букет свою визитку с двумя подписями: «Твой любящий отец» и «Твоя любящая сестра Милли».
Я и не ожидал, разумеется, что они приедут, думает Дэриан.
Как ты мог такое возомнить, дурак! — выговаривает он себе.
Его, почти ничего не чувствующего от усталости и возбуждения, запихивают в машину, стоящую возле часовни, и через весь город везут в дом Джозефа Фрика; гостей принимает миссис Фрик, поскольку мистер Фрик в отъезде.
— Ах, в каком восторге был бы Джозеф от вашей игры, Дэриан Лихт! Бетховен — его любимый композитор.
До Дэриана доходит мало из того, что ему говорят; одни и те же слова произносят снова и снова: каким блестящим было его «исполнение», как «прекрасно он смотрится» за роялем, здесь ли его семья, «как она должна гордиться им»…
Огромная элегантная столовая. Стол для фуршета такой длинный, что другого конца не видно. Слуги в ливреях, бесстрастные и ловкие. Бокалы искрящегося шампанского, хрустальные фужеры, серебряные блюда. Меццо-сопрано подходит к Дэриану, чтобы сказать ему, что он был бесподобен и прекрасно выглядел за роялем. Подруги миссис Фрик толпятся вокруг, потому что им сказали (правда ли это — они не решаются спросить), что блестящий юный пианист сирота, бесплатно обучающийся в академии. Разве он не хочет поесть? Он должен есть. Он такой худенький. Не желает ли он выпить бокал шампанского? Только один! Дэриан не голоден, его нервы натянуты как струны, он не может унять дрожь, он залпом проглатывает бокал оказавшегося на удивление кислым напитка, который ударяет ему в ноздри, он вспоминает, как сестра Милли требовала: «Шампанского! Шампанского! Оно помогает от всех невзгод в мире, от финансовых, сердечных и умственных». Страстным голосом, не терпящим никаких возражений, меццо-сопрано хвалит Дэриана как блестящего пианиста, чья манера напоминает манеру Ференца Листа; аплодисменты; и вот уже Дэриан сидит за хозяйским роялем — великолепным «Бехштейном», который, кажется, плывет над индийским ковром глубоких винных тонов, пальцы у Дэриана одеревенели после тяжелого испытания, каким явилось исполнение бетховенской сонаты, но постепенно оживают и начинают скакать по клавишам, извлекая из инструмента веселую мелодию «Звонкого сверчка», в которую прорываются вдруг отзвуки Баха и изысканные пассажи из «Патетической». Некоторые дамы находят это столь восхитительным, что чуть не лишаются чувств. Дэриан импровизирует, вихрь бравурных звуков, allegro agitato. У него кружится голова от выпитого впервые в жизни шампанского, от того, что он впервые сидит за «Бехштейном», от первых аплодисментов публики. Улыбайся — и любой дурак улыбнется тебе в ответ! Отцовский совет циничен, но правилен, потому что у Дэриана очаровательная застенчивая улыбка, дамы в восторге от этой улыбки, от того, как его светло-каштановые волосы падают на лоб, почти закрывая один глаз, как летают над клавишами его изящные тонкие руки. Браво! Бра-во!!!
Вдруг Дэриан чувствует, что больше не может. Он останавливается, встает из-за великолепного рояля. Он не хотел бы показаться грубым, но на любезности нет времени. Он должен бежать. Бежать от этих незнакомых людей с их сверкающими драгоценностями и назойливыми взглядами. Ему трудно дышать. Он должен скрыться от них. Не замечая ничего вокруг, он спешит мимо, они тянут его назад. Улыбайся — и любой дурак… Играй на рояле, чтобы доставить удовольствие любому дураку… «Нет. Нет. Я не хочу играть для дураков. И не буду».
Дэриан пробирается сквозь толпы людей, заполнивших торжественно убранные комнаты. И вдруг обнаруживает себя быстро идущим по коридору. Не дом, а лабиринт. Как из него выбраться? И как далеко отсюда находится академия? Сможет ли он найти дорогу назад один, под этим резким декабрьским ветром, ночью? Когда глаза привыкают к тусклому освещению коридора, Дэриан замечает на стенах что-то вроде фамильной портретной галереи Фриков и вперяет взор в портрет… своей матери? На медной дощечке под рамой написано: «София Элизабет Фрик. 1862–1892». Эта молодая женщина умерла за восемь лет до его рождения.
«Но это она».
Его покойная мать выглядит не совсем такой, какой он ее помнит, конечно. Хотя, несомненно, это та же женщина, что и на портрете, запертом в мюркиркском кабинете отца. Дэриан где угодно узнает эти огромные прекрасные глаза, устремленные на него с насмешливым спокойствием. Волосы этой женщины собраны в более сложную и женственную прическу, чем у той, на мюркиркском портрете; и на этой вместо строгого верхового костюма — белое шелковое платье с отороченной перьями пелериной, изящно накинутой на плечи. Несколько нитей жемчуга, белые перчатки по локоть. Бледная, как слоновая кость, кожа. Двумя едва заметными белыми мазками художник придал ее взгляду выражение, исполненное предчувствия беды. Ты мой сын? Я твоя мать? Кто тебе это сказал? И что значат слова — «сын», «мать»? София Элизабет Фрик, умершая в 1892 году, смотрит на Дэриана Лихта, родившегося в 1900-м, с любовью, жалостью и узнаванием.
Наверное, они отреклись от нее, думает Дэриан. От собственной дочери. Потому что она сбежала с Абрахамом Лихтом, они изгнали ее из своего круга, отвергли и объявили умершей.
— Моя дочь.
Дэриан был так загипнотизирован портретом женщины, которая являлась его матерью и которой он в то же время совсем не знал, что не заметил стоявшую рядом миссис Фрик, пока пожилая дама не заговорила:
— Не правда ли, она прекрасна? Моя дочь Софи. Потерянная для меня… — Миссис Фрик рассказывает Дэриану, что ее дочь умерла от тифа, когда путешествовала по греческим островам вместе со своей замужней сестрой и ее родственниками. Какая трагедия! Какая утрата! — Софи была необычной девушкой, такой милой, теплой, сообразительной, умной; и истинной христианкой; с детства любила лошадей; была способной пианисткой — хотя и не такой, разумеется, талантливой, как вы. За ней ухаживали десятки выдающихся молодых людей, но она твердо решила, по ее собственным словам, оставаться независимой. А потом…
«Наверное, я должен что-то сказать», — думает Дэриан. Но он не может говорить.
Голос женщины доносится до него сквозь бушующий в ушах рев.
Дэриана ведут… к другому портрету Софии Фрик, меньшему по размеру, более интимному портрету девочки лет шестнадцати, в синем бархатном верховом костюме, в украшенной пером шляпе, с хлыстом в правой руке, затянутой в перчатку. Дэриан. Любовь моя. Если бы мы могли знать друг друга, когда я была такой, как здесь, а ты — таким, какой ты сейчас. Он старается слушать то, что говорит ему хозяйка, но рев в ушах оглушает его. Ноги слабеют, все чувства улетучиваются, как дымок от пламени свечи, и он тяжело падает на пол у ног потрясенной миссис Фрик, та сверху смотрит на блестящего молодого пианиста, которого так мечтала пригласить к себе в дом, и от шока поначалу не может даже позвать на помощь.
Музыка — язык тех, кому чужда человеческая речь.
Тишина, окружающая музыку, есть ее тайная душа.
«Авьеморская дева»
Красотка Миллисент готовится к очередному балу, неотразимая Матильда хлопочет над своими коротко стриженными шелковистыми, излучающими легкий свет волосами, тут же и Мина, хитрая Мина, прилаживающая лиф (облегающий!) симпатичного, с оборками, платья; и Маргарита (любимая дочь мистера Энсона, милая жеманница, заимевшая, однако же, привычку покуривать тайком) тщательно трудится над очаровательно изогнутыми аркой бровями и накладывает на бледные щеки едва заметный румянец; и Мойра (уроженка Нового Орлеана, этакая вкрадчивая кошечка, только лгунья бесстыдная)… Повернувшись к зеркалу в профиль, Мойра напевает: «Лучше смеяться, чем плакать» (чистая правда)… в зеркале отражаются другие зеркала… вглядываясь в отражение, или в отражения, она провозглашает: все, готово.
Оркестр в роскошно убранном, с зеркальными стенами зале наигрывает «До вечера в краю мечты», видно, как Матильда Сент-Гоур идет танцевать с юным красавцем во фраке и при светлом галстуке, — изящные круги, почти невесомое скольжение, развевается длинное, в оборках платье, парит легкий, как паутинка, шифон (белое на черном поверх белого на черном), почти прозрачные рукава свободно ниспадают от локтя, абсолютно гладкое, как у куколки, лицо, легкая, безупречно отмеренная улыбка, приоткрывающая белоснежные зубы; между тем Миллисент, лентяйка Миллисент, зевает, потягивается и звонит горничной, чтобы та приготовила ванну (нынче, пожалуйста, с алой мыльной пеной и запахом сливы), закуривает первую за день сигарету, глубоко затягивается, задерживая несвежее со сна дыхание, чтобы потом с легким чувственным присвистом выпустить струю дыма, успевшего уже побывать в ее нежно-розовых легких (отец уже завтракал? да, который, кстати, час? и он, конечно… ну, разумеется, этот негодяй уже успел спрятать газеты! значит, придется посылать за ними, особенно за нью-йоркскими, потому что Милли жадна, бесстыдно жадна — очаровательная Милли, которая зевает с младенческой улыбкой на устах, — жадна до новостей, происходящих в мире).
На узких деревянных панелях в простенках между стеклами висят зеркала в позолоченных рамах, и танцующие, если пожелают, конечно, могут лицезреть самих себя: как они кружатся, скользят и приседают, а кто-нибудь один, если пожелает, конечно, может наблюдать за остальными девяноста восемью привлекательными дамами и точно таким же количеством привлекательных господ; оркестр тем временем играет попурри из «Детей в стране игрушек» — спектакля, наделавшего много шума в минувшем сезоне; а вот появляются начищенные до блеска серебряные подносы, их несут, держа высоко над головой, слуги-негры (все мужчины, но Матильде не до них), в бокалах венецианского стекла искрится французское шампанское, можно взять и что-нибудь другое.
Капризница Мина готова шокировать публику, выпив бокал одним махом: здесь такое явно не принято.
А Мойра притопывает лайковой туфелькой на высоком каблуке, облегающей самую изящную в мире ножку, и позволяет партнеру исподтишка бросить мимолетный взгляд на затянутую в шелк лодыжку: это тоже не принято.
А проказница Маргарита надувает свои славные губки, будто готова… поцеловать или свистнуть?.. нет, всего лишь невнятно шепнуть партнеру на ухо, как она устала от этого фокстрота, буквально на ногах не держится, знаете, мне кажется, что я танцую от сотворения мира.
Бедняжка! Она такая чувствительная! В филадельфийском обществе, особенно среди молодежи, всем известно, что Матильда, загадочная дочь загадочного господина по имени Алберт Сент-Гоур, вся — как натянутая струна, любое неосторожное слово, жест рвут ей нервы, как гвоздь — шелковую материю.
Милли, не обращая внимания на то, что новое японское кимоно соскользнуло с плеч, кричит на горничную: вода в ванне слишком горячая, слишком горячая, черт побери, слишком! слишком! слишком! — не меньше пяти минут потребуется, чтобы довести ее до кондиции.
С упавшими на лицо шелковистыми прядями светлых волос, босиком, зажав сигарету в углу рта, Милли расхаживает по спальне, а перепуганная горничная меж тем выпускает из гигантской ванны примерно то же количество горячей воды, что наливается в нее из холодного крана.
Где газеты — в особенности, нью-йоркские?
Интересно, оркестр все еще играет мелодии Виктора Херберта? Матильда слышала их бесчисленное количество раз, танцевала под них бесчисленное количество раз, ничего страшного не будет, если она незаметно удалится в дамскую комнату… и займется славными, но совершенно, совершенно запретными в этой смешанной компании делишками.
Мина, папина дочка, ревнивица, невольно наблюдает в зеркале, как в общем кругу танцует пара, о которой все сейчас только и говорят, Алберт Сент-Гоур и Эва Клемент-Стоддард; получается у них так же легко и непринужденно, как у других, но выглядят они импозантнее, чем большинство. Джентльмен приятен на вид, разве что раскраснелся слишком сильно (галстук давит? или накрахмаленный воротник? а может, на нем корсет? — определенно на нем есть нечто, что туго стягивает фигуру, кажется — пуговицы вот-вот отлетят); серебристые волосы гладко зачесаны назад; в петлице белый розовый бутон; безмятежная улыбка. Дама — голова слегка откинута — тоже улыбается, пожалуй, излишне кокетливо для ее возраста, она вся сияет, лучится, светится, словно влюбленная девица, и, судя по виду, ей дела нет до того, что думают другие: помолвка объявлена, так чего же оглядываться на любопытных? Эва красивая женщина, даже придирчивая Матильда не может отрицать этого.
Что такое любовь, как не отрава и сплошной обман?
Миллисент отсылает горничную и дрожащими пальцами разглаживает газеты на столике рядом с ванной. Закуривает очередную сигарету — она ненавидит обсасывать окурки. Снимает и отшвыривает в сторону кимоно.
Ни один мужчина не видел ее такой, ни один не прикасался к ней. С тех самых пор.
Лучший миг ее жизни: погружение в теплую воду, в душистую пену, пузырьки подмигивают, лопаются и рассыпаются вокруг брызгами шампанского.
Давным-давно мать вдолбила в голову Матильде свой катехизис. Мадонна, суровая красавица блондинка. Стань рядом со мной на колени, Милли. Повторяй за мной: избавь нас от проклятия любви, избавь нас от этой земной иллюзии. Молись Всевышнему каждый день, и ты будешь спасена.
«Игра — наша единственная радость, — заметила как-то на днях Матильда, задумчиво разглядывая свои свеженаманикюренные ногти, — но Игра, похоже, складывается неудачно».
Разумеется, неофициально многие друзья этой пары знали о предстоящей помолвке, но вечером 21 декабря 1916 года, в день зимнего солнцестояния, о ней будет объявлено официально, и сделает это двоюродный дед Эвы адмирал Сайрус П. Клемент на приеме в своем поместье Лэнгорн-Холл.
Это событие — пик светской жизни Филадельфии нынешнего сезона, это уж точно.
А свадьба когда? — В мае.
Ну а Матильде Сент-Гоур что делать, когда ее отец станет женихом? — Как что — самой выйти замуж или опорожнить бутылочку с ядом.
Матильда старается не жалеть Эву Клемент-Стоддард. Матильде совершенно не хочется по-женски сочувствовать будущей жене отца.
Может быть, потому, что в последнее время Алберт Сент-Гоур стал сентиментален и заговорил о сыне; о сыне, «которым можно будет гордиться так же, как моей Матильдой». О сыне, который унаследует фамилию и продолжит традицию. Матильда удивленно качает головой — неужели Эва разделяет эту безумную надежду? Согласна с этим бредом? (Разве в таком возрасте рожают? Матильда навела справки и была неприятно поражена, узнав, что при благоприятном стечении обстоятельств женщины могут рожать и в 45–46 лет, а Эве Клемент-Стоддард, по слухам, тридцать семь).
Желтоватое лицо… неизменно оживленный вид… роскошное цвета яйца малиновки платье в стиле ампир… на шее, по просьбе жениха, потрясающее ожерелье от Картье: двенадцать безупречных изумрудов на нити из целой россыпи бриллиантов.
Сент-Гоур сказал, что не видит в таком богатстве никакой вульгарности; согласно своим демократическим принципам, он усматривает в нем лишь… нечто забавное.
Много разговоров о Бухаресте, только что взятом непобедимой немецкой армией; много разговоров о предстоящем грандиозном приеме у адмирала Клемента — все с великим нетерпением и тревогой ожидают приглашения. Но Миллисент, все еще не вылезая из ванны и совершенно не обращая внимания на то, что ее лишь недавно завитые волосы мокнут, безотрывно читает сообщения о принце Гарлема Элиху, пророке Всемирного союза борьбы за освобождение и улучшение жизни негров.
Принц Элиху, место рождения — Ямайка. Вест-Индия. Принц Элиху в белоснежных, до пят, льняных хламидах летом и белоснежных светлых шерстяных (иные подбиты мехом) пальто зимой.
Принц Элиху весь в золотых галунах и алом бархате, с парадной, в рубинах, шпагой на боку, проповедует неизбежный крах белой расы — каннибалов, дьявольского отродья, и неизбежное торжество черной расы — избранников Аллаха. Десятки тысяч людей рукоплещут принцу Элиху, принц Элиху — революционер, новый негритянский вождь, вызывающий у белых властей — от мэра Нью-Йорка до президента Соединенных Штатов — ярость и страх своей странной, бесконечной проповедью: он установил рекорд, без устали, семь часов кряду читая свою проповедь. Не мир пришел Я принести, но меч. Я тот, кого вы так долго ждали. Одного только прошу — вашей любви. Взамен я возвращу вам ваши души. Ваши души, похищенные племенем каннибалов-дьяволов.
Матильда смеется, шлепает по воде ногами. Фантастика!
Матильда смеется, кашляет… чувствует острую резь в глазах.
В «Харперс уикли» она читает про непонятного принца, завоевавшего популярность за считанные месяцы посредством агитации среди черных лидеров Гарлема, которые все никак не могут договориться, какую политическую позицию следует занять их народу по отношению к войне в Европе. Самый известный негритянский оратор, благорасположенный к белым, утверждает, что Соединенные Штаты и, как неустанно повторяет Вудро Вильсон, демократию следует защищать любой ценой; а расовые вопросы можно временно отложить. Другие, из молодых радикалов, настаивают, что нынешняя война — это «война белых», и ведут ее не во имя демократии, а во имя расистского империализма в Африке и других частях света. Принц Элиху, пророк Всемирного союза борьбы за освобождение и улучшение жизни негров, придерживается самых крайних в этой молодежной среде взглядов, он сделался известен, или печально знаменит, буквально в одночасье, после митинга в Центральном парке, где он с презрением говорил об иных своих собратьях — «черных на службе у белых»; он обвинял их в конформизме, проистекающем из трусости и прагматизма. Он, принц Элиху, зовет к бунту, объединению негров всего мира, общему протесту против службы в армии Соединенных Шатов и даже против регистрации на призывных участках — то и другое следует считать предательством.
Лучше смерть, чем унижение — вот заповедь принца Элиху.
Уже не первый день Миллисент тайком читает про экзотического принца. Скоро она отправится в Гарлем, чтобы посмотреть на него собственными глазами; она придет в маске; или лучше нет, не надо; она, не таясь, примет участие в одном из митингов, на которых, говорят, духовная музыка звучит вперемежку с зажигательными речами, и в едином порыве сливаются десятки и десятки тысяч черных мужчин, женщин, подростков и детей. Принц Элиху проповедует идеал Черной Африки; принц Элиху призывает к созданию в Северной Африке Черного Элизиума не позже чем в 1919 году; принц Элиху проповедует полную отмену рабства, включая неравенство в оплате труда; принц Элиху заявляет, что негритянский Бог — это Бог Верховный, Всепобеждающий Аллах, а белый Бог — лишь наследие язычества.
Что же касается Иисуса Христа, то, по словам принца Элиху, «если его распяли, значит, он был черным».
«Харперс уикли» повторяет то, что Миллисент уже читала в нью-йоркских газетах: этот юный харизматический негритянский лидер обладает такой силой воздействия, что ему удается убедить тысячи отнюдь не состоятельных мужчин и женщин вносить значительные суммы в кассу Союза за прогресс и освобождение негров во всем мире, коего он является пророком, регентом и казначеем.
Да. Миллисент или, вернее, Матильда Сент-Гоур, скоро съездит из Филадельфии в Гарлем, чтобы собственными глазами посмотреть на этого удивительного принца Элиху.
И если он плюнет, как белый дьявол, мне в лицо, он будет иметь на это право.
Оркестр ведет мелодию с синкопированным ритмом. Молодежь бодро отплясывает «фифти-фифти», или «утку-хромоножку», или самоновейшую джазовую разновидность вальса. Задыхаясь, с раскрасневшимися щеками, Матильда летает в объятиях партнера и, кажется, избегает смотреть в сторону Алберта Сент-Гоура, который упорно ловит ее взгляд. Он тоже читал газеты — наверняка. Те самые, с гигантскими заголовками: «ПРИНЦ ЭЛИХУ ПРОТИВ БЕЛЫХ», нью-йоркские газеты, которые он так долго пытался скрыть от нее.
В самый разгар танца, когда пары кружатся и выделывают всевозможные па, пристукивая каблуками по блестящему паркету в такт музыке, из белых плетеных клеток выпускают две дюжины разноцветных австралийских вьюрков, и те начинают биться крыльями о стеклянный потолок в тщетной попытке вырваться на волю. Снова разносят шампанское. Партнер Матильды Сент-Гоур, молодой человек во фраке и черной бабочке, с гладко выбритым подбородком, большим носом, открытым лицом и глазами, в которых затаилась надежда, отлучается, чтобы принести ей веер, а вернувшись, не находит ее на месте — девушку увлек в северо-восточный угол огромного танцевального зала (сегодня на адмиральском приеме господствует тема римских садов) Роланд Шриксдейл Третий. Выздоравливающий молодой наследник так и не научился танцевать, однако же мать уговорила его пригласить на медленный, не требующий особого умения вальс очаровательную дочь Сент-Гоура Матильду, ибо Анна Эмери вбила себе в голову, что ее единственный сын должен жениться; влюбиться, как положено молодым людям, в достойную девушку и жениться; и если на то будет Божья воля, подарить ей внука или внучку — «чтобы я отошла в вечность с улыбкой на устах».
Итак, застенчивый неловкий Роланд приближается к возбужденной, с затаенной хитрецой в глазах красавице Матильде. Он такой здоровый, что легко мог бы придавить хрупкую девушку, однако умеет съеживаться и становиться меньше, и тогда кажется, что перед вами не взрослый мужчина хорошо за тридцать, а застенчивый четырнадцатилетний подросток.
— Извините, мисс Матильда, не позволите ли пригласить вас на тур вальса? — запинаясь и мучительно краснея, спрашивает Роланд. Матильда с непринужденной улыбкой отвечает:
— Спасибо большое, Роланд, но, знаете, я что-то устала, так что, наверное, этот танец мне лучше пропустить.
Роланд издает отчетливый вздох облегчения. Они с Матильдой глядят друг на друга, сказать им, похоже, нечего. Наконец Роланд приглушенно, так, чтобы услышала только Матильда, говорит:
— Как жаль, что вьюрки не поют, правда? Пока они только гадят на нас.
Матильда улыбается полувесело-полусердито:
— Но ведь не на вас, дорогой Роланд?
— Да и не на вас, дорогая Матильда.
Матильда в некотором смущении опускает взгляд на свое воздушное шифоновое платье с белыми и розовато-лиловыми оборками. Оказавшиеся поблизости гости поглядывают: ну что, решится ли Роланд, отважится ли, сможет ли преодолеть свою роковую застенчивость и пригласить девушку потанцевать? Бедняга Роланд! Девственник в свои — тридцать пять, кажется? И все-таки пережил, правда, едва-едва выжил при этом, такие приключения на Западе, какие мало кому из его филадельфийских знакомых оказались бы под силу. Наследник такого количества миллионов, что разом и годового процента не подсчитаешь.
Тем не менее дочь Сент-Гоура, судя по виду, едва выносит его присутствие. В отличие от отца, не успевшего износить и туфель, в которых шел за гробом, и отправившегося на охоту (он завоевал один из главных призов Филадельфии), несмотря на то что Эва Клемент-Стоддард — разбитое сердце! — поклялась (по слухам) никогда, никогда не выходить больше замуж.
Матильда быстро выходит на укромный балкончик, где можно под предлогом желания глотнуть чистого воздуха выкурить тайком крепкую сигарету. К удивлению сочувствующей публики, Роланд следует за ней, почти не хромая. Миссис Анна Эмери, глядя вслед удаляющимся «голубкам», приходит в необыкновенное возбуждение. Несмотря на слабеющее зрение, больные почки, рассыпающиеся кости, ничто не приводит ее в такой трепет, как надежда взять на руки маленького Роланда Шриксдейла Четвертого.
Матильда, попутно прихватив со стола наполовину наполненный бокал шампанского, залпом осушает его и говорит Роланду, который, запыхавшись, остановился прямо позади нее:
— И как это тебе удается выдержать? Это ведь, насколько я понимаю, настоящая темница. Смерть.
Роланд не сводит с нее печального, умоляющего влюбленного взгляда — на случай, если кто-то наблюдает за ними, в чем можно не сомневаться. Прищурившись и закуривая, он отвечает:
— Ошибаешься. Смерть — это дерьмо во рту, и никакой музыки.
— Так вот, значит, где пребывает «Роланд Шриксдейл Третий» — в дерьме?
— Заткнись.
— Но почему? Никто же не слышит. Даже отец.
Роланд начинает говорить жестяным голосом Харвуда, затягиваясь при этом быстро и часто, словно хочет поскорее докурить сигарету.
Он опасается, что они наняли детектива, Ищут доказательства. Пауза. Роланд смеется, прикрывает рот ладонью и серьезно заключает:
— Надеюсь, улик не осталось.
— То есть трупа? Трупа настоящего наследника?
Матильду, то есть Миллисент, трясет. То ли от ненависти к зверюге-брату, то ли от страха, то ли от собственной отваги, оттого, что решилась спросить. Она хочет убежать, вернуться в зал, где грохочет музыка и звучит веселый смех, но он удерживает ее, крепко ухватив за запястье. Говорит — все тем же, «харвудовским» голосом:
— У меня есть отцовское разрешение. Благословение. И ты с нами в одной упряжке. А знаешь, есть в этом что-то… никогда бы не подумал… какой-то азарт. Как будто сидишь на взбрыкивающем бычке. Пока держишься, пока не затоптали, сам себе кажешься бычком; сам кого хочешь затопчешь. Вот этого я никак не предполагал.
Лучше бы Миллисент не понимать брата, и на какой-то миг она притворяется, что не понимает.
— Это ловушка, Харвуд, — говорит она. — Даже для тебя это смерть.
Но Харвуд, то есть Роланд, только смеется, тонко взвизгивая.
— Кто такой Харвуд? Не знаком.
Миллисент смотрит на своего скотину-брата во фраке, при бабочке, в накрахмаленной белой рубашке, с аккуратно зачесанными назад набриолиненными жесткими волосами. Половину его лица уродует продольный шрам, похожий на шнурок. Его блестящие слюдяные глазки улыбаются; он излучает… невинность? простодушие? А что, если он больше не Харвуд как таковой, если он и впрямь перенял индивидуальность убитого им человека?.. Милли чувствует, как кровь отливает от лица. Ей хочется присесть, преодолеть слабость, но Харвуд, то есть Роланд Шриксдейл, продолжает словно железным обручем стискивать ей запястье.
Да, ловушка. И, да, азарт. Игра.
По поводу принца Элиху, скандального героя статьи, вынесенной на первую полосу нынешнего, воскресного, номера «Нью-Йорк геральд трибюн», Абрахам Лихт заявил тоном, исключающим дальнейшее обсуждение вопроса:
— Мы такого не знаем и никогда не знали. Ты, видно, не в себе, Милли, слишком много шампанского вчера выпила, а ведь я тебя предупреждал.
— Мне совершенно не нужно быть «в себе», отец, — спокойно отвечает Милли, — чтобы узнать Элайшу в лицо.
Несильно пристукнув кулаком по столу, как бродвейский актер, каждый жест которого доведен до такого совершенства и так узнаваем, что ему нет нужды даже доводить его до конца, Абрахам Лихт говорит:
— Милли, дорогая моя, ты не видела этого «принца Элиху» в лицо — ты видела только его фотографии в газетах.
По поводу «Роланда Шриксдейла Третьего» Милли хотела бы поговорить с Абрахамом Лихтом серьезно; это правда, что наняли частного детектива? И еще: Анна Эмери действительно хочет, чтобы у Роланда с Матильдой… был роман?
Сначала Абрахам Лихт отказывается говорить на эту тему.
Замечает лишь, что Матильде незачем волноваться на сей счет.
И даже чересчур пытливой Миллисент.
Но на следующий день, будучи в приподнятом настроении, вызванном удачной, судя по всему, игрой в покер в филадельфийском клубе для самых избранных, куда недавно приняли Алберта Сент-Гоура, Абрахам Лихт признался Милли, что да, несколько месяцев назад по следу Сент-Гоура пустили детектива; и по следу Харвуда тоже; наверняка и о ней не забыли.
— Но мои информаторы уверяют, что этот тип, некто Гастон Баллок Минз из частного детективного агентства Бернса, сдался ввиду полной безнадежности дела. Так что никакой угрозы он для нас не представляет.
— Никакой угрозы! Если старый Стаффорд Шриксдейл и его сыновья подозревают в чем-то Харвуда, то от этого просто так не отмахнешься. Мы в опасности.
— В опасности? Да Бог с тобой, Милли.
— Прошу тебя, отец, ты недооцениваешь наших противников.
— В таких делах «противников» вполне можно воспринимать как «сообщников». Мне прекрасно известно, что и Стаффорд Шриксдейл, и Бертрам, и Уиллард, и Лайли, и другие подозревают Роланда. Но видишь ли, они загнаны в угол. Они никогда не посмеют обвинить Роланда, то есть не посмеют затеять судебный процесс. Филадельфия — слишком добропорядочный город для таких скандалов, дорогая. Что же касается тебя, то можешь даже «выйти» за Харвуда, то есть, я хочу сказать, за Роланда. Чтобы, так сказать, завершить композицию нашего спектакля.
— Выйти? За собственного брата?! За этого зверя?! За… убийцу?!
— Миллисент! Замолчи!
На сей раз Абрахам Лихт грохает кулаком по столу изо всей силы, так что подскакивают чашки, блюдца и приборы.
— Но ведь это так и есть, он убийца, — упрямо повторяет Милли. — Двоих уже убил. Ты это знаешь, и я это знаю. Он убил эту несчастную женщину в Атлантик-Сити, в чем обвинили Терстона; и он убил Роланда Шриксдейла — это же ясно. А ты готов простить его. Ты даже, судя по всему, не помнишь.
— Хорошая память не американская добродетель. Если это мешает делу, о прошлом лучше забыть. Ибо что такое прошлое, как не…
— …кладбище Будущего. Верно. Но оно может быть и чертежом Будущего. Ибо люди склонны повторяться; человек, убивший однажды, может убить во второй раз, а человек, убивший дважды, может убить и в третий. И на твоей совести будет, если…
— Милли, мне совершенно не нравится твой тон. У нас тут не бродвейская мелодрама, и ты не исполняешь роль какой-нибудь задиристой помераночки, которых так обожают филадельфийские дамы. Нельзя разговаривать с отцом так… высокомерно. Так по-мужски. Что, если кто-нибудь подслушает? Всегда надо иметь в виду, что слуги могут оказаться шпионами Шриксдейлов; точно так же, как у них в доме есть парочка слуг — шпионов Алберта Сент-Гоура.
— Правда? — Милли улыбается, для нее это новость. — Кто же это? И с каких пор?
— С того самого дня, как я увидел в Филадельфии Гастона Баллока Минза с перекрашенными волосами и усами и понял, что Шриксдейлы установили за мной слежку. Это было несколько месяцев назад. Что же касается того, кто именно из их слуг — мои шпионы, то тебе это знать необязательно; достаточно помнить, что в делах, связанных со слежкой и подкупом, лучше иметь дело с мужчинами, чем с женщинами. Ибо мужчину — любого мужчину — всегда можно купить; а у женщин — даже здравомыслящих — есть слабость: верность.
При этих словах Милли смеется; потом уходит, покачивая головой и продолжая смеяться, словно то, с чего начался их разговор, сколь бы печальным, неприятным и серьезным ни было это начало, полностью растворилось в добродушном юморе Абрахама Лихта.
В конце концов, может быть, отец мудрее всех нас. Может, он все сделает как следует, нужно просто довериться ему?
Ну что за славная пара! И кто бы мог подумать.
Хотя, похоже, они стесняются друг друга. Даже она.
С другими молодыми людьми бойкая, а с Роландом скромная, застенчивая. Наверняка это неспроста.
Только скромная молодая женщина и может понравиться Роланду. Чем больше у молодой женщины шарма, тем больше он боится ее и, как черепаха, прячется в свой панцирь.
Бедный мальчик. Столько пережил. И такой храбрый. Такой добрый. Знаете ли, даже сейчас Анна Эмери молится за него — «чтобы он женился, завел детей и стал таким, как все».
Нельзя не заметить, что Матильду Сент-Гоур и Роланда Шриксдейла Третьего сводят. Таков замысел филадельфийских вдов из круга Анны Эмери, да и самой Анны Эмери, которой в деловитости не откажешь; она из тех стареющих дам, что под маской совершенного простодушия прячут стальную волю. Однажды Матильда с большой неохотой откликнулась наконец на очередное приглашение Анны Эмери прокатиться с нею и ее сыном на север, в графство Бакс, «подышать свежим воздухом да природой полюбоваться», зимним воскресным днем, когда земля покрыта свежевыпавшим снегом, там так чудесно; к тому же Роланд только что купил новую заграничную машину, лимонно-желтый седан «пежо» — колеса со стальными спицами, панели из красного дерева, сиденья из кремовой кожи. Анна Эмери сама, как девчонка, кичится дорогой машиной:
— Под стать Роланду, правда? Такая красавица.
Матильда поражена, Роланд (насколько это возможно, конечно) выглядит на редкость ладно: твидовое шотландское пальто реглан с поясом, коричневая кожаная фуражка, темные очки и краги придают ему военный вид; даже Анна Эмери, глуховатая, полуслепая старуха, вечно жалующаяся на различные недомогания, особенно на постоянную головную боль, сегодня — вся в мехах, с прямой спиной — неотразима на заднем сиденье «пежо». А рядом с молодым Шриксдейлом — тоже в роскошной горностаевой шубе, в шляпе и с муфтой из того же меха (рождественский подарок отца) — сидит Матильда Сент-Гоур: кожа цвета слоновой кости, к губам приклеена легкая улыбка… и на всем двухчасовом пути сказать ей Роланду почти нечего, как и ему — ей.
Интересно, разочарована ли миссис Шриксдейл тем, что «юные влюбленные» чувствуют себя так скованно? Даже поглядывают друг на друга как-то неохотно, пока она без устали болтает, обращаясь к их спинам. Если и так, она умело скрывает это; Анна Эмери хорошо воспитана, иными словами, она — женщина-стоик, филадельфийская дама. И лишь когда, ближе к вечеру, они возвращаются в город и везут Матильду домой, на Риттенхаус-сквер, она негромко произносит:
— Мне показалось, что день получился такой чудесный, такой многообещающий…
Но ни Роланд, ни Матильда не откликаются.
У дома Сент-Гоуров, в северо-восточном углу красивой площади, Роланд тормозит, останавливается и вежливо провожает Матильду до крыльца. Приличия требуют, чтобы он поддерживал ее под локоть, но при его прикосновении девушка вздрагивает и вполголоса говорит:
— Не надо, Харвуд, прошу тебя.
Он спрашивает своим низким скрипучим голосом:
— «Не надо» — что?
Она отвечает:
— Оставь ее в покое. Оставь в покое эту добрую, бедную, глупую старушку.
Он смеется. Он с такой силой стискивает ее локоть, что она чувствует боль, несмотря на густой мех.
— А зачем? Скоро у меня будет право опеки. Так отец говорит.
На случай, если кто-нибудь подглядывает за тем, что происходит в просторном, жарко натопленном холле, Роланд с робкой улыбкой влюбленного склоняется над затянутой в перчатку рукой Матильды. Девушка снова содрогается и неловко отшатывается от него.
— Убийца! — шепчет она.
Сквозь зубы, в которых зажата десятидюймовая сигара, спутник шепчет в ответ:
— Негритянская подстилка!
У лисички Мины глаза превращаются в щелочки, Мойра тяжело дышит в предчувствии опасности, но ничего не поделаешь: Матильде Сент-Гоур, плывущей в волнах светлого газового платья, с нитью светящегося розового жемчуга на шее, придется танцевать с кузеном Роланда, Бертрамом — верзилой с сердито ощетинившимися усами и острым, проницательным взглядом. Друзья зовут его Берти, но Сент-Гоуры к кругу друзей не принадлежат. Я в лунном свете плыл… звучала песнь моя… но ни Матильда, ни ее деревянный кавалер не вслушиваются в слова новой популярной песенки, ибо Матильде ясно: этому человеку известно все. Его дыхание — это дыхание гончей, горячее и влажное; ноздри его орлиного носа вздрагивают; он ни слова не говорит Матильде, а Матильда — ему, но в танце эти двое првязаны общим знанием; это почти эротическая связь.
Музыка умолкает. Партнеры без улыбки расходятся.
Бертрам Шриксдейл кланяется и говорит негромко:
— Благодарю вас, мисс Сент-Гоур, за прекрасный и поучительный танец.
Матильда Сент-Гоур изображает нечто, отдаленно напоминающее реверанс, и почти шепчет:
— Это вам спасибо, мистер Шриксдейл.
Позднее Милли спрашивает себя: Уж не во сне ли все это мне привиделось?
Ибо, как ей теперь стало ясно, рискованность Игры состоит, в частности, в том, что слишком часто даешь волю воображению. Или слишком редко.
Утром за завтраком она разглядывает собственное тусклое отражение в лезвии ножа, перепачканного малиновым джемом, а отец, тихонько насвистывая арию из «Дон Жуана», стремительно перелистывает газеты и делает карандашные пометки на полях биржевых новостей. Сегодня Абрахам Лихт, как это с ним случается, в добродушном, загадочном настроении. Прочитав, что Генри Форд сильно погорел на своих планах по производству авиамоторов, оборудования для подлодок и других военных заказах («и, судя по всему, отказался от своих замыслов установить мир в Европе»), Абрахам ухмыляется (он так и не простил Генри Форду его фантастического успеха с марками «Т» и «А» своих автомобилей, ибо четверть века назад сам рассчитывал запатентовать «четырехколесное, на безлошадной тяге» транспортное средство с открытыми, в форме санных полозьев, шасси, четырехцилиндровым двигателем и узкими велосипедного типа колесами; об этом проекте, возникшем еще до рождения Милли, она слышала лишь мельком и считала его чистым бредом. Это надо же придумать, велосипедные колеса! Однако же Абрахам Лихт был твердо убежден, что Генри Форд лишил его законной прибыли и законного места в американской истории).
Милли неожиданно, будто ей это только что пришло в голову, говорит:
— Да, отец, по-моему, ты забыл предупредить Дэриана и Эстер, что у них скоро будет новая мачеха. Надо бы им приехать в Филадельфию заранее, познакомиться с Эвой.
— Нет, дорогая. Вовсе нет. Я хочу сказать — не забыл.
Абрахам Лихт не поднимает глаз и продолжает делать заметки на полях газеты.
— Да? Значит, они приезжают? И на свадьбе будут?
— Нет, дорогая. Боюсь, что нет.
Милли пристально смотрит на отца, раздраженная его уклончивостью.
— Извини, отец, но все же: им известно об Эве и твоей женитьбе или нет?
— Слишком много вопросов, Милли! Это же не отбор актеров для какой-нибудь сомнительной бродвейской комедии. Нечего меня подкалывать.
Милли надувает губки, Милли роняет нож, и он с укоризненным стуком падает под стол. Ее беспокоит, что в последнее время отец, похоже, больше делится своими планами с Харвудом, чем с ней; не то чтобы ее гордость была уязвлена — хотя и это тоже; просто Харвуд может сбить отца с толку, и кончится это катастрофой.
Милли думает о Дэриане и Эстер… хотя это требует некоторых усилий. Младшего брата и сестру она любит, или любила бы, если бы могла почаще видеться с ними, если бы жизнь в Филадельфии… не отнимала у нее все время. Буквально на днях она получила от Дэриана нотную запись песни «Для голоса Милли, и только, и только», попробовала наиграть мелодию, но никакой мелодии, собственно, не было. Странная композиция: слишком много долгих пронзительных нот выше верхнего до, с ремарками типа: «бурно-элегически». Неужели Дэриан всерьез рассчитывал, что она будет это петь? Она еще не ответила на его последнее письмо, впрочем, не только на последнее, но надеялась, что он простит ее. Виновато спросила Абрахама Лихта, послал ли тот цветы, как собирался, по случаю дебюта Дэриана и не забыл ли заплатить за очередной семестр, на что Абрахам Лихт раздраженно ответил:
— Милли, я отец мальчика. И надеюсь, меня нельзя упрекнуть в том, что я не исполняю родительских обязанностей.
Да и на письма Эстер, еще менее интересные (если говорить по правде), чем послания Дэриана, Милли тоже отвечала не прилежно. Эстер пишет, и пишет, и пишет про Мюркирк так, словно это центр Вселенной, а не занюханная деревушка в медвежьем углу; ее письма написаны дрожащей от восторженного возбуждения рукой школьницы, в них все время упоминаются люди, чьи имена ничего не говорят Милли, — какие-то Дирфилды, Вудкоки, Эвинги, Маккеи… При последней встрече Эстер удивила Милли своим ростом: в свои двенадцать лет девочка оказалась выше, чем сама Милли в двадцать три (сейчас обе стали на год старше). В отличие от расчетливой, практичной Миллисент Эстер застенчива и в то же время говорлива; тоща и подвижна; неуклюжа и услужлива, и уж точно лишена того, что называют шармом. «Женщина, у которой нет шарма, должна обладать добрым сердцем», — сказал однажды по другому поводу Абрахам Лихт, но то же самое он мог бы сказать о собственной младшей дочери. У Эстер были волнистые темные жестковатые, как собачья шерсть, волосы; глаза умные, добрые, орехового цвета, и в общем — никакие; фигура мальчишечья — длинные ноги и узкие бедра. Милли была совершенно потрясена, услышав, что Эстер хочет, чтобы ей как можно скорее исполнилось восемнадцать лет, тогда она сможет вступить в Красный Крест и отправиться во Францию.
— О Господи, Эстер, это еще что за фантазии! — воскликнула Милли. — Ведь сам вид крови ужасен. К тому же мы даже в войну еще не вступили.
Эстер живо откликнулась:
— Да, но в Красном Кресте уже работает много американских девушек и женщин, не меньше, чем мужчин воюет в армии союзников. Неужели ты не понимаешь, что безвинным жертвам войны нужна наша помощь независимо от того, объявлена официально война или нет.
В этом, вынуждена была признать Милли, имелась своя логика; тем не менее при мысли о человеческих телах, не говоря уж о раненых телах, а тем более об умирающих, ей становилось плохо. Через церковь, продолжала Эстер, она познакомилась с женщиной, которая набирает добровольцев для детского отделения больницы Красного Креста во Франции; и с еще одной женщиной, та добровольно работает сестрой в лазарете Бове; и еще с одной, она выносит раненых и искалеченных прямо из-под огня. В Париже есть отряд Красного Креста при госпитале, где mutilés[30], как их называют, делают лицевые протезы, в том числе по индивидуальным заказам (маски из металлических пластин толщиной с бумажный лист).
— Ты только представь себе, Милли, вот бы чем заниматься! — У Эстер даже глаза разгорелись. — А ведь такой работы полно.
— Не сомневаюсь, — заметила Милли.
Эстер уговаривала Милли похлопотать перед отцом, чтобы тот разрешил ей как можно быстрее поступить на курсы медсестер в Контракэуере, но Милли, хоть и пообещала, так с отцом и не поговорила. Ей дурно становилось при одной только мысли о… mutiles. Несчастные парни (и девушки?), которым придется до конца жизни ходить в металлических масках.
Абрахам Лихт отрывает Милли от воспоминаний, смягчая тон (биржевые новости отодвинуты в сторону вместе с огрызками жареного хлебца и остывшим беконом):
— Возвращаясь к твоему вопросу, Милли: я решил, что разумнее будет до времени Дэриану и Эстер ничего не говорить. Ну, про мачеху.
— Отец, а это… не слишком?
Насупленные брови. Абрахам Лихт резко поднимается из-за стола.
— То есть я хочу сказать… ты что, вообще не собираешься встречаться с ними в присутствии Эвы? Но ведь ты не бросишь их?
Абрахам Лихт по-прежнему хмурится, бросает на дочь сердитый взгляд: ну как, мол, можно быть такой несообразительной.
— А-а, понимаю, — в недоумении бормочет Милли. — Ты не хочешь, чтобы Эва про них знала. Одной падчерицы, Милли, вполне достаточно. Ясно.
— Вот именно, — говорит Абрахам Лихт, направляясь к двери, явно довольный тем, что Милли не подкачала, — вполне.
Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Осколки сна, отрывочные воспоминания о вчерашней грозовой ночи. Она снова дитя, под пятой у своей безумной, одержимой жаждой мщения матери. Снова дитя, зачатое в грехе. Несчастная, спасти которую может только Иисус.
Твоя мать была религиозной фанатичкой, говорит отец.
Никто, кроме отца, тебе не нужен, он спасет тебя. Нужны лишь разум, здравомыслие и четкий план будущего.
Стоя у большого окна в спальне апартаментов на шестом этаже «Риттенхаус армз» и глядя на заснеженную площадь — скрещивающиеся дорожки, фонтан в центре, большие вязы с голыми ветками, — она думает: Принеся столько боли женщине, которая была моей матерью, я заслужила то, чтобы терпеть боль ради самой боли.
И все же Миллисент страшно. Что ей делать после женитьбы отца на Эве Клемент-Стоддард? Самой выйти замуж? Но… за кого?
На шумном многолюдном приеме в Лонг-Вью, загородном поместье Маркуса Ван Хорна, Алберт Сент-Гоур отводит дочь в сторону и шепчет на ухо:
— Матильда, видишь вон ту женщину напротив? Она болтает с Роландом и его матерью. Ну, та, что в зеленом крепдешине, с рыжевато-каштановыми волосами. Да-да, та самая. Это жена сенатора Коллиса Свифта, нас только что познакомили, они с мужем из северной Виргинии, сейчас гостят у Ван Хорнов — да, для своего возраста довольно эффектная женщина. А теперь слушай меня, дорогая, — Сент-Гоур торопится, стискивает руку дочери, — я не прошу тебя знакомиться с ней, то есть в смысле формального представления, просто, как только эта дама отойдет от Роланда и миссис Шриксдейл (а это будет скоро: они оба большие зануды), встань где-нибудь поближе и, весело глядя мимо нее, как бы в дальний конец зала, сделай вид, что зовешь некую Арабеллу — не забудь только: смотреть надо мимо нее; ну и посмотри, как она отреагирует.
Сент-Гоур пристально, не сводя глаз, смотрит на вышеупомянутую даму; давно Матильда не видела своего уважаемого отца таким возбужденным на людях. Но прервать себя вопросом он не позволяет, нет времени.
— Давай, давай, дорогая, — шепчет он, — посмотрим, что будет.
Матильда охотно повинуется; она всегда рада повиноваться отцу, когда дело нетрудное и с привкусом тайны.
И когда она подходит поближе к вышеупомянутой даме (а та и впрямь хороша, разве что полновата и косметики слишком много) и непринужденно, хотя и достаточно громко восклицает: «Арабелла, эй, Арабелла!» — делая вид, что весело машет кому-то в дальнем конце комнаты, жена сенатора Свифта реагирует самым неожиданным образом: она не поворачивается к Матильде, даже не глядит в ее сторону, но резко выпрямляется, и лицо у нее каменеет, словно ее ударило током. Мало-мальски проницательному наблюдателю становится ясно, что дама в зеленом решительно не хочет оборачиваться и что все ее физическое усилие, вся воля направлены на то, чтобы не обернуться.
Потом, в мгновение ока, все меняется; Матильда проходит мимо; у жены сенатора Свифта появляется возможность оглянуться, незаметно, словно невзначай, однако же с явным облегчением, ибо она убеждается, что это «Арабелла!» скорее всего относилось не к ней и что теперь, в 1916 году, и здесь, в этом обществе, вряд ли может относиться.
Внезапно, безо всякого предупреждения — ибо какое может быть предупреждение? — вечером 18 декабря на приеме с танцами, устроенном парой, чьи имена выскочили у Миллисент из головы, внезапно является ее Спаситель.
Окликает взволнованно: «Мина?..»
Скользя меж зеркалами в Золотом зале, совсем не пьяная (выпила всего два-три бокала шампанского), но, может быть, и не вполне трезвая (ибо трезвой быть так скучно), она оборачивается на ходу, пожалуй, чуть резковато, и видит — кого же она видит?
Молодого человека лет тридцати, незнакомого; но стремительность, детский восторг, с каким он к ней бросается, настораживают. Впрочем, в следующий же миг молодой человек смущенно извиняется, ибо, конечно, девушка, которую он так бестактно окликнул, это не Мина Раумлихт, а Матильда Сент-Гоур, которая смущенно протягивает ему руку и, вопреки всем правилам этикета, представляется первой.
Залившийся краской молодой человек называет себя:
— Уоррен Стерлинг, родом из Контракэуера. Но сейчас я из Ричмонда, Виргиния, работаю там у дяди в адвокатской конторе.
(Уоррен Стерлинг. Знакомое имя. Оно ей что-то напоминает. Но по непроницаемому лицу Матильды этого не скажешь).
— …извините, что обеспокоил, мисс Сент-Гоур, — взволнованно говорит Уоррен Стерлинг, не выпуская из руки тонкой ладони в перчатке, — простите, ради Бога, но вы очень похожи на девушку, которую… с которой я однажды повстречался. Я назвал ее для себя «Авьеморской девой» — это героиня одной старой романтической истории, о которой та девушка скорее всего ничего не знала, как не знала, спешу заметить, и меня. Вы прямо как сестры, мисс Сент-Гоур, чуть ли не близнецы. Хотя прошли годы… и все мы немного постарели.
— Как, вы говорите, ее звали? — осторожно спрашивает Матильда.
Уоррен Стерлинг повторяет имя. С поклоном.
— Боюсь, вынуждена разочаровать вас, мистер Стерлинг, — говорит Матильда.
После этого события развиваются стремительно.
Для точности — в течение ближайших трех часов сорока пяти минут.
И в ходе несколько поспешно организованных в последовавшие дни одной-двух встреч.
Ибо привязанность Уоррена Стерлинга к исчезнувшей Мине Раумлихт мгновенно переносится на живую Матильду; а Матильда, потеряв голову и утратив всю свою надменность, неудержимо тянется к нему. («Он любит меня, — думает она. — Разве этого недостаточно для того, чтобы и я его полюбила? К тому же Уоррен Стерлинг хороший».) Заливаясь слезами, в порыве откровенности, во время третьего свидания в чайном салоне на Риттенхаус-сквер, она признается, что зовут ее не Матильда, а Миллисент, или Милли; Матильда — это просто каприз ее властного отца, он стал называть ее так после смерти матери (Милли было тогда двенадцать), которую звали Миллисент.
— Милли — чудесное имя. Миллисент. Оно замечательно подходит вам, — говорит Уоррен Стерлинг, поедая ее любящими глазами.
— Отец у меня, видите ли, человек со странностями, — слышит Милли собственный голос, — властный и даже жестокий человек. Боюсь, моя привязанность к другому мужчине, любому мужчине, кроме него самого, будет воспринята как предательство.
— Право, мне не хотелось, чтобы… сделавшись моей невестой, вы предали отца, Милли, — говорит Стерлинг, порывисто прижимая к груди ее ладони в перчатках.
— Мне тоже, Уоррен, — изнемогая от счастья, говорит Милли, — но чему быть, того не миновать. Как на небесах, так и на земле.
«Бык»: посланник
Несчастная Анна Эмери Шриксдейл: хотя ей всего немногим больше семидесяти пяти, кости ее сделались такими тонкими и хрупкими, что как-то, когда она, поддерживаемая Роландом, прогуливалась, бедренная кость левой ноги буквально переломилась надвое; и настолько острая боль пронзила ее, так страшно было ей думать, что вновь она окажется прикованной к постели, что бедняжка так и не оправилась, она часами лежала в забытьи, безудержно рыдала, бредила, молилась, умоляла Роланда не отходить от нее; а ранним утром 19 декабря 1916 года впала в кому, из которой, судя по словам ее врача, «ей вряд ли суждено было выйти».
— Сделайте все, лишь бы мама выжила. — Роланд места себе не находил. — Но не смейте преступать границы «естественного закона», ни на минуту искусственно не продлевайте страданий несчастной женщины!
Часами Роланд нес бессменную вахту у постели миссис Шриксдейл, домашние это отметили; гладил ее бессильно упавшую руку, говорил звонким, мальчишеским голосом, случалось даже, напевал ей колыбельные, которые она давным-давно пела ему. Потом вдруг вскакивал, требовал принести газеты и что-нибудь поесть, а также несколько бутылок эля — доходило даже до того, что он закуривал сигару прямо в спальне больной! — только потому, естественно, что слишком уж беспокоился за миссис Шриксдейл, беспокоился настолько, что обычная способность к здравому суждению оставляла его (если же врач миссис Шриксдейл делал замечание, Роланд кротко тушил сигару).
В конце концов, это свершилось, как впоследствии высчитали, между двенадцатью и часом ночи 20 декабря: Роланд незаметно вышел из спальни матери и вообще покинул Кастлвуд-Холл, чтобы, к изумлению и ужасу всей Филадельфии, никогда не вернуться.
В то время тщательно держалось в секрете, что Роланд Шриксдейл Третий, любящий и послушный сын, примерный прихожанин, молодой человек, чья застенчивость с женщинами стала притчей во языцех, сразу после возвращения с Запада приобрел совсем иную репутацию в двух-трех веселых заведениях Филадельфии: в заведении миссис Ферли на Кловер-стрит его любовно и даже не без восхищения называли Медведем, а у мадам де Вьонне на Сэнсом-стрит — Быком. Скорее из-за хорошего воспитания, нежели от намерения обмануть кого-то, Роланд обычно назывался в этих заведениях вымышленными именами — Кристофер, Хармон, Адам и т. п., а обстановка там была такова и люди, с которыми он общался, настолько дипломатичны, что лишь немногие (естественно, только мужчины) знали о его двойной жизни.
(Ибо именно это выражение — «двойная жизнь» — вообще-то говоря, грубое и шокирующее, вошло в обиход после того трагического события, которое газеты на всем Восточном побережье в своих аршинных заголовках назовут «Вторая кончина Роланда Шриксдейла»).
Именно туда, в роскошное заведение мадам де Вьонне, направился в ту ночь безутешный Роланд на своем «пежо»; и, как обычно, провел несколько целительных часов в Голубой комнате на втором этаже в обществе двух самых неотразимых красоток мадам де Вьонне, которые впоследствии засвидетельствовали незаурядную силу и неутомимость Быка. То, что бедняга Роланд ни в малейшей степени не выдал подавленности, которую, несомненно, испытывал в связи с болезнью матери, вполне соответствовало, как заявила мадам де Вьонне, безупречным манерам молодого человека; ибо он не принадлежал к числу, увы, немалому, тех зануд, которым почему-то нравится таскать за собой свои беды туда, где о них как раз положено забывать.
После сеанса терапии Роланд попрощался с девушками и мадам де Вьонне, не забыв о щедрых чаевых. Он покинул ее коричневокаменный особняк, воспользовавшись боковым выходом, и направился, укрываясь от снега, мягкими хлопьями падавшего на землю, к оставленному поблизости «пежо». Но не успел он открыть дверцу, как внезапно, настолько внезапно, что он и опомниться не успел, рядом с ним возникли двое — или трое? — мужчин приблизительно его роста и веса, которые крепко ухватили его под локти; он даже лиц их не сумел разглядеть: они надвинули ему шляпу на глаза и прижали руки к бокам.
— Мистер Шриксдейл, — сказал один из них фальцетом, — нас срочно послала за вами Анна Эмери.
— Но… я вполне способен и сам доехать… как раз к ней и направляюсь. — Роланд попытался вырваться. Но второй мужчина, упершись мускулистой рукой ему в подбородок так, что ему пришлось, давясь и задыхаясь, встать на цыпочки, сказал точно таким же тонким глумливым голосом:
— Мистер Шриксдейл! Нас послал ваш давно упокоившийся отец с заданием немедленно доставить вас к нему.
«Алберт Сент-Гоур, Эсквайр»
— Значит, вот как? «…он, человек, шагнул над тесным миром, возвысясь, как Колосс!..» — негромко декламирует Абрахам Лихт, заканчивая свой тщательный туалет и обращаясь к собственному отражению в зеркале в четверть первого пополудни 21 декабря. — Да, именно так, точно.
При помощи ручного зеркала он несколько минут критически оглядывает себя со всех сторон и находит вид удовлетворительным — хотя несколько седых прядей и морщины на лбу при таком освещении в глаза все же бросаются; к тому же, как он и опасался, избыточный вес чуть портит римский абрис его лица. В то же время выходной костюм — в данном случае фрак, высокий французский воротник, бабочка — подчеркивает его врожденный аристократизм и, можно сказать, возвышает дух.
Дух или тлеющий огонь? Через час будущий муж заедет за Эвой Клемент-Стоддард, чтобы сопровождать ее в Лэнгорн-Холл; отметить помолвку миссис Клемент-Стоддард и Алберта Сент-Гоура, эсквайра, там соберется вся Филадельфия.
В назначенный час адмирал Клемент объявит день свадьбы: 30 марта 1917 года.
— Я доволен? Почти. Мне больше ничего не надо? Почти. Я всех победил? Почти.
И я люблю эту женщину.
Глубоко посаженные глаза, в которых мерцает тайна; улыбка, подлинная улыбка Абрахама Лихта на какой-то головокружительный миг накладывается на улыбку Алберта Сент-Гоура.
И увидел Бог, что это хорошо.
В этот момент кто-то звонит в дверь, и слуга Сент-Гоура спешит открыть.
Абрахам Лихт настолько поглощен сегодняшним вечером — апофеозом, или почти апофеозом всего, к чему он стремился на протяжении целой жизни, — что решает снисходительно отнестись к странному поведению дочери на минувшей неделе. Он объясняет частые отлучки Милли из дома, как и ее удивительную рассеянность, своей предстоящей женитьбой. (Ибо, естественно, Абрахам ничего не знает об Уоррене Стерлинге, даже имя молодого человека ему неведомо; не говоря уж о стремительно обретающих форму собственных свадебных планах этого джентльмена и его, Сент-Гоура, дочери — а может, это будет тайное похищение?) «Милли ревнива, Милли опасается будущего, бедняжка, ее можно понять. Но неужели я, отец, брошу ее? Никогда!» Еще он решил выкинуть на время из головы Дэриана… от которого только нынче утром получил неприятное, вызывающее письмо.
(Письмо Дэриана, чего трудно было ожидать от такого послушного и разумного сына, выглядело как непозволительно грубый выпад против Абрахама Лихта, которого он называет «дурным отцом». Дэриан возлагал на него вину за смерть Софи — его и Эстер молодой матери — и, далее, упрекал его в забвении ее памяти. Дэриан явно писал письмо в отчаянии, поспешно нанизывая слова; четырехстраничное послание, написанное на тетрадном листе, кончалось так: «Ты лишил нас матери, ну а я отрекаюсь от всего, что связано с отцом. Клянусь, мы больше не увидимся. Отныне я ни слова тебе не скажу. Я тебе больше не сын — ДО КОНЦА ДНЕЙ СВОИХ.
P.S. Деньги за очередной семестр в Вандерпоэле я нашел сам, но на следующий год сюда не вернусь.
Дэриан».)
«С Дэрианом разберусь в свое время, — неуютно поеживается Абрахам Лихт, — а пока остается надеяться, что малому достанет такта не поделиться своим возмущением с Эстер».
Но об этих неприятных вещах Абрахаму Лихту долго думать не хочется, потому что мерцающий земной шар снова представляется ему размером с яблоко, которое надо сорвать и разжевать с хрустом, а дни, месяцы и годы, ведущие к этому мигу, — пустяком, «не более чем дуновением ветерка». Даже при желании он не мог бы возродиться в облике того испуганного ребенка шести или семи лет, которого однажды нашли измученным и голодным на сельской дороге неподалеку от необозримых мюркиркских болот; он не мог бы возродиться ни таким, каким был тогда, ни голодным юношей, любовником, мужем, каким доводилось быть после… Что же касается женщин, которых было много в его жизни и на которых он потратил столько чувств, то их он и вовсе вспоминать не хочет. Они разочаровали его: но с Эвой Клемент-Стоддард все будет иначе.
Можно надеяться, что у них и ребенок будет. Сын? Впрочем, и дочь неплохо! На замену тем, кто его предал.
Он пребывает в таком приподнятом настроении, его так взбодряет бокал хереса, из которого он прихлебывает во время своего длительного и придирчивого туалета, что поначалу Абрахам Лихт едва обращает внимание на странные большие коробки, которые посыльный доставил на имя «АЛБЕРТА СЕНТ-ГОУРА, ЭСКВАЙРА»; они обернуты в жесткую серебристую бумагу и обвязаны позолоченными лентами с бантиками; необычного размера — одна вроде шляпной, другая — цилиндрической формы, третья — квадратная, остальные — длинные и узкие, как для цветов. Даже если в приложенной к посылке визитке:
ПРИВЕТСТВУЕМ И ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ГУЛЯЙ — ПРОЩАЙ!
АЛБЕРТУ СЕНТ-ГОУРУ, ЭСКВАЙРУ —
таится какая-то насмешка, то не в таком сейчас Абрахам настроении, чтобы обращать на это внимание. Напротив, пребывая в возвышенных чувствах, он думает, что эти изящно обернутые дары и должны быть посланы ниоткуда — ниоткуда и никем.
«Проклятие! Совсем не осталось времени, — думает Абрахам, бросая взгляд на золотые карманные часы — не единственный подарок из семейного достояния Эвы. Но очень уж хочется побыстрее открыть одну-другую коробку: может, там найдется что-нибудь, что позабавит мою голубку?»
И, насвистывая любимую арию из «Дон Жуана», он поспешно разворачивает пакет средних размеров, отмечая попутно его необычную тяжесть. Ясно, что это не одежда. Тогда что? Предмет искусства?
Оказывается — жестянка со знакомой эмблемой продуктовых магазинов «Фортнэм», Лондон. (Все правильно, Алберт Сент-Гоур когда-то жил в Лондоне.) Крышка закрыта плотно, так что открыть ее стоит некоторых усилий; приходится воспользоваться столовым ножом, орудуя им, как рычагом; заглянув внутрь, он некоторое время потрясенно разглядывает содержимое — кусок сырого мяса? Баранина? Говядина? Покрытая темными курчавыми волосами? К горлу подкатывает приступ тошноты. Кому пришло в голову доставлять посылку из мясного магазина таким диким образом? На внутренней стороне крышки запеклась свежая кровь, к ней прилипли костный мозг, ошметки хрящей, отвратительные клочья мяса.
— Какой кошмар! — восклицает Абрахам. Уж где-где, но в Филадельфии…
Дрожащими руками, но с той стоической решимостью, что характерна для всей его жизни и карьеры, с сознанием того, что надо идти до конца, даже если конец этот горек, Абрахам срывает обертку с еще одной коробки и заглядывает внутрь, чтобы увидеть — о Боже! — отрезанную по самую лодыжку мертвенно-белую обнаженную человеческую ступню с искалеченными пальцами и ногтями, под которые забилась грязь.
Стиснув зубы, Абрахам угрюмо берется за коробку поменьше — в ней несколько фунтов кишок, собранных в отвратительно-склизкую кучку.
Жаль, право, напишет впоследствии Абрахам Лихт в своих мемуарах, что, воображая себя баловнем судьбы, на самом деле с удачей он был не в ладах, на самом деле она ему изменяла, потому что стоило начать с коробки из-под шляп, где была голова Харвуда, и я сразу оценил бы весь ужас положения и избавил себя от дальнейшего.
Часть третья
Завершенья нет… Нечего передавать в наследство и нечего советовать. Прощайте.
Уильям Джеймс, 1910 г., незадолго до смерти
Кровавая Роза!
…Потрясенно шепчет умирающая женщина не старше Эстер: смотрите! Кровавая роза!.. хотя смотрит при этом безотрывно в потолок и не может видеть черной крови, медленно растекающейся вокруг ее бедер, пропитывающей матрас. О Боже, помоги! Кровавая роза!.. лихорадочное забытье, сухой жар, такой сильный, что, прикоснувшись к коже женщины, пальцы Эстер начинают гореть, она укладывает больную поудобнее, а другая сестра, постарше, упорно пытается остановить кровь: внезапно стены комнаты словно бы сдвигаются.
Смерть. Так внезапно. Эстер смотрит не мигая, лишившись дара речи, потрясенно, словно Жизнь перешла в свою противоположность из-за ее ошибки, которую — знать бы только, в чем она состоит, — можно исправить.
Позднее о покойнице (девятнадцати лет от роду, матери троих детей) говорили: о чем она думала, решаясь на такое? Если трое уже есть, то какая разница — четверо, пятеро? Или шестеро?
Выживи она, обвинение выдвинули бы против нее, но не против мужа, который больше не жил с семьей.
Кровавая роза, в ужасе, завороженно думает Эстер, прижимаясь лбом к окну в комнате общежития, меж тем как другие практикантки щебечут о чем-то у нее за спиной; а над головой витает Смерть, страх обволакивает тонкой пеленой, липкий пот покрывает тело. Отсюда, стоя спиной к однокашницам, толпящимся в комнате, Эстер с трудом различает — уже сумерки — изящные силуэты, в которые складывается туманная дымка, которая в это время всегда окутывает долину, наползая непрозрачными облачками, затрудняя дыхание. По ночам ударяет мороз, трава в поле, примыкающем к госпиталю, неравномерно покрывается хрустящей корочкой льда, и утром Эстер мучительно преследуют мысли о Мюркирке и доме… Ведь она, кажется ей, так от него далеко, и, вполне вероятно, как предупреждала Катрина, обратный путь будет опасен.
Стоя спиной к освещенной комнате, вглядываясь в сгущающуюся тьму, в Смерть, Эстер видит, как на стекле начинают медленно проступать ее собственные туманные очертания. Они становятся все отчетливее, все резче, это она сама.
Кровавая роза, шепчет Эстер.
Кровавая роза, пишет она Дэриану, рассказывая об этом и о похожих — теперь это сделалось для нее повседневностью — случаях, о случаях, потрясающих воображение, у кого оно есть, конечно (Дэриан — только он — мог бы написать музыку, на подобные сюжеты), а она не находит слов, корявые пальцы стараются удержать перо, но перо слишком тонкое, стоит чуть нажать — рвет бумагу. А ведь так много надо сказать, так много! Но она не в силах говорить! Слова в горле превращаются в слезы, и она не в силах говорить! Пытается описать (но брат за сотни миль отсюда, он не услышит, не поймет) свою жизнь практикантки, одной из трехсот таких же, как она, в школе подготовки медсестер при главном госпитале в Порт-Орискани. Но все ей противится — бумага, перо, чернила, слова. С каким трудом они складываются, слова, неуклюже ворочаясь во рту, застревая на разбухшем языке. Эстер хотелось бы рассказать Дэриану о молодой матери, которая только накануне истекла кровью, а доктора рядом не было, но разве само слово «кровотечение» не делает отстраненным, не переводит на язык медицины то, что было таким подлинным, первый опыт общения Эстер со Смертью, потрясенность Смертью, красная кровавая роза, внезапно расцветшая во вполне обычной комнате… Эстер хотелось бы рассказать Дэриану про удивительную, неудержимую силу, которая волнами накатывает на нее, а после оставляет больной, обессилевшей, изможденной… и все же одухотворенной. Эстер София Лихт, впервые в жизни оказавшаяся далеко от Мюркирка, студентка училища для медсестер при госпитале в Порт-Орискани, в накрахмаленной белой шапочке, халате и переднике, в белых чулках и белых туфлях.
Ибо белизна — цвет чистоты. Идеализма.
Тайна Эстер, которой она поделится с одним только человеком во всем мире — с Дэрианом: через ужас обретаешь счастье. Не для того я на этой земле, чтоб мне служили, служение — мой удел.
Усердная Эстер, порывистая Эстер, Эстер, такая добрая и наивная, пишет и молодому человеку по имени Аарон Дирфилд, который далеко отсюда, учится на подготовительных медицинских курсах при университете Олбани. Аарону, которого обожает с восьмого класса школы; Аарону, которого ее внимание и верность смущают, но который все же позволяет любить себя, хотя и не может, как он, мучительно заикаясь, объявил ей, ответить тем же.
Да, Аарон поклялся, что, если он когда и полюбит женщину (чего может и не случиться, он уже пытался), то это будет Эстер.
Это наполняет Эстер чувством горячей смутной радости. Так, словно она уже любима.
Аарону Дирфилду Эстер пишет по несколько пространных писем в неделю, и не важно, что отвечает он не чаще раза в месяц, да и то бегло.
Да, это ее привилегия — описывать занятия, повседневную работу в госпитале, интересные случаи, сопровождая все это выразительными эскизами портретов врачей, опытных медсестер, наставников, соучениц, — получаются настоящие «характеры». И точно так же ее привилегия — любить его.
У большинства из ее однокашниц есть приятели. Что-то вроде женихов. Любовники. А девушки постарше и покрасивее — такие слухи усиленно распространяются — заводят романы с докторами.
С женатыми мужчинами.
(И чем такие романы оканчиваются. Иногда.)
(Об этом Эстер Аарону Дирфилду не пишет.)
Да, Эстер счастлива, ей оказана честь. Ее захватывают человеческие существа, а вовсе не болезни и несчастные случаи; хотя именно эти последние служат для нее как для медсестры мостиком, по которому она подходит к ним вплотную.
Захватывает плоть. Рисунки в книгах по анатомии, фотографии. Потрясающие рисунки Леонардо да Винчи, воспроизведенные в томе in folio, что она купила за восемь долларов у букиниста в городе. Открытия, которые она совершает в анатомическом театре и которые поначалу шокируют, отвращают, пугают, а после возбуждают и учат. Потому что насколько же естественно человеческое тело, насколько оно… обычно. И все же — поразительны особенности плоти, различия в толщине, в твердости. Как приблизительны слова, когда о человеке говорят: белый, черный, цветной. И как странно, что мы, как в панцирь, закованы в плоть от рождения до смерти.
Наш первый долг — служить плоти. Чужой плоти.
Облегчать боль, возвращать здоровье. Укреплять дух.
Не наказывать, лишая того, на что мы способны.
Не судить, не читать мораль, не наказывать. Не быть пособниками Смерти.
После двенадцати-пятнадцати часов, проведенных на ногах, у Эстер гудит голова. Бессонные часы, когда тебе командуют: туда! сюда! сделай то! сделай это! и немедленно! Госпиталь — гигантский корабль, оказавшийся посреди моря в ежеминутно меняющуюся погоду, капитан — главный врач, а офицеры — врачи рангом пониже, все — исключительно мужчины; затем идут медсестры и их помощницы, исключительно женщины. Эстер не приходит в голову подвергать сомнению эту двойную иерархию, ибо она, как и все остальные, включая старших сестер, у которых опыта да и умения порой больше, чем у молодых врачей, убеждены: такова неколебимая основа, на которой держится Вселенная. Верно, в школе и Эстер Лихт, и Аарон Дирфилд получали высшие оценки; в биологии, быть может, Эстер была даже сильнее, но никому из них и в голову не пришло усомниться, что в медицинский колледж должен поступать Аарон. Отец Эстер, ее сестра Милли, даже Катрина были против ее учебы на курсах медсестер. Фу! Кровь, трупы. Экскременты. Как ты можешь во всем этом пачкать руки?
Был и другой подтекст: кто же возьмет в жены медсестру?
И все же Эстер счастлива. Пусть она часто простужается — вирус постоянно гуляет по помещениям для медсестер, да и по всему госпиталю. Лихорадка, инфекция, мучительные приступы кашля, которые убивают тех, кто слабее, даже если они госпитализированы совсем по другому поводу. Такова рутина медицинской жизни, и ничего с этим не поделаешь. По крайней мере так думают в 1918 году. Или так хочется думать Эстер, влюбленной в свое предназначение.
В конце концов, отец, видя, как ей хочется стать медсестрой, сдался. Может, смирился с тем, что Эстер так же упряма и настойчива, как Дэриан, и все равно станет медсестрой — с его благословения или без оного. Он театральным жестом извлек из кармана чековую книжку: «Сколько стоит семестр? Или лучше — год?»
Бедный папа. Он вернулся в Мюркирк прямо накануне Рождества 1917 года, больной и измученный; он пережил депрессию вроде той, что случилась с ним много лет назад, когда Эстер была еще совсем девочкой; ему вновь пришлось оставить дело и залечь на дно в Мюркирке, где Катрина и Эстер вернули его к жизни.
Он проболел почти три месяца. Похудел и постарел; а более всего напугало Эстер то, что, как она писала Дэриану, он одряхлел душой, случилось нечто такое, о чем он никогда не расскажет.
Абрахам Лихт — таков уж он есть — не мог не видеть, как его дочь «столь откровенно вздыхает» по соседскому сыну, Аарону Дирфилду, и, словно школьница, восхищается доктором Дирфилдом, а ведь тот всего лишь сельский врач — «мясник, так, кажется, этих типов называют». Презрение придавало сил Абрахаму; как наблюдательно заметила Эстер, ее отец оживлялся, когда кому-то — даже воображаемому оппоненту или врагу — надо было противостоять. Ей это пошло на пользу, однажды она услышала, как отец говорил Катрине: «Пусть уж лучше девочка, если ей так хочется, поступает на свои курсы. Будет подальше от Мюркирка и этих жалких Дирфилдов. Надо же, чтобы моя дочь — и влюбилась в такого деревенщину!»
Дни, недели, месяцы… с самого начала Эстер принялась вести дневник, куда записывала малейшие события, но вскоре забросила — стало не хватать времени, времени не было совсем; она потеряла счет смертям (а ведь каждая жизнь так драгоценна, так неповторима), рождениям (а каждое рождение — невыразимое чудо)… и письмам, в невероятной спешке, но с таким искренним чувством написанным Аарону Дирфилду и другим: отцу, Милли, Дэриану, Катрине… которые отвечают совсем не так или не отвечают вовсе. Может быть, я слишком сильно их люблю? Может быть, пугаю их своей преданностью?
На курсах энергия Эстер, ее неутомимость, самоотверженность, способность без сна работать сутками напролет вызывают преклонение, восхищение, порой раздражение, а кое у кого насмешки и зависть. Однако никого не удивит, что Эстер София Лихт среди семидесяти трех выпускниц окончит курс первой.
Но однажды утром она стремительно, перескакивая через три ступеньки, взлетает на свой этаж, в душную тесную комнату, где вместе с ней живут еще три курсистки, моет лицо в тазике с почти холодной водой и, протерев глаза полотенцем, вдруг видит в камине, где только что не было никакого огня, пылающую кровавую розу; она настолько потрясена, что из глаз у нее текут слезы; она, Эстер Лихт, которая никогда не плачет, теперь никак не может унять рыданий, хотя давно уже привыкла к Смерти и счастлива, очень счастлива, — это она не устает себе повторять.
Воля
— Я не больна — я здорова.
— Я не больна — я здорова.
— Я не больна — я здорова.
Эту мантру пациентов клиники «Паррис», что находится в городке Аннандейл-на-Гудзоне, штат Нью-Йорк, заставляют повторять по сто раз на день; про себя или хором; с открытыми или плотно закрытыми глазами. Упражнение известно под названием аутогенного самосовершенствования, оно изобретено доктором Феликсом Бисом, соучредителем, наряду с доктором Моисеем Либкнехтом, клиники «Паррис». Здесь больным внушают, что точно так же, как физические недуги вылечиваются при помощи эликсиров, диеты, горячих ванн, гидротерапии, травяных настоек и прочего, недуги душевные с их более тяжелыми последствиями отступают перед Самосовершенствованием. Это восточная методика, восходящая к йоге и буддистским учениям, однако доктор Бис и доктор Либкнехт утверждают, что она наилучшим образом подходит для условий Северной Америки, «где воля и предназначение — единое целое».
Паралич, рак, нервные расстройства; ослабление умственной деятельности и депрессия; анемия, ушные боли, мигрень, разнообразные склерозы, отек слизистой; слабоумие, старение — все это не более чем симптомы душевного дисбаланса, который лечится в клинике «Паррис»; при условии предварительного соглашения, подтвержденного нотариально заверенным документом, в котором говорится, что желаемый эффект может быть достигнут лишь в случае «активного содействия» пациента. Среди постоянных обитателей клиники «Паррис» — восьмидесятисемилетняя старуха, которую вылечили от глаукомы и воспаления подвздошной кишки; девяностотрехлетняя старуха с некогда искалеченными артритом ногами, а ныне разъезжающая по территории клиники (пятьдесят акров) на велосипеде и играющая в теннис; восьмидесятишестилетний старик, раненный в грудь при Бул-Ране и чем только не переболевший впоследствии — и сердечная недостаточность у него была, и диспепсия, и быстрая утомляемость, и астма, — а недавно, в результате строгой диеты, горячих ванн и аутогенного самосовершенствования, он заявил, что совершенно здоров и подумывает об очередной женитьбе. Самый знаменитый пациент клиники — преклонных (по слухам, ста девятнадцати) лет мужчина, страдающий от обычных болезней возраста (артрит, воспаление десен, головокружение и т. д.), который после курса аутогенного самосовершенствования и других процедур, предлагаемых клиникой, не только женился в восьмой раз, но и произвел на свет своего двадцать первого ребенка, здорового мальчишку — об этом в свое время вовсю трубили нью-йоркские газеты. Среди бывших пациентов клиники — гроссмейстер по шахматам, в девятнадцатилетнем возрасте страдавший тяжелой формой меланхолии, многочисленные ветераны Первой мировой — ныне они полностью вылечились и вернулись к активной жизни; многочисленные женщины, ранее подверженные неврастении, истерии, меланхолии, аменорее, приступам агрессивности либо, напротив, полного безволия — они тоже, в разной степени, оправились и вновь сделались добропорядочными дочерьми, женами и матерями.
Клиника «Паррис» была основана в 1922 году благодаря щедрому дару одной пожилой дамы, некой миссис Флаксман Поттер, вставшей в ряды последователей учения доктора Биса; она завещала этому вызывающему разноречивые отклики врачу-исследователю свое имение, включая просторный особняк в георгианском стиле со множеством пристроек. Были и другие дары от благодарных пациентов, которым вернули здоровье; понятно, что функционирование такого хозяйства (техническое обслуживание дома о сорока комнатах, благоустройство территории, водоснабжение процедурных кабинетов, ванн и душей и т. д.) требует не меньшего внимания, чем духовные потребности пациентов. Руководители клиники «Паррис» торжественно обещают, что никто из тех, кто войдет в ее железные ворота, не станет жертвой смертельного заболевания, включая старость; однако же загадки человеческого организма неисповедимы, так что бывают исключения, результатом чего становятся судебные процессы или угрозы судебных процессов со стороны родственников умерших, детей, лишившихся родителей, бывших врачей и т. д. Помимо того, добрая воля властей графства и штата нередко стоит дорого. Отсюда — проблема платежеспособности, иначе говоря, потребность в полноводных финансовых потоках. При всем идеализме своих директоров клиника «Паррис» не в состоянии открывать двери всем, кто в ней нуждается, — только тем, кто может позволить себе немалые расходы.
Весной 1926 года биржевой спекулянт с Уолл-стрит по имени Артур Грилль накануне отъезда в Неаполь с молодой женой решил поместить в клинику свою страдающую психическими расстройствами дочь Розамунду; цена, названная доктором Бисом, его потрясла, но по зрелом размышлении он согласился, что в таких вещах, как физическое здоровье, деньги отступают на второй план. Незадолго до того, после перемирия, овдовевший мистер Грилль разбогател, подобно многим спекулянтам; акции общей стоимостью в 400 000 долларов за какие-то восемнадцать месяцев стремительно подскочили в цене и достигли 3 миллионов; это было еще в начале двадцатых годов, а с тех пор Грилль и вовсе стал мультимиллионером. Что не уберегло его от несчастья, когда сначала совсем еще не старой умерла его жена, а потом на единственную дочь обрушились всяческие загадочные болезни — обмороки, тахикардия, мигрени, анемия, потеря аппетита, меланхолия и все такое прочее. Розамунда была воздушным созданием, влюбленным в поэзию, а к таким поэтам, как Китс, Шелли, Чаттертон, Байрон — то есть к тем, кто окончил жизнь трагически или скандально, — испытывала прямо-таки болезненное пристрастие. Между шестнадцатью и двадцатью годами Розамунда сама принялась за сочинительство и увлеклась стихами настолько, что семья вынуждена была вмешаться и, дабы дело не кончилось нервным срывом, запретить ей писать; это-то и привело к тому, что непокорная девица в неистовстве сожгла свои стихи на большой лужайке перед домом Гриллей на Лонг-Айленде, а затем впала в глубокую депрессию. В результате, к невыразимому горю матери, пришлось отменить ее дебют в «Котильон-клаб», и сезон 1929 года был для нее безвозвратно потерян.
Позднее, когда летаргический сон закончился и Розамунда увлеклась лепкой глиняных фигурок под руководством модного скульптора, она вновь с таким самозабвением погрузилась в эту, по ее выражению, работу, что пришлось вторично прибегнуть к запрету, и результаты оказались еще печальнее, ибо на сей раз нервная девица, выйдя из сомнамбулического состояния, пустилась во все тяжкие, сделавшись постоянной посетительницей джазовых клубов на Манхэттене, где молодежь, несмотря на только что принятый «сухой закон», вовсю пила, танцевала до упаду и вообще предавалась всяческим порокам; она связалась с молодым антрепренером, который совершенно не нравился ее родителям, а после скандального разрыва с ним на глазах у честной публики в отеле «Плаза» — с молодым бродвейским актером, который нравился Гриллям еще меньше. Впав в настоящую истерию, как охарактеризовал ее болезнь домашний врач, Розамунда зачастила в такие злачные места, как «Мальборо-клаб», «Сторк-клаб» и «Элен Морган», где однажды была арестована во время полицейской облавы. При этом безумствовала она, по словам свидетелей, безо всякого удовольствия, скорее наоборот — против воли.
Казалось, что молодое поколение сжигало себя, искало разрушения и даже смерти в формах «удовольствия», и все это — только для того, чтобы насолить старшим.
В беседе с докторами Бисом и Либкнехтом Артур Грилль признался, что известным своенравием его дочь отличалась с младенчества, но когда ей исполнилось тринадцать, что совпало с первой атакой болезни ее матери, с ней стало по-настоящему трудно совладать.
— Славная девчушка куда-то исчезла, превратилась в упрямую и хитрую злюку, которой казалось, что она мечется в клетке, что со всех сторон ее преследуют болезни и беды и что избавить от них ее «может только смерть». Можете себе представить, каково нам с матерью было слышать эти слова.
С тех пор Розамунда так и не оправилась. Она часто грозила что-нибудь с собой сделать, сжечь свои прекрасные черные волосы, расцарапать в кровь кожу или, как Офелия, одна из любимых ее героинь, утопиться. «Меня никто не любит», — повторяла она. Или: «Меня слишком любят, я этого не заслуживаю». Она то уповала на Божье милосердие и свое «спасение», то вдруг заявляла, что Бог — «это полный идиотизм» и лично ее вполне устраивает происхождение от африканской обезьяны. После смерти матери, сочтя, что превратилась в двадцатичетырехлетнюю старую деву, Розамунда в лихорадке рухнула на постель и проспала восемнадцать часов подряд; теперь она не говорила, а исключительно вещала, как какая-нибудь Сивилла: «Трагедию уничтожил фарс», «Вечности смешны претензии времени» — и тому подобное. Несчастного отца все это озадачивало и злило. Мистер Грилль показывал ее разным специалистам, переводил из клиники в клинику, умолял, требовал, чтобы она вела себя соответственно положению и происхождению, — все без толку.
Ибо, при всех своих истериках и спектаклях, девушка действительно была больна, серьезно больна.
По совету знакомого с Уолл-стрит Артур Грилль решил на время своего свадебного путешествия по Европе (с горя мистер Грилль внезапно влюбился в молодую, на двадцать лет его моложе, женщину — вдову солдата, убитого во Франции) вверить Розамунду попечению докторов Биса и Либкнехта. Десятки эскулапов вынуждены были отступить — может, у этих что-нибудь получится; в любом случае, угрюмо заявил он, поскольку так худо, как сейчас, в свои двадцать семь лет, Розамунда никогда еще себя не чувствовала, вреда не будет.
— Если бы я был суеверен — а я не суеверен, — заметил мистер Грилль в разговоре с докторами, — глядишь, поверил бы, что в мою бедную дочурку вселился злой дух.
«Злой дух! Смех да и только. Гораздо хуже: отсутствие злого духа. В том-то и беда».
Розамунда Грилль была гибкой, стройной, болезненно худощавой молодой женщиной, которая выглядела скорее лет на семнадцать, а не на двадцать семь, с влажными зелеными, как изумруд, глазами, которые то искрились вдруг лукавой улыбкой, то излучали недоверие, с пикантной горбинкой на прямом носу — следом перелома, полученного, по ее словам, в ходе полицейской облавы, — с упрямым, но очаровательным ртом и бледной кожей, которая, судя по виду, почти не знала солнечного света. Ее руки были сплошь покрыты порезами и царапинами — Розамунда называла их «иероглифами, только лишенными смысла». В копне чудесных иссиня-черных блестящих волос виднелись кое-где мертвенно-белые нити; перед тем как лечь в клинику, Розамунда небрежно подрезала волосы ножницами и решительно отказалась идти к парикмахеру исправлять нанесенный ущерб. Случалось, она мгновенно переходила от игривости к черной меланхолии. Когда доктор Бис осматривал ее (не придавая большого значения физическому состоянию пациента, он тем не менее отдавал себе отчет в том, что вовсе пренебрегать им нельзя), она стояла, словно аршин проглотив, с трудом подавляя желание оттолкнуть чужие, точнее, мужские руки. Высоко подняв красивую голову, прикрыв зеленые глаза, Розамунда Грилль, казалось, не слышала вопросов доктора Биса и реагировала на них не живее, чем манекен — на руки закройщика. Доктор Либкнехт, нацепив пенсне на переносицу и с симпатией поглядывая на молодую женщину, задавал ей свои вопросы:
— Мисс Грилль, вы понимаете, что ваша «болезнь» — это бунт воли, направленный против вас самой? — и, не слыша ответа, раздражался, судя по виду, даже сильнее коллеги. Упрямица, не зря отец предупреждал. Придется повозиться, если вообще что-нибудь получится.
Позднее, когда они остались вдвоем, доктор Бис, отвинчивая крышку серебряной карманной фляги, лениво проговорил:
— Остается надеяться на две вещи: во-первых, что девчонка подольше не придет в себя и, во-вторых, что миссис Грилль не слишком быстро промотает денежки своего мужа.
Доктор Либкнехт, сняв пенсне и задумчиво потерев глаза, вдохнул, пожал плечами и ничего не сказал, словно не доверяя в данный момент собственному языку.
— Я не больна — я здорова.
— Я не больна — я здорова.
— Я не больна — я здорова.
Розамунда прикусывает нижнюю губу, чтобы не расхохотаться, и ощущает соленый привкус крови. Ее душат слезы. Стиснув кулаки, она колотит по чему попало, и это производит такой переполох в отделении серных ванн для дам, что врач вынужден отвести ее в палату.
— Не прикасайтесь ко мне! Терпеть этого не могу!
Она хочет сказать, что с нее довольно, никто в этом не виноват, но хватит с нее; с другой стороны, ей страшно «рухнуть в пустоту», и потому надо продолжать; даже не из гордости, из трусости.
— Я не здорова — я больна.
Сердце ее трепещет. Вот-вот выскочит из груди. Пульс доходит до двухсот пятидесяти ударов в минуту, врачи предупредили, что, если она не попробует успокоиться, это может плохо кончиться.
В принципе аутогенное самосовершенствование представляется ей, несмотря на явно шарлатанский характер клиники «Паррис» (рай для богатых невропатов, отверженных и неудачников), разумной идеей. Она признает, что ее заболевание — заболевание душевное и что оно идет изнутри ее самой. Чтобы справиться с болезнью, надо всего-навсего справиться с «собой» — ее источником, но как в точности это делается? Повторение мантры «Я не больна — я здорова», «Я не здорова — я больна» — это то же, что повторение слов «четки», «немота», «гипноз», «глупость», «стыд». Смех переходит в приступ кашля. Кашель — в удушье. Удушье сопровождается сердцебиением. Сердцебиение влечет за собой обморок. Ее раздувшиеся живот и мочевой пузырь болят от немыслимого количества минеральной воды, которую ее заставляют поглощать, — двенадцать пинт в день.
Бесчувственное тело, распластанное в разве что не кипящей ванне. По мраморному, с прожилками, краю рассыпались влажные пряди черных волос, напоминающие растопыренные паучьи лапы. Глаза с набрякшими веками закрыты. Пушистая пена повторяет очертания худощавого тела: выпирающие острые ключицы, маленькая тугая грудь с ягодками сосков. Она грубо мнет грудь, и в этом жесте нет ничего эротического, ей просто нужно убедить себя, что она существует. «Я не больна — я здорова. Здорова ли?» Она думает о Бисе и Либкнехте, этой паре клоунов.
Один — скользкий, притворно-ласковый, весь трясется, как студень, — весит наверняка больше двухсот пятидесяти фунтов при росте пять футов девять дюймов; голый конусообразный череп с пучками седых волос по краям; жирная шея, норовящая вывалиться из воротника. Настоящий доктор — все честь по чести, мистер Грилль проверял, диплом от почтенного медицинского учебного заведения, репутация крупного психотерапевта, вылечил много людей, главным образом состоятельных.
Другой, Либкнехт, внушает Розамунде страх. Он — полная противоположность Бису: высокий, жилистый, наблюдательный; цепкий взгляд, проникающий прямо в мозг Розамунды (одна из пациенток, вздрагивающая в соседней ванне, утверждает, что Либкнехт обладает даром читать мысли); суровые скулы, кожа такая тугая, что кажется, будто жира под ней нет ни грамма; веет от него каким-то суровым состраданием, болью, утратой. Среди пациентов клиники «Паррис» бытует легенда о трагическом прошлом Либкнехта — в свои шестьдесят с небольшим он фигура едва ли не романтическая — то ли ветеран войны, то ли еврей-эмигрант. Уж во всяком случае, не ординарный врач, как его толстяк партнер, а психолог или психотерапевт, говорят, учился с самим Зигмундом Фрейдом и был центральной фигурой на Гаагском международном психоаналитическом конгрессе в 1920 году. (Фрейд! Как все самые блестящие люди своего круга, Розамунда читала разнообразные эссе Фрейда, а также развернутые аннотации его главных работ, горячо воспринимая идею таинственного бессознательного как могучего источника либидо, а также идею Эго как вместилища и самосознания и фобий, или идею Суперэго как безличного сознания, угрюмого, скрипучего, подавляющего голоса авторитета. Меньше интересовала Розамунду Фрейдова теория сексуальности, согласно которой женщина мстит за кастрацию, или анатомическую неполноценность, одним из трех способов: сексуальной агрессивностью, либо, напротив, отказом от секса, соперничеством с мужчиной в форме лесбийской любви; либо перетягиванием отцовского либидо от матери на себя, она меняет объект своего сексуального интереса — то женщина, то мужчина — и мечтает о ребенке, преимущественно о ребенке мужского пола, как заменителе утраченного пениса. «Но я совершенно не хочу ребенка, — бушевала Розамунда. — Я даже пениса не хочу… слишком большая обуза!») Если Либкнехт и был фрейдистом, Розамунде он ничего об этом не говорил, только повторял своим добрым, но властным голосом одну из мантр клиники:
Вы больны только потому,
что против вас восстала ваша собственная Воля,
и именно Воля исцелит вас.
Розамунда видит Либкнхета, даже когда его нет рядом, ибо, если верить некоторым пациентам, глаза его обладают способностью просвечивать душу, как рентген, а мысли он читает на расстоянии. Бис — тяжеловесное потное присутствие; Либкнехт — загадочное отсутствие. В худшие дни, когда Розамунда слишком измучена, чтобы встать с постели или выбраться из расслабляющей ванны, при приближении этого человека с вечно суровым выражением лица она ежится от страха; хоть ее трепещущие ресницы и опущены, она видит, что смотрит он на нее так, словно ему всегда и все известно; и вот уже голос, ее собственный голос, звучит в ее сознании: Это не чья-нибудь, это твоя воля, Розамунда. Твоя.
Апрель. Пасха. Розамунда пробуждается от длительного, тягучего оцепенения и обнаруживает, что она… это она. Отец бросил ее, а родственников или друзей, о которых можно было бы вспомнить с симпатией, нет; любовники прошли сквозь ее тело, как разряд электричества, не оставив по себе памяти; скоро ей исполнится двадцать восемь: голос звенит в ушах: Я не больна, я здорова! Не здорова, больна! Не больна — не здорова! Я — не я! В комнате отдыха сидит миссис Харолд Бендер, из семьи манхэттенских Бендеров, лицо у нее нарумянено, нос — как клюв у попугая, голос низкий, интонации наполовину удивленные — наполовину хвастливые. Несмотря на постоянные заклинания — «Я здорова! здорова! здорова и скоро вернусь домой, как раз к майскому турниру по бриджу, в котором так удачно выступила в прошлом году», — она умирает (от какой-то болезни, которая пожирает ее на глазах). Глаза бесплотного призрака в белом с алчным блеском так и впиваются в Розамунду. Тут же престарелый капитан-паралитик с головой, как у черепахи, и глазами, сонно прикрытыми тяжелыми веками, он с прищуром глядит на Розамунду и пускается в воспоминания о временах, когда он был высоким, неотразимым офицером армии Соединенных Штатов, отвечал за целый район из тех, на которые Юг был поделен после войны в соответствии с законом о Реконструкции, а кузеном его был конгрессмен Тадеуш Стивенс, фигура более влиятельная, чем президент Эндрю Джонсон — во всяком случае, в течение некоторого времени. Вроде бы, продолжает капитан, они с Розамундой когда-то встречались, правда, давно. Или это была ее мать? А может, бабушка? Природа сыграла с ним злую шутку, смеется капитан, когда-то он был молод, а теперь стар; когда-то высок, а теперь настоящий карлик — «но, знаете ли, дорогая, по-настоящему это — не я». И еще — пухлая женщина с печальными глазами, где-то между тридцатью и сорока, незамужняя дочь одного из пользовавшихся дурной репутацией министров в кабинете президента Уоррена Гардинга; говорят, она несколько раз покушалась на самоубийство, смешивая аспирин и алкоголь в повышенных дозах; она никогда не поднимает голос выше шепота и всегда ходит с опущенным взглядом. И еще — престарелая Тиа Флэннер, некогда танцовщица Нью-Йоркского балета и любовница несчетного количества богачей, а теперь женщина, искалеченная артритом, с лицом, напоминающим помятый куль, с пальцами, скрюченными, как птичьи когти, почти слепая и тем не менее постоянно болтающая о дисциплине, которая якобы вернула ей здоровье и молодость. И еще — ходячий скелет, Дэвид Джонсон Браун, самый модный нью-йоркский архитектор бурных времен конца прошлого века, когда богачи строили себе огромные дома на Парк-авеню, Пятой авеню и в окрестностях; настойчиво заглядывая Розамунде прямо в глаза, он выспрашивает, видела ли она его дома, его творения (да, видела, более того, жила на Шестьдесят шестой улице в кирпичном доме, некогда выстроенном Брауном) и почему бы ей не выйти за него замуж, он очень богат, у него огромные связи, и он знает, как сделать женщину счастливой.
Чтобы избавиться от этих призраков в душном Аиде, Розамунда убегает в английский сад; есть тут, прямо у подножия холма, лужайка, поросшая можжевельником; дрожа, она останавливается на берегу пруда, мечтательно вглядывается в водную гладь, покачивается из стороны в сторону, вдыхает тяжелый запах прибрежных растений и водорослей, ступает в воду — та на удивление тепла, — заходит по пояс, руки слишком тяжелые, чтобы воздеть их в мольбе о помощи, где-то внизу, под водой, шевелится, вздрагивает, извивается полуобнаженная женщина, небо тоже внизу, бледное, с прожилками, светлое по краям.
— Розамунда, не надо!
Это сказал доктор Либкнехт, сказал негромко, но повелительно. Розамунда оглядывается, но никого вокруг нет. Она дышит тяжело, как загнанный зверь, вонзая ногти в маленькую, тугую, никому не нужную грудь. Под ногами ил, на живот, на бедра давит вода.
«Но почему не надо? Почему?! Такова моя воля». От злобы, от отчаяния она начинает рыдать. Либкнехт, откуда-то — то ли из тени на берегу, то ли из зарослей можжевельника, то ли наблюдая за ней сквозь одно из бесчисленных окон, на которые падает последний угасающий луч заката, — повторяет:
— Нет, Розамунда, нет. Немедленно выходи из воды.
Розамунда смеется, но повинуется. Только идиот будет топиться в пруду, на поверхности которого плавают лилии да водяные ирисы, а глубина не достигает и трех футов.
Май, за ним июнь; недружная, прохладная весна; Розамунда просыпается, Розамунда засыпает, Розамуда неподвижно лежит в ванне; Розамунда шепотом твердит: Я не больна, я здорова, не больна, здорова, я — это я и не-я, до тех пор, пока ею не овладевает детский смех, она зевает над почтовой открыткой с видом Флоренции, зевает до боли в челюстях и внезапно вспоминает, как любила своего кузена Тимоти, погибшего на войне, его сбили над Коломб-ле-Белль в мае 1918 года, у нее сохранилась фотография Тима в сногсшибательной летной куртке с широким меховым воротником, в шлеме, с очками, сдвинутыми на лоб, — весь такой лихой, на губах хвастливая улыбка: да что такое, в конце концов, Война и Смерть, как не романтика и улыбка! После того как пришло извещение о его гибели (бедняга сгорел заживо в самолете), Розамунда зареклась впредь улыбаться, но доктору Либкнехту ничего об этом не сказала, потому что это умалило бы ее в его глазах: она пустая и никчемная, как все, влюблена в собственные недуги и неминуемую смерть. Розамунда рвет открытку на мелкие части и подбрасывает их кверху. До отца и новоиспеченной юной мачехи ей нет дела, право, ей все равно, как они к ней относятся, — с любовью или подозрительностью, вернутся ли они из Европы или останутся там навсегда, живы или умерли, да-да, Розамунде это совершенно безразлично, хотя доктор Либкнехт все время твердит, что это отнюдь не так, что ее это просто злит и почему бы не сказать об этом честно.
— Знаете, доктор Либкнехт, если вас действительно так зовут, — вы мне не нравитесь. Вынуждена признаться в этом.
— Имеете полное право, мисс Грилль.
— И пожалуйста, не называйте меня «мисс Грилль», точно я какая-нибудь рыба, плавающая в Северной Атлантике. Если уж так необходимо как-нибудь обращаться ко мне, зовите меня Розамундой.
Доктор Либкнехт улыбается. Да так, словно в душу к ней заглядывает.
— Хорошо. Розамунда. Очень женственное имя. И отличное прикрытие.
За обедом говорят, что бедная миссис Бендер уже не в силах оторвать голову от подушки, ей безумно хочется сыграть в бридж, не вставая с постели, дальние родственники предлагают отвезти ее домой, но она отказывается, теперь ее дом — клиника «Паррис», доктор Бис и доктор Либкнехт подарили ей надежду, когда надежды, казалось, уже не было. За стенами клиники, говорит она Розамунде, повсюду — Смерть.
Жулье, с омерзением думает Розамунда.
Надо позвонить дяде отца, Моргану Гриллю, судье Верховного суда штата, и рассказать о преступлениях, которые творятся в клинике «Паррис». Длинные ногти миссис Бендер впиваются ей в руку, испуганные глаза неотрывно глядят на нее, разве могут воля и судьба быть едины? Разве можем мы так страстно желать того, что нас уничтожит? Быстрее, пока еще не поздно! (По слухам, миссис Бендер завещала клинике миллион долларов, хотя в последние дни перед кончиной изнемогла от дисциплины и молила своих обожаемых докторов простить ее за то, что не оправдала их ожиданий.)
— Не надо слишком строго судить себя, — внушает Розамунде доктор Либкнехт, — за неспособность любить. Чтобы любить, надо иметь предмет любви. Но где этот достойный любви объект? Где он в этом помутившемся рассудком мире? На самом деле вас ведет безошибочный инстинкт, подсказывающий, что нельзя любить случайных людей, не заслуживающих вашей любви.
Розамунда хрипло смеется и шарит рукой в поисках сигареты. Доктор Либкнехт не пытается ей помочь. «Но вас я не полюблю. Как бы вы того ни заслуживали».
Разгар лета. Ночные птицы поют о Смерти, о Смерти, но в клинику поступают новые пациенты: субтильная седовласая дама в инвалидном кресле, страдающая ожирением юная особа, демонстративно несущая в руках томик Суинберна, сестры-близнецы лет пятидесяти, болтливые, как попугаи, с челками на лбу. Я не больна — я здорова. Я не больна — я здорова. Молитвенный плач одновременно исторгается из груди собравшихся вместе больных, сливаясь с хором ночных птиц, отважно возвышающих свои слабые голоса против конца света.
Приглушенные голоса Америки, думает Розамунда. Я не больна — но исцели меня! Дай мне жизнь вечную.
Как много жертв войны. И этот новый страх смерти.
Ну а Розамунда? Она легка и прозрачна, она парит над землей, как туман над Гудзоном ранним утром. Она сильна, решительна, тверда, остра, как ледоруб, — инструмент, предназначенный для того, чтобы колоть и проливать кровь.
— Я не люблю вас. Вы слишком стары. Старше моего отца. И я вам не верю. При всех ваших достоинствах.
Однако заболела же она по собственной Воле, так пусть собственная Воля ее и исцелит.
И отдаст ему.
Она жалуется на меланхолию, усталость, головокружения и потерю аппетита, она порвала открытку из Флоренции от отца и мачехи, порвала все квартальные чеки, присланные для оплаты ее пребывания в клинике «Паррис» (на которых стояла печать: ОПЛАЧЕНО ПОЛНОСТЬЮ, ибо, естественно, за все платит отец), ее озадачивает предписание доктора Либкнехта, ничего подобного ей прежде не рекомендовали: физические нагрузки и упражнения.
— Розамунда. Вставайте. Марш на улицу и шагайте на самую вершину холма. Принесите мне оттуда охапку диких цветов. Живо, пока еще не так жарко. — Он хлопает в ладоши прямо над ухом, так отдают команды собаке.
Розамунда смеется, она шокирована. Розамунда отказывается повиноваться.
Тем не менее не проходит и часа, как она на ногах, вся дрожит от нетерпения, в спортивных туфлях на толстой подошве, блузе с длинными рукавами, чтобы руки не обгорели, в тренировочных брюках мужского покроя, панаме доктора Либкнехта, сдвинутой на затылок, гладкие черные волосы небрежно собраны в пучок. Она выходит из клиники стремительно, опасаясь, как бы кто из пациентов не увязался за ней. Почти бежит. Быстрее, еще быстрее. Начинает задыхаться. Подмышки потеют. В голове шумит, сердце колотится, глаза ничего не видят. Она проходит милю, две мили, почти три, по холмистой местности, дорожка большей частью круто поднимается вверх. Никогда еще Розамунда так далеко не уходила. Она счастлива. Невыразимо счастлива. Если сердце выскочит из груди, то по вине доктора. Если она рухнет и ее придется везти в клинику на каталке, то и это будет его вина. Она глубоко вдыхает незнакомый запах сосновой хвои. Нагревшейся под солнцем травы. Слышит шепот и стрекот насекомых. Звонкий щебет птиц. На вершине собирает златоглазки и дикие астры на жестких стеблях — все это она принесет доктору Либкнехту как дар любви, ибо, конечно, она его любит.
Прикрыв ладонью глаза, Розамунда окидывает взглядом дикий луг, обрывающийся прямо у поросшего лесом берега большой реки. Как ей хорошо, как она свободна! Ноги болят, к таким нагрузкам она не привыкла, однако же как хорошо знать, что такая возможность есть и ею можно в любой момент воспользоваться: взобраться на вершину этого холма или какого-нибудь другого. Дома и территория клиники «Паррис», заключавшие для нее на протяжении нескольких месяцев целый мир, отсюда едва видны.
Она оставляет торчащие во все стороны, уже пожухшие цветы в кувшине с теплой водой на пороге приемной доктора Либкнехта. И избегает встречи с ним всю вторую половину дня, и весь следующий день, и следующий.
В уединении кабинета (который прочерчен лучами заходящего солнца, в плюще за окном — мелькание милующихся пташек) он неожиданно начинает говорить задушевно, как на памяти Розамунды никто из мужчин с ней не говорил, да и из женщин тоже.
Говорит, что любит ее.
И верит, что она любит его.
Розамунда, съежившись, зажимает уши ладонями.
— Замолчите. Я не хочу этого слышать.
А может быть, признаться: ночью она прижимает к себе страстную горячую ладонь любовника, да, это его ладонь; его голова на подушке рядом мягко касается ее волос.
А может, признаться: она безумно ревнует ко всей его жизни, прожитой до этой секунды.
— Нет, слишком поздно для меня, — шепчет она.
Он говорит, что она должна слушаться только его. Не верить никому, кроме него. Не должна сомневаться в его любви и в том, что станет его женой.
— Потому что такова наша общая судьба, Розамунда.
В уединении своего кабинета (шторы задернуты, за окном внезапно наступает тишина) он поднимается и берет ее за руки, чтобы согреть оледеневшие ладони; ее ресницы трепещут, она не смеет взглянуть на него, на месте его лица какое-то пятно, яркое пятно света; она запинается, повторяет, что слишком поздно, что она недостойна его, если бы он знал, какова она изнутри, ни за что бы не полюбил.
Но он, похоже, не слышит. Сжимая ее ладони, утешая, он склоняется над ней и прижимает губы ко лбу.
— Говорю же тебе, Розамунда, так тому и быть. Мы любим друг друга, и мы будем мужем и женой. Так нам предначертано.
Нет, думает Розамунда.
Нет, думает Розамунда. Сердце у нее колотится с такой силой, что вот-вот выскочит наружу.
Но теперь она встречает этого человека повсюду, видит из любой точки больничного сада. Стремительно разгуливая по двору в утреннем тумане, она наблюдает, как он взбирается по склону холма, и ей остается только следовать за ним. Видит, как там, за много миль отсюда, он машет ей с заросшего берега быстро текущей широкой реки. Нет! Да. Я не верю в судьбу. В несколько запущенном английском саду, среди подстриженных деревьев, на гравийной дорожке, вьющейся между величественными тополями, она видит его… он быстро сворачивает в сторону и манит ее рукой. Как странно, теперь этот человек повсюду. Рядом с нею в постели, в убаюкивающей горячей ванне… беспомощная, она не может ускользнуть от него. «Я люблю тебя, Розамунда. Потому что только я знаю, как ты страдаешь. Как больно твоей душе. Как, жаждая смерти, ты жаждешь жить. И мы будем мужем и женой — нужно только, чтобы ты согласилась».
Но нет, она не даст согласия. Потому что он слишком стар — ему за шестьдесят. И не должен он, это с его стороны непрофессионально, неэтично, говорить так с пациенткой. Ласкать, целовать, настаивать. Возбуждать всяческие пересуды среди других пациенток, многие из которых влюблены в него, — Розамунда часто ловит на себе их завистливые взгляды. Девочкой она украдкой входила в спальню родителей (примыкавшую к ее собственной, но двери, на ее памяти, были всегда закрыты) и в их отсутствие с замирающим сердцем шарила по роскошным шкафам, выдвигала ящики, заглядывала даже в ночные столики, то и дело натыкаясь на таинственные и интригующие предметы вроде четок из слоновой кости, затерявшихся в белье матери, маленькой золотой табакерки с чьими-то инициалами в кармане одного из отцовских пальто, потрепанного экземпляра запрещенного романа Кейт Шопен «Пробуждение» в стопке нечитаных, как правило, книг на тумбочке возле маминой кровати. Вот и в кабинете Моисея Либкнехта, куда, обнаружив его открытым, Розамунда зашла как-то во второй половине дня в отсутствие хозяина, она принялась поспешно обшаривать ящики письменного стола, полки, шкафчик с лекарствами в поисках неизвестно чего, она осталась разочарованной, ибо среди его вещей не обнаружилось ничего, что могло бы рассказать об этом человеке, за исключением запаса тщательно завернутых кубинских сигар и маленького черного блокнота, страницы которого были покрыты непонятными карандашными записями; а на книжной полке — Избранных сочинений Уильяма Джеймса… Розамунда, рискуя каждую секунду быть застигнутой Либкнехтом, с колотящимся сердцем, воодушевленная собственной отвагой, перелистала два-три тома, но быстро отложила в сторону, эти книги явно адресованы широкой публике, в том числе и больным. На многих страницах — карандашные пометки, на полях — восклицательные, вопросительные знаки, звездочки. На фронтисписе тома, озаглавленного «Жажда веры», — надпись чернилами: «Истина есть „меновая стоимость“ идеи. Истина — это процесс, происходящий с идеей».
Неужели и впрямь так? Что это, бесстыдный цинизм или американская премудрость? Розамунда поставила том на место и улыбнулась. Насколько легче была бы жизнь, если бы можно было принять эту мудрость. Выбор принципа на любую погоду: как выбор шляпы, перчаток, калош. Как выбор судьбы, которую ты выбираешь сам, а не кто-то делает это за тебя.
От Артура Грилля не было вестей уже много недель, и Розамунда сама принялась писать ему. Одно письмо за другим, покаянные и откровенные. Наконец-то я «исцелилась» от своих несчастных хворостей и готова вернуться в мир. Она пишет отцу и другим родичам, перенося целые абзацы из одного письма в другое, словно это стихи. Простишь ли ты меня когда-нибудь? Мне так стыдно за свое поведение в прошлые годы. Теперь, когда я оправилась, даже объяснить не могу, почему так цеплялась за свою болезнь, словно болезнь это и есть я сама.
Розамунда подписывается, запечатывает конверт и бросает его в почтовый ящик, установленный в конце гравийной дорожки. Персоналу клиники она не доверяет (а почтальону можно доверять?). Писем она отправила с добрую дюжину, но так и не получила ответов, за исключением одного: на конверте без марки написано просто: «Мисс Розамунде Грилль»; она поспешно распечатывает его у себя в палате:
«Моя дорогая Розамунда,
Вам стоит лишь сказать „да“. Я жду.
Л.».
В первых числах сентября Розамунда настояла на беседе с доктором Бисом, хотя ее лечащий врач — доктор Либкнехт. Она уделяет значительное время туалету, сооружает прическу с более или менее аккуратным пучком, припудривает бледные щеки, выбирает платье покрасивее и украшения. Попутно ощущая укол стыда за то, что всегда была так равнодушна к собственной внешности.
Она говорит грузному, с черепашьими глазками врачу, что совершенно здорова, вылечилась — как и было обещано.
— И я хочу, чтобы меня поскорее выписали.
Доктор Бис вежливо улыбается, давая понять, что подобные просьбы ему приходилось выслушивать не раз.
— Боюсь, это невозможно, мисс Грилль. Мы отчитываемся исключительно перед вашим опекуном. Ведь это он поместил вас сюда.
— Поместил с моего согласия, — напоминает Розамунда, стараясь сохранять спокойствие. — Согласитесь, это не одно и то же.
— Не сомневаюсь, что ваш отец в скором времени свяжется с нами. Возможно даже, по телефону. Если, конечно, он уже вернулся из Европы.
— А когда он писал вам в последний раз? У меня от него ни писем, ни открыток уже много недель.
— Естественно, клиника рассылает ежемесячные отчеты о состоянии своих пациентов. Очень подробные отчеты. И разумеется, мы рассчитываем и надеемся на то, что опекуны будут не только выполнять свои финансовые обязательства, но и откликаться на наши послания. Но частные письма, если вы об этом спрашиваете, приходят исключительно редко. И уж точно не от такого занятого человека, как Артур Грилль.
— Но что именно вы пишете отцу в своих отчетах?
— Они носят, как вам известно, мисс Грилль, конфиденциальный характер. Могу лишь сказать, что это чрезвычайно детальные и ответственные отчеты.
— Посмотреть можно?
Доктор Бис разводит руками: рад бы, мол, да никак не могу.
— Увы, мисс Грилль. Да вы и сами знаете правила. Повторяю, клиника отчитывается только перед опекунами.
— А если мой опекун бросил меня? — Голос Розамунды начинает звенеть. — Если меня вообще все бросили?
— Да, но ваш опекун, мисс Грилль, вас не бросил. И не нужно волноваться. Бухгалтерия мистера Грилля платит исправно, ни единой задержки не было, так что проблем никаких.
Розамунда спокойно усаживается в кресло. На виске у нее бьется жилка. Она уверяет себя, что это не тюрьма, что при желании отсюда можно уйти — можно ли? Время от времени пациенты в более плачевном состоянии, чем она, более агрессивные, совсем отчаявшиеся, бывает, бегут, прячутся в лесу, а через день-другой появляются снова, притихшие, одурманенные медикаментами, вялые, выглядящие так, словно никуда не отлучались и даже не задумывались о такой возможности. Розамунда деловито, словно разговор идет не между врачом и пациентом, а между равноправными партнерами, заявляет:
— Видите ли, доктор, я не больна, я теперь здорова. Как вы с доктором Либкнехтом и обещали. Мне показалось, будто это произошло внезапно, но на самом деле скорее всего процесс выздоровления шел постепенно. Я действительно здорова, и всегда была здорова. Просто жила с пеленой на глазах, обозлившись на весь свет. У меня было невольное желание сделать больно самому близкому человеку — себе самой. Но теперь мне открылась истина — истина того, что со мной произошло. Моя Воля обратилась против меня, а теперь — как вы и обещали — моя же Воля меня и исцелила. Поэтому я хочу выписаться. Я настаиваю на выписке. Вы обязаны известить об этом моего отца.
— Непременно сделаю это в сентябрьском отчете, мисс Грилль.
— А раньше нельзя? Попробуйте разыскать отца и телеграфировать ему. Наверняка он поддерживает связь со своими финансистами: с брокером, банкиром, бухгалтером. Повторяю, я здорова и не хочу жить среди больных. Жизнь же проходит!
На столе доктора Биса вместе с разрозненными письмами и бумагами лежит разрезной нож с рукояткой из черного дерева. Острое, как стилет, лезвие маняще поблескивает. Поглядывая из-под лениво прикрытых век на Розамунду, доктор Бис прикидывает расстояние между ножом и собеседницей, которая начинает раскачиваться в кресле, — пожалуй, не больше трех футов; он отнюдь не дурак, внешность обманчива.
— На вашем месте, дорогая, — доверительно говорит доктор, понижая голос так, будто кто-то может их подслушать, — я бы не торопился. А то снова попадете к нам, с рецидивом.
— Да, но моя жизнь…
— Послушайте, это же общий закон, — решительно перебивает доктор Бис, явно собираясь положить конец затянувшейся беседе, — жизнь течет быстро. «Факт рождения — ложное предзнаменование бессмертия», — как говаривал Джордж Сантаяна, некогда один из моих пациентов.
Розамунда неловко встает:
— Доктор Либкнехт подтвердит, что я здорова. Поговорите с ним. Может, он напишет отцу? И конечно, я сама напишу. Уже написала.
— Ладно.
Доктор Бис поднимается из-за стола, безучастный, как Будда; он почти незаметно кивает здоровенному санитару, стоявшему все это время на почтительном расстоянии позади Розамунды в ожидании, когда можно будет отвести ее назад в палату. Где-то поблизости раздается звонок. Время обеда. Настоящее застолье, с большой переменой блюд, продолжительностью больше часа. Розамунда чувствует, как в желудке все переворачивается, подступает тошнота. Ей приходится сделать усилие, чтобы не схватиться за волосы и не растрепать их. Ей приходится бороться с искушением накинуться на санитара, исцарапать его в кровь, между тем санитар мягко, но решительно, с профессиональной уверенностью берет ее за руку и уводит.
— Я здорова, я всегда была здорова. Всегда! Я обманывала себя. Это была моя собственная Воля — вы сами говорили. А теперь… теперь моя Воля состоит в том, чтобы быть здоровой. И я здорова. Право, доктор Бис…
Скрестив руки на груди, доктор Бис проникновенно отвечает:
— Вам полезно писать письма, мисс Грилль. Чем больше, тем лучше, кому угодно. Если не ошибаюсь, его честь Морган Грилль из Верховного суда штата ваш родич? Его старшая дочь тоже была здесь несколько лет назад. Письма, как и дневник, — отличная терапия для женщин. Это заставляет работать мозг, да и время занимает. Разумеется, мы будем только рады помочь вам с выпиской. Нам это ничего не стоит.
Той ночью она пытается бежать. В пальто с капюшоном, резиновых ботах, туго повязанной косынке, она несколько часов бродит по лесу, постепенно впадая в панику, потом в забытье. Меня держит здесь моя собственная Воля, и моя собственная Воля сделает меня свободной. В конце концов она изнемогает, теряет дорогу, кругами возвращается в клинику, здание которой огромной руиной или полуночным зверем, хрипло дышащим на краю газона, выползает из темноты; Розамунда видит свет в квартире доктора Либкнехта — все остальные окна темны. «Интересно, — думает Розамунда, — а он, любовник, тоже читает мои письма, или только доктор Бис, или их вообще никто не читает — просто выбрасывают?»
Он разговаривает с ней на расстоянии. Мягко, но настойчиво.
Вам стоит лишь сказать «да», Розамунда. Клянусь любить вас вечно.
Она не может думать об этом мужчине иначе, как о любовнике. Хотя на прежних ее любовников он совершенно не похож.
Она получает от него подарки: на подушке — шелковая нить, сплетенная в изящный замысловатый узелок; на подоконнике — букетик фиалок в чернильнице, наполненной водой; томик стихов Кристины Россетти «Ярмарка домовых», которые Розамунда читает запоем, хотя ничего и не понимает; и еще изумрудное колечко в старинной серебряной оправе, которое однажды утром, выходя, полусонная, из горячей серной ванны, она обнаружила на среднем пальце левой руки. Ощущение такое, словно оно всегда там было.
«Но кому оно раньше принадлежало? — с тревогой думает Розамунда. — Бывшей миссис Либкнехт? Матери? Бабушке? Дочери?»
Она и сама по возрасту годится ему в дочери.
Она едва удерживается от адресованного самой себе вопроса: уж не дочь ли она этого мужчины.
Она гуляет по лесу, по берегу зацветшего пруда. Наступила осень, ветер, пусть и холодный, даже глаза слезятся, пьянит свежестью. Повсюду густо разрослись морошка, рогоз, земляная груша, они будто звенят на ветру. Моисей Либкнехт наблюдает за ней с близкого расстояния, он всегда настороже, как бы чего не случилось. Высокий, прямой, элегантный мужчина, весьма красивый для своих лет; его чисто выбритое лицо чуть раскраснелось, словно ему жарко; в глазах, отсвечивающих от напряжения серебряным блеском, застыло ожидание; седеющие, кое-где совсем белые волосы гладко зачесаны назад.
— Я вижу вас, доктор Либкнехт, — окликает его Розамунда. — Вам от меня не спрятаться. Я уважаю вас, чту, но я вас не люблю. Я больше не хочу любить мужчин.
Доктор Либкнехт не отвечает.
Когда Розамунда, прищурившись, снова поднимает взгляд, там никого нет.
Но на самом-то деле ты любишь меня, Розамунда. Твоя Воля состоит в том, чтобы мы с тобой были одно: муж и жена; судьба, которой ты не смеешь перечить.
Она убегает от него, она не из тех женщин, что поддаются фантазиям, галлюцинациям. Она образованная молодая женщина! Принадлежит новому поколению молодых женщин, достигших зрелости в начале XX века, училась в колледже… пока ей не наскучили книги, лекции, вся эта рутина… она не похожа на свою мать, того меньше — на бабушку… так на кого же она похожа?! По этим таинственным маршрутам ведет нас Венера Афродита, а Венеру Афродиту никогда не понять. Это до нее доносится голос Моисея Либкнехта. Она возражает:
— Но… отец никогда не согласится.
— Отцы никогда не соглашаются, — сухо роняет он. — Это проклятие Отцов.
…О что за день, на солнце — кто бы мог подумать — настоящая жара, в тени покусывает морозец, яростное осеннее небо голубизны необыкновенной льет свет на сосны, между которыми она скользит, как мечта, то словно теряя сознание, то вновь приходя в себя; тайком пробирается она к заболоченному берегу пруда, заходит в воду, ноги сводит от холода до колен и выше, на ней фланелевые брюки, туфли на резиновой подошве, замшевая куртка, она без перчаток, простоволосая, вода уже подбирается к животу — какая свежесть, как холодна, как прозрачна поверхность воды после многодневных ноябрьских дождей, смывших водоросли, вода доходит ей уже до пояса… она спотыкается, ноги вязнут в иле. Я не больна. Я здорова. Я не больна, я здорова. Она твердо решила бежать от любви; недостойная любви, несчастная, как все женщины, внизу, в воде, она видит, как колышется фигура, поперек рассеченная надвое, полуженщина, отражающаяся в черном зеркале воды, женщина без лица, женщина без глаз, ее колеблющийся и подрагивающий образ отражается и в глубине неба, и повсюду такой ослепительный блеск солнца, что она вынуждена закрыть глаза. Собственная Воля превратила меня в больную, а теперь собственная Воля сделала меня здоровой и свободной.
«И свет во тьме светит»
О, голова, его голова — набитая толченым стеклом, осколками памяти! — и душа, которой он так глупо гордился, теперь над ней постоянно нависает угроза пролиться вниз, постыдной стариковской мочой окропив изящные брюки.
Но она спасет его от этого позора.
Она, такая юная. Удивительная женщина. Его создание, можно сказать. Подобно Богу, который из глины, мусора, голышей, минералов творит прекрасную фигуру, вдыхает в нее жизнь, и вот, внезапно — фигура приходит в движение! И на месте слабости благодаря ему зреет сила. И там, где было бесплодие, благодаря ему свершится зачатие новой жизни. Жизни детей, которые придут на смену его утраченным детям. Дети на месте предавших его детей. И чудо сотворится вновь.
«Ибо Природа никогда не иссякает, — думает Абрахам Лихт. — Это мы истончаемся — некоторые из нас. Из-за недостатка воображения».
Но он не истончается. Несмотря на все тяжелые удары, разочарования и испытания последних лет.
Ведь подумать только: он храбро вернулся в Игру, хотя в эти безумные 20-е годы и другие люди, помоложе, очертя голову бросились в стихию Игры без руля, без ветрил. Срывают банк, испытывают судьбу. Количество американцев так стремительно увеличилось… так много стало конкурентов… но ведь и покупателей, клиентов, пациентов тоже. Огромное бурлящее море жадных и голодных. Новые волны иммигрантов из Европы и Азии; и все больше детей, рождающихся из бесконечного хаоса; и, чудо из чудес, старики и старухи живут все дольше, а хотят жить еще дольше, и еще. Смертность — не ходовой товар, а вот здоровье, красота, долгожительство — да.
Это самый востребованный товар, который рвутся приобрести преуспевающие американцы (а их с каждым месяцем становится все больше и больше).
Вроде самого Абрахама Лихта, который несколько лет назад, втайне даже от Катрины и Эстер, отправился в Нью-Йорк к известному урологу Виктору Леспинассу и сделал сложную и дорогую операцию — операцию, которая, уверен Абрахам Лихт, омолодила его тело и дух; ибо, как авторитетно заявляет доктор Леспинасс, «возраст человека измеряется состоянием его гормональных желез».
А может даже, человек — это и есть его железы.
Он последователь Уильяма Джеймса, философа, взращенного Америкой. Неплохо было бы встретиться с Джеймсом в Гарварде и пожать ему руку. Ибо какой смысл, всегда удивлялся он, отыскивать истоки, размышлять о «первородном грехе», о том, из какой бездонной норы горгоны Медузы пошли идеи, чувства, страсти, убеждения? У нас вопрос простой: Каков результат? Наш взгляд прям: вперед, а не назад. Не мысль, но плоды деятельности.
И ему снова повезло, он завоевал любовь прекрасной, желанной, загадочной женщины; женщины, равной ему, или почти равной, по уму; женщины, у которой нет братьев и сестер, наследницы миллионера с Манхэттена. Вновь ему явилась Венера Афродита во плоти смертной женщины. «На сей раз ошибки быть не может, это женщина, заслуживающая моей любви и верности. Женщина новой эры, и все-таки женщина; оскорбленная, как любая женщина, и жаждущая осуществиться в мужчине». Беспокойные полуприкрытые глаза зеленоватого цвета, тонкие чувственные губы, на которых постоянно играет улыбка: Нет мужчины, способного меня полюбить, и нет мужчины, которого могу полюбить я. И тем не менее при первой же встрече он понял, что они предназначены друг для друга; он — мужчина-романтик, мужчина, родившийся в страшные 1860-е годы, верит в судьбу, как и в то, что мы сами ее творим и называем по-своему.
Но в то утро в кабинете Биса он ощущает нервную дрожь во всем теле, включая пах. Розамунда, молитвенно взывает он с легкой иронией, о Роза Мира, смилуйся над страстным любовником, заключенным в тело стареющего мужчины.
Как явствует из мемуаров Абрахама Лихта, к осени 1926 года он снова здоров; полностью оправился, хотя временами, следует признать, у него побаливает голова, словно ее набивают толченым стеклом и осколки при малейшем повороте приходят в движение.
Но он здоров. Он снова в форме. Под именем доктора Моисея Либкнехта (работавшего прежде в Вене, Цюрихе, Париже, Лондоне) он шагает по жизни одновременно изящно и решительно; человек, полный тайн, и вместе с тем человек, связанный с наукой; психотерапевт, он (по слухам) начинал как биолог или физик в Вене, в 80-е годы. Человек зрелых лет — немного за шестьдесят (на самом деле Абрахаму Лихту шестьдесят пять, но собственное лицо он рассматривает в зеркале с неизменным изумлением, словно видит существо о двух головах). Операция по пересадке желез от обезьяны прошла исключительно удачно… это факт.
К сожалению, они часто ссорятся с доктором Бисом.
Дело в том, что, хотя Моисей Либкнехт владеет всего тридцатью семью процентами акций клиники и, строго говоря, не является ее соучредителем, он убежден, что разбирается в текущих делах предприятия, а также в проблемах душевного здоровья как таковых гораздо лучше Биса. Куда основательнее партнера он исследует не только состояние здоровья и финансовые возможности будущего пациента, но и его семейные связи: вполне очевидно, что предпочтение следует отдавать тем, у кого нет близких родственников (ибо от близких родственников всегда одни неприятности: чем больше родственников, тем больше наследников; а чем больше наследников, тем больше неприятностей). В принципе Бис разделяет эту позицию; но на практике ею пренебрегает, стремясь ухватить как можно больше. Бизнес поглощает его целиком. Его девиз — побольше денег в кратчайшие сроки; ну и еще — еда и выпивка в нездоровых количествах (теперь, когда Абрахам пьет лишь от случая к случаю, он тем более осуждает неумеренность партнера). Служащие клиники поговаривают, что Бис колется морфием; но Абрахам, точнее, скрытный Моисей Либкнехт, не из тех, кто обсуждает столь деликатные вопросы.
Подобно большинству союзов, этот изведал на своем веку и взлеты, и падения. В начале 1924 года, когда Абрахам Лихт решил вложить 42 000 долларов в клинику «Паррис», погрязшую к тому времени в долгах, Бис откликнулся с чрезвычайной живостью. Он предоставил в его распоряжение самый большой, с книжными полками во всю стену и видом на английский сад, кабинет в бывшем жилом особняке; заверил, что без совета с ним не примет ни единого решения; польстил, заявив, что с деловым чутьем Лихта и его, Биса, профессиональным врачебным опытом они наверняка станут в ближайшие несколько лет миллионерами.
— Это всего лишь вопрос времени, Моисей. Нужные пациенты, хороший, надежный штат терапевтов, массажистов, медсестер, санитаров — и дело пойдет само собой. Ибо аутогенное самосовершенствование — лекарство от большинства недугов. На сей счет у меня нет никаких сомнений.
Доктор Бис говорил с такой неотразимой убежденностью и таким детским идеализмом, что Абрахам и сам верил в успех… хотел бы верить. (Разве не читал он, что большинство психических заболеваний со временем проходят сами собой? Главное — не принимать в клинику тяжелобольных: шизофреников, маньяков, параноиков и так далее; и поменьше пациентов с органическими заболеваниями.) Абрахам занялся проверкой биографии Феликса Биса и убедился, что тот получил степень доктора медицины в Раттерском университете, Нью-Джерси, затем изучал психиатрию в Эдинбурге (по крайней мере, с некоторым беспокойством поправил себя Абрахам, эти сведения относятся к человеку по имени Феликс Бис).
Бис же был наслышан об Абрахаме Лихте по бурной деятельности Общества по восстановлению наследия Э. Огюста Наполеона Бонапарта и рекламациям; к удивлению Биса, один из его свойственников вложил в это предприятие солидную сумму и прогорел. Бис оценил замысел (о чем сказал Абрахаму при первой же встрече) и тогда же подумал, что в один прекрасный день они наверняка протянут друг другу руки: «Наши пути пересекутся, и мы зашагаем вместе. Да!»
Потом, когда радужное начало осталось позади и стало возникать все больше разногласий, Абрахам Лихт как-то в разговоре заметил, что как партнеры, а еще более как друзья они всегда должны говорить друг другу только правду. Бис охотно согласился.
— О чем говорить, Моисей, в любом случае такой растяпа, как я, не может и думать о том, чтобы провести вас.
Однако же выходит так, что Бис начинает все чаще пренебрегать советами Либкнехта. Или вообще не обращается к нему. С точки зрения последнего, в иных случаях он уделяет пациентам слишком мало внимания; он принимает в клинику мужчин и женщин, которые одной ногой уже стоят в могиле и у которых нет ни малейшего шанса на излечение. Например, девяностолетнего слепого, всего в соплях и слюнях, которого доставил в клинику на своем «роллс-ройсе» сын-грубиян лет шестидесяти; тучную даму в инвалидном кресле, задыхающуюся, хватающую ртом воздух и к тому же воображающую, что она на Пенсильванском вокзале ждет «поезда домой», — ее привезла неотразимая красавица в норковом пальто и темных очках, представившаяся, как явствует из анкеты, которую она заполнила в приемной доктора Биса, «снохой»; высохшего, преждевременно превратившегося в старичка мальчика девяти лет в сопровождении неприветливой няни, заявившей, что родители ребенка, состоятельные жители Такседо-Парк, велели ей «записать» его сюда и остаться с ним «на неопределенный срок»; тощую, как скелет, тридцатилетнюю женщину, жену известного нью-йоркского адвоката, всего пугающуюся настолько, что зубы у нее постоянно выбивают дробь, а глаза вылезают из орбит; эта воображает, что прибыла в клинику, чтобы родить…
— Уверен, это вредит нашей репутации, да и вообще нехорошо одновременно принимать так много безнадежных пациентов, — обеспокоенно заметил Моисей Либкнехт, но Бис пожал плечами и ответил с глубоким вздохом:
— Да они еще нас с вами переживут, Моисей. А если нет, то что за беда? Как говорил великий Сантаяна, мой бывший пациент, «совершенство — это трагедия, потому что вселенная, в которой возникает совершенство, сама по себе несовершенна».
— Совершенство! Да где вы его у нас видите?
Между Либкнехтом и Бисом идет своего рода пикировка, поначалу шутливая, но с недавнего времени довольно острая: один является почитателем Уильяма Джеймса, воплощающего собой национальную американскую философию, другой, во всяком случае, если верить его собственным словам, — уроженца Испании Джорджа Сантаяны, антипода Джеймса.
Бис с улыбкой отмахнулся от тревог партнера и протянул ему серебряную флягу, неприятно нагревшуюся от его жирного тела.
— Отборное шотландское виски, Моисей, небо ласкает.
Либкнехт вежливо покачал головой.
Неужели в самый разгар Игры меня начала терзать совесть?
Если так, помоги мне Бог.
В последнее время партнеры разошлись также в отношении «эликсира „Паррис“», его состава. Это было тайное средство, выдаваемое исключительно в клинике по предписанию Феликса Биса, запатентовавшего его на свое имя в 1921 году; лекарство сильнодействующее и вызывающее привыкание, состоящее в различной пропорции из патоки с ромом, кокосового масла, тщательно перетертого чабреца, миндаля, сушеных водорослей и капли опиума, оно выписывалось в тщательно отмеренных количествах (что касается точного состава эликсира, то, по правде говоря, он зависел от настроения помощников доктора Биса, которые готовили его на плите в больших кипящих чанах). Моисей Либкнехт из сочувствия к больным, доверчиво глотавшим это чудодейственное, по их мнению, зелье, настаивал на включении в его состав только веществ, не вызывающих привыкания; опий же должен был присутствовать в минимальном количестве. У него у самого был некоторый опыт общения с наркотиками (о чем он говорил весьма уклончиво, ибо столь интимными секретами доктор Либкнехт не делился даже со своим партнером и другом доктором Бисом).
— Главное — у эликсира не должно быть отталкивающего вкуса или запаха, что, как мы знаем, случается часто. Ужасно видеть, как пациенты со слезами на глазах давятся лекарством, пусть даже уверяя при этом, что оно оказывает магическое воздействие. Иные пациенты, ослабевая и все более утрачивая самоконтроль, наверняка будут требовать увеличения доз, даже при том, что их желудки не переставая, в самом буквальном смысле слова, переваривают эликсир.
Доктор Либкнехт, иначе говоря, Абрахам Лихт, вспоминая травную медицину Катрины, не раз его выручавшую, попробовал придумать альтернативное средство — оно будет называться «Формула Либкнехта» и состоять главным образом из взбитых сливок с вишнями — мягкое, по вкусу немного похожее на кровь вещество, долженствующее возбудить в пациенте бессознательные идиллические воспоминания о материнской груди; полностью избежать привкуса опиума оказалось практически невозможно, но доктор Либкнехт озаботился тем, чтобы в остальном лекарство состояло исключительно из сладостей — коричных палочек, жженого сахара, фисташек, какао, швейцарского шоколада и т. п. На некоторых пациентов «Формула Либкнехта» оказывала усыпляющее воздействие, других, напротив, приводила в возбужденное состояние, у третьих вызывала рвоту. В случае с миссис Дирдон, неврастеничкой, женой нью-йоркского адвоката, лекарство возымело исключительно эротический эффект, она забеременела уже через пять месяцев после поступления в клинику (и поскольку к приему беременных клиника «Паррис» не была готова, миссис Дирдон пришлось срочно выписывать. Про отца будущего ребенка миссис Дирдон не сказала ни слова, сам же претендент, или претенденты, не объявился; в любом случае миссис Дирдон, говорят, была счастлива беременностью и называла ее аутогенным зачатием, не нуждающимся в грубом сексуальном «акте», вина за который могла быть возложена на нее). Бис, которому вообще-то было все равно, что происходит в клинике, на сей раз забеспокоился: некоторые пациенты стали выказывать новому лекарству явное предпочтение перед старым, другие предпочитали смесь того и другого, что порой вызывало негативный эффект. Таким образом, «Формула Либкнехта» породила раскол, а ведь главное в клинике — покой, иначе вся стратегия аутогенного самосовершенствования идет насмарку.
Однажды, наполовину в шутку, наполовину всерьез, Моисей Либкнехт в разговоре с Феликсом Бисом заметил, что различие между новым эликсиром и старым заключается в том, что первый вполне может оказывать целительное воздействие:
— Я и сам принимаю его в небольших дозах. И должен сказать, Феликс, что никогда не чувствовал себя… таким здоровым и счастливым.
Бис внимательно посмотрел на него и насмешливо улыбнулся:
— Правда? То-то я смотрю, вы свет какой-то начали излучать. Вы и одна наша пациентка, мисс Грилль. Она что, тоже принимает «Формулу Либкнехта»? Как и миссис Дирдон?
При этой слишком уж откровенной издевке Либкнехт вспыхнул и с достоинством двинулся было к двери, но, словно бы в знак примирения, Бис окликнул его:
— Слушайте, Моисей, а может, и мне попробовать? А то я что-то тоже ощущаю потребность… в восстановлении.
Моисей вежливо улыбнулся и отечески похлопал партнера по плечу:
— Доктор Бис, помните слова, написанные над входом в Аид? — Caveat emptor[31].
Полчища скорпионов у меня в мозгу.
Как избавиться от них?
После нервного срыва, случившего с Абрахамом Лихтом в Филадельфии в декабре 1916 года, он помимо своей воли утратил интерес к жизни и, беспомощный и напуганный, погрузился в болото; на черное, липкое, илистое дно болота; Катрина — теперь она состарилась, стала совсем другая, ее некогда тугая кожа иссохла, приобрела мертвенно-бледный оттенок и напоминает яичную скорлупу с мириадами прожилок — выхаживала его на протяжении многих месяцев; Катрина и еще Эстер, его младшая дочь, которую он почти не знал. Наконец Катрина заявила, что он снова в форме «и готов к возвращению в мир Времени».
В устах Катрины эти слова прозвучали одновременно как вердикт здоровья и нечто вроде проклятия, ибо «мир Времени», мир за пределами Мюркирка, отнюдь не был в ее глазах раем.
Все это время, находясь под ее присмотром, Абрахам Лихт совершенно не задумывался о мире Времени, он даже филадельфийское общество, которое, как имелись все основания полагать, было им завоевано, не вспоминал. Подобно младенцу у материнской груди, он спал; спал, просыпался, снова засыпал; и сон, как и неустанная опека Катрины, придавал ему силы, пусть даже улыбка, к несчастью, больше не играла у него на устах, а глубоко запавшие глаза излучали потусторонний свет; просыпаясь, Абрахам видел в тени, всего в нескольких футах от себя, съежившуюся птичку, без перьев и с острым клювом, как у ястреба-перепелятника. Всякий раз ему хотелось крикнуть от страха: Помогите, помогите, помогите, я не хочу умирать, я еще не осуществил своего предназначения на земле, но не получалось.
В этом лихорадочном состоянии Абрахаму казалось, что он воспоминает свою мать, хотя прошло уже… сколько? Шесть десятков лет? Неужели шесть? Но не облик матери он вспоминал, а атмосферу, ту неизбывную любовь, которую излучала мать.
Однажды он проснулся и увидел Катрину такой, какая она есть — стареющую, но еще крепкую женщину, женщину, с которой можно поговорить о своих дурных снах; о жестяных банках фирмы «Фортнум и Мейзон», набитых окровавленным мясом и волосами, мерзких, отвратительно-липких банках, воняющих его собственной, абрахамовой плотью, поданной ему на стол, как в древние времена каннибализма: сын Абрахама Лихта, приготовленный для праздничной трапезы и расфасованный в пакеты, обернутые в гофрированную бумагу с бантиками. Катрина вроде слушала его и успокаивала, говорила, прижимая влажное полотенце к его пылающему лбу, что это всего лишь сон, а сны лучше забывать.
А Абрахам изливал перед Катриной потоки гнева на дочь, свою ангелоподобную дочь, чьего имени он и произносить больше не хочет, дочь, которая в конце концов предала его так же, как в свое время и ее мать: убежала с мужчиной, которого Абрахам Лихт почти не знал, и вышла замуж без благословения Абрахама Лихта, теперь девочка для него мертва, ее имя впредь запрещается даже произносить.
Катрина угрюмо повторяла, что и это всего лишь сон, а сны лучше забывать.
Все это глупости, их нужно забыть, ибо Прошлое всего лишь кладбище будущего, и Абрахаму Лихту там делать нечего.
Итак, Катрина с помощью юной Эстер следила за тем, чтобы Абрахам ел, несмотря на отсутствие аппетита, и спал, несмотря на то что, по его словам, в голове у него такой бедлам, что заснуть невозможно и он не желает иметь ничего общего ни с Мюркирком, ни с большим миром за его пределами.
Абрахам принимал ее помощь почти без сопротивления; спал по двенадцать часов в сутки; пытался есть все, что она готовила; а почувствовав себя лучше, не возражал против прогулок по болоту, по полям, по пустынным дорогам, где можно было не бояться встретить знакомых (даже старожилы Мюркирка, знававшие Абрахама Лихта в расцвете сил, когда он, вихрем прискакав на аукцион и раскидав всех, купил разваливавшуюся церковь Назорея, судя по всему, не узнавали его в этом изможденном мужчине с длинными волосами и косматой седой бородой, облепившей лицо, словно лишаями, носившем добротный, но грязный и измятый костюм, траченную молью фетровую шляпу, надвинутую на лоб так низко, что глаз почти не было видно). Если Абрахам видел приближающуюся фигуру — обычно фермера на козлах конного фургона или пешего мальчишку, — то быстро сходил с дороги и прятался за деревьями; таким образом, за полтора года пребывания в Мюркирке он дал немало пищи для всяческих слухов и пересудов. Наибольшей популярностью пользовалась история о сверхъестественном существе, обитающем на болотах, получеловеке-полудемоне, не терпящем человеческого присутствия и потому скрывающемся среди непроходимых топей.
Эта легенда и поныне жива в Мюркирке, хотя давно уже нет на свете Абрахама Лихта.
Постепенно выздоравливая, он вновь обретал былую страсть к чтению. «Дон Кихот»… «Диалоги» Платона… «Домашняя медицина»… «Где жили индейцы племени чатокуа»… «Иллюстрированные новости от П.Т. Батнэма» (августовский выпуск 1880 года с фотоочерком о знойной Залумме Агре, «Звезде Востока», «прекрасной черкешенке», которая сильно разочаровала Абрахама Лихта своим близким, несмотря на иссиня-черные волосы, сходством с его пропавшей дочерью Миллисент)… заплесневелые тома «Британики», которые он листал нервно и жадно, словно в надежде отыскать истину, способную изменить его жизнь. Он перечитал великие трагедии Шекспира — «Гамлет», «Макбет», «Король Лир», «Отелло», — которые впервые попались ему на глаза бог знает сколько лет назад, когда он оказался в местной тюрьме (хотя что это было за место и каким образом он попал за решетку, теперь Абрахам Лихт вспомнить не мог); он внимательно прочитал великий эпос Мильтона о рае, который отнял у человека жестокий Бог, и, к своей радости, открыл печальную правоту Шопенгауэра:
Самоубийство, добровольное уничтожение единого неповторимого существования, — акт бессмысленный и глупый, потому что на вещь в себе — на вид, на жизнь, на волю в целом — он никакого воздействия не оказывает, так радуга никуда не исчезает, с какой бы скоростью ни падали образующие ее капли.
«Как я всегда и считал, — подумал Абрахам Лихт, медленно, словно опасаясь, что она рассыплется у него в руках, закрывая книгу с пожелтевшими и обтрепанными страницами, — самоубийство бессмысленно! Надо быть радугой, надо находить радость в бесконечной игре цвета, которая продолжается вечно и остановить которую не волен никто».
Это было счастливое предзнаменование, как со смехом признали оба, пожимая друг другу руки, словно старые друзья или братья, — одеты Абрахам Лихт и Гастон Баллок Минз были одинаково: летний костюм одного фасона, белая сорочка с запонками, соломенная шляпа, придающая владельцу непринужденно-преуспевающий вид, почти не ношенные белые туфли. Различался только цвет бабочки: у Абрахама Лихта строго зеленая, у Гастона Баллока Минза — красная в крапинку.
— Как же я рад, что вы оказались у нас, Абрахам. — Минз тряс руку старого приятеля, не сводя с него выпученных, покрытых красными прожилками глаз. — Сейчас на Вашингтон нахлынуло столько народу и столько всего каждый день — каждый час! — происходит, что у себя в конторе мы просто молимся на каждого, кому можно доверять.
Дело происходило в 1919 году, в июне, через шесть месяцев после подписания перемирия и восстановления мира в Европе; по протекции Гастона Баллока Минза, с которым он возобновил отношения, Абрахам Лихт был принят в детективное агентство Бернса на должность специального консультанта, в качестве какового ему предстояло проработать до августа 1923 года, когда умер президент Гардинг. С течением времени обязанности Абрахама Лихта сделаются весьма разнообразными, и, подобно многим, оказавшимся в Вашингтоне в те беспокойные годы, он сколотит приличное состояние. Но по правде говоря, работа у Бернса, Минза, в министерстве юстиции и тому подобных учреждениях никогда не вызывала у него особого интереса, да и гордости тоже. Ибо, независимо от того, был ли он помощником Генерального прокурора А. Митчелла Палмера (в администрации демократа Вудро Вильсона) или Генерального прокурора Гарри Догерти (в администрации республиканца Уоррена Гардинга), или вместе с Минзом осуществлял специальные операции Комитета по наблюдению за исполнением «сухого закона» (в котором большие деньги постоянно перетекали из рук в руки, ибо крупные бутлегеры платили щедрую дань за снисходительность федеральных властей), Абрахам Лихт был практически лишен возможности заниматься своим делом, он отчитывался перед другими, осуществлял их проекты (которые, в особенности при Гардинге, были столь незамысловаты, настолько лишены даже намека на тонкость, оригинальность и изящество — по сути дела, шло всего лишь элементарное разворовывание общественных фондов, — что Лихт, не видя в этом занятии решительно никакого смысла, постепенно терял интерес к карьере. «Господи, — как-то раз сказал он сам себе, — да ведь это просто свиньи, допущенные до корыта; джентльмену рядом с ними делать нечего»).
Впрочем, поначалу он испытывал подлинный энтузиазм и возрождение былой энергии. Как же славно было вновь погрузиться в мужской мир, оказаться в системе координат Времени! Очутиться здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, в самом сердце страны, где его дарования наконец-то могут вполне осуществиться. А то, что Гастон Баллок Минз, с которым они в прошлом никогда не были особенно близки, так неподдельно и откровенно обрадовался его появлению, и вовсе стало для Лихта приятной неожиданностью; Минз обнял его тогда за плечи, по-мужски прижал к себе и несколько раз повторил, что счастлив видеть Абрахама Лихта во плоти здесь и сейчас.
— Наконец-то мы, именно мы, вступаем в законные права наследования, — торжественно заявил Гастон Баллок Минз, делая знак негру-официанту принести еще два бокала виски. — И уж теперь никто нас не остановит. Можешь не сомневаться, братишка, скоро сам в этом убедишься.
Друзья удобно устроились в обитой кожей кабинке бара в ресторане гостиницы «Шорэм», куда Минз привез Абрахама Лихта прямо с вокзала (в этой комфортабельной гостинице Абрахам проживет до тех пор, пока ему не подыщут подходящее жилье в городе, желательно поближе к помещению детективного агентства Бернса; приятной неожиданностью стало известие, что все расходы берет на себя министерство юстиции Соединенных Штатов). Несколько часов, за виски и сигарами, ушло на то, чтобы Минз разъяснил Абрахаму Лихту суть его деятельности у Бернса в качестве консультанта, или тайного агента; то понижая голос, то переходя на высокие ноты, он говорил, какие потрясающие перспективы открываются на службе у правительства Соединенных Штатов, какое радужное будущее их ожидает.
— Это совершенно новое время, раньше ничего похожего не было, — говорил Минз, тяжело нависая над столом и не спуская глаз с Абрахама Лихта, — наконец-то жизнь, свобода и благополучие действительно в наших руках.
Поначалу Абрахам Лихт не очень понял, кто все же его хозяин и в чем будут состоять его обязанности, но это недоразумение разрешилось быстро: место службы — детективное агентство Бернса на Висконсин-авеню, но по существу он — сотрудник Бюро расследований, действующего под эгидой министерства юстиции. Как и Минз, он будет тайным агентом; официально его должность именуется «специальный сотрудник министерства юстиции». Его имя уже включено в платежную ведомость, и утром, когда появится на работе (раньше половины одиннадцатого приходить не стоит, детективы — поздние птахи), он подпишет необходимые бумаги, получит значок, телефон, пачку официальных бланков, секретаршу и все такое прочее.
— Я сказал, что вам понадобится оружие, — заметил Минз, понижая голос до драматического шепота и приоткрывая полу пиджака, чтобы Абрахаму была видна полированная рукоятка пистолета, торчащая из чего-то похожего на блестящую кожаную кобуру. А то, знаете ли, большевики, — Минз рассмеялся, — они такие хитрованы, стоит им узнать, что вы вступили в игру…
— Большевики?..
Ну как же, разве Абрахаму неизвестно, Минз еще больше понизил голос, что во время войны были арестованы и помещены за решетку тысячи врагов государства? Акт о шпионаже 1917 года и Акт об антиправительственной деятельности 1918-го позволили раскинуть целую сеть, чтобы поймать всех — американцев немецкого происхождения (которых всегда можно заподозрить в прогерманских настроениях); пацифистов всех оттенков и мастей (состоящих на службе у немецкой военной машины либо у тех, кого немцам удалось одурачить); социалистов, анархистов и черных националистов (Юджин Дебс, гарлемский принц Элиху и т. д.); противников войны, политиканов и сотрудников администрации Вудро Вильсона.
— Да-да, это настоящий гадюшник! Причем многих засадили надолго. Президент Вильсон и его Генеральный прокурор А. Митчелл Палмер не из тех, кто забывает политические оскорбления или прощает врагов; в Вашингтоне господствует настроение — демократы и республиканцы тут едины, — что перемирие не должно стать поводом к утрате бдительности здесь, дома, по отношению к подрывным элементам, потенциальным изменникам, социалистам, радикалам, профсоюзным лидерам и так далее. Эта борьба, — с удовлетворением заключил Минз, хищно потирая огромные ладони, — по-настоящему только начинается. Мы разворачиваем тайную кампанию, направленную на выявление персонально каждого недовольного в этой стране. А потом заткнем им рот. Если план мистера Палмера сработает, то, вполне вероятно, уже к концу года все будет закончено. Вот, в частности, почему и вас призвали под знамена; хотя насчет нас с вами у меня есть и другие планы. Но сначала — главное! Официант!
В Мюркирке, оправляясь после болезни, Абрахам Лихт вел замкнутую жизнь, за ходом европейской войны почти не следил, а уж за домашними событиями — массовыми арестами демонстрантов, ораторов-радикалов, подрывных элементов немецкого происхождения и тому подобной шушеры — тем более. Он осторожно поинтересовался арестами Юджина Дебса и принца Элиху, и Минз равнодушно сказал, что, по его сведениям, оба — «и социалист, и черномазый» — приговорены не то к десяти, не то к пятнадцати годам и отбывают срок в федеральном исправительном учреждении в Атланте. После перемирия пришлось выпустить сотни, если не тысячи «подрывных элементов»; но сам Вудро Вильсон поклялся, что, пока он в Белом доме, ни Дебс, ни Элиху амнистированы не будут.
— Президент — крепкий малый, недаром в Принстоне когда-то заправлял. — Минз ухмыльнулся и одобрительно покачал головой. — Я бы лично с ним связываться не стал.
У Абрахама затуманился взгляд. Он ощутил неизбывную тоску и одиночество. Малыш Моисей, бедняга! Сердце заходится, как подумаешь, что он томится в тюрьме, черномазый среди черномазых, и все потому, что Абрахам Лихт лишил его своей отцовской любви…
— А об этом Элиху что-нибудь известно? Как он там сейчас? — спросил Абрахам. — Вроде у него немало последователей-негров в Гарлеме, и не только в Гарлеме. Вряд ли Вильсон захочет их обижать.
— Обижать черномазых? — воззрился на него Минз. — Как это?
— Да очень просто. Как обычно — «обижать».
— Черномазого?
— Черномазый — тоже человек, разве нет?
Минз пристально посмотрел на него и расхохотался, решив, что это шутка.
— Да ниггеры уже и думать о нем забыли, — выговорил он наконец, отдышавшись. — Они легко забывают. И прощают. Они совсем не такие, как мы.
Беседа перешла на другие темы: военную службу Минза (он загадочно обронил, что в качестве «немецкого агента И-13» действовал в треугольнике Вашингтон — Балтимор — Нью-Йорк и его окрестностях); нынешние его дела (он вел переговоры с одним миллионером, который изрядно нажился во время войны, нагревая правительство на оптовых продажах провианта, а теперь торговался с Минзом о цене бумаг, имеющихся на него в Бюро расследований); наконец, туманные, но грандиозные планы на будущее (ввиду грядущего «сухого закона» и неизбежной перспективы возникновения рынка подпольной торговли спиртным, открывается масса возможностей, не так ли?).
— Новая эра, Абрахам, новая заря, — заключил Минз дрожащим, как струна, голосом, крепко сжимая руку приятеля. — И вы прибыли как раз вовремя.
Абрахам Лихт и не спорил; подумал только, что, как ни странно, не испытывает того подъема чувств, того прилива энергии, какие должен был бы испытывать. Может, потому, что не ел уже несколько часов, а с другой стороны, уступая настояниям Минза, слишком много выпил (в Мюркирке, не общаясь с мужчинами, Абрахам вообще утратил вкус к выпивке). Кроме того, он уже и забыл, насколько утомительно общество Гастона Баллока Минза: тот говорит практически без остановки, прерываясь только на то, чтобы отдышаться либо похохотать вволю; то расходясь, то доверительно понижая голос, то добродушно подмигивая, то впадая в ярость, он временами удивительно напоминал самого себя былого — разоблаченного мошенника, жулика, закоренелого воришку; в то время он не носил модных костюмов и не угощал приятеля в роскошном баре вроде этого, где за стойкой мерцают высокие бутылки, бокалы и зеркала. Теперь он заимел привычку понижать голос, словно у него были основания опасаться подслушивания; а когда собеседник, приставив ладонь к уху, наклонялся поближе, вполне мог оглушительно расхохотаться и закончить фразу чуть ли не на крике.
Походя на Абрахама Лихта ростом и цветом кожи, Минз был на несколько лет моложе и на сорок фунтов тяжелее; голова у него была необычно круглой, каштановые с проседью волосы густыми, а улыбка — как у херувима. Его близко посаженные глаза постоянно сверкали и лучились чуть иронической мужской улыбкой; как и всякий настоящий мошенник, он сразу вызывал к себе доверие — это Абрахам Лихт вынужден был признать, — и в этот момент он внезапно ощутил себя старым, вовсе не готовым вернуться к Игре человеком.
Минз, однако же, не обратил ни малейшего внимания на то, что у собеседника изменилось настроение; бодро заказав очередную порцию виски, он продолжал болтать о своих связях в министерстве юстиции, в сенате, в конгрессе; о конфиденциальных расследованиях, которые он, без ведома Бернса, проводит в интересах Бюро особых докладов, или, может, Бюро надзора за иностранцами, или Бюро государственных доходов, или внешней разведки, или Бюджетного бюро…
В самом конце того долгого дня Минз вновь обнял Абрахама Лихта, склонился к нему и, подмигивая, сказал:
— Ради чего все это? Ради чего? Ради чести, говорю я, чести! Еще и еще раз — ради чести! Понимаете, мой друг? О да, вы-то уж понимаете, можно не сомневаться.
(Вероятно, кое о чем касающемся Гастона Баллока Минза — о том, о чем в уюте роскошного люкса он было почти запамятовал, — Абрахаму Лихту лучше было бы не забывать. Скажем, о той ужасной катастрофе в Филадельфии. Но нет: он убежден, что тогда Минз его не узнал, да и беднягу Харвуда тоже; а если и узнал, то никому ничего не сказал. «Потому что иначе он не вел бы себя со мной так дружески и откровенно», — подумал Абрахам, медленно раздеваясь и готовясь ко сну.)
Большой налет на красных, как его впоследствии назвали, начался с эффектной акции, проведенной 1 января 1920 года, когда в нескольких американских городах у себя дома были схвачены и брошены в тюрьму двести человек, подозреваемые в подрывной деятельности и нарушившие, по утверждению «неукротимого квакера», Генерального прокурора Палмера, закон об антиправительственной деятельности. Не успели патриотически настроенные американцы оценить грандиозность этого деяния, как несколько дней спустя, 6 января, последовал арест двух тысяч подрывных элементов в тридцати трех городах!
— Одно странно, — заметил Абрахам Лихт, когда они остались вдвоем в кабинете Минза и принялись перелистывать газеты, — где это Палмер откопал столько имен. Ведь у нас в списке было не больше восьмисот.
На какой-то миг у Минза на лице появилось озадаченное выражение, хотя он сам признавался раньше, что порой выуживает имена из телефонных справочников таких городов, как Чикаго, Бостон и Нью-Йорк (известных благодаря обилию иммигрантов как рассадники анархизма и синдикализма); но затем ему пришло на ум самоочевидное объяснение: поскольку администрация исходит из того, что всякий, кто протестует против ареста красного или навещает его в тюрьме, естественно, сам красный, то со стороны полицейских было всего лишь логично без промедления арестовать и таких субъектов, будь то мужчины или женщины.
— Это мера предосторожности, — пояснил он. — И очень разумная мера. Ибо на протяжении каких-то двадцати четырех часов наш Генеральный прокурор с легкостью удлинил список подрывных элементов, а это производит впечатление, не так ли? Палмер теперь и сам может баллотироваться в президенты. Какие заголовки! Какая реклама! — Минз восхищенно поцокал языком.
— Да, но где же тогда предел? — задумчиво протянул Абрахам. — Выходит, если этих новых узников придут навестить их друзья и родственники, то и их арестуют, и тогда в течение нескольких дней в тюрьмах свободного места не останется. Просто мальтузианское предсказание в действии! — Он отшвырнул уже просмотренную газету и взял другую, где на первой полосе была помещена смазанная фотография, на которой полицейские тащили в фургон дюжину растерянных мужчин и одну или двух женщин. (Один из мужчин, высокий, широкоплечий, крепкий, светловолосый, с искаженным от боли лицом, по которому из рваной раны на голове текла кровь, был очень похож на… нет, признать это было выше сил Абрахама: Мой первенец, мой утраченный сын; ему не хотелось думать о разбившем его сердце Терстоне, о котором он ничего не слышал с того самого давнего дня, когда в Трентоне разыгрался трагический фарс.)
— А впрочем, это не проблема, — цинично добавил он, — для этих целей можно использовать любое хранилище оружия, склад или загон для скота.
Гастон Баллок Минз и Гордон Джаспер Хайн (кодовое имя Абрахама в тот момент) были далеко не единственными агентами, в обстановке строжайшей секретности готовившими планы налетов. Но Генеральному прокурору Палмеру казалось, что мы двое — самые рьяные и самые тщеславные из его людей; частным порядком он нас благодарил и выражал сожаление, что из-за конфиденциального характера отношений между Бернсом и федеральным правительством они с президентом Вильсоном не могут сделать этого публично.
— А что будет с этими красными? — поинтересовался Абрахам у Палмера, скорее всего из чистого любопытства; и Палмер удивил его своей откровенностью:
— Конечно, некоторым из нас хотелось бы вздернуть лидеров вроде Дебса и этой вонючки из Гарлема на виселице, да повыше, чтобы весь мир видел. Но существуют препятствия, которые мистер Вильсон не может преодолеть, по крайней мере пока действует нынешняя конституция.
В качестве специальных сотрудников министерства юстиции Абрахам Лихт и Гастон Баллок Минз месяцами колесили по стране; обычно в поездах, но порой на машине, которая предоставлялась в их распоряжение вместе с шофером. Они останавливались в самых дорогих отелях, заказывали шикарные ужины, но, надо признать, и работали до седьмого пота, ибо в иных городах красных почти не было, в то время как другие буквально кишели ими, что могло вызвать определенные подозрения. Вот и приходилось произвольно увеличивать списки подозреваемых, скажем, в Новом Орлеане, а в Детройте, напротив, сокращать их до разумных пределов. Однако же в традиционном следствии нужды, к облегчению Абрахама Лихта, почти не возникало, ибо, как выяснилось, у его партнера — честь ему и хвала — везде находились связи: надежные информаторы в полицейских управлениях, редакторы республиканских газет, политики консервативного толка, деятели подпольного бизнеса, ветераны войны — все они за небольшую плату, а то и бескорыстно, с готовностью снабжали их именами.
— Просто удивительно, — не уставал повторять Минз, — сколько в Америке добровольных патриотов!
Словом, страшиться возвращения в Вашингтон с пустыми руками у Минза и «Хайна» не было никаких оснований.
Подчиняясь то ли капризу, то ли извращенному желанию, то ли убеждению, что все люди — мои враги, но Вудро Вильсон и члены его администрации в особенности, Абрахам Лихт забавлялся тем, что некоторые имена из списков вычеркивал, а иные, следуя примеру своего наставника Минза, добавлял из телефонного справочника. Он полагал своим святым долгом отблагодарить Генерального прокурора сюрпризом — например, включить в списки имена людей из почтенных англосаксонских семей или фамилии видных протестантских священников. В конце концов, любой может не устоять против предательства под угрозой дыбы или, например, кругленькой суммы наличными?
С течением времени кампания против большевиков ширилась, включая в себя все новые группы граждан. Закрывались газеты, их редакторов обвиняли в антиправительственных настроениях; министерство юстиции с большой помпой организовало депортацию двухсот сорока девяти нежелательных иммигрантов в Россию; полиция избила, нанеся тяжкие телесные повреждения, демонстрантов в Чикаго, Западной Виргинии, Индиане и Калифорнии; рьяные ветераны войны громили помещения социалистических организаций, а в штате Вашингтон дело даже дошло до того, что линчевали и кастрировали одного участника организации «Индустриальные рабочие мира». В общем, и Абрахам Лихт, и Гастон Баллок Минз почувствовали облегчение, когда демократов отстранили от власти и на смену им с бурным, хоть и несколько безалаберным триумфом пришла ватага парней из Огайо — республиканцев во главе с Уорреном Гардингом. Прощайте, мистер Вильсон, воспоминания о войне и злополучная Лига Наций! Добро пожаловать, мистер Уоррен Гардинг и «нормальная жизнь»!
Беспрецедентная победа простого человека? Абрахам Лихт испытал скорее изумление, чем зависть; ибо ни для республиканцев, ни для демократов не составляло секрета, что к президентству Уоррен Гардинг был совершенно не подготовлен и единственное, чем он мог похвастать, это несокрушимое добродушие и страсть к произнесению речей.
Еще важнее было то, что кабинет Генерального прокурора занял беспринципный политикан из Огайо Гарри Догерти, хитроумно руководивший избирательной кампанией Гардинга. Он не обладал неукротимым рвением крестоносца и не имел патриотических претензий, как Палмер; у него вообще не было никаких идей; он не был ни жесток, ни добродушен (разве что по отношению к друзьям) и проскользнул в свой кабинет, как проскальзывает в слишком просторную для него, но тем не менее удобную одежду человек небольшого роста. Добыча достается победителю.
На пышном приеме в Белом доме по случаю вступления в должность нового президента, на который оба они были приглашены, Абрахам Лихт и Гастон Баллок Минз, будучи представлены Догерти, обменялись понимающими взглядами: он из наших.
При всем при том годы правления Гардинга, с 1921-го по лето 1923-го, принесли сплошные разочарования. Как я и предполагал.
Абрахам Лихт, даже под маской Гордона Джаспера Хайна, начал испытывать эстетическое отвращение к воровству, принявшему такие чудовищные размеры, что оно стало напоминать «пир акул» в океане. Куда исчезли изящество, остроумие, спортивный азарт? Игра превратилась в чистый грабеж! Нельзя отрицать, что в качестве Гордона Джаспера Хайна он неплохо нажился — и благодаря жалованью правительственного чиновника (ибо Гарри Догерти немедленно взял их с Минзом на полную ставку), и за счет различных подношений, взносов, пожертвований и так далее от обеспокоенных граждан, попавших или рискующих попасть под подозрение бюро. Подобно Минзу «Хайн» мало за что платил из своего кармана, в его распоряжении был «паккард»-лимузин с водителем и шестикомнатный люкс на Кей-стрит в отеле «Чичестер» (элегантном здании, выстроенном в английском стиле, где подавали обильный полдник, первоклассную подпольную выпивку и повсюду были расставлены плевательницы из тяжелой меди). Его тщеславие находило удовлетворение в том, что люди из близкого окружения Гардинга иногда приглашали его на свои шумные застолья с последующей партией в покер, которые происходили либо на верхнем этаже Белого дома, либо в Малом доме на Эйч-стрит, который стал теперь резиденцией Догерти. (О, какими же бурными и непривлекательными были эти покерные вечера! Абрахам проигрывал примерно столько же, сколько выигрывал, и возвращался домой с головой, раскалывавшейся от сигарного дыма и громких криков Гардинга и его партнеров, постоянно «бравших ходы назад».)
До чего же извращенное существо — человек, Шопенгауэр это хорошо знал: тяжкая мука борьбы ради успеха, не приносящего ничего, кроме тоски. Абрахаму Лихту все больше претило участие в грубых сделках, эстетическое чувство влекло его к хитроумным тайным замыслам; ему наскучили заигрывания людей, которые из опасения стать объектами преследования со стороны министерства юстиции заранее, еще до того, как они с Минзом добирались до них, начинали заискивать перед ними. Минз процветал и становился все развязнее и самоувереннее; Абрахам Лихт прикидывался куда более жизнерадостным, чем был на самом деле; он начинал понимать, что игра президента непродуманна, можно сказать, лихорадочна, он делал быстрые побочные ставки (что в покере, что в костях, что в гольфе) — такая тактика давала краткое ощущение азарта, риска, возможность чувствовать себя живым! (Однажды, за обычной партией в покер в Белом доме, Гардинг предложил Абрахаму Лихту импровизированное пари по какому-то пустячному поводу: бриллиантовая булавка для галстука Гардинга против бриллиантовой булавки для галстука Абрахама.
— Но разве они не равноценны, господин президент? — удивился Абрахам, а Гардинг, отирая пот со своего грубого лица, простодушно воскликнул:
— Какая разница! Не важно!
В результате Абрахам Лихт оказался обладателем двух бриллиантовых булавок, каждая стоимостью примерно в 3 тысячи долларов).
Со своей аристократической утонченностью он даже не мог себе представить — пока несколько раз сам не убедился, — насколько оскорбительным может быть поведение миссис Гардинг (поразительно нахальной коротышки-уродки, которую в насмешку называли Герцогиней и на которой Гардинг, будучи моложе ее годами, женился из-за денег); отталкивающее впечатление производила и любовница президента Нэн (жеманная, самодовольная толстуха из Огайо, на несколько десятков лет моложе Герцогини; она клялась в любви и верности до гробовой доски «своему Уоррену», при этом ее не смущало, что «галантности» дородному любовнику хватало лишь на то, чтобы заваливать ее на пол в гардеробной рядом со своим кабинетом в Белом доме, не обращая внимания на присутствие за стенкой секретарей, посыльных и помощников). Абрахама Лихта, привыкшего, отчасти благодаря Эве Клемент-Стоддард (теперь он и вспоминать ее почти не осмеливался!), к изысканности манер и остроумной игре, коробила неотесанность таких людей, как министр внутренних Альберт Фолл (который с самого начала почти не делал секрета из того, что его кабинет всегда открыт для «подношений» от частных лиц, претендующих на аренду государственных земель, богатых нефтью), как полковник Чарли Форбс из Бюро по делам ветеранов (который как-то ухитрился заполучить годовой бюджет в полмиллиарда долларов и к тому же активно участвовал в распродаже «лишнего» и «поврежденного» медицинского оборудования, оставшегося после войны), как постоянный спутник Догерти Джесс Смит (коренастый, неуклюжий, медлительный и страдающий астмой тип, который, не будучи штатным сотрудником министерства юстиции, каким-то загадочным образом получил доступ к его бумагам, а следовательно, обрел влияние); ну и, конечно, как сам сварливый и задиристый Догерти. (Им обоим, и Абрахаму Лихту, и Гастону Баллоку Минзу, было отнюдь не по душе, что Догерти, по выражению Минза, только и знал, что дергать своих специальных агентов. Он явно хотел, чтобы они шпионили за всеми его врагами в Вашингтоне, да и за друзьями тоже, за исключением разве что Джесса Смита и самого Гардинга, и требовал подробных отчетов, хотя и не в письменной форме и не в строго определенное время. Когда слухи о какой-нибудь тайной операции бюро просачивалась наружу и угрожали стать достоянием оппозиционной прессы, он орал на них по телефону и грозил уволить; а когда операция проходила удачно — например, Абрахам Лихт не одну неделю трудился в поте лица, чтобы успешно организовать почти законную переправку виски прямиком со складов в зарубежные страны, договорившись при этом о щедрой «доплате», поделенной между Бюро по реализации «сухого закона» и Бюро по расследованиям, — Догерти надувал щеки так, будто это было его собственное достижение.)
Расплачиваясь по политическим счетам, Гардинг назначил друзей, друзей своих друзей, верных писак едва ли не на все судебные должности в стране, а также в такие учреждения, как Бюро досмотра за иностранцами, Бюро по здравоохранению, Бюро по специальным отчетам, Строительное бюро, Бюро по внутреннему долгу, Бюджетное бюро, Бюро по страховке на случай войны — словом, повсюду. Точно так же совершенно не подготовленные, но зато надежные люди получили назначения на посты руководителей Федеральной резервной системы и Управления тюрем, губернатора Пуэрто-Рико, уполномоченного по иностранной собственности, директора Бюро перевозок… Генеральным инспектором по валюте стал, к изумлению Абрахама Лихта, его старый приятель «барон» Барракло, а уполномоченным по делам индейцев — хитрый Джаспер Лиджес, давно исчезнувший с горизонта Абрахама (когда он спросил у кого-то из президентского окружения, чем, собственно, занимается уполномоченный по делам индейцев, ему ответили с широкой улыбкой: «Нефтяными контрактами и недвижимостью»).
И самое забавное: если бы не бурные протесты со всех сторон, Гардинг назначил бы Джесса Смита министром финансов.
«Мир явно перевернулся с ног на голову, — печально констатировал Абрахам Лихт, — и где же в нем мое место?»
Тем не менее, как он твердо решил отразить в своих мемуарах, не все было так уж скверно в его вашингтонские годы: начать с того, что его как «Гордона Джаспера Хайна» в городе побаивались и уважали (иные, впрочем, и ненавидели); как представитель бюро он разъезжал куда и когда ему заблагорассудится; а как игрока его чрезвычайно занимал вопрос, долго ли продержится администрация Гардинга и когда рухнет этот карточный домик.
— Да что за ерунда, мы будем всегда — кто нас остановит? — заметил как-то Гастон Баллок Минз, вглядываясь куда-то в даль. — Народ любит Гардинга.
И это было правдой, во всяком случае, поначалу.
При всей патетической бессодержательности его речей, при всей детскости его таланта к «болтологии» (как он сам отзывался о своих ораторских потугах), при всей смехотворности его заявлений («не думаю, что может быть справедливым правительство, не общающееся каким-то образом со Вседержителем»), толпы людей повсюду встречали его бурными аплодисментами. Ибо Гардинг, по крайней мере вначале, выглядел-таки президентом.
Естественно, Абрахам Лихт бешено ему завидовал. Он усматривал явную несправедливость судьбы в том, что он должен быть всего лишь каким-то безымянным федеральным служащим под каблуком у капризного Гарри Догерти, в то время как дурак и нахал Гардинг стал президентом Соединенных Штатов! Поговаривали, что Догерти годами готовил Гардинга к политической карьере и бился за его избрание, опираясь исключительно на внешность своего фаворита; ирония заключалась в том, что и в этом отношении Абрахам Лихт был ничуть не хуже — такой же благородный на вид, такой же внушительный, такой же «свойский». И зачем он, еще тогда, когда был фактически мальчишкой, отказался от политической карьеры! Его ли только в том вина? Не стоит думать об этом, убеждал себя Абрахам Лихт, так и с ума сойти недолго.
Впервые на общенациональную арену Гардинг вышел солидным седовласым господином со стандартно-привлекательной внешностью: резкий профиль, густые брови, ослепительная улыбка. Героями его были Цезарь, Наполеон и Александр Гамильтон, хотя знал он о них не так уж много; как и они некогда, он окружал себя атмосферой спокойного достоинства (верны ли были безответственные слухи о том, что его род подпорчен негритянской кровью, которые шли из его родного городка? Недруги заявляли, что во внешности Гардинга действительно угадываются «негроидные черты»; приверженцы яростно протестовали). Много лет Гардинг был редактором крохотной газетенки в штате Огайо, и его представления о мире базировались на этом опыте: любое важное событие способно уместиться в одну или две колонки набора; все, что выходит за эти пределы, внимания не заслуживает. Оказавшись в Белом доме, он не выработал интереса к чтению газет, да и времени не хватало; о книгах уж и говорить нечего. Даже беседа со «специалистом» (например, по налогам или европейским делам) утомляла его. Я слишком мал для президентского кабинета, с улыбкой говорил он друзьям, но те лишь небрежно отмахивались: а они-то на что? Помимо покера, гольфа, нечастых развлечений с Нэн и попоек с друзьями, ничто так не воодушевляло Гардинга, как выступления в больших, людных местах и последующее общение с людьми. Вот если бы все президентство к этому и сводилось!
С присущим ему острым пониманием человеческих слабостей Абрахам Лихт рано заметил безошибочные признаки обреченности на президентском челе; при всей своей энергии, жизнерадостности, покладистости, тот был действительно обречен. Быть может, Гардинг ощущал, что друзья предают его без зазрения совести, что не дожить ему до конца президентского срока и что после смерти его будут забрасывать грязью со всех сторон. (Даже Нэн, славная, милая глупышка Нэн, будет похваляться их связью перед всем миром и продаст в газеты свою «правдивую историю любви».) Временами Абрахаму Лихту казалось, что друзья Гардинга воруют с его молчаливого согласия; временами — что бедняга ничего не знает и не хочет знать.
«Может, сказать ему? — подумывал даже Абрахам, но со вздохом отбрасывал эту мысль: — А почему, собственно, я?»
Но Гардинг стремительно катился вниз, причем с таким удивленно-тоскливым и в то же время стоическим видом, что Абрахаму Лихту было даже жаль его.
Страсть президента к подпольному виски, сосискам и жареным цыплятам давала о себе знать: он постепенно раздувался, как пузырь. Уже не только патрицианские брови, но и мясистые щеки прикрывали глаза-щелочки. Некогда хорошо поставленный бархатный баритон срывался теперь даже при обращении к самым верным доброжелателям; микрофоны его раздражали. На публике он неприятно потел. Удача, которой он некогда простодушно похвалялся, отвернулась от него в покере и гольфе; если же он и выигрывал пари, то ставками в них оказывались либо ничтожные суммы, либо какие-нибудь жалкие украшения. (В один памятный вечер он проиграл знаменитый веджвудский сервиз, что привело в ярость Герцогиню, ибо сервиз, как она справедливо указала, являлся собственностью Белого дома и Гардинг не имел права ставить его на кон.) В мужской компании он грубо — но и грустно — шутил, что, дабы восстановить мужскую силу, ему пришлось пересадить «обезьяньи железы». Хоть несгибаемые враги никотина, по преимуществу женщины, начали критиковать его, он упорно жевал свой любимый табак, сплевывая где попало, что многим казалось оскорбительным. Однако на любые замечания Гардинг неизменно возражал в том смысле, что табак необходим ему для здоровья: без него он и дня не протянет!
Любимым анекдотом в околопрезидентских кругах стала история о том, как взбесилась Герцогиня, заметив, что муж на виду у всех совал в рот табачные пластинки, сидя на сцене в Принстонском университете, где ему, обливающемуся потом в мантии и шерстяной академической шапочке, с большой помпой на выпускной церемонии 1922 года присуждали степень почетного доктора наук; если иметь в виду скромные академические достижения и еще более скромные интеллектуальные способности Гардинга, честь и впрямь была незаурядная.
Несмотря на добродушный нрав Уоррена Гардинга, ему, как и всем президентам, угрожали — и те, кто действительно хотел бы покуситься на его жизнь, и просто сумасшедшие (которых в столице в 20-е годы развелось немало). Поэтому агенты безопасности, как в той детской игре, сопровождали его повсюду, даже в отель на свидания с Нэн (скромно ожидая в коридоре, на потеху тем, кто был в курсе дела) и на карнавал в южной части Пенсильвания-авеню (где президенту была выделена специальная ложа, отделявшая его от рядовых зрителей). Постепенно он начал находить отдохновение и удовольствие только в шумной компании своих подвыпивших друзей — которые, может, и не были истинными его друзьями.
Однажды вечером в Малом доме на Эйч-стрит, где Абрахам Лихт (после представления «Летучего голландца», который не переставал потрясать его своей трагической мощью) появился при полном параде, в высоком шелковом цилиндре, Гардинг в разговоре с ним между делом грустно заметил, что при вручении почетной степени доктора права в Принстоне было сказано, будто «он продолжает традицию Линкольна», но сам он этого как-то не ощущает.
Абрахам прикинулся удивленным и с любезной улыбкой ответил: если в Принстоне утверждают, что он продолжает традицию Линкольна и является одним из величайших лидеров нации, то, стало быть, так оно и есть — «ибо кому же это знать, как не принстонцам?». Гардинг наклонился, выплюнул в набитую окурками медную плевательницу очередную порцию жеваного табака и неуверенно произнес:
— Да, наверное, так. — После чего помолчал, пожевал, снова сплюнул и, повернувшись к Абрахаму Лихту как к вновь обретенному другу, с неожиданно открытой улыбкой заявил, что он проделал большой путь сюда из Блуминг-Гроув, штат Огайо, и обратно существует лишь одна дорога. — И вы знаете, что это за дорога, мистер Хайн, не так ли?
Внезапно Абрахама Лихта осенило. Он ведь — разновидность меня самого, только не обучен Игре. Подобно животному, предназначенному на заклание, он чует, что обречен. Впоследствии Абрахам пожалеет, что не ответил Уоррену Гардингу с той же братской откровенностью, но тогда, посреди всей этой суеты и приготовлений к покеру, ему оставалось лишь, поглаживая свою эспаньолку, притвориться удивленным и бодро произнести:
— Ну откуда же мне это знать, господин президент?
Одним из крайне немногих за годы его президентства поступков Гардинга, вызвавших противоречивую реакцию, было помилование политических заключенных, осужденных при Вудро Вильсоне в соответствии с законом об антиправительственной деятельности.
К тому времени в федеральных тюрьмах из седевших по этой статье оставалось в живых 23 заключенных, все — мужчины; среди них — знаменитый социалист Юджин Дебс и еще более знаменитый негритянский «революционер» принц Элиху, глава Всемирного союза борьбы за освобождение и улучшение жизни негров.
Кто из этих «врагов Америки» представляет большую опасность, консервативная пресса спорила давно. К удивлению всех своих сотрудников, президент Гардинг решил, что никто из них не враг, и велел немедленно освободить обоих.
Больше всех была возмущена Герцогиня.
— Мало тебе предателя-красного, не хватает еще предателя-черного! Уоррен, я категорически против! Я этого не допущу!
Они давно заключили молчаливое соглашение не касаться клеветнических слухов, будто у Гардинга есть «негроидные» предки; но в случае помилования негра его враги снова, только с еще большим энтузиазмом, могли запустить в дело эту утку.
Однако Гардинг уперся. Прессе он заявил, что ему непонятна ненависть предшественника к «политическим» противникам — ведь Соединенные Штаты согласно их священной конституции и благодаря особым связям со Вседержителем представляют собой единственное место на планете, где свобода гарантируется всем.
— Я помилую их, потому что так будет правильно. А это — единственный принцип, которым я руководствуюсь, — лаконично пояснил он.
Когда Дебса и Элиху доставили специально посланным автомобилем в Белый дом, чтобы сфотографировать с президентом в Овальном кабинете, Абрахам Лихт озаботился тем, чтобы попасть в узкий круг приглашенных; вид легендарного Дебса по-настоящему тронул его — это был высокий, исхудавший, явно не уверенный в себе человек; принц же Элиху, хотя вместо огненно-ярких одежд на нем был обыкновенный габардиновый костюм, а волосы, некогда густые и длинные, были теперь подстрижены коротким ежиком, действительно имел королевский вид. (Абрахам почувствовал, как сжалось у него сердце. На какой-то миг он даже испугался, что упадет в обморок. Как сильно изменился его Лайша! Его Маленький Моисей!)
(Одно было ясно: это действительно он, Маленький Моисей, только выросший и возмужавший, да так, что этого не мог представить даже Абрахам Лихт, несмотря на свой провидческий дар.)
Единственный негр среди белых, принц Элиху стоял, словно высеченный из камня, понимая, что все смотрят именно на него, и явно наслаждаясь, при всем своем бунтарстве, этим вниманием. Руки и плечи, как не преминул отметить Абрахам, у него сильно развились, фигура сделалась такой же атлетической, как у Харвуда, разве что Элиху обладал грацией, совершенно несвойственной его грубому старшему брату. Нос его оказался шире, чем помнилось Абрахаму, а губы со слегка опущенными уголками, напротив, тоньше; взгляд проницательный, сосредоточенный, неспокойный; волосы слегка тронуты сединой. Пресса гадала, сколько ему лет, предположения колебались в диапазоне от тридцати до сорока пяти, но Абрахам знал точно — тридцать три. И все же — как он изменился! Совсем другой человек!
Когда президент Гардинг, запинаясь, читал подготовленную к этому случаю речь, повторяя слова о святых принципах — о независимости прессы, о праве на Жизнь, Свободу и Стремление к Счастью, — почти не слушал его один Элиху. Затуманенный взгляд его скользил по комнате, выхватывая незнакомые белые лица, ни на ком не задерживаясь… даже на Абрахаме Лихте, которого, впрочем, практически невозможно было узнать в обличье Гордона Джаспера Хайна — специального агента министерства юстиции: седеющие каштановые волосы, тщательно подстриженная бородка, пенсне с толстыми стеклами, прочно угнездившееся на переносице.
И все же я мог бы хоть подмигнуть ему. Сделать знак, пусть даже знак отчаяния.
Спеша закончить церемонию, чтобы можно было наконец подняться наверх, избавиться от тесного костюма и что-нибудь выпить, в чем давно он уже ощущал острую потребность (благодаря бескорыстной службе Джесса Смита, в Белый дом во время «сухого закона» доставлялось исключительно канадское виски лучших сортов), Гардинг неловко улыбнулся «политическим заключенным» и даже не обратил внимания на оскорбительное высокомерие принца Элиху, если, конечно, тот действительно хотел оскорбить президента. Под конец церемонии Гардинг в вымученно шутливой манере заметил, что президент Вильсон, будучи нездоров и к тому же целиком погружен в тревоги, вызванные войной, скорее всего просто неверно истолковал их намерения:
— Вы ведь вовсе не собирались свергать правительство.
Юджин Дебс улыбнулся в знак согласия, а принц Элиху, понизив голос так, что расслышать его могли лишь несколько человек, стоявших рядом, надменно бросил:
— Не думаю, господин президент, что Вильсон был таким дураком.
Уоррен Гардинг умер внезапно, вечером 2 августа 1923 года в Сан-Франциско, после утомительного и, в общем, бессмысленного вояжа под названием «Лицом к людям» (выступления в западных штатах и на Аляске); но к тому времени, когда карточный домик начал-таки рассыпаться, Абрахама Лихта не было в Вашингтоне уже несколько месяцев. Запасшись банковскими чеками на значительную сумму и всякими ценными мелочами (например, теми самыми бриллиантовыми булавками для галстука), он остановился в нью-йоркской «Уолдорф-Астории», переговорил с доктором Леспинассом, сделал себе таинственную «омолаживающую операцию по пересадке желез» (она навсегда останется тайной для всех, ибо доктор Леспинасс так и не откроет, даже коллегам, секретов ее техники) в больнице «Гора Синай» и поехал оправляться после легкой психической травмы в курортный городок Уайт-Сальфер-Спрингс в горах Катскилл… где, обдумывая новое деловое предприятие, случайно услышал о докторе Феликсе Бисе, аутогенном самосовершенствовании и клинике «Паррис».
«Вот оно! То, что нужно!»
Ему всегда хотелось попробовать себя в медицине, в исцелении людей.
К тому же Абрахам не мог избавиться от ощущения, что месяцы, проведенные в Вашингтоне, посреди всего этого безумного карнавала, повседневного общения с такими сомнительными типами, как Гарри Догерти, Джесс Смит и Гастон Баллок Минз, запятнали его.
Честно говоря, под конец Абрахам начал побаиваться своего напарника, который слишком охотно размахивал пистолетом, а, напившись либо нанюхавшись кокаина, хвастал каким-то оригинальным замыслом заработать враз миллион долларов (например, аннулировать обвинение, выдвинутое против «Ю-Эс стил») и занять в администрации привилегированное место Джесса Смита.
— Но как же ты надеешься добиться этого? — с сомнением спросил Абрахам Лихт. — Смит и Догерти — неразлучная пара; боюсь, чтобы избавиться от Смита, тебе придется просто убить его.
Минз энергично затянулся сигарой, хитро подмигнул Лихту с таким видом, будто их могут подслушать, и многозначительно проговорил:
— Ну, что касается этого… Что ж, в принципе и это можно организовать. — И, резко отдернув полу пиджака, показал пистолет в кобуре, сбруя которой оплетала его мощную грудь.
У Абрахама были основания полагать, что сам Минз за несколько месяцев до того подбрасывал в Белый дом записки с угрозами убить президента в расчете на то, что, если Гардинг решит усилить охрану, выбор падет именно на него. Но ничего не вышло — президент либо не воспринял угрозы всерьез, либо устал от жизни.
(Абрахаму Лихту тоже выдали полицейский револьвер вместе с удобной наплечной кожаной кобурой; но интеллигентские предрассудки не позволяли ему носить эту дурацкую игрушку. Он запер револьвер в ящике стола на работе, где тот и оставался до самого его отъезда в июне 1923 года.)
Случилось так, что через три недели после разговора Минза с Абрахамом Лихтом Джесса Смита нашли мертвым у себя дома, все указывало на самоубийство: пижама и халат на покойном, дырка от пули в голове и револьвер, валявшийся рядом на полу (во время полицейского расследования он исчезнет).
Нервно отирая пот со лба, Минз уверял Абрахама Лихта, что смерть Смита — просто совпадение, одно из тех странных, загадочных, мистических событий, которые сейчас то и дело происходят в Вашингтоне, и он к этому никакого отношения не имеет.
— Не более чем сам Гарри Догерти, — с кривой ухмылкой добавил он.
На что Абрахам Лихт подмигнул, но ничего не ответил.
А через неделю трудолюбивый «Гордон Джаспер Хайн» уволился из бюро и навсегда покинул столицу.
Венера Афродита, молись за меня!
Ибо если Абрахам Лихт кого-то любит, он должен ощущать ответную любовь; если он предается кому-то всей душой, взамен должен получать другую душу. Иначе Игра становится жестокой.
И больше он не позволит себя обмануть — довольно!
Хотя мужская сила и вернулась к нему, Абрахам вынужден признать, что время в его возрасте бежит стремительно и если он мечтает еще об одном сыне, пусть даже дочери, чтобы продолжить род, медлить нельзя.
Венера Афродита, смилуйся надо мной!
Несмотря на то что, как известно, Судьбу направляет Воля, далеко не все пациенты клиники «Паррис» идут на поправку, что доставляет массу неудобств, порождает неизбежную суету, требует множества телефонных звонков и заметания следов.
(Впрочем, теперь это уже рутина: когда пациент умирает, тело до наступления темноты помещают в нечто вроде карантина; затем появляется специальная бригада служащих, которым можно доверять, перекладывает труп в фургон и отвозит в местный морг, находящийся в двадцати милях от клиники, где утром коронер — тоже давно уже связанный с клиникой — без лишнего шума проводит вскрытие, подписывает свидетельство о смерти и переправляет труп в ближайшую похоронную контору. А затем уж все заботы ложатся на родственников покойного, хотя доктора Бис и Либкнехт продолжают оказывать некоторое содействие.)
Пациенты идут на поправку не всегда, чего не скажешь об идущем в гору бизнесе, что и неудивительно, если принять во внимание, что в 1926 году беспрецедентно процветает вся страна; и чем дальше — тем больше, больше и больше! — одно из проявлений (согласно рассуждениям экономфилософов) закона эволюции.
Бизнес процветает; и болезни тоже.
Но Абрахаму Лихту снова становится тревожно, ибо, пусть зарабатывает клиника немало, а экспериментальные вложения (в акции самых надежных компаний) принесли солидную прибыль, ему все труднее выдерживать общество Феликса Биса (если напарника действительно так зовут); и уж коль скоро он влюбился в Розамунду, надо, думает Абрахам… надо уходить и начинать новую жизнь.
Теперь у него постоянно возникают стычки с этим шарлатаном Бисом, уважать которого он более не может. Всего несколько лет назад Бис казался ему умным, даже блестящим в некоторых отношениях человеком; но теперь мозг его разрушен алкоголем, а рассуждения сделались так же невнятны, как непорядочно поведение.
Какой смысл добиваться совершенства в Игре, если в ней более не участвует сердце; более того, при виде всего, что происходит вокруг, сердце сжимается от боли.
Венера Афродита, мечтательно, словно влюбленный пастушок, повторяет он, так же, как пастушок, уверенный, что непременно завоюет сердце возлюбленной, молись за меня.
И вот. Туманное осеннее утро. Очарованный влюбленный Моисей Либкнехт видит женщину, застывшую в трансе на поросшем травой берегу пруда; глаза ее закрыты, прекрасное лицо обрамляют спускающиеся до плеч растрепанные черные блестящие волосы. На ней халат вроде тех, в каких женщины ходят на сеансы гидротерапии; на ногах нет чулок, и они отливают молочной белизной; ступни тоже.
Зачем эта женщина привела его сюда, где из клиники их не видно?
Зачем эта женщина привела его сюда, где только он, ее возлюбленный, смотрит на нее?
Она ступает в воду, и он ощущает, как учащенно начинает пульсировать кровь у него в груди и в паху; он окликает ее по имени, мягко, но решительно:
— Розамунда! — пусть очнется наконец, пусть покорится силе его любви.
Так оно будет, так оно есть.
За что должно возблагодарить Венеру Афродиту.
«Исчезнувшая деревня»
Душным майским вечером 1928 года небольшая группа музыкантов и певцов, совсем молодых, едва за двадцать, мужчин и женщин, представляет не более чем сотне растерянных слушателей, собравшихся в Камерном зале «Карнеги-холл» на Пятьдесят седьмой улице Манхэттена, странное сочинение молодого композитора Дэриана Лихта, который, причудливо изгибаясь и дергаясь своим тощим телом, дирижирует исполнением. Название произведения — «Эзоп, исчезнувшая деревня». Жанр, как сказано в программе, — «Симфоническая поэма с вариациями», но на искушенный, да и неискушенный слух, композиция распадается на обескураживающее множество частей — по сути дела, разрозненных: одни обрываются, начинаются новые — каждая со своим собственным внутренним темпом, ритмом и темой, порой не имеющими ничего общего с доминирующей темой сочинения; то флейта, то гобой, то сопрано, то нечто, что напоминает (да и, если верить программе, на самом деле является таковым) треск гальки, встряхиваемой в деревянной коробке, уводят куда-то в сторону. Что это за музыка, в которой солисты мечтательно ведут каждый свою тему, совершенно независимо от остальной части оркестра? Создается впечатление некоего произвольного смешения шумов и звуков, на которые наслаиваются, и довольно густо, беспокойное покашливание, перешептывание, подавленные смешки, выражающие удивление, недовольство, а то и возмущение публики.
Вот какова хваленая «мировая премьера» произведения, написанного преподавателем Уэстхитской музыкальной школы в Скенектади, штат Нью-Йорк: бой курантов, вздохи, взрывы; нечто вроде перезвона церковных колоколов; внезапное вторжение чересчур бодрого марша в стиле уличных оркестров 1880-х; звук льющейся воды? дождя? наводнения? потопа? — впрочем, такой слабый, что и расслышать-то почти невозможно; внезапный кошачий концерт в исполнении тромбона, кларнета и старинного корнета; легкий намек на тему псалма (перекличка с «Gott, der Herr, ist Sonn' und Shild»[32]), тут же обрываемый перестуком гальки в коробочке; неожиданно прекрасный, но краткий фрагмент из «Господи, помилуй», который исполняют три женских и два мужских голоса, вокалисты поют, отважно устремив взор куда-то поверх голов публики. Такт, еще один: тромбонист сосредоточенно дует в инструмент, похожий на колбу с длинным горлышком, вроде тех, что используют в химических лабораториях: получается вкрадчивое воркование, одновременно и неземное, и комичное, что вызывает у публики сдержанное веселье; еще один такт — завывание ветра, шелест травы, тихие голоса, и внезапно — тишина.
Тишина! Самая трудная из возможных музык.
Дирижер и исполнители застывают, как скульптурные изваяния. Тишина в Камерном зале делается угнетающей (лишь перешептывание, шуршание, легкая суета среди слушателей, начинающих вставать со своих мест, чтобы — кто незаметно выскользнуть, а кто и демонстративно покинуть зал)… она заставляет вслушиваться в себя, о, как непостижима тишина, сколько страха таится в ней для непривычного слуха. Так сосредоточенны, так напряжены, так измучены и в то же время настолько исполнены надежды лица молодых исполнителей во главе с дирижером — композитором Дэрианом Лихтом, что становится очевидным: «Эзопус, исчезнувшая деревня» задумывалась вовсе не как пародия или юмореска, но как серьезное произведение.
Сочувствующие и доброжелатели, скорее всего родственники и друзья исполнителей, начинают хлопать, робко, неуверенно — ведь это конец, не так ли? — однако дирижер и исполнители остаются неподвижными на протяжении еще нескольких тактов, а потом с поразительным (учитывая настроение публики) достоинством юный Лихт, у которого весь лоб покрыт крупными каплями пота, а длинные спутанные волосы закрывают глаза, взмахивает палочкой, и музыканты начинают снова: пронзительные, резкие — и плавные, скользящие темы, как и вначале, диссонируя, звучат одновременно, но теперь в обратной последовательности по отношению к началу, словно перевернутые с ног на голову, — нечто похожее на нотную запись в зеркальном отражении или преломленную в волнующейся поверхности вод.
— Что за бред!
— Как он посмел!
— Кто он — этот Дэриан Лихт? И что это за уэстхитский ансамбль?
— Им покровительствует… кто же им покровительствует? Кажется, жена Джозефа Фрика.
— И как они осмелились на такое? Все они!
Смех, презрительный, злобный. Грубые издевки. Одна женщина жалуется спутнику, что от этой музыки у нее «болят уши». Какой-то слушатель, пожилой господин, заявляет, что его «чуть не стошнило». Под конец сорокапятиминутного исполнения в зале полностью опустели целые ряды, хотя раздраженные посетители продолжали толпиться в фойе, обмениваясь самыми нелестными высказываниями по поводу услышанного. Прозвучали жидкие аплодисменты — дань вежливости; кто-то зашикал и застучал каблуками; словом, прием исполнителям был оказан скептический, чтобы не сказать враждебный, коллеги-музыканты искренне хотели бы защитить Дэриана, однако предпочли поспешно ретироваться за кулисы. Дэриан же, уязвленный, недоумевающий, постепенно закипающий гневом, упрямо стоял на сцене, сжимая в ладони дирижерскую палочку, не убирая с лица волос, и вглядывался в зал поверх освещавших сцену огней рампы. Оттуда вдруг донесся мужской голос:
— Стыдитесь! Это профанация музыки! — На что Дэриан Лихт, запинаясь, бросил:
— Это не мне, а вам следовало бы стыдиться. Вы не слушали и потому ничего не услышали. Вы…
Его голос потонул в хоре других голосов, мужских и женских, возмущенных услышанным: ну, это уж чересчур, это и впрямь профанация, она оскорбляет слух. Дэриан Лихт нашел ответ и на это:
— А почему я должен сочинять только такую музыку, которую уже сочиняли до меня? И почему вы хотите слушать всегда одно и то же? Только Моцарта, только Бетховена, только…
Ему не дали договорить:
— Вы что же, мните себя Моцартом? Бетховеном? А может, выше? Вы? Смех, да и только!
Так бесславно закончилась премьера исполнения «Исчезнувшей деревни», дебют композитора Дэриана Лихта в Камерном зале «Карнеги-холл» 23 мая 1928 года.
Впрочем, не совсем: после того, как большинство слушателей разошлись и в зале зажгли свет, Дэриан увидел высокого, моложавого на вид блондина средних лет со спутницей под стать ему, только с волосами черными как вороново крыло, — мужчина аплодировал, не жалея ладоней.
— Удивительная музыка! Ничего похожего раньше не слышал. Знаете, я, правда, почти не разбираюсь в музыке, но мне показалось, что я слышу голос Всевышнего, и это было так неожиданно. — Мужчина, судя по всему, говорил от души, искренне, а голос звучал так мелодично, что Дэриан в изумлении поднял голову. Тем более что почудилось ему в этом голосе нечто знакомое… да и в лице тоже.
— Терстон?
— Дэриан!
Дэриан спрыгнул со сцены, устремился к высокому блондину, и тот заключил его в объятия; спутница осталась стоять в глубине зала, храня молчание.
— О Господи… Терстон, — пролепетал Дэриан. — Неужели это действительно ты? Ты… здесь?
— Вообще-то я не Терстон — тот умер еще в 1910 году, его больше не существует. И здесь, на Манхэттене, я всего лишь проездом; сестра Бьюла Роуз и я направляемся во Флориду, времени у нас в обрез, но мне так хотелось повидать тебя, братишка, пожать руку и благословить; ибо, будучи, как и я, сыном своего отца, ты нуждаешься в благословении Божьем — в благословении истинного Бога.
Многое Дэриан пропустил мимо ушей — он лишь смотрел на брата, вглядывался ему в лицо и поражался тому, как переменился Терстон. Похоже, тут вовсе не время поработало, а чья-то безжалостная рука: широкое, открытое, все еще красивое лицо брата выглядело так, словно его рассекли от виска до скулы и восстановили лишь частично. Глаза косили, в густых бровях появились проплешины, и они стали напоминать кружева. Некогда льняные волосы приобрели металлически-серебристый оттенок, асимметрично растянутые в улыбке губы обнажали недостаток зубов. Но, нимало не смущаясь этим, продолжая улыбаться и стискивать ладонь Дэриана так крепко, что тот стал опасаться, как бы не треснули кости, Терстон представился преподобным Термондом Блихтманом из Новой церкви Назорея. Это был Терстон и в то же время не Терстон; молодой, энергичный, жизнерадостный мужчина в приличной, хотя и скромной одежде, все существо которого, кажется, излучало всепобеждающую готовность любить и быть любимым. Однако же позади него, в конце зала, в проходе, все это время стояла высокая неистовая амазонка — женщина с лицом грубым и невыразительным, как садовая лопата, и глазами, бесстрастными, как камни. Сестра Бьюла Роуз — ее заплетенные в длинную косу волосы казались такими жесткими и тусклыми, что Дэриану припомнились женщины из племени ирокезов, поселившегося недавно, под давлением правительства, в резервации у каменистого подножия Адирондака, недалеко от Скенектади. Сестра Бьюла Роуз не вымолвила ни слова, тем не менее можно было с уверенностью утверждать, что на все у нее есть свой взгляд и свое суждение.
Едва успев представиться своему изумленному брату, Терстон, то бишь преподобный Блихтман, тут же заявил, что ему пора ехать, в Майами его ждет срочная служба.
— Не в обычном смысле. Сестре Бьюле Роуз и мне было одно и то же поразительное видение: оштукатуренная розовая церковь с удивительной, небывалой крышей — такой зеленый оттенок бывает только у воды на глубине; вот мы и торопимся на юг, будем там строить такую церковь.
Терстон уже двинулся по проходу, и Дэриан поспешил за ним.
— Так скоро? О, Терстон, это ужасно! Неужели нельзя…
Терстон нервно улыбнулся, прижал палец к губам и кивком дал понять, что сестра Бьюла Роуз скорее всего ничего не знает о Терстоне Лихте и лучше бы ей и впредь не знать.
— Тер… монд, — быстро поправился Дэриан, хватая брата за локоть, — неужели ты не можешь задержаться хоть на часок? Нам ведь так много надо сказать друг другу.
— О, как бы мне этого хотелось! — грустно молвил Терстон, он же Термонд. — Ты кем работаешь — учителем музыки? В Скенектади? Не женат, наверное? И, как мне писала Милли, расстался с отцом? Так же, как и все мы.
Но старший брат уже отстранился от Дэриана — с ними поравнялась и зашагала в ногу с Терстоном его молчаливая бесстрастная спутница, привлекавшая взволнованное внимание немногих остававшихся еще в зале слушателей. Как и преподобный Блихтман, сестра Бьюла Роуз была одета скромно, но стильно — в просторные брюки и бежевую мужскую куртку; на обоих были белые рубашки с расстегнутыми на рабочий манер воротниками. Дэриан заметил также, что и брат, и сестра Бьюла Роуз носят одинаковые черные туфли из искусственной кожи, начищенные до блеска. Не обращая внимания на Дэриана, сестра Бьюла Роуз вздрагивала, как лошадь перед стартом; ей явно не терпелось уйти из душного зала. Терстон с улыбкой посмотрел на нее и попросил пойти вперед и подогнать грузовичок.
— Послушай, Терстон, то есть Термонд, сестра Бьюла Роуз — твоя жена? — спросил Дэриан.
Терстон рассмеялся:
— Не моя и ничья. Сестра Бьюла Роуз — сама по себе.
Выйдя на Пятьдесят седьмую улицу, по которой нескончаемым потоком шли машины, Терстон сказал:
— Прощай, Дэриан. Хотя в музыке я понимаю не больше, чем какой-нибудь вол, будучи христианином, я радуюсь, когда «веселятся и радуются племена и восхваляют Бога народы все», и счастлив, что по-своему ты делаешь именно это.
Дэриан, все еще потный, напоминавший после своего ужасного дебюта-испытания напуганного щенка, семенил за братом по тротуару в сторону Седьмой авеню и, заикаясь, спешил задать ему как можно больше вопросов:
— Терстон… то есть, Термонд, ты действительно священник? Официально посвящен в сан? А Новая церковь Назорея — она как-нибудь связана с церковью в Мюркирке?
С усилием, словно слова причиняли ему боль, Терстон выговорил:
— Я верую, брат! Верую в истину Евангелий как донесла ее до нас Библия. Я верую в то, что Иисус Христос — мой Спаситель, и Спаситель человечества. Не сомневаюсь, что это Он спас меня от смерти — и не однажды, а много раз. И в то же время… — Он широко шагал по людному тротуару навстречу ветру, Дэриан с трудом поспевал за ним. — …И в то же время я независим от своей веры, я напоминаю себе человека, который со стороны наблюдает за собственной казнью, и иногда задаюсь вопросом: может, все это — такая же фантазия и такая же бессмыслица, как любой иной предрассудок? Вроде того, например, в какой верят жители островов Фиджи, поклоняющиеся своим уродливым божествам-людоедам, или — Бог его знает! — эскимосы, молящиеся полярному медведю.
Терстон, или Термонд, вдруг хрипло рассмеялся. Дэриан вздрогнул и посмотрел на обезображенное, но прекрасное лицо брата. Смех у него совсем такой, как у меня, тот, что звучит в сердце.
Протарахтев по Пятьдесят седьмой улице, явно неисправный, но выкрашенный в ярко-салатовый цвет грузовичок с открытым кузовом размером с прицеп для сена поравнялся с ними и медленно поехал вдоль тротуара. Разодетые пешеходы с улыбкой поглядывали на него и на личность непонятного пола, сидевшую за рулем. Прежде чем забраться в кабину, преподобный Блихтман обнял Дэриана так крепко, что тот поморщился: как бы ребра не треснули.
— Знаешь, Дэриан, — пылко сказал старший брат, — не позволяй никаким узколобым болванам диктовать тебе, как надо писать музыку; у тебя есть собственное видение, и этого вполне достаточно. Все предначертано — «как на небе, так и на земле». Гений ты в музыке — не гений, кому на земле о том судить? Господь с тобою, брат; и пусть вечно пребудет в сердце твоем Иисус Христос.
С этими словами преподобный Блихтман, лучезарно улыбнувшись, неловко протиснул свое крупное тело в кабину, со второй попытки захлопнул дверь и в знак прощания помахал рукой через открытое окно. Губы его дрожали, будто стараясь сложиться в широкую безумную улыбку (быть может, прощальные слова преподобного Блихтмана отдавались слабым эхом в его собственных ушах). Таким в последний раз увидел своего давно сгинувшего брата Дэриан, полквартала он на глазах удивленных прохожих пробежал за грузовичком, выкрикивая:
— Прощай! Прощай! — и яростно размахивая руками.
Я и не подозревал, как сильно люблю Терстона. До тех пор, пока не понял, что никакого Терстона больше нет, остались лишь мои воспоминания. Дыра с зазубренными краями в сердце, которую должна — но не может — заполнить музыка.
Грузовичок, подпрыгивая и покачиваясь из стороны в сторону, под уверенным водительством сестры Бьюлы Роуз устремился на восток, в направлении шикарной Пятой авеню. Позднее Дэриану будет казаться, что на дверях его пылали какие-то слова, возможно, стихи из Библии.
Задний номер был прикреплен к кузову проволокой и, забрызганный грязью, стал неразборчив.
Да, это был вызов, и так будет всегда.
Нет, мне не стыдно, как вам. И я не хочу стыдиться.
Так по истечении времени скажет себе Дэриан Лихт. Но в вечер своего провального дебюта в качестве композитора подобной уверенности он не ощущал. В свои двадцать восемь лет он все еще был совсем молодым человеком, девственным во многих отношениях: его гордость была уязвлена так, словно ее, как живое существо, искусал рой разъяренных шершней.
Хуже того, Дэриану предстояло возвращение в Уэстхитскую школу, где старшие преподаватели, которые были заведомо настроены против его дебюта в «Карнеги-холл», устроенном престарелой миссис Фрик, будут радоваться, что их предсказания оправдались. В глаза-то они желали ему всяческого успеха, однако каждый нашел предлог, чтобы не поехать на премьеру.
— Конечно, это всего лишь начало, — говорили они Дэриану с притворным энтузиазмом. — Вашу «Исчезнувшую деревню» будут исполнять много и широко, по крайней мере в Америке.
В квартире, которую он снимает в старом жилом доме в Скенектади, хранится много сочинений даже более смелых, чем «Эзопус»; но Дэриан, опасаясь, что его видение (если «видение» здесь — точное слово, может, лучше сказать — «безумие»?) никому, кроме него самого, не доступно, и не помышляет об их исполнении. Даже двое-трое его друзей-музыкантов понятия не имеют, сколько нотной бумаги извел Дэриан Лихт, начиная с раннего отрочества. Больше двадцати произведений, полностью завершенных, вроде «Эзопуса», и ожидающих исполнения; десятки набросков — сонат, струнных квартетов и квинтетов, маленьких симфоний (например, «Тишина: сумерки» — пьеса, рассчитанная на восемь минут звучания), элегий, маршей, ноктюрнов, мадригалов, кантат; «писем» — «импрессий» — «мечтаний». Сочинения написаны для самых разных музыкальных инструментов и приспособлений, обычно в музыке не применяющихся (галька, стеклянные трубки, потрескивающее пламя, стиральная доска). Есть у него и опера на сорок восемь партий, включая партии детей, животных и покойников, — произведение без названия, так за пятнадцать лет работы и не законченное, представляющее собой спрессованную в двадцать четыре часа жизнь деревни наподобие Мюркирка.
Все, что я утратил, — не утрачено. Случайные движения души. Вроде дымка, вьющегося вокруг деревьев… наша жизнь… наша музыка.
В пору своего печально знаменитого дебюта на Манхэттене Дэриан Лихт занимает должность «временного преподавателя» в Уэстхитской музыкальной школе в Скенектади; в округе заведение это под решительным руководством бывшего вундеркинда и композитора по имени Мирик Шеффилд добилось известности и претендует на многое. Друзья и поклонники считают Шеффилда национальным гением, несправедливо отвергнутым в Нью-Йорке; его композиции отличаются откровенно романтическим характером — в бурном стиле его учителя Ференца Листа; как пианист он — подлинный виртуоз, глубоко сентиментальный, неудержимый, склонный работать на публику и не слишком техничный. То есть полная противоположность Дэриану Лихту; тем не менее Шеффилд взял Дэриана к себе в школу, мудро рассудив, что за маленькое жалованье и без постоянного контракта получает замечательно одаренного молодого учителя музыки, который почти не задумывается над своей академической карьерой, да и деньгам не придает большого значения.
— Красивый малый, но совершенно не заботится о том, как выглядит в глазах женщин. Для него весь секс в голове — это его музыка. Он никогда не женится и ему никогда не будет нужно много денег. Он не знает себе цены, да и не задумывается над этим. Я буду определять эту цену в интересах Уэстхита, — публично похвалялся Шеффилд. Впрочем, молодой человек ему по-настоящему симпатичен; он видит в нем соперника, достойного соперника, который заслуживает того, чтобы стремиться превзойти его. (Наверное, Шеффилд ревновал бы больше, знай он, что среди лучших учеников Уэстхита существует культ Дэриана Лихта, а его музыкальные теории, пусть не законченные, безумные, быть может, как раз и привлекают своей полной противоположностью тому, чему учат в школе.)
Что Дэриан не ведает о собственной красоте и потому слеп к красоте женской, — правда. Если объект желания не вызывает особого интереса, то и желание не может быть сильным; а если может, то таится где-то в глубине, подобно годами скрывающемуся под землей огню. К тому же существует пример, чудовищный пример в лице Абрахама Лихта — обожателя женщин, неутомимого и безумного искателя Венеры Афродиты в образе смертной женщины; о его диком, ненасытном аппетите Дэриан не может думать без содрогания. «Неужели я все еще ненавижу этого человека? — спрашивает он себя, до боли оттягивая двумя пальцами нижнюю губу. — Но почему я, Дэриан, должен все еще его ненавидеть? Ведь мы уже ничего друг для друга не значим».
Конечно, Дэриан поддерживает отношения с Эстер; Эстер — большая любительница писать письма, и она привязана к нему. Через Эстер он наслышан о Милли (которую в последний раз видел в 1921 году, когда они с Уорреном Стерлингом, за которого она только что тогда вышла замуж, приехали в Бостон, где Дэриан недолгое время вел классы композиции и рояля в консерватории Новой Англии) и о Катрине (которая все еще живет в Мюркирке, присматривает за старой церковью — домом, который Лихты давно покинули). А вот от Абрахама Лихта он будет далек всегда — в этом Дэриан уверен. И Абрахам, со своей стороны, тоже с декабря 1916 года не предпринимал ни малейших попыток связаться с Дэрианом.
Что такое прошлое, как не кладбище будущего. И негде преклонить голову.
Тем не менее в лихорадочном от бессонницы состоянии, которое и превращает сочинение музыки в занятие изнурительно-прекрасное, Дэриана, склонившегося над клавиатурой, нередко посещают видения, в которых отец приближается к нему, широко улыбается и раскидывает руки для объятия; Дэриан — снова ребенок, он и жаждет, и боится грубых, удушающих объятий отца; жара его горячих поцелуев; теплоты дыхания, в котором запах табака смешан с запахом виски. Он слышит звонкий голос отца, взывающий к его душе как самая сладкая, глубже всего проникающая музыка: Эй, птички, куда же вы летите? Старина Эбенизер Снафф знает вас всех до единой, от его глаз, от его всевидящего ока не скрыться вам ни в Небе, ни на Земле, ни в Подземной Тьме.
С детства ему говорили, что у него слабое сердце, но кто говорил? Отец. А Дэриан в это никогда не верил.
Правда, иногда он и впрямь задыхался. Будто грудь сдавливала чья-то холодная ладонь с растопыренными пальцами.
Но все же физически был в хорошей форме: не сильный, не чрезмерно мускулистый, однако жилистый, с гибкой фигурой и к тому же упрямый и настойчивый. Лучшие музыкальные идеи приходили ему в голову во время долгих прогулок по каменистым подножиям холмов и зимним полям, когда над опущенной головой порывами проносился морозный ветер. Оставив Вандерпоэлскую академию, Дэриан бродяжничал месяцами… годами. На север, на запад, через весь штат Нью-Йорк, потом, по кругу огибая Великие озера, к южной их оконечности; сколько мест службы он за это время сменил — посыльный в «Вестерн юнион», помощник наборщика, рабочий холодильного цеха, даже мальчик на побегушках в пансионате городка Оксард, штат Огайо, где снимал комнату за семь долларов в неделю. Был он и бродячим учителем музыки, главным образом давал уроки нотной грамоты и игры на рояле и органе; дирижером хора в пресвитерианской церкви в городке Флинт, штат Индиана; пробовал настраивать рояли. На Запад ехал автостопом; немало рисковал, путешествуя в товарных вагонах в компаниях бездомных, порой совершенно отчаявшихся людей. В Нидхэме, Миннесота, задержался почти на год, работал на почте, жил в дешевых номерах неподалеку от депо, а свободное время тратил главным образом на посещение концертов организованного полковником Харрисом нидхэмского оркестра «Серебряные корнеты»; услышав однажды летним вечером на городской лужайке, как играют эти шестнадцать мужчин, он был буквально потрясен. Что это за музыка? Кто меня зовет? Вернувшись на Восток, он на какое-то время подпал под влияние (зная, что влияние это зловредное) Арнольда Шёнберга, чьи «Пять пьес для оркестра» проникли ему глубоко в душу. Очистился он — или, во всяком случае, считал, что очистился, — лишь услышав оркестр полковника Харриса. Можно ли влюбиться в оркестр? В музыку? В звук? Этот оркестр духовых инструментов состоял из людей в возрасте от 21 до 81 года, игравших с гигантской энергией и энтузиазмом на таких инструментах, как корнет, альт, тенор, баритон, труба, большой барабан, малый военный барабан, тромбон и большой сузафон. Дэриану не хватало дыхания, да и подготовки, чтобы играть на духовых, но полковник предложил ему малый барабан, на котором он и выбивал дроби, маршируя вместе с оркестром, сначала робко, потом все смелее и смелее.
— Не бойся производить шум, сынок, — учил полковник, — чтобы заставить людей слушать хорошую музыку, надо сначала завладеть их вниманием.
Отважный оркестрик выходил на улицы в любой момент, когда его желали слушать, а может, и чаще. В Нидхэме, городке, в музыкальных амбициях не замеченном, он сделался главной достопримечательностью, легендой. Разумеется, заводилой оркестра и его душой был полковник — давно вышедший в отставку ветеран армии Соединенных Штатов: следовало либо беспрекословно подчиняться полету его воображения, либо немедленно расставаться с оркестром «Серебряные корнеты». В репертуаре оркестра были военные марши, квикстепы, польки, шотландки, национальный гимн, военный гимн республики… «Все спокойно на Потомаке…», «Старый палаточный городок…», собственные вариации полковника на темы «Отвези меня назад, в старушку Виргинию…», «А оркестр все играет…», «Заноза в сердце…», даже популярные оперные арии. Маршируя вместе с другими и стуча по барабану до боли в руках, Дэриан испытывал подъем, дотоле ему неведомый, — оказывалось, что играть можно и на открытом воздухе; оказывалось, что музыку можно встречать громкими, от души идущими аплодисментами, одобрительным свистом, выкриками… и что ее с удовольствием слушают мужчины, женщины и дети, которых калачом не заманишь на «серьезную» музыку. А главное — музыка шагает сквозь время и пространство: ты не сидишь, даже не стоишь, ты маршируешь.
Но не потому ли еще так привязался Дэриан к оркестру и к удивительной личности полковника Харриса (мужчины с красным от выпивки лицом и опущенными, пожелтевшими от табака кончиками усов, человека, который то излучал необыкновенную живость, то был торжественно-внушителен, то со всеми мил, то неприветлив), что он представлял собой разновидность, только не жесткую, а благожелательную, Абрахама Лихта? Отца — не-Отца.
В конце концов Дэриан все же уехал из Нидхэма, штат Миннесота. Ибо даже счастье приедается; даже счастье не есть цель поиска.
— Но ведь ты счастлив? Выглядишь счастливым, — говорит Миллисент, разбавляя свой медовый голос некоторой долей укоризны. — Ты не изменился, — с улыбкой льстит она ему, — почти не изменился.
— Ну что за ерунда, — смеется Дэриан.
— Что — ерунда? Что ты счастлив?
— Что не изменился.
— …В то время как я изменилась так сильно, ты это хотел сказать? — весело подхватывает Миллисент.
Перегнувшись через чайный столик, она постукивает по его ладони своими тщательно отполированными ногтями. С тех пор как она впервые сняла перчатки, Дэриана вот уже в который раз ослепляет блеск ее колец.
Неужели эта красивая тридцатилетняя женщина в серебристой шляпке-колоколе, со слегка подкрашенными губами, пронзительно-голубыми глазами, которыми она так и буравит его, приводя в смущение, — действительно его сестра Милли, которую он когда-то обожал?
С дразнящей улыбкой Милли снова спрашивает, изменилась ли она.
— Надеюсь, к лучшему? — Ресницы у нее подрагивают, точно она борется со слезами.
(Милли уже и поплакала под встревоженным взглядом мужа в первый момент их встречи в меблирашке, которую снимал Дэриан. Скрывая волнение, он ласково, хоть и с некоторым отчуждением, обнял свою благоухающую духами сестру и подумал: Что нам теперь друг от друга нужно и что можем мы друг другу дать?)
Теперь, когда Миллисент так, судя по всему, удачно вышла замуж и переехала в Ричмонд, Виргиния, выглядит она, как и предупреждала Эстер, настоящей южанкой из хорошей семьи, получившей аристократическое воспитание; она так уверена в своем мнимом происхождении и нынешнем общественном положении, что может даже позволить себе легкую долю самоиронии, такой же, какую Дэриан замечал в своих вандерпоэлских однокашниках, происходящих их самых почтенных старых семей (не важно, что, как стало известно Дэриану, муж Милли, Уоррен, родом вовсе не из Виргинии, а из северной части штата Нью-Йорк). Непринужденно болтая, перемежая чай сигаретой (курит «омар» — турецкий табак), Милли, даже спрашивая Дэриана о его делах, остается погруженной в себя, несколько настороженной, что, как надеется Дэриан, пройдет, когда они останутся наедине. С некоторой грустью она снова спрашивает, счастлив ли брат, ведь он живет так далеко от дома, среди незнакомых людей; Дэриан раздраженно отвечает:
— А почему бы мне, собственно, не быть счастливым? Я больше не ребенок — мне как-никак двадцать один год. И разве мы, Лихты, не чувствуем себя лучше всего в кругу незнакомцев?
Миллисент внимательно смотрит на него и ничего не отвечает; потушив сигарету, тянется к расшитой бисером сумке, чтобы достать новую.
На величавом фоне пальмовых листьев, черного в прожилках мрамора и зеркал во всю стену ослепительная красота миссис Уоррен Стерлинг производит несколько театральное впечатление. На ней модное шерстяное платье из алого джерси с заниженной талией; серебристая шляпка-колокол, плотно облегающая голову, даже немного сжимающая ее и придающая Милли невинный и слегка беспомощный вид. В отличие от великолепной старшей сестры Дэриан в своих мешковатых куртке и брюках, в рубашке без галстука, с расстегнутым воротом, выглядит — и знает это — весьма затрапезно. В то время как Милли, то есть миссис Миллисент Стерлинг, судя по виду, чувствует себя в изящном баре отеля «Ритц-Карлтон» совершенно как дома (хотя, как и Дэриан, она здесь впервые), ему не по себе, он ощущает себя бездомным бродягой, очутившимся в неподобающем ему месте. Он съел слишком много крохотных сандвичей без корочки, запивая их английским чаем с блюдца.
— И все же мы с тобой, Милли, брат и сестра, — загадочно бросает он, — то есть, я хочу сказать, у нас один отец. Или был один отец.
Милли удивленно смотрит на него:
— Как это понимать? К чему это ты?
Дэриан пожимает плечами. Он и сам не знает, к чему.
Милли делает вид, что все в порядке, что встреча с младшим братом протекает весело и радостно, как положено в мелодраме; то есть поначалу ощущается некоторая настороженность, но все кончится хорошо. Освоившись в роли преуспевающей старшей сестры и любимой мужем, излучающей жизненную энергию женщины, она забрасывает Дэриана вопросами до тех пор, пока тот не начинает заползать в свою привычную скорлупу. Почему он порвал с отцом? Каким образом попал в консерваторию Новой Англии? «Тетка Уоррена говорит, что это очень престижное место». Был ли в Мюркирке? Не скучает ли по Мюркирку? Что думает о медицинской карьере Эстер? Надеется ли прожить музыкой — преподаванием, исполнением, сочинением? И, наконец, словно обессилев, задумчиво говорит:
— Ненадежное это дело, Дэриан! Мир замечает только звезд и ведать не ведает об одаренных, даже талантливых музыкантах, актерах, художниках, которые работают без устали — и без толку. Потому что нас слишком много. — Рассмеявшись, она выпускает изо рта голубоватую струйку дыма. — Я имею в виду — вас.
Пожав плечами, Дэриан наливает в блюдце еще чаю. Сердце у него колотится, что является верным признаком: он недоволен вновь обретенной сестрой.
Можно подумать, что Дэрианов Лихтов так уж много.
Потом Милли спрашивает, случалось ли ему влюбляться и любит ли он кого-нибудь сейчас, — «ты понимаешь, что я имею в виду — в романтическом смысле?» В ее голосе звучат отчетливые южные интонации. Дэриан снова пожимает плечами. Столь интимный вопрос ему явно кажется неуместным, он смущен, раздражен, не знает, что ответить. Он надеется, что у него никогда не будет заурядного романа. Он выше этих детских примитивных порывов.
— Возможно, и влюблюсь, — говорит он наконец, — если мне станет слишком скучно.
Милли натужно смеется. Дэриан пытается вспомнить, чем Милли всегда так раздражала его, хотя он и скучал по ней — даже написал для нее несколько вокальных сочинений (как часть оперного цикла, посвященного Мюркирку) и переслал через Эстер, но Милли так и не откликнулась. А ведь получила, он знал это от той же Эстер. Подобно Терстону, подобно Элайше, Милли ушла и забыла его.
Жестом фокусника Милли извлекает из серебристого парчового портмоне пачку фотографий и подталкивает их Дэриану. На большинстве снимков изображен ее малыш — «Мейнард Франклин Стерлинг. Твой племянник, Дэриан». Дэриану нравится славное смышленое, с удивленным выражением личико мальчонки. О том, что оно напоминает, пусть очень отдаленно, родителя его матери, Дэриану думать не хочется.
— Он — нечто! — пылко восклицает Милли. — Он — настоящий!
Дэриан кивает. Не более настоящий, чем любой ребенок, рожденный от смертной плоти.
— Значит, ты счастлива, Милли. Все забыто?
— Да, — вызывающе подтверждает та, отбирая у Дэриана фотографии и придирчиво проверяя их, словно некоторых могла недосчитаться или какие-то могли лечь не в том порядке; в конце концов она сует их назад в портмоне и щелкает замком. Вот так. Теперь все на месте. Дэриан чувствует, что сейчас Милли задаст вопрос, к которому подступалась давно, и она действительно задает его — словно в воду ныряет:
— Насколько я понимаю, ты не общаешься с Элайшей? И ничего о нем не знаешь… насколько я понимаю? — Вопрос звучит чуть более взволнованно, чем Милли хотелось бы.
Дэриан печально качает головой.
Воцаряется неловкое молчание. Не глядя на Милли, Дэриан слышит ее учащенное дыхание; кажется, она вот-вот разрыдается. И это будет не просто печаль, это будет горе тяжкой утраты, смешанное с гневом.
Жестом капризной виргинской матроны Милли подзывает официанта и велит ему принести кипятку: чай хорош, но остыл, знаете ли.
Потом — словно бы в продолжение давней размолвки, медовым голосом обращается к Дэриану, сердясь, что тот — странный человек — никак не может понять простых вещей:
— Надеюсь, ты ценишь таких композиторов, как Верди, Россини, Беллини… и еще того… ну, который написал «Богему»? А Гилберта и Салливана? Да, как насчет Рихарда Вагнера?
Она произносит имя отрывисто, на немецкий манер: Ри-кард — так всегда выговаривал его Абрахам Лихт.
— Вагнера — разумеется, — лаконично отвечает Дэриан.
— А остальные? Слишком старомодны, на твой вкус? Слишком просты, слишком ласкают слух?
— Я бы сказал иначе — слишком скучны.
— Отлично! А я бы сказала, что тут все дело в слухе.
— Ты и сказала. Все ясно.
Безукоризненно накрашенные губки Милли кривятся в язвительной улыбке. Дэриан понимает, что ее совсем не радует только что сделанное открытие: ее застенчивый юный брат уже не так юн и не так застенчив. Подливая чаю себе и Дэриану и сосредоточенно хмурясь, Милли говорит:
— Нет, так нельзя. Нельзя. В конце концов, любовь… влюбленность… Можешь сколько угодно ненавидеть романтику, но без нее твоя музыка… искусственна.
Убедившись, что Дэриана на этот крючок не поймать, Милли меняет тему и начинает говорить о деньгах.
— Слушай, ты — беден, как можно понять по одежде, прическе и жилью, или, как водится среди богемы, просто презираешь подобные низменные предметы? Я же видела, как ты набросился на эти крошечные сандвичи! Короче, если тебе нужны деньги, я с удовольствием… одолжу. То есть Уоррен одолжит. Я знаю, гордость не позволит тебе принять деньги в подарок, но… — Она снова тянется к сумке, но исполненный холодного презрения взгляд Дэриана останавливает ее:
— Спасибо, Милли, но твои деньги мне не нужны.
— Выходит, я все же оскорбила тебя.
— Ничуть. По-моему, ты оскорбила себя.
Милли, то есть не Милли, а миссис Уоррен Стерлинг, дама со сверкающими на пальцах шикарными кольцами, понимающе улыбается и говорит с упреком:
— А ведь когда-то ты любил меня, Дэриан. В Мюркирке. Когда он был нашим отцом. Разве нет? Теперь все изменилось. Ты изменился, да и я, наверное, тоже. И вот ты больше не любишь свою «славную» — «обреченную» — сестру.
— «Обреченную»? С чего бы это?
Милли хохочет и поглубже нахлобучивает свою удобную шляпку. Проследив за ее взглядом, устремленным куда-то ему за спину, Дэриан различает в висящем невдалеке стенном зеркале расплывчатый силуэт ее лица. А рядом — собственное зыбкое отражение — узкое, нечеткое лицо, такими видятся лица из окна стремительно проносящегося поезда. Может, Милли все время только притворялась, что смотрит в зеркало на себя, а на самом деле разглядывала его?
— Ну, можно сказать и иначе — «проклятая», — поправилась Милли. Дэриан смотрит непонимающе. — Твоя «славная» — «проклятая» — сестра, так будет точнее.
Скоро они разойдутся. Уже и сейчас Дэриан знает, как ему будет не хватать Милли, как он будет злиться на себя за то, что упустил случай, не взял сестрины руки в свои, не сказал, как любит ее.
— О Терстоне ничего не слыхала? — роняет он. Милли отрицательно качает головой. — Но ведь он жив? — Милли снова качает головой: не знаю. И вдруг, вздрогнув, обхватывает руками чайник, как делала много лет назад — Дэриан хорошо помнит этот ее жест — в Мюркирке, когда ветер со свистом задувал в оконные щели, мороз рисовал узоры на стекле, а в небе ослепительно светило зимнее солнце. — Я верю, что Терстон жив, — упрямо говорит Дэриан, — и что мы еще увидимся — когда-нибудь.
Милли пожимает плечами и смахивает слезу. В дверях бара появляется Уоррен Стерлинг, он выжидательно смотрит в их сторону. Милли велела ему зайти за ней минут через двадцать, и вот он, неуверенно улыбаясь, подходит к столику: высокий, немного склонный к полноте мужчина на пороге средних лет. На Большой войне он был полковником и получил ранение в северной Франции; едва не умер от обморожения, потом от инфекции; он говорил Милли, что в бреду видел ее лицо, точнее, лицо «Авьеморской девы», с которым сливался ее образ.
— Будто я, которая и свою-то жизнь не знает как уберечь, могла спасти его, — грустно говорит Милли Дэриану и поспешно, пока не успел подойти Уоррен, схватив брата за руку, поглаживая его длинные сильные пальцы пианиста, взволнованно шепчет: — Терстон жив. Только это больше не Терстон. Он заезжал к нам с Уорреном в Ричмонд, чтобы благословить. А Харвуд — мертв.
— Что? Мертв?
Момент выбран точно: воспитанный шурин Дэриана как раз пододвигает стул, собираясь присесть за их полированный столик, и конфиденциальный разговор надо заканчивать.
— Позволите присоединиться? Не помешаю? — Уоррен Стерлинг улыбается Дэриану. Добродушный, приветливый мужчина, идеальный муж для Милли и идеальный отец для ее детей, который знает ее так же мало, как Дэриана. Выражение его теплых темно-карих глаз, устремленных на красавицу Миллисент в шляпке и элегантном платье, говорит само за себя: быть объектом такого обожания — значит получить благословение.
Итак: Харвуд мертв! Жестокий Харвуд Лихт.
Когда умер единокровный брат Дэриана, как, где? Естественным ли, насильственным образом? Заслуженно или незаслуженно? Этого невинному Дэриану Лихту так и не суждено будет узнать.
23 мая 1928 года. Время — около полуночи. Едва Дэриан Лихт вернулся в свою каморку в затрапезной гостинице «Эмпайр-стейт» на Восьмой улице, где остановились еще несколько его коллег-музыкантов из Скенектади, как в дверь громко постучали; Дэриан, в одной рубашке, поспешно откликается, надеясь, что это может быть Терстон, хотя знает, что это, конечно же, невозможно.
— Да? Кто там? — громко спрашивает он, ловя свое отражение в треснувшем зеркале; он раздраженно откидывает волосы с лица — смятенно пылающего, с нечистой кожей, молодого, но изможденного лица, и поспешно оправляет одежду. После кошмара, пережитого на концерте, после потрясшей его встречи и слишком быстрого расставания с Терстоном Дэриан по дороге в гостиницу зашел в несколько баров и прилично выпил, пусть это было всего лишь пиво — ему хватило. С самого утра, после скудного завтрака в поезде, он ничего не ел и рассчитывает снова поесть лишь завтра утром, в поезде, на обратном пути в Скенектади вместе с друзьями-музыкантами. (Он боится встречи с ними. Ему страшно будет посмотреть им в глаза. Увидеть их смущенные улыбки. В Уэстхите никто из коллег об «Исчезнувшей деревне» говорить с ним не будет, разве что туманно намекнут: музыка его, мол, слишком трудна для понимания и непривычна для слуха; никто, разумеется, даже не упомянет о критических откликах, появившихся в нью-йоркских газетах, самый мягкий из которых, в «Трибюн», начинался так: «Молодому, серьезному, но удручающе бесталанному обитателю городка Скенектади можно пожелать чего угодно, но только не занятий музыкой…» И сам Дэриан тоже не будет никого ни о чем расспрашивать.) Снова слышится громкий стук, Дэриан открывает дверь и видит — кто это? — пару в вечерних туалетах, настолько неотразимую, что кажется, будто перекочевала она сюда прямо из светской хроники воскресной газеты.
— Дэриан? Дэриан Лихт? Это ты?
— Нет. Да. Я не уверен. А вы кто?
— Ты что же, не узнаешь меня, сынок? Быть того не может.
Седовласый господин, судя по виду, чуть старше шестидесяти, во фраке, в руке — обтянутый шелком цилиндр; рядом — женщина, много моложе его, в бархатном, по щиколотку, платье багряного цвета, она пристально, как он будет впоследствии вспоминать, смотрит на него сияющими темными глазами. Кто это? Доброжелатели? Знатоки музыки? Несмотря на позор и унижение, Дэриан Лихт достаточно тщеславен, или достаточно наивен, чтобы верить, будто в зале нынче вечером нашлись все же люди, признавшие его гений.
Седовласый господин, не дожидаясь приглашения, входит в комнату. Протягивает руку в перчатке. Улыбка у него немного вымученная, но уверенная.
— Ну конечно же, ты узнаешь меня, сынок. Пусть и много лет прошло. А это моя жена Розамунда…
Дэриан ощущает оглушительный, как от Ниагарского водопада, шум в ушах. Словно в кривом зеркале видит вблизи одновременно знакомое и незнакомое лицо, беззвучно шевелящиеся губы. И женское лицо, которого прежде не встречал, но тем не менее узнает его точеную красоту.
— Отец… — с трудом выдавливает он. — Как же…
Абрахам Лихт почти не изменился. А если изменился, то Дэриан Лихт настолько потрясен, что не замечает этого.
— Очень жаль, что не удалось попасть на твой концерт, — говорит Абрахам Лихт, — но нас, Розамунду и меня, задержали на бесконечно долгом и немыслимо скучном коктейле у Асторов, на Пятой, — впрочем, говорят, в этом доме всегда так; не надо было ходить, мой просчет, сожалею, винюсь, но, надеюсь, ты простишь меня. Сын!
В номере размером чуть больше старомодной уродливой ванны на звериных ножках элегантно одетый, гладко выбритый Абрахам Лихт и его молодая жена занимают слишком много места, так что Дэриану приходится, тяжело дыша, отступить и прислониться к спинке кровати. Несколько часов назад — Терстон; теперь отец; может, он умирает, и перед его потрясенным взором проносится вся прожитая жизнь? Дэриан изо всех сил старается не упасть. Новоиспеченная миссис Лихт протягивает руку в перчатке, чтобы поддержать его, но он дергается, словно кошка, избегая ее прикосновения.
Женщина не старше самого Дэриана. У нее темно-зеленые блестящие глаза, точеные черты. Ее волнистые черные волосы с едва намечающейся сединой зачесаны назад и собраны в гладкий французский пучок. Чуть ниже переносицы виднеется пикантная горбинка, идеально очерченные губы накрашены. Может, Дэриану только кажется, но нет ли и во взгляде новоиспеченной миссис Лихт… удивленного узнавания?
Как тебе в голову пришло выйти замуж за этого человека?! Тебе, такой молодой, такой красивой, — взять в мужья человека, который в отцы тебе годится.
В ответ — гневный блеск зеленых глаз: Потому что я люблю его. Потому что он любит меня. И вообще, какое право ты имеешь судить нас?
Дэриан слышит свой собственный жалкий лепет; что именно он хотел сказать, ему потом так и не удастся припомнить. Этот лепет очень напоминает те фрагменты «Эзопуса», которые более всего поразили и возмутили аудиторию. Абрахам Лихт обрывает Дэриана на полуслове и начинает энергично нахваливать; хоть на премьере не был и больше десяти лет не слышал музыки Дэриана, он представляет его молодой жене как «музыкального гения», «вундеркинда», «блуждающий огонек», местонахождение которого часто неведомо даже семье. Дэриан со смехом протестует:
— Семье? Какой семье, отец? — Но Абрахам Лихт отмахивается, и Розамунда, кажется, тоже пропускает его слова мимо ушей: как в спектакле, в котором не все актеры одинаково знакомы с текстом пьесы или не все на репетициях трудились с одинаковой отдачей; Дэриан в смятении понимает, что происходит нечто, ему неподвластное, чему он не может помешать, да и не должен; наступает высокий миг, о котором говорят: зал застыл в ожидании… — ощущение такое, будто по ту сторону слепящих огней рампы, на безбрежных просторах за пределами гостиничного номера собрались и замерли в ожидании свидетели. В уголке сознания Дэриана копошится мысль, что неплохо бы вышвырнуть отсюда этого сияющего Абрахама Лихта вместе с его новоиспеченной миссис Лихт, но он стоит как парализованный, таращится и глупо улыбается своим гостям. Абрахам Лихт говорит с мягкой укоризной:
— Знаешь ли, сынок, ты все же мог бы дать знать отцу о своей премьере. Манхэттен, «Карнеги-холл»! Подумать только — мой мальчик дебютирует в «Карнеги-холл»! А я узнаю об этом только вчера; да и то лишь благодаря моей любимой Розамунде, которая наткнулась на объявление в газете. На нашу фамилию — Лихт.
Дэриан робко протестует:
— Да… но откуда мне было знать, что ты здесь? Мы так долго не…
— Нет, нет, — быстро перебивает его Абрахам Лихт, и во взгляде у него мелькает тревога, — прошлое надо оставить позади. Где твой пиджак, сынок? Это? — Абрахам поднимает с пола, куда его швырнул Дэриан, фрак с дурацким разрезом сзади, который был на Дэриане, когда он дирижировал. — Лучше что-нибудь более подходящее для вечера. Например, это. — Абрахам находит другой пиджак, Розамунда берет его и отряхивает, поскольку пиджак тоже валялся на полу; выясняется, что Абрахам Лихт и его молодая жена приглашают Дэриана в город — отметить мировую премьеру «Исчезнувшей деревни», Абрахам заказал столик «У Пьера», езды всего ничего, это в конце Пятой, у Центрального парка.
— Слушай, отец, я выпил, я на ногах едва держусь, «Деревня» моя провалилась, все пошло прахом, единственное, чего мне хочется, — рухнуть на кровать и забыться. Ну, пожалуйста! — Он со смехом отбивается, но его опять никто не слушает. Лифта в гостинице «Эмпайр-стейт» нет, так что Абрахам Лихт, Розамунда и Дэриан пешком спускаются по тускло освещенной неубранной лестнице. Дэриан чувствует, как его подхватывают под руки, не давая упасть, все смеются, добродушно подтрунивают друг над другом. Абрахам Лихт и его молодая красавица жена тоже пили нынче вечером, хотя, разумеется, ничуть не пьяны, они — такие великолепные, просто полубоги, — вообще никогда не напиваются, это Дэриан Лихт, временный преподаватель музыки в Уэстхитской школе, попав на Манхэттен из своего заштатного Скенектади, может наклюкаться с непривычки, впрочем, оказавшись на воздухе, он приходит в себя, или почти приходит, со второй попытки залезает в конный экипаж, кучер в ливрее и цилиндре при виде этих симпатичных гуляк широко улыбается — рассчитывает на щедрые чаевые: пожилой господин в вечернем костюме выглядит человеком состоятельным и не жадным. Густым баритоном он командует:
— К «Пьеру», малыш! Да поживее!
Экипаж подпрыгивает на ухабах, голова у Дэриана мотается из стороны в сторону, ощущение такое, будто в ней перекатываются камешки. Он начинает плакать — слезы струятся по щекам. Куда меня везут, кто эти люди, отец, почему ты меня так надолго бросил?! Но не отец, а Розамунда гладит затянутой в перчатку рукой его ладонь, старясь утешить и успокоить. Дэриан сидит между новоиспеченной миссис Лихт и отцом, он буквально зажат между ними, экипаж трясется, всем весело, кучер щелкает кнутом, лошадь в яблоках всхрапывает, то ли от возбуждения, то ли от весьма чувствительных ударов, и стремительно бежит вверх по Восьмой авеню к Центральному парку.
Как же помешать им? Невозможно.
После более чем десятилетней разлуки Дэриан примиряется с отцом. На следующее утро, поздно проснувшись после тяжелого сна и пропустив поезд в Скенектади, он уже не может и вспомнить, как это ему в свое время взбрело в голову отказаться от собственного отца — Абрахама Лихта.
«У острова есть границы, обещания, им даруемые, безграничны».
Абрахам Лихт делится этой мудростью со своим младшим сыном Дэрианом, малым настолько неотесанным, что он пьет «Манхэттен», смешанный для него отцом, так, будто это просто пиво, — залпом. Даже Розамунда смеется над ним, по-доброму, как сестра.
— О, Дэриан! Не так быстро, пожалуйста.
С того самого момента, как его взяли в оборот отец и его новая жена, Дэриан Лихт, как ему представляется… берет бурные, сокрушительные аккорды крест-накрест: левая рука обрушивается на дискантовую, правая — на басовую часть клавиатуры. Неужели я влюбился? Или просто пьян?
Хотя пытается оставаться трезвым. Пытается оставаться… Дэриан — скептик, которого интересует одна лишь музыка, иначе говоря — собственное одиночество; одиночество, необходимое для создания… музыки.
Он слышит собственный смех, причем довольно часто. Хриплый, грубоватый мальчишеский смех, звучащий, как давно расстроенная, с порванными струнами скрипка.
Абрахама Лихта тянет сегодня на откровения. Он явно простил своего младшего сына за уход из дома — «полагаю, в свете дарвиновской эволюционной теории упрямство молодых людей даже необходимо». Он простил Дэриана, а Дэриан, как видно, простил его. («Из-за чего же мы разошлись? — искренне недоумевает он. Это могло быть как-то связано с Вандерпоэльской академией… трудный, должно быть, он был подросток: как других мучают прыщи, его мучили переживания. — Но теперь все это позади!»)
Его размышления весьма напоминают литанию, которую можно положить на музыку. Да в общем-то это и есть литания, которую можно положить на музыку. Дэриану слышатся литавры, корнет, баритон, поющий нечто в грегорианском духе. «Бетлехем стил». «Сертификаты Мексиканского побережья». «Пан-Америкэн вестерн корпорейшн». «Коул моторз, Индианаполис». «Америкэн телефон энд телеграф». «Дрожжи Флейшмана». «Нью-Йорк сентрал». «Страховая компания Фиска». «Нью-Джерси стандард ойл». «Медь Кеннико».
— Надежные фирмы, — говорит Абрахам Лихт. Но, несмотря на чрезвычайно привлекательные брокерские предложения, «Моисей Либкнехт» предпочитает не рисковать своими заработанными тяжким трудом деньгами. Что за «Моисей Либкнехт», Дэриан так толком и не понял, хотя и отец, и новая жена отца со смехом пытались ему это объяснить.
— Когда мы познакомились, сначала я влюбилась в Моисея, — говорит Розамунда, качая головой, словно удивляясь самой себе. — Тогда я еще не знала, что нас обоих ведет по жизни Абрахам.
Помимо игры на бирже, которая, как уяснил Дэриан, приносит в бурном 1928 году неплохие барыши, Абрахам Лихт и юная красавица миссис Лихт начинают потихоньку, еженедельно увеличивая объем сделок, продавать «Формулу Либкнехта».
— Поначалу я рекламировал ее как «эликсир здоровья». Но знаешь, на этом рынке большая конкуренция, слишком большая; нужно что-то особенное; а ведь оно с самого начала лежало на поверхности: плодородие.
Дэриан, не уверенный в том, что расслышал правильно, уточняет:
— Плодородие?..
— Человеческое плодородие, Дэриан. — Абрахам весело улыбается. — Дети, попросту говоря. Многие пары бездетны. Это медицинская проблема, о которой не любят говорить — по крайней мере в наше время, — но ведь она существует, и женщины страдают от того, что бесплодны, а мужчины от того, что не могут произвести потомство. Винить их нельзя, но гласит же библейская заповедь: Плодитесь и размножайтесь! «Формула Либкнехта» рекламируется как эликсир плодородия и распространяется компанией «Истон фармасьютикалз» в Пенсильвании. Поклясться готов, это волшебное зелье.
В этот момент Розамунда начинает хохотать, как девчонка, ей приходится выйти; Дэриан слышит звонкий стук ее каблуков по паркетному полу и музыкальный голос, он доносится откуда-то издали (наверное, с прислугой разговаривает); через минуту-другую она вернется, веселая и раскрасневшаяся, ибо никогда не оставляет Абрахама Лихта надолго, а может, и к Дэриану ее тянет. Неужели я влюблен? Разумеется, нет. Она — жена моего родного отца. Что за бред! Дэриан тоже начинает смеяться, на него нападает кашель; отец бьет его по спине; рассказывает о пари, которое заключил из чистой прихоти — поставил пять к одному на одну кобылку на скачках «Прикнесс», было предчувствие, что может выиграть, потому что кличка у нее была Джун Гарди, а месяц стоял — июнь[33], и за несколько лет до того — «когда-нибудь, сынок, я тебе во всех подробностях это расскажу» — бывший президент Уоррен Гардинг был его близким другом, добрая душа, при всех своих недостатках и истинно американском невежестве; ну вот, поскольку все так сошлось, Абрахам и решил, что кобылка должна победить.
— Ты можешь себе представить, Дэриан, твой безумный отец, ни слова не сказав, потихоньку уходит из дома, ставит две тысячи на лошадь и возвращается с десятью! Наличными, по карманам рассованы! — восклицает Розамунда, заходясь от хохота и делая вид, что собирается засунуть руку в карман бархатного пиджака мужа, Абрахам, тоже со смехом, останавливает ее, — И велит обыскать его! В конце концов весь пол оказывается устлан стодолларовыми купюрами. Но по правде сказать, мне не нравятся азартные игры. Не одобряю я этого.
— Да, Розамунда из старой добропорядочной пуританской семьи. Ее предки высадились на эти берега в 1641 году — можешь себе представить! За несколько лет до наших. — Абрахам неожиданно трезвеет, словно собственные слова пробудили тяжелые воспоминания; но настроение сегодня такое, что трезвость приходит всего на несколько секунд; он вскакивает на ноги и снова смешивает этот чудесный новый напиток, по крайней мере для Дэриана новый — «Манхэттен».
— Нежный, как шелк, правда? — Розамунда протягивает Дэриану его бокал и, когда он принимает из ее рук изящный хрустальный сосуд, их пальцы соприкасаются. Еще никогда в жизни не подносил он к губам такой бокал, никогда не обменивался таким взглядом, никогда ему так не улыбалась юная красавица, которой он явно нравится (Дэриан, дорогой, неужели я тебе мачеха? Чем сохнуть все эти годы, как старая жеманница, давно бы мне надо было исцелиться). Абрахам сообщает Дэриану, что вложил около миллиона долларов в недвижимость на Манхэттене. Трехэтажный особняк, в котором они сейчас находятся (угол Восточной Семидесятой и Пятой авеню); еще один такой же на Восточной Шестьдесят третьей; доходный дом на углу Бродвея и Сорок пятой. Цены на Манхэттене, конечно, крутые, но будут еще круче; если все пойдет нормально, через пять лет они утроятся.
— Достаточно посмотреть, что происходит на бирже, чтобы убедиться: цены растут, растут и растут — просто взлетают.
Ибо, как любит повторять Абрахам, остров имеет границы, но обещания, им даруемые, беспредельны.
А ведь хорошо известно: Манхэттен сегодня — это вся Америка завтра.
Тем не менее Абрахам Лихт не собирается задерживаться на Манхэттене надолго. Еще до наступления осени они с Розамундой намерены совершить крупную покупку — большое коннозаводческое ранчо в долине Чатокуа.
— Дивное место, я мечтаю вернуться туда вместе с женой.
Оба, похоже, большие любители арабских скакунов; Розамунда еще девочкой много ездила верхом на Лонг-Айленде, а Абрахам давно хотел (неужели Дэриану это неизвестно? Не может быть!) заняться разведением чистопородных скакунов.
— Не для выгоды, — твердо заявляет Абрахам, — ради эстетики спорта. Ничего, знаешь ли, нет прекраснее арабского скакуна в расцвете его сил.
— Или ее сил, — негромко добавляет Розамунда.
— Ну, разумеется. Или ее сил.
Муж с женой незаметно обмениваются интимными взглядами. Даже у стороннего наблюдателя этот обмен вызывает сильное возбуждение.
Дэриан делает большой глоток «Манхэттена».
Абрахам Лихт вслух размышляет о том, как заживут они тихой, идиллической жизнью в долине Чатокуа, не так уж далеко от Мюркирка; ввиду предстоящего это как раз то, что нужно.
Предстоящего?
Не может быть. Да. Ну конечно. Розамунда беременна… это многое объясняет в поведении мужа и жены; Дэриан уже взрослый, ему почти двадцать девять, мог бы и сам понять, без объяснений. Мой отец снова будет отцом. А я — снова братом.
Розамунда, перехватив тревожный взгляд Дэриана, вспыхивает. Прелестный румянец медленно поднимается от тонкой шеи к скуластому узкому лицу. Кожа у нее цвета слоновой кости; несмотря на свою жизнерадостность, быть может, подогретую сейчас выпитым, она болезненно-худа; часто вздрагивает, вероятно, от возбуждения, вся напряжена, Катрина сравнила бы ее с кобылкой, нервно перебирающей ногами, перед тем как ринуться вскачь; разве что в своем нынешнем положении Розамунда явно «бросаться вскачь» не собирается. На узкие плечи у нее наброшена вязаная шаль; свободное шелковое платье цвета морской волны по моде прикрывает щиколотки лишь наполовину; блестящие черные волосы, опять-таки по моде, не взбиты, никаких завитушек, нынче вечером их строго посредине разделяет пробор, на затылке они собраны в так называемый греческий узел. Горделивая будущая мать. «Поздравляю! Поздравляю обоих!» — хочется крикнуть Дэриану. Но вместо этого он делает очередной глоток.
Покончив с холодным ужином, на который служанка-филиппинка в черном подавала устрицы-«рокфеллер», филе-миньон, картошку в сметане, сыр «Стилтон» и свежие абрикосы, Абрахам Лихт заговаривает на тему, быть может, близкую ему, но Дэриану незнакомую, — философские последствия физиологических экспериментов в области самосознания личности.
— Речь, таким образом, идет о том, можно ли «расщепить» сознательную, вменяемую, со здоровыми полушариями мозга личность надвое и поместить половинки в два различных тела. Как считал Уильям Джеймс, индивидуальность имеет столько же обличий, сколько людей встречается на ее пути; так что вполне вероятно… — Дэриан кивает, стараясь уловить глубинную логику рассуждений отца; однако же его отвлекает присутствие Розамунды, которая внимает Абрахаму с дочерним почтением, будто всякое изреченное им слово — святая истина и ее следует запечатлеть в памяти навечно. Дэриан ощущает укол ревности; утраты; жаль, что Абрахам и Розамунда пропустили премьеру… наверняка Розамунде что-нибудь понравилось бы в «Эзопусе»; за необычной игрой звуков она, конечно же, уловила бы потаенные сердечные упования Дэриана, музыку его души. Эта музыка писалась для тебя. Так услышишь ли ты ее… хоть когда-нибудь?
Абрахам рассуждает о парадоксе: выходит, что личность помещается в голове; в «сознании»; мы не идентифицируем ее со своим физическим телом.
— Мы говорим: это «моя» рука, имея в виду просто факт принадлежности, я — владелец своей руки. «Моя» рука, «моя» голова, даже «мой» мозг. Не парадоксально ли, что мы так же привычно говорим и о «своей» душе?
Разогретый вином и присутствием Розамунды, Дэриан нервно смеется; говорит, что ничего об этом не знает, никогда не задумывался, если ты музыкант, ты день и ночь погружен в музыку, день и ночь, час за часом не можешь оторваться от нее, как любовник — от своей возлюбленной.
— К тому же, отец, возможно, все это лишь причуды языка, в данном случае английского.
— Нет. Английский тут ни при чем. — «Моисей Либкнехт» — психолог и лингвист, в сущности, полиглот, и он заявляет, что такие обороты речи отражают универсальную человеческую склонность отделять «сознание» от «тела», чем столь последовательно занимался Декарт. — Что интересует меня, так это отчего мы не желаем идентифицировать себя даже с собственной душой.
— Да, дорогой, вопрос только в том, есть ли у нас душа, — говорит Розамунда. — Ибо совершенно не исключено, что многие свободны от этого бремени.
Но Абрахам Лихт, захваченный собственными мыслями, пропускает ее слова мимо ушей; не замечает он и того, с какой неизбывной тоской смотрит на него и на нее его давно утраченный сын Дэриан.
Вскоре Розамунда с извинениями удаляется в спальню; отец уговаривает Дэриана посидеть еще часок, а еще лучше — остаться на ночь.
— Мы могли бы прикончить бутылочку бургундского. Нам о стольком надо поговорить, сынок!
Естественно, Дэриан уступает. Хотя и собирался — неопределенно — вернуться в Скенектади первым поездом, отходящим от Пенсильванского вокзала (он и без того уже опоздал на два дня; пропустил занятия в Уэстхите, никого не предупредив и не извинившись перед Мириком Шеффилдом; последние сорок восемь часов пролетели, как во сне). Какое это удовольствие — побыть в компании Абрахама… и Розамунды! Как здорово! Будто и не было провала в «Карнеги-холл», будто и не предвидел его тщеславный молодой композитор. Когда отец обращается исключительно к нему, Дэриан ощущает, как переполняется радостью его сердце; его «больное» сердце; и понимает, что силы в нем куда больше, чем он думал. Вот так Зевс вдыхает жизнь в кусок глины. Самая первая музыка на свете — это дыхание.
Дэриан остается в красивом особняке на Восточной Семидесятой еще на час, трудно было устоять против приглашения остаться на ночь, хотя в то же время хотелось сохранить хоть какую-то долю независимости, отстраниться от Абрахама Лихта и его молодой беременной жены, уединиться — пусть даже в убогой гостинице «Эмпайр-стейт». Он жадно внемлет отцовским речам, как обычно, представляющим собою монологи; Дэриану хотелось бы расспросить: как они с Розамундой познакомились, когда поженились, что за семья у Розамунды… но ему неловко перебивать отца. Очень бегло Абрахам замечает, что Розамунда удивительная женщина, что он по-настоящему любит ее, гораздо больше, чем любил своих прежних женщин; и ему кажется, что она тоже любит его:
— Понимаешь, Дэриан, она убеждена, что я спас ей жизнь, Возможно, так оно и есть.
— Мне хотелось бы сыграть ей что-нибудь. Если бы у тебя был рояль…
— Рояль мы купим. Завтра же утром. Ну, не утром, так днем. На Парк-авеню, совсем рядом, есть музыкальный салон, там продают «Стейнвей». Насколько я знаю, Розамунда любит фортепьянную музыку. — Абрахам Лихт с улыбкой щелкает пальцами. И Дэриан уже видит, как в соседней комнате устанавливают прекрасный сверкающий рояль.
Подхватывая тему, Абрахам интересуется, тактично, но с отцовской озабоченностью, нынешним положением Дэриана. Он вынужден признать, что впервые слышит об Уэстхитской — так, кажется? — музыкальной школе; да и о Скенектади, штат Нью-Йорк, тоже.
— Скажи откровенно, сынок, неужели ты думаешь, что в таком месте у тебя может быть будущее? Может, лучше перебраться куда-нибудь в другое место, попрестижнее, например в Джульярдскую высшую школу?
Дэриэн, у которого голова кругом идет от выпитого, небрежно отмахивается:
— К черту Уэстхит, да и Джульярд тоже. Я хочу писать, отец. Я хочу изменить звучание американской музыки. — Впрочем, даже в его собственных ушах эти слова звучат по-детски; всего лишь — предположение, не констатация факта.
— Правда, сынок? Ну что ж, желаю удачи. — Абрахам как-то неуверенно поднимает бокал и выпивает.
Дэриан немного обижен.
Он не верит мне. У него нет веры в меня.
Ведь когда еще он сказал, что я не гожусь для Игры.
Вечер стремительно катится к концу. Дэриан не останется у отца и отцовской жены, ему надо возвращаться в гостиницу; там он рухнет на кровать и в очередной раз погрузится в забытье. Он и рад, и разочарован тем, что Абрахам так мало расспрашивал о его жизни, особенно когда Розамунда была еще за столом. А ведь сколько бы мог Дэриан порассказать, у него накопилось столько историй, которые давно просятся, чтобы их рассказали… как он ездил в поездах по Среднему Западу, немытый, небритый, легкий на подъем, словно настоящий бродяга; как зарабатывал по грошу то здесь, то там, наверное, и Абрахам занимался тем же в молодости, как играл в оркестре полковника Харриса «Серебряные корнеты»… и многое-многое другое. «Ладно, — думает Дэриан, — не последний вечер. Будут и другие». Он рад, что Абрахам ничего не спросил о Милли или Терстоне, хотя наверняка ничего не слышал о них много лет.
Абрахам предлагает Дэриану сигару, тот легкомысленно соглашается; несколько минут мужчины курят в сосредоточенном молчании; Дэриан, который раньше курил только сигареты, да и то от случая к случаю, знает, что нельзя вдыхать густой дым, но не представляет, как курить, не затягиваясь. Он начинает кашлять, у него кружится голова. К счастью, Абрахам ничего не замечает; он мечтательно говорит о планах переезда в долину Чатокуа и разведении лучших арабских скакунов — «будущих рекордистов»; не исключено, добавляет он, понижая голос, словно боится, что кто-нибудь подслушает, что он купит знаменитого жеребца, победителя прошлогоднего дерби в Кентукки по кличке Черный Марс — от Полумесяца, обладателя «Тройной короны» 1925 года, в свою очередь, по прямой линии происходящего от легендарного Полуночного Солнца.
— Вот если бы удалось, — мечтает Абрахам, выпуская дым голубыми струйками. — Ведь это призы, это слава для моей жены и всей моей семьи!
Дэриан слушает как завороженный. Или слушал бы, если бы голова так не кружилась.
«Ведь я — это тоже „семья“, не так ли?» — думает он.
Наконец Дэриан поднимается, собираясь уходить, и спотыкается; не позволив отцу поддержать себя, он с гордостью выпрямляется сам; нельзя давать Абрахаму и Розамунде повода говорить (пусть даже в шутку, пусть с любовью), что Дэриан на ногах не держался. Абрахам повторяет приглашение остаться на ночь, Дэриан вновь вежливо его отклоняет; Абрахам обещает утром, до отъезда на вокзал, позвонить ему; а также не терять его из виду в Скенектади; даже навестить в непродолжительном времени:
— Уж следующий твой концерт мы ни за что не пропустим, Дэриан, клянусь.
(Дэриан недоумевает: разве не собирался Абрахам купить завтра рояль, чтобы он мог сыграть что-нибудь для Розамунды? Или он не так его понял? Голова кругом, наверное, от сигары, Дэриан незаметно откладывает ее в сторону.) Они выходят из дома, шагают рука об руку в сторону Пятой авеню, где Абрахам поймает такси, которое доставит Дэриана в гостиницу. Прощаясь, Абрахам порывисто обнимает сына.
— Благослови тебя Господь, сынок!
— И тебя, отец.
На следующий день Дэриан не может заставить себя встать с постели до полудня.
Никогда еще не было ему так худо… так ужасно. Ощущение такое, будто все внутренности, от легких до кишок, покрылись каким-то разъедающим веществом вроде щелока. А в голове — битое стекло.
Абрахам Лихт не звонит.
Дэриан сам пытается дозвониться до него, но оператор говорит, что такой «абонент» в справочнике не значится. Более или менее придя в себя — уже в начале вечера, — Дэриан берет такси и едет в особняк на Восточной Семидесятой, или Семьдесят первой… он точно не помнит. Дома здесь, а также на Семьдесят второй и Семьдесят третьей напоминают друг друга как две капли воды. Дважды он звонит в дверь, никто не открывает. На третий раз на пороге появляется женщина в форменном платье, по виду филиппинка, и с поклоном говорит, что «господина и госпожи» нет дома. Дэриан спрашивает, здесь ли проживает Абрахам Лихт, но служанка лишь безмолвно качает головой, быстро захлопывает дверь и запирает ее на задвижку.
— Подождите! — кричит Дэриан. Неверными шагами спускается он по ступеням и, выйдя на улицу, еще раз вглядывается в окна верхних этажей красивого особняка. Он складывает ладони рупором, кричит:
— Отец? Отец! Это я, Дэриан. — Но свет в окнах не зажигается. Никого не видно.
На следующее утро он уезжает на север, в свой Скенектади, молясь про себя, чтобы его «временная работа» в Уэстхите сохранилась за ним.
Сидя в одиночестве в купе дневного поезда, он рассеянно смотрит в окно, в его голове даже не звучит музыка, как бывало всегда, даже мерный стук колес, перемежающийся время от времени тоскливым гудком паровоза, едва доходит до его сознания; не замечает он и величественных берегов Гудзона. Неужели я не могу ублажить свое дурацкое «я» хотя бы тем, что возвращаюсь домой? Да только Скенектади для меня — не дом. У меня его вообще нет.
…Огромная бесформенная Тишина, на фоне которой проступают эллиптические водные зигзаги Залива: они накладываются друг на друга, разбегаются, зыбятся, дрожат, сливаются, то быстрее, то медленнее, в единый поток; начинают звучать голоса (потерянных душ Эзопуса, всех мертвых), рассеянные во Времени; ширится и нарастает фантазия из обрывков мелодий, заклинаний, детских голосов, песнопений; и все это — на фоне одного и того же ритма, тяжелого ритма затрудненного пульса, безжалостного, примитивного ритма затрудненного пульса, едва уловимого до самых последних угасающих неясных тактов…
«Пророк, регент и казначей…»
Когда говорит принц Элиху, слушать должен весь мир, и белые, и черные: ибо не кто иной, как Элиху, учит, что цивилизация зародилась в Африке и человечество пошло от черных и темнокожих народов, восходящих к Хаму; а белые — лишь отпавший, неполноценный и обреченный на вымирание вид, который, по иронии истории, временно выплыл наверх. Но Африка, а также все черные и темнокожие народы мира восстанут вновь и по праву вернут себе утраченное величие человеческой цивилизации — с помощью белой расы или без оной.
(Ибо белые — всего лишь племя злобных дьяволов-каннибалов, в чем лишний раз убеждает недавняя мировая война; а через десятилетие-другое, по подсчетам Элиху, разразится еще одна мировая война: война белых против белых, и она-то окончательно уничтожит их ущербную цивилизацию.)
Так, выступая в качестве пророка, регента и казначея Всемирного союза борьбы за освобождение и улучшение жизни негров, принц Элиху требует от правительства Соединенных Штатов приготовиться либо к передаче негритянскому народу в местах его компактного проживания участка земли (площадью с Оклахому), включая водные пространства, либо к выплате не менее пяти миллиардов долларов в качестве компенсации за порабощение, чтобы все негритянское население имело возможность в один прекрасный день вернуться в Африку, основать свою черную республику… и готовиться там к окончательному устранению белых режимов на всем континенте.
Свобода или смерть! — вот лозунг двадцатидвухлетнего Габриэля Проссера, раба-мученика, умерщвленного в 1800 году белыми тюремщиками. Умирайте молча, как умру я — вы это увидите.
Принц Элиху повторяет: «Свобода или смерть»; и еще: «Лучше смерть, чем позор».
И еще: Братья по крови — братья и по душе.
И еще: Все белые — наши враги, от века и доныне.
В Гарлеме вполголоса говорят, что принц Элиху наделен бессмертием, что родился он с даром вудуистской телепатии; гипноза; способностью оставлять свое бренное тело и входить в тело другого под покровом Ночи. Появившийся на свет лет сорок назад на Гаити, или на Ямайке, или, не исключено, на Наветренных островах, он тем не менее считается воплощением древнего африканского короля Элиху (своим чередом связанного с египетской и турецкой знатью), который, согласно легенде, восстал из лавы извергающегося вулкана и привел свой народ к военной славе завоевателя земли, известной ныне как Берег Слоновой Кости. Словом, его нельзя убить, хотя покушения на его жизнь, как со стороны белых, так и со стороны черных, предпринимались.
Что не мешает ему носить привязанный к левой ноге стилет с костяной рукоятью; говорят, он убил им белого (по одной из версий, это был полицейский); а подвергнувшись нападению обезумевшего собрата по заключению в исправительном заведении Атланты (это был негр из Джорджии, у которого мозги от работы в колодках на 110-градусной жаре расплавились), ухитрился подмять его под себя и прижать к земле, всего-навсего возложив на него руку.
(О таких подвигах Элиху небрежно говорит в том роде, что, поскольку на него устремлены взоры дьяволов-каннибалов, ему надо быть богом, иначе его примут за животное.)
В марте 1917 года в Патерсоне, Нью-Джерси, где принц Элиху возглавил демонстрацию протеста против действий полицейских, забивших до смерти троих черных юношей (попутно он пропагандировал идеи Всемирного союза борьбы за освобождение и улучшение жизни негров), по нему внезапно открыли стрельбу люди в белых балахонах; однако в тот вечер он представлял собой такой сгусток энергии, окружил себя такой непроницаемой аурой, что пули неловко разлетелись веером, ни одна не попала в цель.
Вскоре после этого Элиху арестовали по обвинению в подстрекательстве к бунту («как в словесной форме, так и при помощи действий, направленных против властей…»); и хотя он не сделал ни малейшей попытки ни сопротивляться, ни бежать, на него надели наручники и подвергли жестокому, многочасовому истязанию в Бюро по расследованию, каковое (истязание) не подорвало его моральных сил и не помешало при официальном предъявлении обвинения заявить, что он не признает над собой власти правительства Соединенных Штатов.
А в аду тюрьмы Атланты, посреди увечных, психически ненормальных и вообще диких людей, что белых, что принадлежавших к его собственной расе, благородный принц стойко выдерживал любое физическое насилие; вскоре он обрел дар провидения, благодаря которому заранее распознавал опасность… Эта поразительная способность не исчезла и после того, как он был помилован искавшим популярности Уорреном Г. Гардингом, напротив, она укреплялась в ходе того, как негритянский лидер бесстрашно ездил по стране, забираясь даже на глубокий Юг, рекрутируя в свою революционную организацию новых членов, расследуя случаи судов Линча, бесчестных процессов, изнасилований и иных проявлений жестокости, творимой в отношении негров их соотечественниками-американцами.
Много раз белые трусы стреляли из засады в пророка, регента и казначея Всемирного союза борьбы за освобождение и улучшение жизни негров; много раз в машину его подкладывали взрывчатку или бросали бомбы в церкви и другие публичные места, где он выступал. Но сила его была такова, что не только он, но и те, кто стоял в непосредственной близости, оставались неуязвимы; по крайней мере в некоторых случаях. (Ибо следует отметить несколько трагических эпизодов, происшедших, когда принц Элиху вел просветительскую кампанию за то, чтобы его братья по крови перестали считать себя американцами, поскольку на самом деле они — негры; это истина, говорит Элиху, известная белым, которые — тайно ли, явно ли — всегда ведут себя в соответствии с нею.)
Говорят еще, что однажды принц Элиху уступил-таки Смерти, это случилось во дворце президента Либерии, чьим почетным гостем он тогда был: его внезапно сразил тяжелый недуг, начались судороги, затем наступила кома, или транс, продолжавшийся двадцать часов; из него он в конце концов вышел исключительно усилием своей могучей воли. Еще говорят, что он — единственный, кто выжил в «случайной» авиакатастрофе, произошедшей с шестиместным бипланом «Черный орел» (недавно приобретенным Всемирным союзом борьбы за освобождение и улучшение жизни негров), а также в «случайном» кораблекрушении, произошедшем в ста милях к югу от Лонг-Айленда, на пути в Майами, с океанским лайнером «Черный Юпитер» (недавно приобретенным «в целях укрепления коммерческих связей с негритянским бизнесом в Африке и Вест-Индии»)… обе истории темные, о действительных обстоятельствах катастроф мало что известно (было лишь краткое сообщение где-то на внутренних полосах «Нигро юнион таймс»).
Еще более уверенно говорят, будто на жизнь принца Элиху явно покушались осенью 1928 года, во время его секретной встречи с белыми лидерами (среди которых были мэр Джимми Уолкер, англиканский епископ Генри Рудвик, несколько богатых бизнесменов и, не в последнюю очередь, великий магистр куклукс-клана), когда ему подсыпали яд то ли в бокал вина, то ли в салат из фруктов… опять же гигантским усилием своей благородной воли он превозмог смертельное действие отравы.
И так далее, и так далее; ибо у всех, кому довелось видеть принца Элиху, не говоря уж о тех, кто удостоился чести перекинуться с ним словом, была собственная история; полностью правдивыми эти истории не назовешь, но то, что это не просто фантазии, — тоже факт.
Элиху — не человек, Элиху — Судьба, заявил сам Элиху, а пути Судьбы неисповедимы.
И еще говорят — что ему нравится гораздо меньше, — будто, несмотря на обет безбрачия, у него невероятное количество жен — настоящий черный гарем! — значительная часть которого содержится на верхнем этаже его личной резиденции на Страйверз-роу (самый престижный квартал Гарлема); другая же рассеяна по городу. В общем, повсюду в Соединенных Штатах и в зарубежных странах, где Элиху случалось оказаться после создания Всемирного союза в 1916 году — например, в Либерии, Сьерра-Леоне, Эфиопии, Бразилии, Аргентине, Вест-Индии и т. д., — женщины настолько возбуждались при одном его появлении или настолько он сам привлекал их, пользуясь своими телепатическими способностями, что мужской славой он мог бы поспорить с самим царем Соломоном (у которого, как известно, было семьсот жен и триста наложниц). Ах как же бесстыдны эти женщины и как безумны! — по собственному признанию, они вспыхивают огнем при одном появлении принца, при виде его кожи цвета черного дерева (в своей белой хламиде и ослепительно белых брюках, заметно расклешенных книзу, по особым случаям — в костюме, украшенном тонким золотым шитьем и алым бархатом, с мечом в золотых ножнах, усыпанных рубинами, который он носит так непринужденно, принц действительно выглядит великолепно): сразу по окончании выступления или митинга женщины толпами бросаются к нему, рыдают в истерике, охрана пытается их оттеснить, хотя наверняка (?) самых привлекательных потом приводят к Элиху, чтобы он удовлетворил их пылающую страсть. Ибо даже похоть может быть священной, если она поставлена на службу расе. (Между прочим, в годы наивысшей славы принца Элиху сотни негритянских женщин клялись, что слышат во сне «зов»: им является принц и манит к себе, чтобы зачать дитя… поддержать чистоту черной расы, сильно подпорченной за последние несколько столетий дьявольским белым семенем.)
Отсюда следует, что во всех краях принц Элиху породил бесчисленное количество сыновей и дочерей; в каждом таком младенце угадываются его сильные, решительные черты, угольно-черные глаза с блестящими, как слюда, ореховыми крапинками, крупный широкий нос, надменно оттопыренная верхняя губа; отмечены они (по горделивому утверждению матерей) и его неукротимым духом.
Ибо принц Элиху — не обычный человек; в нем горит неистребимая мужская сила африканских королей древности.
Однако сам принц и наиболее доверенные лица из его окружения с недовольством отмахиваются от этих легенд; ведь в конце концов Элиху принял обет воздержания, безбрачия, поклялся соблюдать мужскую добродетель — как и большинство верных его последователей; вся страсть должна быть отдана делу освобождения и улучшения жизни негров, а в конечном итоге возрождению великой африканской цивилизации (это — задача следующего десятилетия; ибо, по подсчетам Элиху, к тому времени в Европе начнется вторая война между дьяволами-каннибалами). Так что, когда обезумевшие от страсти женщины атакуют после митингов трибуну, на которой стоит Элиху, или появляются, нетрезвые и рыдающие, у дверей его дома на Сто тридцать восьмой улице, умоляя впустить, охране дается указание вежливо, но решительно выпроводить их, а также отвадить от дальнейших поползновений в том же неприличном духе. Их святой долг состоит в том, чтобы заводить семьи и увеличивать вместе с мужчинами своего круга черное потомство, дабы не иссякала энергия расы. На него же, Элиху, по собственным его словам, устремлены взгляды дьяволов-каннибалов, и он вынужден быть Богом, иначе его сочтут животным.
Однако же в глазах многих, как братьев по крови, так и недругов-белых, принц Элиху — не бог и не животное, а просто шарлатан, обыкновенный преступник, разве что слишком хитрый, чтобы легко попасться.
Но Элиху надувается от гордости, как петух из сказки. Гордость же — вестница беды.
Подумать только, начиная с основания Всемирного союза, он, согласно подсчетам, заманил в свои сети от восьмидесяти до ста тысяч негров в Соединенных Штатах и за границей, и каждый платит 35 центов в месяц членских взносов; а многие вносят еще и добровольные пожертвования. (Сведения об увеличении числа членов и финансовом положении Всемирного союза, публикуемые в его официальном печатном органе «Нигро юнион таймс», быстро сделавшемся серьезным соперником таких изданий, как «Кризис» (Национальная ассоциация развития цветных — НАРЦ) и «Гардиан» (Лига национальных прав), меняются от недели к неделе. Иногда утверждается, что цель — один миллион членов — будет достигнута к 1930 году; в других случаях слышатся жалобы на то, что приток новых членов прекратился — как следствие «извечной негритянской трусости». То объявляется, что последователи принца Элиху щедро жертвуют на нужды союза; то — что взносы поступают нерегулярно. Тем не менее в целом тон «Нигро юннин таймс» следует признать строгим и достойным, по крайней мере им отличаются передовые, написанные самим Элиху; ибо он убежден, что хвастаться на весь свет своими достижениями вульгарно. Когда негритянская революция победит и Африка вновь окажется в руках своих сыновей-изгнанников, начнется новая эпоха, Черный век, и тогда человеческое достоинство перестанет измеряться одними лишь деньгами…)
Однако со страниц «Кризиса» прозвучал вопрос доктора У.Э. Бургхардта Дюбуа: разве накопление денег — не одна из целей принца Элиху? И не только денег, разве власть, слава, провозглашение мошенника-«принца» повелителем цветного мира не есть также его цель?
На подобное нечестивое обвинение принц Элиху ответил лишь косвенно, выступая на одном из собраний в Гарлеме:
— Тем, кто беден духом и не способен к провидению, возвышенного не понять.
Пламенный Элиху, возникший буквально ниоткуда — словно бы из кратера священного вулкана, извергнувшегося прямо на улицах Гарлема, — поначалу вызвал крайне враждебное отношение как со стороны белых оппонентов от начальника нью-йоркской полиции до Генерального прокурора Соединенных Штатов, так и — быть может, не без оснований — со стороны некоторых негров. Ибо предполагалось, что любой негр, вступая во Всемирный союз борьбы за освобождение и улучшение жизни негров и платя за эту честь по 35 центов в месяц, должен отказаться от членства в таких базирующихся в Гарлеме организаций, как НАРЦ, основанная в 1909 году, или Лига национальных прав, или Лига за свободу афроамериканцев, или даже весьма агрессивной партии «Социалисты Гарлема». Эти организации, тесно связанные с черной церковью и черным бизнесом и возглавляемые интеллектуалами, Элиху надменно и презрительно отринул с самого начала. Их лидеры, утверждал он, «лишены трагического видения Истории», их порок — слепота ложного оптимизма; неспособность осознать то, что видно высоким умам: чистота черной расы непоправимо нарушается от любых связей с белыми дьяволами-каннибалами… чья цивилизация и возникла-то лишь благодаря христианским иллюзиям некоторых вожаков, предписывавших им возлюбить ближнего как самого себя, но белые каннибалы-дьяволы на такое попросту неспособны.
— Они не любят себя, — презрительно говорит Элиху, — как же они могут возлюбить ближнего?
Нет: целью негритянского народа не может быть воссоединение со своими врагами, не говоря уж о такой низменной расе, как белые; цель может заключаться только в создании колонии-государства на Американском континенте, за чем последует массовое возвращение на родину — в Африку. Вымаливать крохи у бывших рабовладельцев (равная с белыми оплата труда, приличные условия работы, закон против судов Линча) недостойно благородной расы; надо не просить — требовать: приличных наделов земли на территории Соединенных Штатов с выходом к океану или суммы в пять миллиардов долларов в качестве компенсации за былые унижения («хотя вообще-то справедливо было бы потребовать десять», — сказал однажды Элиху). Смешиваться с выродившейся расой, а особенно такой, которая в своем коллективном помрачении воображает себя высшей, нетерпимо для негров. Именно поэтому цели ныне существующих организаций по «усовершенствованию» жизни негров следует признать исчерпанными.
Неудивительно, что у принца Элиху сразу же появилось множество врагов, даже в ближнем кругу, и что уже начиная с 1925 года букмекеры, и черные, и белые, начали принимать ставки на то, сколько он протянет.
Серьезные, красноречивые господа из НАРЦ — ревностные и гордящиеся своей верой христиане — не могут, например, примириться с тем фактом, что какой-то явный шарлатан вроде принца Элиху (тоже мне, воплощение африканского царя) вызывает энтузиазм, даже экстаз у огромных масс негров, которые в упор не видят их самих — таких разумных, таких богобоязненных, таких патриотов, что они вполне могли бы быть белыми, не окажись случайно в черной шкуре! Широко разрекламированной целью этой организации является равенство рас во всех сферах американской жизни; равенство, а по возможности и интеграция, но это как раз тот самый идеал, который вызывает у принца Элиху лишь презрение.
Социалистическую партию скандализуют упорные утверждения принца Элиху, будто судьбу определяет принадлежность к расе, а не к классу; что негритянский рабочий имеет мало общего с белым рабочим, разве что вызывает у последнего особую ненависть во времена экономического упадка. Орган социалистов в Гарлеме, «Освободитель», призывает к союзу рабочих всего мира против империалистов, а Элиху утверждает, что все белые без исключения, в том числе Маркс и Ленин, образуют империалистический класс, «ибо, — как говорит с бесконечным презрением Элиху, — вырождается сама душа белого, а вовсе не его положение на общественной лестнице». Те социалисты, коммунисты и анархисты, что проповедуют естественное братство людей независимо от цвета кожи, заблуждаются так же, как и их враги-империалисты, считающие, что темнокожие народы, проклятые христианским богом как народы низшие, приспособлены только для рабства.
— К тому же, — презрительно бросает Элиху, — бесклассового общества не существует вообще — даже на кладбище.
Неудивительно, что гарлемское священство объединилось в праведной оппозиции принцу Элиху, который высмеивает их церкви за детское подражание церквам белых дьяволов-каннибалов, а их теологию — за подражание теологии белых дьяволов-каннибалов и который с таким небрежением отзывается о Спасителе нашем Иисусе Христе («если он действительно был распят, значит, он должен был быть черным — но кто видел черных Иисусов?»). Христианский Бог никогда не фигурирует в речах Элиху, зато он часто поминает Аллаха; но в основном апеллирует к Истории, Предназначению, Судьбе; при этом сохраняется идея «свободы воли» негритянской расы, которая должна быть направлена на перемену нынешнего положения.
Если небеса существуют, то это Африканские небеса! Это сама Африка!
Черных бизнесменов, которым хочется только одного — найти свою нишу в белом мире и сделать побольше денег — и которые боятся и ненавидят негров-бедняков, пугает план создания изолированного негритянского штата или африканской колонии; тех бизнесменов, которые наживаются на ненависти негров к самим себе (их товар — отбеливатели для кожи, жирная помада для волос, электрические гребни для их выпрямления и т. д.), пугает, что проповедь расового превосходства негров нанесет ущерб их торговле (а ведь Элиху утверждает, что негры — изначальная человеческая раса, белые — лишь больной, отсыхающий нарост: отсюда с очевидностью следует, что белые черты — определенный кожный пигмент, определенный состав волос и т. д., — по сути дела, невоспроизводимы).
Естественно, принца Элиху ненавидят черные политиканы, они видят в нем опасного соперника в борьбе за непостоянную любовь масс; черные рэкетиры и бутлегеры ненавидят его за демонстративную праведность и бесконечные призывы вносить те деньги, что они обычно тратят на виски, азартные игры и иное распутство, в фонд Всемирного союза. Элиху также заявляет, что, когда он и его последователи придут к власти, все негры, которые вслед за белыми эксплуатируют себе подобных, будут «сурово наказаны».
Более загадочным представляется официальный демарш Республики Либерия, которая сразу после визита Элиху в это государство зимой 1926 года объявила черного революционера персоной нон-грата и запретила въезд в страну. Либерийский посол в Соединенных Штатах заявил, что Элиху, пророк, регент и казначей Всемирного союза борьбы за освобождение и улучшение жизни негров, предпринял попытку вмешательства во внутренние дела Либерии (осмелившись, будучи гостем самого президента, предложить ему экономические и земельные «реформы»); точно так же, провозгласив «моральный долг» Черной Африки освободить те негритянские народы, которые были порабощены во время английской, голландской, бельгийской и т. д. колонизации континента, он тем самым призвал к войне против суверенных африканских государств. В свете всех этих обстоятельств принцу Элиху воспрещается въезд в Либерию под страхом смерти.
— Если меня объявляют врагом преступников и убийц, то следует ли мне стыдиться или, напротив, испытывать гордость? — таков был единственный публичный отклик принца Элиху на либерийский демарш. Своим коллегам по руководству союзом он объявил, что, со своей стороны, порывает отныне всякие дипломатические связи с черными африканскими государствами, которые предали свои народы. — А когда миллионы негров вернутся из Америки на родину своих предков, то вернутся они, клянусь, в другую Африку — быть может, не на предательский Западный берег, а на южную оконечность континента, прекрасный, говорят, и богатый естественными ресурсами край.
И естественно, помимо черных врагов, существует, как не устает повторять Элиху, огромный мир белых преимуществ, белого насилия и смертельной белой ярости: попросту говоря, Соединенные Штаты Америки. Ибо эта жестокая белая нация — частные лица в той же мере, что и государственные чиновники — тайно жаждет уничтожения черной расы; а в особенности — принца Элиху.
Поэтому, как шутит сам Элиху, если кто-то не желает смерти Элиху, значит, он просто никогда еще не слышал его имени.
Он выхватывает из ножен стилет с костяной рукоятью и, крепко ухватив противника — мощная рука прижимает грудь, локти упираются в бока, — молниеносно проводит лезвием по обнаженному горлу.
И — вот! — так течет красная кровь.
Но почему, красная, она в то же время белая кровь? И почему, красная, как и у него, она отличается от его крови, проклятой из-за своей черноты? Этого умирающий противник Элиху уже никогда не объяснит, с выражением крайнего изумления на лице он падает к обутым в тяжелые ботинки ногам Элайши.
(И все же: не будет ли итог кровавым? Отвратительным? Ведь принц Элиху — царь, Бог, но в то же время человек чувствительный и крайне ранимый.)
Благодаря вновь обретенной силе Элайша отчетливо вызывает в памяти свое чудесное рождение из бушующего потока (только не из канавы в Уобаше, а из реки Нотога), а вот годы, пролегшие между тем моментом и сегодняшним днем, он видит смутно, словно его слепит каскад воды, сверкающей на солнце.
Смутно, неясно воспоминание о долгом правлении Отца-Дьявола, оно исчезает лишь, когда Элайша пробуждается на одной из улиц Гарлема и ему раскрывается подлинная природа мира.
Имя: Элиху, оно означает: Господь есть Бог.
Или: Бог есть Бог.
Или: Элиху есть Бог.
Конечно, Элиху — истинно пробужденный, высшее сознание, такое же мощное в век Отца-Дьявола, как и в век минувший, когда кровь смертного черного спокойно смешивалась с кровью богов. Элайша — отчасти пробужденный, он осознает, что проспал долгих двадцать лет… пока находился под гипнозом, пока истинная его природа дремала и ему втолковывали, будто его кожа — ничто, в то время как на самом деле она — все… правда, иногда (когда оставался один, или заболевал, или на переходе от яви ко сну) мелькали перед ним образы былого: мерцающие болотные огоньки, безбрежная топь, по которой он бродит, потерянный, бессильный выбраться.
Это правда, выбраться он бессилен. Ребенок. Слишком мал. Не хваток умом, слаб телом.
Он не мог выбраться сам, и его спас другой; поднял высоко, победно и понес на плече высокорослый, со светлыми волосами, брат… чье имя, приняв имя Элиху-Пробужденного, он забыл.
(Впрочем, и это скорее всего неправда. Ибо высокорослый, со светлыми волосами юноша не может быть настоящим братом Элайши, разве что по велению Отца-Дьявола.)
Преступление? — шепчет Отец.
В таком случае — и соучастие.
Соучастие?
В таком случае нет преступления.
Принц Элиху, рожденный огнедышащей кровью, рожденный из камня неотесанного и отесанного, рожденный из собственной пролитой крови и раненой плоти, не мир несет, но меч: дар своему народу (как он провозгласил в своей апрельской 1916 года Прокламации прав от имени Всемирного союза борьбы за освобождение и улучшение жизни негров), соткавшийся на краю Обещания и Надежды: дар провидения, не ограниченный ни чем-либо конечным, ни «бесконечным» дьявола-каннибала.
Ибо именно те, кто страдал от рабства, есть истинные боги, низвергнутые в бездну превратностями Истории.
Ибо именно те, кто был презрен как урод и ничтожество и проклят Богом, на самом деле благословлены их собственным Богом — Аллахом: это Его сыновья и дочери, смертные боги, в которых Он вдыхает свой дух.
Ибо секрет заключается в том, что они бессмертны. Он примет смерть вместо них.
Многие гарлемские недоброжелатели (в том числе куча ханжей — «чернокожих прислужников белых») упрекают Элиху в том, что он раздулся от тщеславия; в то время как на самом деле он, как и положено истинному сыну Хама, покорно следует предначертанной судьбе (так, не менее десятка раз в день Элиху повторяет: Я — не я, я другой, я — носитель другого).
Завистники, как черные, так и белые, затыкают уши, чтобы противостоять мощи его слов: мошенник! Лицемер! Шарлатан! Жулик! — бормочут они, когда принц Элиху обращается к гигантской толпе своих сторонников; или когда видят, как он едет по Бродвею в своем шикарном белом «роллс-ройсе» с хромированными ручками, затененными окнами, с шофером-гаитянцем в форменной одежде и двумя могучими охранниками-неграми. Завистники вслух насмехаются над роскошным туалетом Элиху — сверкающий белизной, без единого пятнышка, великолепный льняной костюм летом; изысканное белое кашемировое пальто зимой; белые перчатки и белые лайковые туфли; эти люди доходят до того, что высмеивают в «Кризисе», «Гардиан» и «Освободителе» шлем с восемнадцатидюймовым страусовым пером и парадный меч в усыпанных рубинами золотых ножнах. Бессильные осознать, что Элиху волшебным образом возник из соединения двух стихий — огня и воды, — они нагло высмеивают его четкий, интеллигентный, без малейшего акцента выговор, утверждая, что он всего лишь негр-американец (возможно даже, бывший ниггер — полевой рабочий) и ничем не отличается от остальных: он, мол, не из Вест-Индии и уж, конечно, не из Африки. Так и не докопавшись до его корней и в панике от того, что досье на него фактически нет, ФБР официально объявило местом рождения принца Элиху Гарлем, а датой — 11 июня 1899 года, хотя и то и другое взято с потолка. Этот негр известен как подрывной элемент, подстрекатель, непредсказуемый в своих действиях и представляющий постоянную угрозу.
Завистники чешут языки насчет 50 000 долларов, которые Элиху якобы выложил за чистокровного рысака по кличке Кровавый Рубин, которого зарегистрировал за Всемирным союзом и поместил в конюшню на ферме Джеймса Бен Али Хейгина в Кентукки, где его натаскивают для участия в бегах; точно так же за несколько лет до того завистники чесали языки по поводу покупки океанографического судна «Пенелопа» (переименованного в «Черный Юпитер») и спортивного биплана «Черный орел». Оно и понятно — зная лишь, что такое низменная суетная гордость простых смертных, они не понимают, что такое расовая гордость сына Хама.
И еще, если Элиху мошенник, то как объяснить его невиданную отвагу? Зачем мошеннику добровольно возвращаться в США из Центральной Америки, как это сделал в 1918 году Элиху, чтобы ответить на обвинения в антиправительственных действиях и оказаться в конце концов за решеткой; и зачем ему бесчисленное количество раз рисковать жизнью, заявляя, что никакие угрозы физического воздействия не отвратят его от выполнения своей миссии?
Завистники повторяют, что настанет день, когда они увидят Элиху мертвым, но мало кому хватает мужества самому вызваться на роль убийцы.
Элиху и Судьба — это одно и то же, говорит принц в своей спокойной, размеренной, слегка ироничной манере, специально предназначенной для публичных выступлений, в которых, если внимательно прислушаться, даже завистникам нетрудно уловить оттенок печали.
«Элайша былой — и Элиху настоящий».
Эти слова принц Элиху нередко повторяет про себя теперь, в разгар своей новой жизни.
Итак, Лайша, марионетка белых, игрушка в руках белой девушки, исчез безвозвратно. Но как ни странно, в минуты слабости и одиночества, когда он глядится в зеркало, перед ним возникает образ Маленького Моисея:
принц раскачивается, машет длинными руками, подпрыгивает в безудержной радости, строит самому себе гримасы, растягивая рот в широкой ухмылке.
Быть может, Лайша все же выжил? Выжил как Элиху. Мучаясь бессонницей, обливаясь потом, он лежит под тончайшей дорогой простыней из чистого льна на своей узкой монашеской койке с никелированной спинкой; в своей спальне на третьем, верхнем этаже величественного особняка на Сто тридцать восьмой улице Гарлема (о котором немало могли бы сказать завистники, ибо: на чьи деньги куплен дорогой, тщательно охраняемый дом?), прислушиваясь к шуму ночного города, нарушающему даже зеленую тишину Страйверз-роу.
«Здесь они не зароют меня в землю. Здесь я в безопасности».
Встает он рано, в четыре утра, и молит Аллаха (в которого не верит) даровать ему силы нести ужасное бремя Элиху еще хотя бы пять-шесть лет.
Он молится о том, чтобы не прогнуться под тяжестью трагической судьбы Элиху.
«Ибо я знаю и смирился с этим: когда-нибудь принц Элиху будет убит».
И еще он молится о том, чтобы вдруг не подвело здоровье… ибо у Элайши есть проблемы со здоровьем, о которых Элиху в гордыне своей даже не ведает.
(Однажды полицейский проломил ему череп дубинкой; у него расплющены все пальцы на левой руке. Ревматический артрит коленных и бедренных суставов — результат пребывания в промозглой тюрьме Атланты. Слабый желудок, язвенные колики. Мигрени, плывущее зрение — симптомы малярии, приобретенной вследствие укуса какого-то паразита во время странствий по Западной Африке. Эти и другие болезни надо держать в строжайшем секрете даже от ближайших помощников по союзу.)
В то время как Элиху презирает любое физическое недомогание, Элайша относится к своему здоровью с бдительностью бродячего пса, которого часто били; в то время как Элиху — крепкий, все еще молодой мужчина, на которого заглядываются на улице женщины, — являет собой воплощение негритянской мужественности, Элайша приближается к сорока — «И в свои сорок уже немолод». В принце шесть футов роста, он гибок, мускулист, ловок и быстроног, как пантера, не ведает сомнений в себе; бедный Элайша болезненно-худ, сквозь желтоватую кожу выпирают ребра, живот же у него, как ни странно, мягок, даже дрябл (потому что ест с большим разбором, а внезапные приступы малярии буквально иссушают его). Принц, особенно в шляпе со страусовым пером и праздничном облачении, как известно, — страстный оратор, но, разумеется, никогда не впадает в ярость, «ибо гнев умаляет человека», ну а Элайша становится с годами все более неуравновешенным (за спиной приближенные любовно называют его Шершнем). Принц достаточно воспитан, чтобы терпеть льстецов, лизоблюдов и лицемеров, в то время как Элайшу от них передергивает; принц достаточно циничен, чтобы принимать подношения из любых источников, ибо деньги — это всего лишь деньги, тем более что нужны они для дела, а Элайша с трудом удерживается иной раз, чтобы не повернуться с брезгливым выражением лица и не выбежать из комнаты — «бывает дерьмо, которое человеку и нюхать не пристало».
Но оба, и принц, и Элайша, стараются держаться подальше от бесчисленных одержимых женщин, похваляющихся, будто Элиху призвал их на свое ложе и одарил своим священным семенем (ибо Элайша убежден, что в легендах о несравненной мужской силе принца Элиху нет ни капли правды…)
Элиху слишком горд, чтобы обращать на это внимание, но Элайше известно, что за ним шпионят его собственные люди, которые разносят слухи по всему городу, в том числе доводят их и до сведения дьяволов-каннибалов, получая от тех деньги за информацию. Это судьба, это предназначение. Я — не я, я — другой. Я — носитель другого.
Блестящие темные лица, сливающиеся воедино, безумный блеск глаз, пробивающий даже сумрак в конце зала: зыбкая, вздымающаяся, пульсирующая, дышащая в едином порыве жизнь: их жизнь и его жизнь. Под воздействием этой людской массы с губ принца Элиху срываются неожиданные слова; без нее он был бы нем. Так что обвинять его и его организацию в манипулировании неграми-бедняками — гнусность, наоборот, это он является инструментом передачи их мыслей, это они наделяют его божественной силой.
Не столько обдуманно, сколько инстинктивно принц начинает в строгой, неторопливой, сдержанной манере, затем постепенно темп речи нарастает, приобретает силу; а под конец его великолепный густой баритон взмывает в яростном крике. Все, что он изрекает в эти страстные моменты, — свято и истинно, потому что свято; иначе почему бы люди столь единодушно подхватывали его крик, почему бы так самозабвенно, так истово обожали его? А потому, что он говорит им именно то, что они и сами знают.
Братья и сестры, наша любовь к Америке — любовь без взаимности, хотя мы отдали практически все, что у нас есть, а они взяли у нас практически все, что можно взять; надо понять наконец… сегодня, сейчас, в этот самый миг… что любовь негра к Америке — это любовь без взаимности, иначе и быть не может.
А почему не может — ни сейчас, ни в будущем?
Потому, братья и сестры, что не может дать любви проклятый, вырождающийся, обреченный; порождение Машинного века, проклятое Историей.
Потому, братья и сестры, что белый — это всего лишь побочный продукт великого племени детей Хама; побочный продукт, который многие тысячелетия назад оторвало и отнесло от благословенной солнцем родины человечества… в края, где сама география и климат враждебны жизни… враждебны душе. И мало-помалу тот дух, что дан был им изначально, утратил свою глубину и богатство, как утратила пигмент их кожа, приобретя болезненно-бледный оттенок, какой свойствен им теперь.
Принц Элиху — единственный, кто отваживается назвать их теми, кем они на самом деле являются: белыми дьяволами-каннибалами!
И заклеймить перед всем миром преступления, совершенные ими против нас! Преступления, которым нет оправдания!
Которые не должно прощать!
И которые не будут прощены!
Никогда, во веки веков, пока принц Элиху не испустит свой последний вздох, не будут они прощены!
Впав в транс, непоколебимый в своей убежденности, Элиша думает: теперь мы ведем Игру, и мы должны быть жестоки, как нас учили.
Порой действительно кажется, что принц Элиху и его помощники публично похваляются тем, что Всемирный союз борьбы за освобождение и улучшение жизни негров — наиболее стремительно растущая из подобного рода негритянских организаций не только в Америке, но и во всем мире.
И тем, что они неустанно борются за лучшую долю для черных; например, не позднее чем к 1 марта 1929 года в конгресс будет представлен сорокастраничный проект Закона о земле и возмещении, по которому правительство Соединенных Штатов должно выплатить негритянскому населению 5 миллиардов долларов, а также учредить суверенный негритянский штат; на июнь 1929 года в «Медисон-сквер-гардене» намечен Первый объединенный негритянский слет, который, по расчетам, привлечет более ста тысяч мужчин и женщин со всех концов света; ведутся переговоры о приобретении второго океанского лайнера «Черный Юпитер-2» и об открытии, по предложению принца Элиху, постоянной линии «Черный Юпитер» для торговых операций между негритянскими компаниями, а в конечном итоге — для транспортировки североамериканских негров в Африку. Помимо того, уже осуществлена закупка восьмиместной «сессны» «Черный орел-2» и чистокровного жеребца-двухлетки по кличке Рубиновая Кровь, которому в будущем предстоит сделаться гордостью негритянского спорта на зависть белым; в Гарлеме, Джерси-Сити, Ньюарке, Филадельфии и Балтиморе на средства, пожертвованные членами организации, будут реконструированы многие здания, в которых расположатся негритянские школы, колледжи, центры медицинского обслуживания, юридические консультации и дома отдыха (по правде сказать, эта недвижимость, заложенная и перезаложенная, находится в настоящее время в самом жалком состоянии, все пришло в негодность; но принц Элиху и его помощники утверждают, что за несколько лет все будет восстановлено и даже усовершенствовано). Таким образом, приобретение ее — это разумный шаг в свете подготовки к массовой реэмиграции в Африку.
Поскольку некоторые из этих приобретений были сделаны за счет продажи акций и ценных бумаг, финансовая деятельность принца Элиху привлекла внимание окружного прокурора, в чью мрачную резиденцию на юге Манхэттена принца Элиху таскали неоднократно, так что даже недоброжелатели принца в Гарлеме заговорили о том, что правительство Соединенных Штатов снова преследует его.
Но поскольку принц Элиху и его помощники исключительно щепетильны в своих уолл-стритских операциях и могут представить скрупулезнейший отчет по каждой сделке, белые расисты-чиновники бессильны. По крайней мере в настоящий момент.
(Элайше известно, что с него и его организации глаз не спускают город, штат и федеральные чиновники; что досье его в министерстве юстиции распухло, должно быть, до фантастических размеров; и это лишь вопрос времени…
«Но какое все это имеет значение, — шепчет Элайша, критически разглядывая в любимом зеркале свое худощавое лицо, изучая все еще живые, хоть и покрывшиеся красными прожилками глаза, а также, черт бы их подрал, верхние десны, которые опять кровоточили ночью, пачкая белоснежную наволочку. — Какое все это имеет значение, — повторяет он с беспечной улыбкой, — ведь в Игру никогда нельзя играть так, словно это всего лишь игра, потому что на самом деле она есть сама жизнь».)
Конечно, принц Элиху должен жениться. У принца Элиху должны быть сыновья, которые унаследуют его имя и продолжат его святое дело.
Но во всем Гарлеме не найдется ему достойной пары.
Он навещает порой любезного, неизменно улыбчивого преуспевающего черного врача, который живет неподалеку, тут же, на Страйверз-роу, и ходит с бамбуковой палочкой с медным набалдашником в виде птицы, всегда весело щуря левый глаз, но от застенчивой толстушки, его дочери, девицы двадцати лет, огорчительным образом несет накрахмаленной бумазеей и сладковатым потом; полюбить такую Элиху не в состоянии.
Он навещает семью своего главного финансиста, эбеново-черного негра с Ямайки, человека веселого, наблюдательного, достойного, и видит, что дочь его — красавица, ее огромные, с густыми черными ресницами сияющие глаза манят тайной, тонкие выщипанные брови изогнуты в форме полумесяца, полные губы созрели для любви; но Элиху не может любить.
Еще его познакомили с симпатичной вдовой тридцати одного года, матерью десятилетней девочки, она рассказывает, что ее муж сложил голову во Франции, она тоже ведет себя с достоинством, отличается нервной грацией, тонкой талией, тяжелыми, как дыни, грудями, такими же, напоминающими зрелые дыни, бедрами, она соблазнительно облизывает губы кончиком розового язычка, и Элиху чувствует, как в нем растет желание, но сердце остается безучастным, он не может любить.
Еще к нему приводят смешливую молодую женщину с примесью пуэрто-риканской крови, с посверкивающими золотом зубами, с волосами, забранными в гладкий тугой узел, с накрашенными губами, созревшую для любви, ждущую прикосновения его мускулистых рук и бедер, его нетерпеливых губ, но хотя и смотрит он на нее в молчаливом восторге, полюбить не может, он не может любить.
И наконец, появляется славная пышка, совсем еще девочка, по имени Мина, он рассеянно слушает хвастливую болтовню ее родителей и думает: неужели она действительно так юна, почему они солгали насчет ее возраста? Мина? Мина? Почему от этого имени ему становится не по себе? Девушка стыдливо запинается, складывает губы бантиком, пряча крупные белые зубы, на ресницах от детского смущения дрожат слезинки; разумеется, Элиху сохраняет вежливость, ледяную вежливость, быть может, он просто слишком стар для брака, для плотской любви.
Его помощники обеспокоенно шушукаются — неужели он сдастся и прекратит поиски? Неужели нет на земле чернокожей женщины, которая способна ему понравиться? Элиху проводит рукой по лицу, на один нестерпимый миг он и Лайша сливаются воедино, в его слишком много повидавших глазах возникает острая боль, желудок, которому пришлось перенести столько болезней, сводит.
— Да, — говорит он, — то есть нет, — жестко поправляется он, — …вот именно, друзья мои, поиски Венеры Афродиты — слишком трудное дело.
Хрупкая девушка, белая, яркая блондинка в старомодном дорожном плаще… внезапный порыв ветра откидывает с лица капюшон… нижняя губа закушена, глаза прищурены — напряжение Игры таково, что один этот взгляд — как лезвие бритвы, как вспыхнувшая спичка… поодаль, в нескольких ярдах, но, конечно же, не случайно, комично семенит, заигрывая с ней, долговязый тощий негр средних лет с аккуратной бородкой, безупречно ухоженный, с седеющими волосами, заметно сутулый, пожалуй, чем-то напоминающий священника: очки без оправы, строгий черный котелок, под мышкой палочка — точь-в-точь как белый.
Лайша шепчет:
— Ну, как все прошло — прошло?
Девушка шепчет:
— Помолчи, пока не останемся вдвоем!
Лайша шепчет:
— Ах ты, красавица задавака!
Девушка шепчет, лукаво, соблазнительно прищурившись, дразня и играя (в конце концов, она ведь всего-навсего ребенок):
— Еще какая, дай срок, сам увидишь!
И Лайша шагает, постукивая палочкой, лопаясь от гордости, строго смотрит вперед, осмотрительно соблюдая дистанцию между собой и юной белой проказницей, чей смех звенит, как осколки разбитого в соседней комнате стекла. О, сладостная Миллисент, грешная спутница его души, которую когда-нибудь он будет любить, о чем Дьявол-Отец и не догадывается.
Элайша, который был, когда-то давно, в Мюркирке; Элиху, который есть в огромном шумном королевстве Гарлема; но в иные безнадежные моменты (чтобы быть точным — часы) это Элайша, который есть, мрачный и дрожащий от гнева за непроницаемой маской принца.
Принц не знает и знать не желает сухопарых белых женщин, белых дьяволиц с сухой болезненной кожей, напоминающей кожу на брюшках ползучих гадов, женщин в завернутых по-дурацки чулках, в мальчишечьих шапках, в тонких платьях, под которыми смутно угадываются очертания белья; с губами, накрашенными темной помадой а-ля Клара Боу (или это Гилда Грей со своим разнузданным шимми, или уродина Теда Бара, позирующая перед объективом с гигантским змеем, протягивающим к ней свой длиннющий язык?). Принц ничего не помнит о Дьяволе-Отце, не говоря уж о Милли, или Мюркирке, или лживых словах белых братьев; принца вывернуло бы наизнанку от брезгливости, ибо в его глазах все белые — больные, а сама мысль о связи с белой женщиной вызывает у него отвращение.
Элайша же кое-что припоминает — иногда; Элайша обречен помнить до тех пор, пока у него не отшибет память; но, по правде говоря, с годами — с бурными годами и днями, последовавшими за его вторым рождением! — воспоминания становятся все более смутными и отрывочными, иногда он даже перестает ненавидеть свою юную белую невесту.
Порождение Дьявола-Отца, вот кем она была; зараженная его алчностью.
Она, кого он любил, обожал, желал так страстно, зачарованная Дьяволом, согласилась, будто Лайша и другие — одно и то же; что цвет кожи не делает различия между ними.
Потому что только братья по крови становятся братьями по духу.
И если эту истину впитать в плоть, себя уже не разубедишь.
В любом случае, думает Элайша, нет смысла продолжать ненавидеть Миллисент.
«Ведь и она подпала под его чары; она так же больна, как и он сам, Элайша, только с позиции своей расы. А там, где не может быть любви, не может быть и ненависти. И это конец, — вслух произносит он громко, уверенно, бесстрастно, — этого больше не существует».
Одна из наиболее живучих легенд о принце Элиху, которая после его смерти год от года будет приукрашиваться, связана с покушением на его жизнь со стороны видных белых граждан осенью 1928 года.
Согласно этой легенде, принцу подсыпали яд; но благодаря сверхъестественным способностям он сумел нейтрализовать зелье и вернуться в Гарлем — в своем великолепном «роллс-ройсе», с верным шофером-гаитянцем за рулем и в сопровождении могучих охранников в форме.
(Для протокола: ничего подобного на Манхэттене не происходило. Единственная попытка лишить его жизни с помощью яда была предпринята в Либерии в мае 1926 года, вскоре после того, как он с ужасом и гневом обнаружил, что правящий класс Либерии, потомки освобожденных американских рабов, поработил своих же собственных соплеменников.)
В действительности же 5 октября 1928 года в роскошной, обшитой панелями из вишневого дерева библиотеке настоятеля собора Святого Иакова епископа Рудвика на Парк-авеню случилось с принцем Элиху нечто загадочное, и тайна эта, к радости негра-революционера, так и не раскрылась. Ибо хоть и гордился он своим природным умением сохранять железное самообладание в присутствии врагов, хоть и полагал себя с внутренней гордостью воплощением великой, даже божественной силы, в самый разгар тайной встречи кое с кем из видных белых (в частности, с Пирпонтом Морганом, Джоном Д. Рокфеллером-старшим, Чарлзом И. Митчеллом из «Нэшнл ситибэнк» и, разумеется, самим епископом Рудвиком) принц Элиху вдруг почувствовал такой приступ животной ярости, что в течение нескольких минут не мог продолжать выступление; его охватило такое нестерпимое желание выхватить стилет из ножен на бедре и, пока ему не успели помешать, убить хоть одного из врагов, что он едва позволял себе дышать.
«Какие они мерзкие, — думал он, обводя собравшихся расширившимися глазами, — да, да, мерзкие!»
Ему показалось, что белые люди, не исключая даже хозяина, почтенного епископа Рудвика (выказывавшего такое сочувствие нуждам американских негров), — физические уроды; особенно их глаза — маленькие, жесткие, блестящие, глаза скорее рептилий, нежели людей; и разве не исходит от них, от каждого по-своему, какой-то гнусный запах то ли лежалой бумаги, то ли пыли? Стоило Элиху подольше задержать взгляд, например, на старике Рокфеллере, как он чувствовал, что внутри, где-то в кишках, разрастается ярость, требующая немедленного выхода; тогда он поспешно переводил взгляд на менее отталкивающего Митчелла, но и тот через несколько мгновений начинал казаться отвратительным: морщины вокруг рта, образовавшиеся в результате многолетней привычки деланно улыбаться, настолько глубокие, подумал тогда Элиху, что там вполне могут поселиться какие-нибудь крохотные паразиты и начать откладывать свои почти невидимые белые яички…
Элиху, или Элайша, сам организовал ту историческую встречу, сам заранее продумал в деталях порядок действий, и собственная реакция его напугала. Ибо разве не он, еще во времена далекой молодости, когда властвовал над ним Дьявол-Отец, умело подчинял своей воле мужчин и женщин, которых втайне презирал… людей, которых воспринимал всего лишь как объект Игры?
Ты что, все еще сомневаешься? Ведь ты уже проиграл Игру.
(«Ни в чем я не сомневаюсь! — подумал Элайша. — Потому что я — не я, а носитель священной миссии».)
Предметом встречи принца Элиху с группой богатых и влиятельных джентльменов было ни больше, ни меньше как частичное финансирование разработанного Всемирным союзом борьбы за освобождение и улучшение жизни негров проекта основания американской, а затем и африканской колонии, куда надлежало переселиться в ближайшее десятилетие всем североамериканским неграм. Ибо в последнее время возникли некоторые трудности финансового характера, связанные, в частности, с продажей акций морской линии «Черный Юпитер» и даже с платежами по кредитам, взятым на покупку первого судна; к своему изумлению и огорчению, Элиху обнаружил, что большие суммы денег (членские взносы, пожертвования, доходы от рекламы на страницах «Нигро юнион таймс») бесследно исчезли… вместе с двумя или тремя из числа его наиболее доверенных сотрудников; из окружной прокуратуры поступила очередная повестка, восьмая за тот год; а печальнее всего было, что конгрессмен от Гарлема, с которым он тесно сотрудничал на ниве продвижения исторического законопроекта о земле и возмещении, буквально на днях известил его, будто дело это скорее всего безнадежное… ибо, если белые американцы проголосуют за возвращение пятимиллиардного долга черным американцам, это будет означать признание перед всем миром, что долг таки существует, на что они, разумеется, никогда не пойдут!
Тогда хитроумному принцу пришло в голову, что, коль скоро все белые, в том числе имеющие репутацию либералов, добрых христиан и гуманистов, в душе презирают негров («подобно тому, как всякий нормальный негр презирает их»), богачи, если только не трубить о сделке на весь свет, пусть и без особого восторга, но согласятся поспособствовать массовой реэмиграции негров в Африку.
— Господа, между нами должно быть полное взаимопонимание, поскольку мы являемся зеркальным отражением друг друга, расовая ненависть — наше общее бремя. А посему позвольте мне говорить прямо.
Некоторые якобы удивленно переглянулись, но остальные, к облегчению Элиху, отбросили привычную маску лицемерия и снисходительности и приветствовали его откровенность.
И в течение всего первого часа встречи он действительно говорил откровенно, с присущей ему определенностью, но вопреки обыкновению не особенно подыскивая слова. Видно было, что на белых собеседников принца произвели сильное впечатление его познания в области как белой, так и черной (то есть рабовладельческой) истории Северной Америки. Четко, без малейшего намека на эмоции, он обрисовал, словно это было для них новостью, убийственное положение африканцев, которых в кандалах привезли в Америку, когда Нью-Йорк занимал всего лишь полоску земли, заселенную голландцами; он говорил о ранних, наивных надеждах на «африканское возрождение», которые питали освобожденные рабы с Род-Айленда и из Филадельфии в XVIII веке; о поддержке, оказанной филантропическим Обществом американской колонизации, финансировавшим либерийский эксперимент 1847 года. («А каково ваше мнение о Либерии, мистер Элиху?» — живо поинтересовался епископ Рудвик. Не давая себя отвлечь, Элиху спокойно ответил: «Я не из тех, кто бездумно высказывает „мнения“».) Если нужна статистика, принц Элиху готов ее предоставить; если нужны факты, свидетельствующие о том, что белые постоянно нарушали обещания, данные черным (последний случай — посулы Вудро Вильсона черным ветеранам Большой войны), то он располагает и ими. Наконец, если белым господам, являющимся хорошими бизнесменами, нужен прецедент вмешательства в то, что может быть сочтено внутренним делом негров, он может сослаться на деятельность Института Таскиги, которому Эндрю Карнеги пожертвовал малую толику (то есть миллионы долларов) своего состояния: положим, организация эта проводит откровенную политику расистского патернализма, однако же в любом случае речь идет о благотворительности.
Со своей стороны, и белые знали, о чем спросить («Какие у нас гарантии того, что, если мы дадим деньги, вы используете их по назначению? Каков будет источник самого дешевого неквалифицированного труда, если негры эмигрируют? Если вы провозгласите суверенное африканское государство, будут ли нам гарантированы особые торговые привилегии?» и т. д.). Вскоре стало очевидно, что при всем показном радушии белых собеседников принц Элиху верно истолковал их чувства.
— Вряд ли можно отрицать, что, на ваш наследственный нюх, мы, черные, смердим, — с легкой улыбкой сказал он. — А что может быть естественнее желания избавиться от вони?
Это попутное замечание заставило белых джентльменов поморщиться, затем все пришли в сильное замешательство, и только смущенный епископ неубедительно, запинаясь, попытался заверить принца Элиху, что это не так.
Обсуждение возобновилось; через некоторое время подали легкую закуску (сыр «Стилтон» со множеством прожилок, несколько сортов фруктов и орехов, белое сухое вино, минеральную воду), на которую большинство набросилось с явным аппетитом. Элиху рассеянно подцепил нечто сочное, темноватого оттенка, сладкое на вкус (кусочек не то яблока, не то сливы, в котором, хоть он и напоминал по вкусу и то и другое, внутри оказалось множество мягких вязких зернышек), умело снял кожуру и отправил в рот… и тут же (но явно вне всякой связи) почувствовал слабость, легкую тошноту, головокружение. Глядя на людей, рассевшихся за идеально отполированным столом красного дерева, и впервые по-настоящему увидев их, пожиравших его взглядами невыразимых уродов, имевших действительно отталкивающий, «больной» вид, он почувствовал, как его охватывает ледяной животный страх. Самое ужасное впечатление производил надменный Пирпонт Морган с глазками-бусинками, огромным носом картошкой и потрескавшимися губами: он буравил принца Элиху взглядом с самого начала так, будто перед ним сидела экзотическая ручная обезьяна.
Впрочем, ужасны, гротескны были все; отталкивающие морды — чего стоит одна эта кожа мертвенных оттенков: от пепельно-белого (у девяностолетнего живого трупа Рокфеллера) до мясисто-красного, в трупных пятнах (у толстопузого епископа). И как невообразимо, как отвратительно испещрена их кожа родинками, бородавками, набухшими венами, пигментными пятнами, обесцвеченными какой-то гнилью участками.
Теперь я понимаю, что презираю их не только в теории, но и во плоти.
И теперь я знаю, что с восторгом буду истреблять их собственными жадными руками.
И тут… случилось самое удивительное.
Принц Элиху комически уронил свою красиво вылепленную голову… глаза с густыми ресницами выпучились так, что показалось: еще секунда — и они выскочат из орбит… И Элиху, потомок африканских царей, оскалив белоснежные зубы, с лицом, искаженным ухмылкой дурачка, начал негромко декламировать:
Этот всплеск был столь неожидан, столь неуместен в сложившейся обстановке, что на мгновение показалось, будто то, о чем раньше умалчивали, наконец произнесено вслух и от этого уж никуда не денешься. Но еще более загадочным было то, что никто из собравшихся в епископской библиотеке, включая самого принца Элиху, не мог бы сказать, сознательно или случайно прозвучал этот бесхитростный куплетик.
Ах как же изящно выпевал принц Элиху слова песенки, как заразительно, с каким шутовским весельем раскачивался на стуле, как болталась из стороны в сторону его голова, как комически таращил он глаза, как деловито сновал взад-вперед его язык: и кто бы мог подумать, что именно он, из всего негритянского сообщества, окажется способен на такое бесшабашное дурачество?
Словно не в силах сдержаться больше ни минуты, принц Элиху откинул полу «кафтана», вскочил на ноги, подпрыгнул, стал размахивать руками и закатывать глаза, продолжая:
Совершенно сбитые с толку белые не могли понять, всерьез ли это или Элиху, ранее казавшийся таким рассудительным, таким последовательным в своих суждениях, морочит им голову. Или «развлекает»? Или издевается, да так нагло, что и слов нет (ибо нечасто, скажем прямо, услышишь популярную песенку в исполнении не белого, изображающего черного, а настоящего черного… как он есть)?
Еще какое-то время принц продолжал приплясывать — приседать, извиваться, выделывать фортели, громко хлопать в ладоши, демонстрируя розовые подушечки пальцев:
пока наконец не изнемог и не остановился как вкопанный.
Раздались недолгие, но бурные аплодисменты; кое-кто нервно захихикал; епископ Рудвик медленно встал и елейно улыбнулся, словно благословляя присутствующих. На том историческая тайная встреча и закончилась.
Так завершилась провалом попытка принца Элиху заставить белого врага раскошелиться на великий проект, возникший в недрах союза; не желая пачкать роскошную обивку салона «роллс-ройса», он велел шоферу остановиться. Серебристый лимузин, столь хорошо известный в Гарлеме, притормозил на Сто двадцатой улице, и знаменитого негритянского революционного лидера, спрятавшегося за задней дверцей, начало выворачивать в канаву, в то время как двое богатырей-охранников, места себе не находя от смущения, решительно отвернулись в противоположную сторону.
Зачарованная принцесса
Точь-в-точь как в одной из сказок Катрин, все сбывается: самые тайные, самые заветные ее желания: молитвы, которым отдано столько бестолковых часов. И точь-в-точь как в одной из ее страшных сказок, урок состоит в том, что желание человека — это в конечном итоге вовсе не его желание.
Аарон Дирфилд говорит: Но ведь я всегда считал… что мы поженимся.
Эстер Лихт говорит: Но у меня теперь другая жизнь, и я сама теперь другая.
Аарон Дирфилд говорит: Значит, мы не можем пожениться? Мы не поженимся? Он все повторяет с озадаченной улыбкой, не отрывая взгляда от напряженного лица Эстер: Видишь ли, просто за все эти годы я привык думать, что мы понимаем друг друга…
Эстер говорит: Но ведь ты никогда не говорил со мной об этом.
…все эти годы, пока мы не были готовы.
Пока ты не был готов. Пока ты не решился.
Да нет же, конечно… Допускаю, что именно так это и выглядело в твоих глазах… временами; но ты должна была знать.
Эстер говорит: Я надеялась, но не знала.
Аарон говорит: Но если ты надеялась, то почему?..
Эстер говорит, тщательно подбирая слова: Потому что теперь я другая. Моя жизнь изменилась.
Той ночью Эстер пишет письмо Дэриану в Скенектади, стараясь, чтобы это не выглядело хвастовством и уж тем более оправданием (ибо, по правде говоря, она все еще любит Аарона и, сложись обстоятельства иначе, вышла бы за него). Она пишет, что в свои двадцать шесть лет чувствует себя подобно принцессе, очнувшейся после долгого волшебного сна… а может, вся ее жизнь — колдовство, превратившее ее в лягушку, или жабу, или в невзрачную серенькую птичку?..
Может, я и пожалею о своем решении, но по крайней мере это мое решение.
Вероятно, это звучит слишком самодовольно, слишком самоуверенно? Даже хвастливо?
Этого Эстер хотелось бы меньше всего!
Постскриптум, дописанный на следующее утро: Это одна из старинных страшных сказок Катрин: когда желание исполняется, оказывается, что оно перестало быть желанием… и это больше не правда.
«Первый ежегодный всеобщий объединенный негритянский слет»
— Почему?.. Да потому, что это его «игра», Мейнард, — шепчет Миллисент в странном возбуждении, в то время как девятилетний сынишка, вздрагивая от страха, теребит ее руку в перчатке. — Не бойся, он не упадет, как упал бы ты на его месте.
— Но почему, мама? — не унимается ребенок.
— Потому что это он; потому что это его дело.
— Но…
— Успокойся, малыш, ты задаешь слишком много ненужных вопросов.
На головокружительной высоте в сорок футов над театром Риальто в Ричмонде сидит на обтянутом каучуком сиденье, укрепленном на флагштоке, который водрузили специально для этого представления, сам великий Келли — Обломок Кораблекрушения, чемпион Северной Америки по сидению на флагштоках, человек-загадка, человек с заморочками (так, например, играет он на своей гармонике только «Занозу в сердце» и, по слухам, отказался от голливудского контракта, заявив, что в противном случае его экранное «я» вытеснит в сердцах почитателей его подлинное «я»). Обломок Кораблекрушения называет себя «счастливейшим из дураков», и многим кажется, что так оно и есть: его домогаются отели и кинотеатры по всей стране и платят кругленькие суммы только за то, чтобы он взобрался на флагшток и посидел.
Сейчас он гастролирует в Ричмонде, Виргиния, и вот уже пятнадцатый день сидит на крыше безвкусно-шикарного театра Риальто на Мейн-стрит — одинокий триумфатор на фоне меняющегося неба, стоик-весельчак, предмет восхищения и горячих споров (кто он — безумец или трезвый практик?), привлекающий внимание местной публики, как белых, так и негров. Люди самых разных возрастов и социального положения присылают Обломку Кораблекрушения скромные дары; несколько юных дам предложили себя ему в жены (он красив, и ему всего тридцать один год); целый ряд ричмондских предприятий вступили в сделку с Риальто, назначив премиальные за дополнительное, свыше объявленных двух недель, сидение. Даже лотерею затеяли — не вполне легальную, но очень популярную, — 500 долларов тому, кто точнее всего угадает день, час и минуту спуска (добровольного или вынужденного) Обломка Кораблекрушения с его одинокого насеста.
Как ему это удается? Этот вопрос задают гораздо чаще, чем хотят узнать, зачем ему это понадобилось, и ответы звучат вполне определенно. Обломок Кораблекрушения не делает тайны из того, что пользуется мягким сиденьем, прочно прикрепленным к флагштоку (предварительно оно проходит тщательную проверку, фотографии публикуются в газетах); он приучил себя, поясняет Обломок Кораблекрушения, спать, засунув пальцы в щели, проделанные в сиденье, и крепко обхватив ногами шест. Во время воздушной вахты он питается только жидкой пищей (бульон, молоко, фруктовый сок и «черный кофе галлонами, чтобы поменьше хотелось спать»), которую поднимают ему наверх на веревке; таким же образом спускают и естественные отходы в скромном алюминиевом ведре (при всем своем тщеславии и клоунских замашках, Обломок Кораблекрушения облегчается исключительно ночью или тогда, когда уверен, что никто за ним не наблюдает).
Ну а если идет дождь, разыгрывается буря, сверкают молнии? Что ж, приходится бедному Обломку Кораблекрушения терпеть и это — такова цена профессии и общенациональной славы. В погожие дни (вроде сегодняшнего) он сидит без головного убора, небрежно скрестив ноги, и негромко наигрывает на гармонике (любимую «Занозу в сердце»? — Ветер относит мелодию, понять трудно). В бинокль (Миллисент принесла два, для себя и для сына) видно, что он сильно загорел и пребывает в прекрасном настроении. Играя на гармонике, он изгибает брови и лениво, словно в истоме, прикрывает веки, что, конечно, выглядит комически, когда человек сидит на насесте. Прилаживая поудобнее линзы бинокля, Миллисент ловит себя на том, что, кажется, ждет невозможного: чтобы «самый счастливый дурак в мире» вдруг заметил ее лично.
Миллисент готова заплатить 50 центов, чтобы подняться вместе с Мейнардом и десятками любопытствующих, образовавших длинную очередь, на крышу Риальто и взглянуть на Обломка Кораблекрушения Келли с близкого расстояния; но, к ее удивлению и досаде, мальчик отказывается.
— А вдруг этот дядя свалится, — говорит он капризным тоном, который особенно не любит Миллисент, — вдруг он свалится и разобьется? Я не хочу этого видеть.
— Не говори глупостей, — сердится Миллисент, — никуда он не свалится.
— Не хочу этого видеть, — продолжает канючить мальчик.
— Да даже если и свалится, — убеждает Миллисент, все больше раздражаясь, — он не убьется, как убились бы мы с тобой. Или папа.
Но маленькому Мейнарду страшно, ему сейчас явно хочется только одного — чтобы его отвели домой, хотя он давно упрашивал Миллисент взять его в город: все приятели уже видели человека, который сидит на шесте, он один остался. У Уоррена, естественно, не было никакого желания тащиться в центр по таким пустякам (да и вообще ему надо беречь силы); а у шестилетней Бетси нервы такие, что матери и в голову не пришло бы показывать ей такое («она совсем как я, — озабоченно думает Миллисент, — как я в этом опасном возрасте»).
Так короткая вылазка, состоявшаяся тем майским полднем, внезапно подходит к концу. Миллисент и самой зрелище изрядно наскучило. На тротуаре ее со всех сторон окружают зеваки: вытягивая шеи, прикрывая глаза от солнца, яростно размахивая руками с флажками и знаменами, мужчины и женщины бойко переговариваются с кумиром:
— Эй, Обломок Кораблекрушения, как делишки?
— А как погода там, наверху?
— Надеюсь, ты не свалишься, парень!
При этом они то и дело заливаются дурацким и в общем-то неуместным смехом, ведь, что ни говори, а Обломок Кораблекрушения действительно может в любой момент свалиться прямо им под ноги, достаточно, чтобы ветер подул посильнее.
Миллисент, не оглядываясь, уводит прочь дрожащего мальчика. Сидение на флагштоке, в конце концов, — занятие малоинтеллектуальное, мягко говоря; и не зря предупреждал Уоррен, что они с ребенком скорее всего столкнутся здесь со всяким сбродом.
И все же — какой риск! Глупая бравада!
Какой безумный способ самоутверждения!
Какая отчаянная Игра — под самыми небесами!
Приду ли я к нему, унижусь ли? Нет, не посмею, я мать и жена… белая женщина.
В ту ночь она спит неспокойно; то засыпает, то просыпается, и каждый раз настойчиво, без смущения, ей является во сне утраченный возлюбленный; она просыпается в решимости ехать в Нью-Йорк не откладывая; наконец, по прошествии стольких лет, она увидится с Лайшей, которого все еще любит («ибо существует только одна любовь — первая. Как, говорят, и одна лишь смерть — первая»).
Приняв решение, Миллисент испытывает необыкновенное облегчение. Вот так же, по свидетельству знающих людей, решение умереть высвобождает долго не находившую выхода радость.
Красавица Миллисент Стерлинг разбивает сердца, но разве в том ее вина? Ведь она не заставляет никого — ни мужчин, ни женщин, ни даже какого-нибудь зеленого студента — любить себя, да и вообще воспринимать всерьез. В отсутствие Игры должно быть много игр, более или менее увлекательных, ибо гольфа, тенниса, маджонга, бриджа, танцев, любительского театра и домашней оперы ей мало, они не могут поглотить ее целиком, точно так же, как мало ей роли жены, заботливо ухаживающей за больным мужем, матери двух очаровательных ребятишек и хозяйки великолепного дома с видом на площадку для гольфа при Ричмондском клубе.
Постепенно Миллисент Стерлинг обзавелась и недоброжелателями из круга «молодящихся старейшин» загородного клуба, к которому принадлежат и они с Уорреном, — по преимуществу это отвергнутые воздыхатели, а также те (исключительно женщины), кто ревнует к ее победам; впрочем, недоброжелатели, подобно друзьям, не устают повторять, как она их удивляет… даже поражает… откуда у нее берется время, не говоря уж о силах, заниматься всеми теми делами, которыми она занимается, и делать их так хорошо? Драматический театр, пение, даже танцы в таких постановках «Театра ричмондских актеров», как «Поездка в Чайнатаун», «Солнечная девушка», «Осторожно!», «Микадо»; председательство в Комитетах женской поддержки епископальной церкви, Друзей ричмондского городского оркестра, местного отделения Виргинского исторического общества; она — одна из самых гостеприимных хозяек в городе; одна из лучших, при всем своем азарте и неровности, игроков в бридж и маджонг. В хорошем настроении Миллисент Стерлинг даже на площадке для гольфа не пасует, особенно если учесть, что заниматься им она стала совсем недавно.
А какое впечатление она производит на клубных кортах в своем стильном теннисном костюме с короткой плиссированной юбкой, с волосами, прихваченными ярко-красной лентой, — хотя страсть, которую она вкладывает в игру, манера лупить по мячу с такой силой, что тот летит далеко за пределы корта, или в сетку, или прямо в ошарашенного партнера, стоила ей многих друзей.
— Право, дорогая, это всего лишь игра, — увещевает ее Уоррен, озабоченный тем, что она слишком легко срывается. — К чему так расстраиваться? — И Миллисент невозмутимо отвечает с самой лучезарной из своих улыбок:
— Как раз потому, что это просто игра, которая не стоит таких усилий.
Тридцать два года… тридцать пять… наконец — трудно даже представить себе! — тридцать восемь. И все это я, папина дочка из сказки. Какому же принцу я предназначена? Пожимая плечами, Милли вынуждена признать, что она уже не самая юная, не самая очаровательная, не самая модная дама в любой компании; она мать двух подрастающих детей; жена добропорядочного, солидного господина явно средних лет (продолжающего стареть), которого она любит… или, во всяком случае, уважает. «Я не заслуживаю такого хорошего мужа, — думает она с некоторой горечью. — От такого не отказываются. И все же…»
Ни разу в жизни не уступила Милли романтическому соблазну, никому из своих страстных почитателей не позволила убедить себя, что любовь должна иметь естественное разрешение, а уж о разрыве с мужем и речи быть не могло. Даже в тот год головокружительной эпохи джаза, когда все, словно сговорившись, внезапно принялись разводиться (от «Персиков» и Дэдди Браунинг — постоянных персонажей «желтых газетенок» — до миллионеров Рокфеллеров и Маккормиков), Миллисент Стерлинг и помыслить боялась о разводе… хотя в том социальном кругу, к которому принадлежат Стерлинги, ни для кого не секрет, что муж ей надоел. (Вот уже шесть лет, с самого рождения Бетси, Стерлинги спят в разных спальнях, и Миллисент вполне удовлетворяет ее независимое положение супруги-девственницы. Разумеется, миссис Стерлинг не одна такая в Ричмонде.) Все, что ей нужно, — чтобы Уоррен верил, что она его любит не меньше, чем он ее… обожает не меньше, чем он ее… а что брак постепенно выродился в чистую условность, значения не имеет. Ловить порою его взгляд влюбленного мальчишки, принимающего меня за другую… может быть, за юную девушку, незнакомку. И Милли завидует мужу, потому что любить куда интереснее, чем быть любимой.
А порой она думает отстраненно: «Впрочем, какое это имеет значение? Ведь в любом случае любовь — это просто разновидность Игры».
(Интересно, был ли женат Элайша? Вряд ли, думает Милли. Она подписывается на нью-йоркские газеты, жадно читает все, что относится к принцу Элиху, и ни разу его имя не поминалось в связи с женщиной.)
Тридцать восемь. Но в глубине души не больше семнадцати.
Именно тогда он впервые прикоснулся к ней не как брат, но как возлюбленный.
Не к этой, разумеется, озабоченной женщине с прозрачной, сухой, лишенной красок жизни кожей; с морщинами возле уголков рта; с кругами под глазами; не к женщине, которой приходится работать над своим лицом — когда-то ей бы и в голову такое прийти не могло — и которой в последний год не у всякого зеркала в доме хочется задержаться.
Интересно, узнает он меня? Будет ли любить, как прежде… такой?
Конечно. Он ведь обещал!
Сказал, что умрет за меня.
Игра! Какая в ней радость, если даже самую крохотную победу не с кем разделить?
Миллисент Стерлинг достигла совершенства в искусстве лгать и в то же время не совсем лгать. Можно назвать это «выдумками», «сочинительством». С широко открытыми невинными глазами она плетет небылицы, порождая недоразумения среди друзей и поклонников, родственников по линии мужа, прихожан епископальной церкви (старостой которой является всеми уважаемый Уоррен) и даже домашней челяди… преданных слуг-негров. Она осмотрительно не бранит Табиту за проступки Розлин; выражает сожаление, что Родвел не выполнил порученное дело, как, кажется, обещал, или это Джеб обещал? Или все они надавали обещаний своей доброй хозяйке и все подвели ее? Ее ледяное сердце тает, когда она слышит рыдания негритянки, ибо уж рыдать-то негритянки умеют, как никто; или когда ругается мужчина-негр, думая, что рядом нет никого из белых, ибо уж ругаться-то мужчины-негры умеют, как никто. Из чистого каприза она «отсылает» одну из девушек-служанок; из чистого каприза в следующий же понедельник снова берет ее на службу. Своим острым глазом она подмечает, кто из женщин прибавил в весе, у кого наливаются бедра и грудь… кто из мужчин начинает важничать, у кого появляется жадный блеск в глазах и тело напрягается так, что как раз впору изобразить обморок и ненароком опереться на него… это ведь совсем нетрудно! И непоправимо.
Но Милли знает, что для черных слуг она всего лишь белая хозяйка. Жена мистера Стерлинга.
Даже если она прогонит кого-нибудь и тем разобьет ему сердце, рана скоро заживет, потому что его наймет какая-нибудь другая белая хозяйка. Иногда ей представляется, что она единственная в Ричмонде, кто знает секрет: по сути своей большинство негров не «негры», но… кто?
Отец говорит, что наша кожа ни бела, ни черна.
Деление на «белое» и «черное» — лишь невежественный предрассудок.
Отец говорит, что мы стоим в стороне от «белой» расы… и «черной» тоже. Ибо все люди — наши враги.
Но ведь именно темную кожу Элайши она любит, не может не любить, потому что Элайшина кожа — это и есть Элайша; точно так же, как его карие глаза, худощавая подвижная фигура, длинные тонкие пальцы на руках и ногах. Она целовала его ладони: такие бледные! Как ее собственная кожа. При этом оба смеялись. Ибо когда любят молодые, они все время смеются.
В этих горячечных воспоминаниях, посещающих ее на тридцать девятом году жизни, Милли остается самой собою, но все же не до конца. Вот она, обнаженная, ложится навзничь на чужую кровать. В этом эротическом помрачении к ней приходит любовник с горячей шоколадной кожей, еще более настойчивый и требовательный, чем когда-то в Мюркирке. Тот был застенчивый, дрожащий, неловкий; этот нетерпелив. Лайша, шепчет она, Лайша, повторяет она умоляюще, но чувствует, как твердые жадные губы впиваются в ее рот, мешая дышать. Все происходит поспешно, отчужденно. Ее руки отчаянно смыкаются у него на спине, лицо утыкается в шею, на сей раз она не имеет права терять его, отказываться от него; она просыпается, ее бьет дрожь, по телу волнами пробегает желание, она рыдает в испуге. Потом долго лежит в изнеможении и никак не может понять, где она — что это за комната, уютная, пахнущая свежими цветами и ее собственными любимыми духами?
«Почему ты делаешь мне больно, Лайша? Ведь ты же знаешь, что я всегда любила и люблю тебя. И если ты „черный“, а я „белая“, какое это к нам имеет отношение? И что нам до отцовского проклятия?»
С тех филадельфийских дней, когда она блистала в качестве прекрасной загадочной дочери Сент-Гоура, Милли следила за принцем Элиху, негром-радикалом, которому уже тогда пророчили не больше года жизни. Отец отказывался говорить с ней о принце Элиху так же, как и о бедняге Терстоне, но Милли и не нуждалась ни в чьих подтверждениях, чтобы знать то, что и так было ясно из фотографий в газетах и журналах, которые она не пропускала. «Так — точь-в-точь — быть похожим на Лайшу нельзя. Так не бывает».
А что там с этим его учением, будто вся белая раса проклята и только цветные будут спасены?
Милли считает, что это остроумный вариант великого проекта отца — Общества по восстановлению наследия Э. Огюста Наполеона Бонапарта и рекламациям. У Лайши это Всемирный союз борьбы за освобождение и улучшение жизни негров, который объединяет более ста тысяч членов и планирует к 1935 году переселить негров в Африку. Не может быть, что это всерьез, наверняка все существует только на бумаге. Отличная Игра, хотя и опасная.
Тем не менее многие, и белые, и черные, судя по всему, воспринимают принца всерьез, одни как спасителя, другие как безумца или предателя родины. Когда-то Миллисент с изумлением прочитала, что принц Элиху добровольно вернулся из Центральной Америки и сдался федеральным властям в Сан-Франциско, готовый ответить на абсурдное обвинение в «подстрекательстве к бунту в военное время»; приговор был суров — двенадцать лет без права досрочного освобождения, на этом настоял Генеральный прокурор Палмер (правда, в конце концов президент Гардинг помиловал Элиху — к ужасу свекра и свекрови Милли Стерлинг, этих застенчивых христиан-расистов, какими были, в сущности, все белые ричмондцы).
Но как это могло случиться? — спрашивает себя Милли. Неужели Лайша не послушался отца и позволил себе уступить соблазну Игры?
Милли уже давно беспокоилась, как бы с Лайшей не случилось чего-либо дурного — чтобы он не получил удара по голове или не заболел какой-нибудь тяжелой болезнью… (Как расстроили ее газетные сообщения о том, что во время трехмесячной поездки по Африке он слег с опасным заболеванием.) Потому что у нее в голове не укладывается, как это Лайша, которого она знала так близко, ближе всех остальных братьев, мог поверить в подобную дикость: будто белые — это падший, больной и обреченный народ; всего лишь засохшая ветвь изначального древа человеческого — негров. Не говоря уж о том, что эта теория сомнительна с научной точки зрения, во всяком случае, ее отвергают авторы таких журналов, как «Атлантик мансли», Милли-то — белая, это факт, а ведь ее Лайша клялся любить вечно. «Как он может считать, что белые ниже черных? В любви мы были равны, ему это хорошо известно».
Дуракаваляние — это словечко сделалось чем-то вроде пароля той красочной эпохи, его то и дело встречаешь в популярных песенках, комиксах, анекдотах. Милли смеется, полагая, что дуракаваляние — всего лишь мода, а Лайша бежит впереди моды. Чем невероятнее ложь, тем легче в нее верят.
«И все равно, — убеждает она себя, — я для него всегда буду желаннее любой негритянки, будь я хоть сто раз белой».
Однако: может ли Милли оставить детей? Да, может, если Лайша будет настаивать. Или: нельзя ли взять их с собой? «Если мы, например, сбежим в Европу? Говорят, он богат, да и у меня есть кое-какие деньги. Дети смогут приезжать к нам… если пожелают. На время». Она расхаживает по верхнему этажу старого уютного дома, разрабатывая планы, репетируя. Что она скажет Уоррену? Что скажет Лайше? Детям?
Да, она поедет в Нью-Йорк. Впрочем, нет: «Смешно! Я бы и на другой конец Ричмонда не поехала, чтобы броситься в ноги какому бы то ни было мужчине».
Но вот однажды утром, дело было в начале лета, лениво перелистывая воскресный выпуск местной газеты, Милли внезапно — точно оно выпало ей в чет-нечет — приняла решение: на второй странице ей бросилась в глаза статья с подзаголовком: «ГАРЛЕМСКИЙ ЛИДЕР ЭЛИХУ ВЫСТУПИТ НА СЛЕТЕ», а на 19-й привлек внимание материал, начинавшийся такими словами: «ЕВАНГЕЛИСТ ИЗ МАЙАМИ СОБИРАЕТ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ НА НУЖДЫ ЦЕРКВИ». Милли читает две эти вроде бы никак не связанные друг с другом статьи подряд, и ее постепенно охватывает все большее волнение. В первой сообщается, что 19 июня 1929 года принц Элиху возглавит Первый ежегодный объединенный слет негров, который состоится на Манхэттене, в «Медисон-сквер-гардене». Во второй — что преподобный Термонд Блихтман, настоятель Новой церкви Назорея в Майами, Флорида, в результате интенсивных поездок по штату, осуществленных в начале года, собрал более миллиона долларов, и что ему было видение свыше точно такой же церкви, которую он должен построить на «святом участке земли» в районе Бискайского бульвара, откуда открывается вид на залив. Автора этого рассчитанного на легкую сенсацию материала более всего интересует быстрый рост известности или, можно сказать, скандальной славы преподобного Блихтмана во Флориде; этот человек определенно обладает незаурядной силой воздействия. Когда он с пафосом произносит свои проповеди, мужчины и женщины начинают рыдать и в стремлении обрести «спасение» бросаются к кафедре проповедника за благословением. Другие священники и настоятели горестно жалуются, что этот «мешочник с Севера» уводит от них прихожан, — «ни стыда, ни совести у него нет», по словам одного проповедника-баптиста. А известный методистский священник обвинил Блихтмана в «искушении людей сатанизмом». Отвечать своим критикам Блихтман отказывался, он лишь молился за них, по его собственным словам; а в промежутках между молитвами собирал деньги на строительство Новой церкви Назорея в Майами, и ему удалось-таки собрать крупную сумму, сколько в точности — никто не знает. Прежде чем прочесть статью, Милли обратила внимание на сопровождающую текст фотографию крепко сбитого белокурого мужчины средних лет, весьма привлекательного, несмотря на уродующий лицо шрам. Он стоял на коленях прямо на земле и, сложив руки на груди, молился. Терстон! — узнала Милли.
Разглядывая нечеткую фотографию через лупу, которой Уоррен пользуется для чтения, Милли не может сдержать дрожи: Термонд Блихтман. Новая церковь Назорея. Мой исчезнувший брат. Возможно ли?
Что-то падает с ажурного металлического столика (май, уже тепло, они завтракают на террасе) и разлетается на куски. Табита бросается подметать.
— Что с тобой, дорогая, чего это ты так разнервничалась? — в своей обычной, полуучастливой-полураздраженной, манере спрашивает Уоррен; Милли отбрасывает газету, зевает, потягивается и объявляет, что вовсе она не разнервничалась:
— Просто скучно! Ричмонд такой… маленький.
Это преподобный Термонд Блихтман помог Милли принять решение. Равняясь на старшего брата, она отважно пойдет навстречу своей судьбе.
Милли с такой тоской говорит, как соскучилась по брату. Дэриану и сестре Эстер, как хочет съездить к ним в штат Нью-Йорк, что Уоррену невольно кажется, будто он сам уговаривает ее сесть на поезд и отправиться на север — «встряхнуться». Сначала Милли поедет в Скенектади повидаться с Дэрианом, потом переберется на запад, в Порт-Орискани, где Эстер принимает участие в движении, которое ричмондцы, конечно же, назвали бы «безнравственным»: медицинские сестры, социальные работники, добровольцы (почти исключительно женщины) пропагандируют только что созданную организацию, Американскую лигу по контролю за рождаемостью. (Преуспевающая ричмондская матрона, Милли находит это название таким грубым и неприличным, что не осмелилась бы произнести его в присутствии посторонних. Контроль за рождаемостью! «Хотя, не спорю, для людей низшего сословия это вещь полезная. И все же, подумайте только, сколько невинных младенцев останутся нерожденными!»)
На ричмондском вокзале Милли целует на прощание любящего мужа и детей и обещает отсутствовать не более двух недель.
— Я уже скучаю по вам, дорогие мои, — слышит она собственный звонкий голос, и в глазах ее светятся радость, кураж и что-то вроде страха; поднимаясь в вагон и весело махая рукой мужу и детям, стоящим от нее всего в нескольких ярдах, она уже погрузилась в хаос, возврата из которого нет.
По мере того как поезд неотвратимо стремится на Запад, в ее сознании мелькает: наверное, наверняка он чувствует мое приближение. Мое появление. Мое возвращение в его жизнь.
В Нью-Йорке Миллисент Стерлинг сразу же направляется в «Уолдорф-Асторию», единственную известную ей гостиницу, где они с Уорреном останавливались прежде, а на следующий вечер ловит такси и направляется в «Медисон-сквер-гарден» на слет — точнее, добраться удается лишь в окрестности парка, так как на улицах такое движение, столько машин, пешеходов и конной полиции, орущей на толпу, что водитель вынужден остановиться в двух кварталах от указанного места: «Дальше не проедешь, мэм». В зеркале заднего вида Милли замечает, как он хмурится и качает головой: не может, наверное, понять, что мне, белой женщине, здесь понадобилось, она улыбается. И что это у меня за персональное приглашение на подобное действо.
Как пишут газеты, слет 19 июня 1929 года станет «историческим» событием. Никогда еще столько негров не собиралось по такому поводу в самом сердце белого мегаполиса; только принц Элиху, лидер Всемирного союза борьбы за освобождение и улучшение жизни негров; мог привлечь такое внимание. Милли весьма умно, как ей кажется, подобрала костюм для сегодняшнего представления: чтобы скрыть, по возможности, цвет кожи, она надела модную тунику сизо-серого цвета, с длинными рукавами и высоким кружевным воротником; под цвет ей — чулки из чистого шелка; далее — белые сетчатые перчатки, шляпку с невысокой тульей в испанском стиле из блестящей черной соломки, изготовленную на заказ лучшей ричмондской мастерицей, с черной вуалью из кисеи с горошинами — «и стильно, миссис Стерлинг, и очень сексуально», отметила шляпница. И вот она, миссис Стерлинг, пешком — редко ей доводится совершать пешие прогулки в подобных местах — идет по широким городским улицам и авеню в чуждой, враждебной атмосфере, задыхаясь от волнения, как юная девица, пустившаяся в авантюру тайком от старших; ее подхватывает ревущая толпа, со всех сторон черные лица, вплывающие через множество ворот в «Медисон-сквер-гарден». Горделиво колышется полотнище: «Первый ежегодный слет черных сообществ». Повсюду виднеются большие плакаты с изображением принца Элиху, моложавого умного красивого негра с пламенным взором, в белом «кафтане» и шлеме со страусовым пером — забавное, но с умом подобранное одеяние, отмечает Милли; стиснутые челюсти, благородный и в то же время жестокий вид. «Да, это — Лайша». Милли узнала бы своего возлюбленного где угодно, а он — ее, даже под маской.
С трудом поднимаясь по ступеням, стиснутая возбужденной толпой, Милли слышит чей-то возглас:
— Мэм? Мэм! — Она неловко оборачивается и в десяти футах от тротуара видит полицейского в каске, белого, глаз не видно за темным козырьком; она делает вид, что не слышит, и продолжает двигаться вперед.
Внутри помещения гораздо жарче и душнее, чем на улице; здесь слишком много народу; слишком много; чуткие ноздри Милли начинают улавливать разные запахи; похоже, в глубине души она рассчитывала, что перед ней, миссис Уоррен Стерлинг из Ричмонда, штат Виргиния, белой женщиной, знакомой принца Элиху, толпа будет расступаться, и хоть, понятно, ожидать этого глупо, ее тем не менее немного смущает ощущение… собственной анонимности, даже несмотря на белизну кожи.
В фойе выстроились длинные очереди к кассам, ибо многие, как и Милли, не озаботились приобретением билетов заранее; огромное, с высокими потолками помещение дрожит от гула, создаваемого эхом тысяч голосов; всеобщее возбуждение, атмосфера напряженного ожидания; тут и там видны пикеты — кто это? Враги союза? Кто-то грубо сует в руку Милли листовки, Милли слишком хорошо воспитана, чтобы отказаться. «Лига всех народов протестует против черного сионизма», «Манифест Национальной ассоциации цветных», «Черные социалисты всех стран, соединяйтесь!», «Почему Иисус Христос принял смерть за тебя?», «Принц Элиху — предатель своего народа и родины». Разговоры ведутся на повышенных тонах, там и сям возникают споры, стычки, потасовки; временами наступают мгновения жутковатой тишины, когда все вокруг застывают в ожидании того, что произойдет в следующий момент; негры-гиганты в форме с символикой союза, с темными пятнами пота под мышками быстро и ловко выдворяют из зала пикетчиков, проводя, или, скорее, протаскивая, их сквозь встречный поток людей.
Красивая дорогая испанская шляпка Милли сбилась набок, вуаль, повлажневшая от дыхания, прилипла к лицу. Нашарив эбеновые шляпные булавки, Милли поправляет шляпку; ей кажется, что на нее устремлены взоры, скорее любопытные, чем удивленные или неодобрительные. Белая женщина, белая дама — здесь? Милли чувствует себя так, будто попала на иностранную территорию, не пересекая границ Соединенных Штатов; может, нужно было все это сделать как-то иначе… например, без всяких сюрпризов послать телеграмму Лайше, известив о своем приезде заранее?
Билет стоит один доллар. Милли дрожащими руками достает деньги, сетчатые перчатки где-то уже запачкались.
Внутри огромного зала атмосфера, однако, спокойнее. Серьезные юноши и девушки в брюках цвета морской волны и белых рубашках исполняют обязанности капельдинеров: они раздают брошюры, озаглавленные «Всемирный союз борьбы за освобождение и улучшение жизни негров: спасение здесь и сейчас» с красочным изображением принца Элиху на обложке. Где-то, скрытый от взглядов, громко играет бодрые военные марши духовой оркестр (один из них, издавна любимый Лайшей, Милли узнает: «Трам! Трам! Трам!»). Милли проводят на ее место, далеко от сцены, сиденье жесткое, без подушки, ничего общего с креслами в Ричмондском оперном театре; она рассчитывала, что, придя пораньше, сможет занять место в середине первого ряда, чтобы, когда она снимет вуаль, Элайша заметил ее; но пришла явно слишком поздно.
«Лайша стал магистром Игры», — думает Милли, тревожно озираясь. Сколько же здесь мужчин, женщин, детей, и какие все они разные: иные одеты по-воскресному, в пестрые костюмы, соломенные шляпы с модно загнутыми полями, лакированные туфли, жилеты, галстуки, женщины — в шляпках, украшенных цветами, и длинных перчатках; другие — таких большинство — в обычной, хоть и чистой рабочей одежде, такой же, какую носят надежные, преданные негры из челяди Стерлингов; третьи — в очень бедной одежде, явно собранной с миру по нитке. Там и здесь взор Милли невольно натыкается на людей, безусловно, ненормальных; одна такая тучная женщина сидит совсем недалеко от нее, яростно обмахиваясь брошюрой и напевая что-то похожее на «Фонтан, заполненный кровью» — церковный гимн, который нередко напевает в кухне Табита. В толпе мелькают белые лица, но, присмотревшись, Милли видит, что это цветные, у которых просто более светлая кожа, иногда почти кремовая, волосы у них либо каштановые, либо рыжие; в светлых лицах угадываются негроидные черты; призрачное смешение рас, кажущееся ей прекрасным, захватывающим.
Будь у нас, у Лайши и у меня, ребенок, вот так он и выглядел бы.
Может быть, еще и не поздно? Милли нет и сорока, а ведь рожают и далеко за сорок. К тому же выглядит она очень молодо, в сущности, она и есть молодая, почти совсем не изменившаяся с тех пор, когда двадцать лет назад они с Лайшей стали любовниками.
Начало намечено на 8.00 вечера, но военный оркестр играет до 8.20, когда на трибуне появляется первый оратор — госсекретарь союза. За ним — пылкий министр финансов, далее — негр, которого представляют вице-регентом, и, наконец, сам принц Элиху: величественный, он выходит на сцену в свете софитов, на нем белый костюм, расшитый золотыми галунами, шлем со страусовым пером, на боку сабля, усыпанная драгоценными камнями. Он победно вскидывает одну руку, другую вытягивает в сторону беснующейся толпы, этот жест Милли что-то смутно напоминает: Будда, сулящий людям мир? любовь? сострадание? — простертая вперед рука ладонью вверх. Как он наэлектризован, заряжен энергией, словно дикий зверь!
Милли жадно вглядывается. Она сняла шляпку — пусть все видят, что она белая, — но никто не обращает на нее внимания, все взоры прикованы к принцу Элиху, Милли тоже не может отвести глаз и шепчет пересохшими губами: Неужели этот яростный горделивый разгневанный негр — мой Лайша?
Милли слишком потрясена, чтобы даже пошевелиться, в то время как люди вокруг нее вскакивают с мест и восторженно приветствуют своего кумира; она тоже неловко пытается подняться, но тут же опускается обратно на кресло, продолжая вглядываться жадно и отчаянно в величественную фигуру на сцене. Принц Элиху? Лайша? Кожа у принца намного темнее, чем ей запомнилось; нижняя челюсть тяжелее, брови сведены суровее; волосы образуют вокруг головы красивый темный ореол; он выше, плотнее, хотя тело у него гибкое, как у змеи, и по нему, подобно языкам пламени, пробегают волны энергии. Так напряжен! Так разгневан! Почему этот мужчина, которого любят тысячи и тысячи людей, ярится? Почему не приветит их улыбкой вместо того, чтобы стоять вот так, широко расставив ноги в грубых ботинках, подняв красивое лицо, вскинув над головой сжатые кулаки и с едва сдерживаемым нетерпением ожидая, когда же наконец утихнет восторженная овация.
И все же это он, Элайша; но одновременно и разъяренный, неистовый негр, в котором Элайша растворился. Глаза слепит его белоснежное одеяние. Но Милли вместе со всеми рукоплещет, подняв руки в перчатках, чтобы принц Элиху заметил ее; рукоплещет до тех пор, пока ладони не начинают гореть.
Проходят минуты, и гром аплодисментов постепенно стихает. Принц Элиху начинает говорить, голос, окрашенный театральными модуляциями, поднимается, становится все тверже — или так только кажется? — потом начинает дрожать от переполняющих принца чувств; он будет говорить полтора часа подряд, в этой наэлектризованной атмосфере, в зале, где смешались запахи волос, плоти, пропотевшей одежды и необузданной, животной страсти. Любовь негров к Америке осталась неразделенной, братья и сестры, речитативом выпевает Элиху. Любовь негров к Америке осталась безответной. Поначалу Милли не может разобрать слов, она воспринимает лишь распирающую этого человека ярость, и ее постепенно охватывает чувство беспомощности, даже паника, в то время как все вокруг что-то шепчут себе под нос в экстазе, стонут, рыдают, раскачиваются в знак согласия с этими речами, которые скорее всего слышат не впервой, но которые совершенно чужды Милли.
Что являет собою трагическая история Америки? — вопрошает принц Элиху, стоя неподвижно, как соляной столп, в скрещении ослепительных лучей софитов, что такое трагическая история Америки, как не история НАРУШЕННЫХ ОБЕЩАНИЙ. БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ.
Порабощения ТЕЛА И ДУХА.
Продолжающегося порабощения, питаемого ИЛЛЮЗИЕЙ СВОБОДЫ.
Негритянские женщины, которых дьяволы-каннибалы ни в грош не ставят, эти женщины — ВСЕГО ЛИШЬ НЕСЧАСТНЫЕ ЖЕРТВЫ ИХ ПОХОТИ; а негры-мужчины — ЖЕРТВЫ НЕНАВИСТИ БЕЛЫХ К САМИМ СЕБЕ.
Но теперь, говорит вам принц Элиху, ПОРА СБРОСИТЬ МАСКИ.
Во весь голос сказать то, О ЧЕМ РАНЬШЕ ТОЛЬКО ШЕПТАЛИСЬ.
И горе тем, У КОГО НЕДОСТАНЕТ МУЖЕСТВА.
И горе, горе НАШИМ ВРАГАМ.
Ибо тот, кто боится и отступает, ПРЕДАЕТ СВОЮ РАСУ. И СВЯТУЮ ГУСТУЮ АФРИКАНСКУЮ КРОВЬ, ЧТО ТЕЧЕТ В ЕГО ЖИЛАХ.
Ибо тот, кто отказывается признать родство со всеми темнокожими и для кого не все белые — чужаки, ПРЕДАЕТ СВОЮ РАСУ. И СВЯТУЮ ГУСТУЮ АФРИКАНСКУЮ КРОВЬ, ЧТО ТЕЧЕТ В ЕГО ЖИЛАХ.
Тот, кто не дает выхода всем силам своей души и живет в жалком поклонении фальшивым богам белых, ИИСУСУ ХРИСТУ И МАММОНЕ, не заслуживает прощения; и никогда ему не найдется места в ВОЗРОЖДЕННОЙ АФРИКЕ.
Того, кто, отрицая МУДРОСТЬ ПЛОТИ, стремится к ОТБЕЛИВАНИЮ ДУШИ, ждет трагический конец.
Ибо, братья мои и сестры, существует бесчисленное множество способов расправы… Человека предают СУДУ ЛИНЧА… КАСТРИРУЮТ… ПОБИВАЮТ КАМНЯМИ… СЖИГАЮТ ЗАЖИВО… ЗАБИВАЮТ ДО СМЕРТИ… ЗАЛИВАЮТ СМОЛОЙ… ВЕШАЮТ… СМЕРТЬ… Бесчисленные способы УМЕРЩВЛЕНИЯ, братья мои и сестры, бесчисленные.
В марте 1926 года куклуксклановцы из Боумена, Джорджия, под улюлюканье толпы швырнули в камнедробилку Дейла Скоггинса; И ЭТО, О БРАТЬЯ МОИ И СЕСТРЫ, ДАЛЕКО НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ПРИХОДИТСЯ ПРЕТЕРПЕВАТЬ НАШЕМУ НАРОДУ. ВЫ ПОНИМАЕТЕ МЕНЯ? ПОНИМАЕТЕ? ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ГОВОРИТ ВАМ ПРИНЦ ЭЛИХУ?
История движется к своему огненному разрешению; не сегодня-завтра начнется Вторая война между дьяволами-каннибалами в Европе и, весьма вероятно, в Америке; тогда долгому царствованию ТЛЕНА И ЗЛА ПРИДЕТ КОНЕЦ.
На сей раз под ружье не встанет ни один черный: НАС НЕ ОБМАНЕТ ЛОЖЬ, БУДТО МИР НАДО СПАСТИ РАДИ ДЕМОКРАТИИ. Мы же видим, о братья мои и сестры, с 1919 года видим, что ДЕМОКРАТИЯ — ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ БЕЛЫХ, ВЛАСТЬ БЕЛЫХ, НАСИЛИЕ И НЕНАВИСТЬ БЕЛЫХ КО ВСЕМ ТЕМНОКОЖИМ. Начиная с 1919 года в течение десяти лет после того, как солдат-негр вернулся домой с европейской войны, его подвергают все большим и большим унижениям. Это десятилетие КРОВАВОЙ ВЕНДЕТТЫ ПРОТИВ САМОГО НАШЕГО ПАТРИОТИЗМА. Десятилетие ПОПРАНИЯ НАШЕЙ ЧЕСТИ. Десятилетие ПОЗОРА, о братья мои и сестры! ПОЗОР, ЧТО НАМ НЕ ХВАТАЕТ МУЖЕСТВА ПОДНЯТЬСЯ С КОЛЕН И НАКАЗАТЬ УБИЙЦ. Летом 1919 года в Сент-Луисе толпа линчевала сорок негров… и ничего, справедливость не восторжествовала. В Спрингфилде, Иллинойс, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, Сиэтле и Филадельфии… повсюду ку-клукс-клан… повсюду безнаказанно действуют белые линчеватели… ОНИ ИЗБИВАЮТ НАС, НАСИЛУЮТ, ПРЕДАЮТ СМЕРТИ. В Техасе повесили ДЕВЯТЬ НЕГРОВ — ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ — ЖЕНУ ОДНОГО ИЗ НИХ. В графстве Мейкон, штат Джорджия, ИЗ ЧРЕВА НЕГРИТЯНКИ ЛЮДИ В БЕЛЫХ БАЛАХОНАХ ВЫРВАЛИ ПЛОД И ЗАТОПТАЛИ НОГАМИ. Правосудие промолчало. В парках Луизианы, Алабамы, Миссисипи, Северной Флориды… в общественных местах… на площадях… прямо перед зданиями судов… НЕГРОВ СЖИГАЮТ ЗАЖИВО НА ПОТЕХУ БЕЛЫМ: ПУБЛИЧНЫЕ КАЗНИ… ДУБИНКИ… СМОЛА и ПЕРЬЯ… КАСТРАЦИЯ… КРОВЬ… УНИЖЕНИЕ… Правосудие молчит. И будет молчать. Мы сами, о братья и сестры мои, мы сами должны подняться против клана и против его многочисленных почитателей.
Ибо клан, а сейчас в нем пять миллионов членов, это Америка: АМЕРИКА В БАЛАХОНЕ, ИСТИННАЯ В СВОЕЙ БЕЗЫМЯННОСТИ АМЕРИКА.
Ибо клан лишь откровенно являет миру правду, которую БЕЗ ТРУДА ВИДЯТ ВСЕ НЕГРЫ, в то время как белые дьяволы-каннибалы без балахонов лгут, и НА ЭТУ ЛОЖЬ НЕГРЫ ЛЕГКО ПОПАДАЮТСЯ.
В Западной Виргинии… в обеих Каролинах… в Огайо (похваляющемся тем, что у них более четырехсот тысяч куклуксклановцев)… в штате Нью-Йорк и Нью-Джерси… в Делавэре и Мэриленде… в Иллинойсе, Мичигане, Индиане, Теннесси, Кентукки и Арканзасе… клан все выше поднимает голову… Вот она, АМЕРИКА В БАЛАХОНЕ, ИСТИННАЯ В СВОЕЙ БЕЗЫМЯННОСТИ. Пять миллионов клановцев, о братья мои и сестры, но ведь за ними жены, дети, семьи, земляки, и ВСЕ ОНИ ВСТАЮТ НА ПОДДЕРЖКУ КЛАНА И ВМЕСТЕ С НИМ ИДУТ СТЕНОЙ НА НЕГРА. Пять миллионов клановцев, о братья мои и сестры, а за принцем Элиху, ПРОПОВЕДУЮЩИМ СПАСЕНИЕ РАСЫ И ВОЗРОЖДЕНИЕ АФРИКИ, и миллиона не наберется. В Бомонте, штат Техас, где меньше пяти месяцев назад двадцатидвухлетнего негра по имени Вилли Шелтон обмотали колючей проволокой, привязали к бамперу машины и тащили по улицам, пока он не скончался в страшных муках, МЭР — ЧЛЕН КЛАНА… ОКРУЖНОЙ ПРОКУРОР — ЧЛЕН КЛАНА… НАСТОЯТЕЛЬ ЕПИСКОПАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ… и еще ТЫСЯЧИ ЧЛЕНОВ КЛАНА во всех слоях общества… а правосудие молчит: и БУДЕТ МОЛЧАТЬ. Разве сказало оно хоть слово, когда под восторженные вопли, к звериной радости сотни белых мужчин и скольких-то там женщин в Боумене, Джорджия, в марте 1926 года дробили кости несчастному Дейлу Скоггинсу? И что дальше? В Джорджии ЧЛЕНАМИ КЛАНА ЯВЛЯЮТСЯ ГУБЕРНАТОР… ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР… ЧЛЕНЫ ВЕРХОВНОГО СУДА… ОКРУЖНОЙ ПРОКУРОР… ШЕРИФ… И у всех у них одна цель — УНИЧТОЖИТЬ НЕГРА.
А принц Элиху предан делу СПАСЕНИЯ НЕГРОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ АФРИКИ.
А принц Элиху повторяет во всеуслышание, что ИСТИНУ НЕ ОПРОВЕРГНЕШЬ: ЛЮБОВЬ НЕГРОВ К АМЕРИКЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗОТВЕТНОЙ.
Ибо для темнокожих американской демократии НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.
А те негры, что думают иначе, или верят в то, что все изменится, — ЖЕРТВЫ САМООБМАНА.
Ибо коммунисты, социалисты и иже с ними, все те, кто проповедует единение рас в классовой борьбе и утверждает, будто ТОТ САМЫЙ РАБОЧИЙ, ЧТО ВХОДИТ В КУ-КЛУКС-КЛАН, КОГДА-НИБУДЬ БУДЕТ ТВОИМ БРАТОМ, — лгут; и христиане, проповедующие любовь, милосердие, искупление грехов, прощение врагов и воздаяние, уверяющие, что ХРИСТИАНСТВО — ЭТО ВЕРА ЧЕРНЫХ, сознательно обманывают вас. ЭТО НЕ ТАК, ЭТО ЛОВУШКА, ИЛЛЮЗИЯ, ЭТО ВЕРХ ЦИНИЗМА.
Подумайте только, в этой христианской стране за десять лет, прошедших после войны, правительство постоянно отступало от своих обещаний в отношении приема негров на государственные должности, в школы и так далее. И делалось это ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ РАСИСТА ВУДРО ВИЛЬСОНА. А ведь сколько раз он и другие демократы сулили реформы и равенство в правах, ЕСЛИ НЕГР ВЫСТУПИТ В ПОДДЕРЖКУ ВОЙНЫ И ПОЙДЕТ В АРМИЮ (ПРИЧЕМ В ТЕ ЧАСТИ, КУДА ТОЛЬКО НЕГРОВ И ЗАЧИСЛЯЮТ). Нет, любовь негра к Америке безответна. Все белые были и остаются нашими врагами. ДЛЯ НАС АМЕРИКИ НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО.
Подумайте только: конгресс отклоняет закон против судов Линча; конгресс отклоняет законодательство по гражданским правам; конгресс отклоняет ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЗЕМЛЕ, представленный единственной организацией, которая может гордиться тем, что она ЧЕРНАЯ НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ и НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ ПРЕДАНА ДЕЛУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧЕРНОЙ ЧЕСТИ.
А клан? Ведь за последнее десятилетие он только вырос.
И только сильнее стало, о братья мои и сестры, СТРЕМЛЕНИЕ ДЬЯВОЛА-КАННИБАЛА УНИЧТОЖИТЬ НАС.
Пять миллионов членов ку-клукс-клана и еще 10 или 15 миллионов куклуксклановцев в душе. Пять миллионов, десять, пятнадцать миллионов, сколько их всего в ЦАРСТВЕ ПРОКЛЯТЫХ? Одиннадцать губернаторов штатов — члены клана… еще больше сенаторов… не счесть конгрессменов, почти от всех округов… мэров… шерифов, полисменов, государственных служащих… адвокатов… бизнесменов-миллионеров… служителей так называемой христианской веры… учителей… рабочих… ПРИМЕРНЫЕ ЧЛЕНЫ КЛАНА ПОКЛЯЛИСЬ УНИЧТОЖИТЬ НАС.
И потому, о братья мои и сестры, в этот исторический день, 19 июня 1929 года, по случаю этого великого события — ПЕРВОГО ВСЕОБЩЕГО ЕЖЕГОДНОГО СЛЕТА НЕГРИТЯНСКИХ ОБЩИН, организованного ВСЕМИРНЫМ СОЮЗОМ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ НЕГРОВ, — я, принц Элиху, заявляю, что мы должны объединиться… ЧТО НЕГРИТЯНСКИЙ НАРОД БУДЕТ СПАСЕН; АФРИКА ВОЗРОЖДЕНА; КОЛОНИАЛЬНАЯ ДЕСПОТИЯ СВЕРГНУТА; БЕЛЫЙ ДЬЯВОЛ-КАННИБАЛ ПОБЕЖДЕН.
ВСЕМ, ЧЕМ МЫ БЫЛИ, МЫ СТАНЕМ ВНОВЬ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ.
НАША ИСТОРИЯ — ИСТОРИЯ ЧЕСТИ.
ЭТО ГОВОРЮ ВАМ Я, О БРАТЬЯ МОИ И СЕСТРЫ, НАША ИСТОРИЯ — ИСТОРИЯ ЧЕСТИ.
Так заканчивается 19 июня 1929 года Первый всеобщий ежегодный слет негритянских общин, которому суждено стать и последним; под конец его, к одиннадцати вечера, Миллисент Стерлинг настолько измучена и обессилена, что не может заставить себя подняться, она плачет, уже долго беззвучно плачет, модная шелковая туника спереди намокла от слез, черная соломенная шляпка валяется на полу — то ли сама упала, то ли кто-то стряхнул; как много лет назад, когда в муках производила на свет детей, она сдалась, страшный шум в ушах, кровь распирает жилы, она сдалась перед лицом беды, позора, страданий любви, ее сердце разбито, о Господи, какая же невыносимая боль в сердце, а впереди ее ждет тоска, старение, наконец, старость и смерть; она едва отдает себе отчет в том, что происходит вокруг, не замечает даже, как уходит со сцены принц Элиху, лоснящийся от пота, словно умащенный благовониями черный идол, как гаснут софиты, как зажигается свет в зале, она не замечает, что вокруг нее хлопочут несколько опрятно одетых юных капельдинеров, ибо к этому времени «Медисон-сквер-гарден» опустел, а Милли остается на месте — согбенная фигура — Что с вами, мэм? Почему вы плачете, мэм? Помочь вам, мэм? — но в своей серо-сизой шелковой тунике и таких же чулках, в белых сетчатых перчатках, со своей белой, такой белой, что гордиться впору, кожей, в своем позоре, безумии, страхе, от которого ей до конца жизни не избавиться, она их не слышит.
В Старом Мюркирке
Я побежден? Нет.
От меня исходит запах тлена? Нет.
Впереди меня ждут новые победы? Да. Да.
В марте 1932 года, под безумное завывание ветра, умерла Катрина. О, если бы только Абрахам Лихт мог обвинить в ее смерти злополучный крах Нью-Йоркской фондовой биржи в октябре 1929 года!
Катрина умерла и похоронена на сельском кладбище, но Абрахама Лихта, стареющего (однако еще не старого) джентльмена — редкие желтовато-белые вьющиеся волосы растут теперь лишь за ушами, оставляя заметную проплешину на макушке, взгляд настороженно-подозрительный, губы кривятся в усмешке, — Абрахама Лихта не проведешь. Он знает, что от этой старухи дом не избавится никогда.
— Слышишь, Катрина опять меня ругает, — говорит, склоняя набок голову, Абрахам, а ветер, или ветры, свистит в дымоходе, как стая летучих мышей, проносящихся над головой, срывает карнизы. Абрахам возмущенно трясет головой. — Катрина, дорогая, оставь же нас наконец в покое! Нам ведь жить надо, пойми ты это.
Всерьез ли говорит Абрахам, шутит ли, поймешь не всегда; вот, как сейчас; Розамунда останавливает на муже любящий, обеспокоенный взгляд; и маленькая Мелани, играющая на полу с тряпичной рысью, которую сшила ей Катрина, тоже растерянно моргает и с улыбкой глядит на отца. Появившийся на кухне Дэриан чувствует, что вступает в спектакль, который уже дышит на ладан, а он не знает текста, не понимает, чего от него ждут. Вот он, прислушиваясь к завыванию ветра, который дует в Мюркирке всегда, и видя выражение отцовского лица, одновременно притворно-угрюмое и искренне озабоченное, догадывается, что речь опять идет о Катрине или по крайней мере о чем-то, с ней связанном.
— Слышишь, Дэриан, — Абрахам поднимает палец. — Старуха ругается. Смеется. Над нами. Надо мной.
Расстались они не лучшим образом. Катрина не одобрила женитьбу Абрахама «на девушке моложе Милли», не одобрила она, разумеется, и рождение «дочери, которой следовало бы быть внучкой», и более всего она не одобрила последнее банкротство Абрахама Лихта, хотя он десятки раз объяснял ей, что это вина не его, а кучки богатых биржевиков.
Как и Розамунда, Дэриан решает, что шутка насчет Катрины — это всего лишь шутка. Иногда это действительно завывание ветра, иногда клекот ястреба, иногда уханье совы или голос какого-нибудь существа на болоте, иногда что-то вроде детского плача, а иногда и впрямь слышится сварливый голос Катрины, но сейчас это определенно ветер — разве не так? К тому же он стихает.
— Она сейчас прячется там, на болоте, — задумчиво говорит Абрахам. — Но никогда нам от нее не избавиться — никогда.
Апрель 1932 года. Холодный ветреный вечер. Дэриан осваивает «резонансное пианино» — инструмент собственного изобретения. Он сидит в своей студии — комнате с высокими потолками в дальнем приделе старой церкви Назорея — и слышит позади себя легкие шаги; не детские, ибо Мелани всегда вихрем влетает в студию «дяди Дэриана», хотя сколько уж раз ее за это ругали; и, разумеется, не шаги Абрахама Лихта — тот давно взял за правило чопорно стучаться дверь, насмешливо признавая тем самым, что, хоть он и глава семьи, хозяин дома, в этом причудливом гнезде своего эксцентричного сына-композитора он скорее всего нежеланный гость.
Не Мелани и не Абрахам. Дэриан спокойно поворачивается:
— А, это вы, привет.
Дэриан говорит невозмутимо. Со спокойной улыбкой. Между тем его трясет так, что он берет неверную ноту в замысловатом пассаже; к счастью, композиция, которую он сочиняет для «резонансного пианино», — не того рода музыка, где легко понять, правильно сыграл или сфальшивил, так что он вроде бы непринужденно поднимает взгляд на жену отца и улыбается. Хотя за восемнадцать месяцев и три с половиной недели, что он живет здесь, Розамунда впервые (как поспешно соображает Дэриан) появляется в студии одна и без приглашения.
Удивительно, что и сейчас, когда Катрина умерла и в доме стало более или менее пусто, Дэриан и Розамунда редко остаются наедине. А встречаясь, почти не разговаривают.
Отражение женщины колышется в мутноватом зеркале, укрепленном напротив скамьи, которую Дэриан притащил в студию; не поднимаясь из-за пианино, он спокойно наблюдает за ней. Розамунда встает к нему лицом, теперь в зеркале виден ее профиль. Дэриан снова кладет пальцы на клавиши, звучит плавная, нежная мелодия, отнюдь не дисгармоничная, как прежде, Дэриан касается клавиш мягко, словно трогает струны арфы; вибрация струн — это музыка; немного сбивчивая, небрежная игра Дэриана — это часть композиции… инструмент, сама музыка. Не забыть: здесь музыку можно оборвать. Атмосфера тихого удивления. Некоторое время Розамунда стоит неподвижно, слушает. Интересно, что она слышит, думает Дэриан, Он-то знает, что слышит, но что слышат другие? Такими вопросами задаются все композиторы.
Жена отца. Городская женщина, женщина, рожденная для шикарной жизни, и при этом, как успел убедиться Дэриан, совсем не простая, понять ее не так-то легко. Теперь она сельская жительница, женщина из Мюркирка, мать трехлетней девочки, ее пепельные волосы свободно падают на плечи, иногда она перехватывает их лентой; Розамунда носит широкие мужские брюки, просторные, не по размеру свитера, а также некогда белые и накрахмаленные рубашки Абрахама Лихта из чистого хлопка, которые висят на ней, как свободное платье для беременных. Кстати, после беременности она ходит, твердо ступая с пятки на носок, словно опасаясь, что, при ее хрупком сложении, слишком большой живот не позволит удержать равновесие; есть в ее облике и поведении что-то мальчишеское, легкомысленное, она часто загадочно улыбается, хотя бывает, как вот, например, сейчас, на удивление серьезна, даже торжественна. Розамунда пришла прямо из кухни, где пекла на старинной плите Катрин ароматный хлеб, дом наполнен теплым вкусным запахом, а уже не чистый фартук Розамунды весь в муке.
— Это вы? — негромко повторяет Дэриан, и Розамунда, загадочно улыбаясь, отвечает:
— Мне показалось, что вы меня звали.
Струны «резонансного пианино» перестают вибрировать, два человека в напряженной тишине спокойно разглядывают друг друга.
В отличие от умирания всякое поражение, записывает в дневнике Абрахам Лихт, дело временное.
Его дневник, его пространные воспоминания. Бухгалтерская книга, страницы которой покрыты какими-то иероглифами и кое-где проложены чистыми листами бумаги. Стоит жертве обнаружить своих врагов, как она перестает быть жертвой. Ибо финальный акт — это месть.
Да, Абрахам Лихт «удалился в деревню», но он не удалился от дел. В свои семьдесят два года он испытывает такой прилив бодрости и энергии, какого не испытывал никогда прежде; голова его полнится новыми планами, замыслами дерзких авантюр.
«Как только верну хоть часть того, что потерял, начну сначала».
Абрахаму нужна лишь малая толика потерянного, но нужна непременно. Всего лишь одна двухтысячная от потерянных миллионов даст ему больше 12 000 долларов, а этого достаточно, чтобы купить долю в винокурне Пэ-де-Сабль (там якобы производят «яблочный сидр», но это всего лишь официальная вывеска) или вложить деньги в ранчо Мэнитоуик, где разводят чистопородных рысаков, или купить лабораторное оборудование, которое позволит ему самостоятельно производить «Формулу Либкнехта»: учитывая, с одной стороны, превосходные успокаивающие свойства эликсира, а с другой — тревогу и отчаяние, в которые погрузилась вся страна, от «Формулы» можно ожидать большой финансовой отдачи. Если удастся наладить производство эликсира в достаточных количествах, развернуть рекламу, устроить распространение, организовать рынок… одним словом, он снова станет миллионером, даже мультимиллионером! Естественно, небольшая фармацевтическая компания в Истоне, Пенсильвания, вскоре после 29 октября 1929 года обанкротилась, не выплатив Абахаму Лихту долга, составлявшего более 75 000 долларов.
«Если бы у меня были сейчас эти семьдесят пять тысяч… я бы, как Архимед со своей точкой опоры, горы свернул!»
Все эти весенние неотвратимо увеличивающиеся дни он размышляет над новыми деловыми инициативами… пусть это будет какая-нибудь законная разновидность Игры; законная — в смысле легальная. Ибо после женитьбы на Розамунде, которую он любит больше жизни, и после рождения маленькой красавицы Мелани Абрахам и помыслить не может о тюрьме, даже о судебном процессе (а ведь как близко оказался он от того и другого в 1928-м, перед самой свадьбой, когда Генеральный прокурор штата Нью-Йорк затеял проверку клиники «Паррис», а этот дурак Бис отказался заплатить приличный «штраф»). На сей раз, как он попытался однажды растолковать Розамунде, когда они уже легли в постель (непонятно почему, но Абрахам предпочитает говорить с Розамундой о таких вещах под мирным покровом ночи, когда проницательной жене не видно его лица), речь идет не о производстве «продукта», но об идее продукта; текучем, сверкающем, несокрушимом образе продукта, предназначенного для продажи бизнесменам или политикам в их личных нуждах, а потом уж те, через газеты и радио, доведут информацию о нем до широкого американского потребителя, и тот приобретет, или, точнее, проголосует не за продукт, а за идею.
— Почему бы систематически, на научной основе не материализовывать те своеобразные понятия, которые сидят у дураков в головах? Зачем допускать случайность или частичную бесконтрольность существования таких понятий? — разглагольствовал Абрахам. Розамунда пожаловалась, что не вполне понимает, и попросила, если нетрудно, высказаться яснее. Абрахам растолковал, что в общем виде замысел пришел ему в голову во время вашингтонской службы в качестве федерального агента, когда все шушукались, будто Уоррен Гардинг стал президентом Соединенных Штатов лишь благодаря тому, что по забавному (или злополучному) стечению обстоятельств у него оказалась внешность «римского сенатора», хотя американский избиратель даже смутного представления не имеет о том, как выглядел римский сенатор.
— В общем, суть состоит в том, что общественным мнением можно манипулировать как угодно, — сказал Абрахам Лихт, — при условии, конечно, что хватает денег на то, чтобы разместить рекламу в нужных местах.
Розамунда засмеялась, а может, просто вздохнула.
— Но какая же радость от всего этого? Как можно гордиться созданием чего-то «нереального» и тем, что при помощи фантома зарабатываешь деньги или делаешь политическую карьеру…
Абрахам нетерпеливо перебил ее — Розамунда женщина умная, но порой ей недостает сообразительности.
— Гордиться, дорогая, — сказал он, — следует технологией.
Пока дышишь, записывает Абрахам, последний удар еще впереди.
Для своих мемуаров он составляет список врагов: людей, которых — настанет день — он открыто и смело обвинит в организации так называемого Краха 1929 года, когда превратились в песок миллиарды денег вкладчиков. Он, Абрахам Лихт, соберет на них досье и обратится с жалобой в министерство юстиции! (Правда, к своему удивлению, он узнал, что его и Гастона Баллока Минза старый недруг Дж. Эдгар Гувер стал директором Федерального бюро расследований.) Вот имена этих людей: Ричард Ф. Уитни из Банковского союза; Чарлз И. Митчелл из «Нэшнл ситибэнк»; ответственные сотрудники компании Моргана; члены правления Федерального резервного банка; Джон Д. Рокфеллер-старший; «алюминиевый король» Эндрю Меллон, ныне министр финансов в администрации Гувера; наконец, сам Гувер, президент-республиканец, который и через три месяца после катастрофы твердит, будто ничего серьезного с экономикой не произошло.
Как-то Абрахам по секрету сказал Розамунде, а потом и Дэриану, который переехал к ним после того, как обанкротилась Уэстхитская музыкальная школа, что молчать его никто не заставит, никто не купит и не подкупит; и лапки вверх при всех своих неудачах он не поднимет — «и мозги себе вышибать не стану, как многие мои товарищи по несчастью».
Действительно, не один манхэттенский бизнесмен из числа знакомцев Абрахама покончил жизнь самоубийством. Или приобрел скверную привычку накачиваться подпольным виски, что привело к тому же концу.
Я побежден? Нет.
От меня исходит запах тлена? Нет.
Меня ждут впереди новые победы? Да. Да.
В тайном зеркале, о существовании которого даже Катрина не знала, — благородный лик, на котором страдания не оставили ни грамма лишнего жира… мужественный чистый лоб, обтянутый прозрачной кожей… скулы, кожа на которых отнюдь не обвисла, не стала отталкивающе-дряблой, как у большинства людей его возраста… сосредоточенный, проницательный взгляд, ясный, как свежевымытое стекло. Обрамляет лицо легкий венчик неожиданно белых, совершенно белых волос, отменно ухоженных, отменно редких, череп просвечивает сквозь них, как сквозь пыльцу. Ну как же, ведь он прошел сквозь Огонь; да, прошел насквозь; и «обморочные припадки» (а на деле апоплексический удар, или инсульт) не оставили на нем и следа.
«Готовь свои испытания, Судьба. Я не какой-то там жалкий трус».
Мне показалось, что вы меня звали.
Не я. Моя музыка.
Но ведь ваша музыка — это и есть вы.
Импульсивно он хватает ее теплую, испачканную в муке ладонь, как ему хочется привлечь ее к себе, поцеловать или хотя бы попробовать поцеловать; но с детским визгом, будто это всего лишь игра, а не причиняющая такую боль душераздирающая реальность, молодая жена отца увертывается и словно бы случайно упирается локтем ему в бок, они тяжело дышат, смеются; в этот момент в студию с хохотом врывается маленькая Мелани и кричит;
— Дядя Дэриан! Играй, играй еще! Не останавливайся!
Я никогда не остановлюсь, родная. Моя музыка, она для тебя и для твоей мамы, я никогда не остановлюсь.
Жена его престарелого отца. Дочь его престарелого отца.
Смогу ли я? Посмею ли? Должен ли?
— Вот так, Мелани! Нет, нет, милая, не так сильно. Смотри, вот так.
Розамунда, босая, стоит у кухонного стола, сжимая плечо маленькой Мелани сильной рукой, девчушка прижимается к бедру матери, мать и дочь поглощены игрой на «сосульках», которые смастерил для Мелани Дэриан (музыкальный инструмент его собственного изобретения: несколько полос серебряной бумаги, прикрепленных к серебряному кольцу диаметром примерно в четыре дюйма, стоит его встряхнуть — оно издает переливчатый, мелодичный звук). Розамунда словно не замечает, каким жадным, страстным… сияющим от счастья взглядом смотрит на них Дэриан, не подозревает (или подозревает? подозревает с недавних пор?), как волнуется его кровь, как распирает ему сердце и как в паху поднимается мощная волна.
Посмотри на меня. Я люблю тебя.
И не подумаю! Мы с Мелани сочиняем музыку.
Дэриан смеется, пожимает плечами и выходит из кухни. Оставляя их наедине с «сосульками». На пороге своей студии он останавливается и прислушивается к звонкой, журчащей музыкальной коде. Но чьей? И что она означает?
Во время одного из своих загадочных путешествий Абрахам Лихт приобретает подержанный телескоп, через который собирается, как он говорит, наблюдать за звездами.
Ибо когда-то давно, в другой жизни, он неплохо разбирался в астрономии: как определенные сочетания звезд, планет, спутников воздействуют на человеческую жизнь — и отдельных людей, и сообществ.
Со временем, когда дочь — единственная оставшаяся у него дочь — дорастет до понимания таких предметов, он научит ее премудрости небес. А она, своим чередом, передаст ее собственным детям.
Ибо теперь, когда Время столь стремительно ускоряет свой бег, внезапно выясняется, что так много еще надо познать и сделать.
Задача состоит в том, чтобы точно выверить расстановку небесных тел по состоянию на утро 3 сентября 1929 года, когда курс акций (и личные доходы Абрахама Лихта) достигли высшей точки. И тщательно изучить их расположение на 24 октября 1929 года, когда разразился Крах, как впоследствии назвали те драматические события.
И если для выполнения этой задачи его жизни не хватит, эстафету продолжит Мелани, плоть от плоти Абрахама, наследница его духа.
Проект великий, крупнейший вклад в экономическую теорию. Но не единственный.
Ибо в эти дни, и в эти ночи, Абрахам буквально фонтанирует идеями.
Между тем как его молодая жена беспокойно ворочается во сне в соседней комнате. Дверь, их разделяющая, заперта, потому что, как он попытался однажды объяснить Розамунде, все, что происходит в его комнате, — тайна. Сидя за тем, что некогда было его дорогим старинным столом-бюро с откидывающейся столешницей, Абрахам Лихт подсчитывает прибыль, которую может получить к 1935 году, если вложить 12 000 долларов в производство сидра («сухой закон» отменен, но на таких делах все равно можно еще сделать состояние, надо только держать доставку и реализацию в собственных руках, избавившись от мафии), и сравнивает ее с прибылью от прекрасного, но, увы, покинутого ранчо в Мэнитоуике. Ну и остается, конечно, «Формула Либкнехта», пожалуй, самое многообещающее предприятие, если не будет ставить палки в колеса государственная инспекция по пищевым продуктам и медикаментам (с бесконечно далеких времен молодости Абрахама Америка сильно изменилась, понапринимали всяких дурацких ограничительных законов, «стандартов», уложений!). Подсчитывает Абрахам и сумму, которую (с учетом трех процентов годовых) задолжали ему с 1 ноября 1929 года Уитни, Митчелл, Рокфеллер, Морган и компания; попутно он набрасывает письма, петиции, резюме, в которых предельно кратко и убедительно формулирует свои требования. Копии всего этого, наверное, имеет смысл послать Дж. Эдгару Гуверу. «Надеюсь, этот тип вспомнит меня. Подпишусь: „Абрахам Лихт, бывший Хайн“».
Контроль, контроль и еще раз контроль. Без контроля мы что дикие звери на воле.
Всю эту дождливую весну и изнурительно жаркое, влажное, с тучами комаров лето Абрахам Лихт ощущает близкое присутствие Катрины. Женщины, которую его земляки между собой называют его матерью, каковой она не является, но донимает его из могилы так, будто она на самом деле мать.
«Оставь меня в покое, женщина! Умоляю, оставь меня в покое».
Ему было неловко и тяжело привезти юную красавицу жену и годовалую дочь в такое место. Из аристократического особняка на Пятой авеню — в занюханную дыру на самом краю болота; то ли в церковь, то ли в жилой дом, где из зловонных водосточных труб проросли чертополох и лишайники, а внутри потолки, будто слезами, сочатся дождевыми каплями, и полы покосились так, словно снизу их местами выталкивают наверх либо дикие растения, либо приходящие время от времени в движение камни. «Клянусь, это временно, дорогая», — пообещал Абрахам Розамунде, но та, к его удивлению, лишь весело рассмеялась: «Да брось ты, Абрахам, разве не временна вся наша жизнь? Давай радоваться, пока можно». Как и в клинике «Паррис» Розамунда становится твердой и несгибаемой, когда ей особенно плохо.
Абрахам прерывает расчеты и прислушивается к каким-то визгливым звукам за окном; хлопанью чьих-то крыльев; замечает промелькнувшие красные блестящие глаза, острый клюв, чешуйчатые лапки, когти… Наверное, он заснул; Абрахам заставляет себя открыть глаза пошире, разминает затекшие ноги и, к сожалению, будит спящую рядом женщину; потому что, оказывается, он уже не за рабочим столом (или все еще за столом?), но в старой просторной никелированной кровати; одна из его жен (но которая?) вздрагивает. «Абрахам? Что с тобой? Дурной сон приснился?» В колыбели ворочается ребенок, скидывает с себя оделяло. Что это за ребенок? Его первенец Терстон? Маленький упрямец Харвуд? Или ангелочек Милли? А может… Дэриан? Эстер? Или последнее, самое младшее дитя, чьего имени ему так никто и не сказал? Да брось ты, Абрахам. Разве не временна вся наша жизнь? Будто ты сам этого не знаешь.
— Ну как я могу быть против, отец? Разумеется, нет. Немного физического труда, думаю, мне не помешает.
Дэриан, кормилец семейства Лихтов. В Мюркирке и окрестностях у него полно всяких занятий: он не только хормейстер лютеранской церкви, музыкальный репетитор дюжины бездарных подростков, он не только подменяет учителя в средней школе, но и трудится сезонным рабочим на консервной фабрике. А летом, по субботам и воскресеньям, — сборщиком фруктов. Тело Дэриана сделалось бронзовым от загара, светлые волосы местами вовсе выцвели на солнце, на добродушном лице — сияющие глаза. Этот долговязый, сухопарый малый — сын, некогда такой робкий и неуверенный, что Абрахам смотрел на него с долей раздражения и жалости.
Дэриан, Розамунда и маленькая Мелани весело смеются на кухне. Забавляются с каким-то из тех дурацких музыкальных инструментов, что напридумывал Дэриан. Абрахам врывается на кухню, и они замолкают, виновато поднимая на него глаза.
«Непривычное для меня положение. Я не приношу в дом денег».
Дэриан платит даже за бензин для «паккарда» Абрахама 1927 года выпуска, на котором, к счастью, тот выезжает в последнее время все реже и реже. В двигателе что-то опасно тарахтит, и он боится застрять где-нибудь на сельской дороге далеко от дома.
Дэриан сам либо ходит в город пешком, либо ездит на велосипеде. Они с Розамундой гоняют на велосипедах по главной мюркиркской дороге, как школьники, прогуливающие уроки.
Мало того, Абрахаму начинают все больше досаждать музыкальные композиции Дэриана. Его смехотворные эксперименты. Все эти перестуки, перезвоны, щипки, доносящиеся из так называемой «студии» (Дэриан достроил ее собственными руками, использовав валявшиеся без дела фрагменты недоделанной мебели, звукоизолирующие материалы и доски, из которых соорудил панели, красиво задрапировав их гардинами и гобеленами из склада «древностей» Абрахама. Крыша представляет собой фантастическую амальгаму из дерева, тонкой жести и шифера — «почти стопроцентная водонепроницаемость», хвастается Дэриан). Абрахам жалуется Розамунде на то, что здоровье Дэриана — «слабое сердце» — в детстве не позволило ему сделать карьеру музыканта-вундеркинда; талант у него был, но одного таланта мало. А теперь, когда Абрахам так остро нуждается в деньгах для покупки винокурни, или ранчо, или оборудования для производства «Формулы Либхкнехта», его бесит то, что Дэриан убивает время на сочинение музыки, которую и слушать-то никто не станет, не говоря уж о том, чтобы платить за нее.
— Если Дэриан хочет так транжирить свое время, — отвечает Розамунда, — что ж, имеет право, ведь это его время.
Абрахам пытается образумить Дэриана. Втолковывает, что на популярной музыке можно заработать состояние.
— Что тебе стоит написать нечто вроде «Дом, мой милый дом» или «Родимая Джорджия»? Даже сегодня, когда ни у кого нет денег, люди — сотни тысяч людей с незамысловатыми детскими вкусами — готовы платить за легкую музыку. Чем проще и даже глупее песенка, например, «На солнечной стороне улицы», или «Чаепитие на двоих», или «О, небо голубое», тем больше народа ее слушает и поет. Так что же, повторяю, мешает тебе, Дэриан, сын мой, сочинить какую-нибудь идиотскую, но привлекательную мелодию в этом роде?
На это Дэриан холодно отвечает:
— Мой идиотизм другого рода, отец, он не направлен на зарабатывание денег.
Мало того, он постоянно изобретает какие-то музыкальные инструменты вроде тех самых «сосулек», «стеклодуя» из пустых бутылок, а также венецианского стекла бокалов и рюмок; а то придумает тридцатиструнную лиру, которая мяукает, как кошка на жаре, или маримбу из цельного куска дерева с бамбуковым резонатором; всякие барабаны и щипковые инструменты; крохотную скрипку; «резонансное пианино»; четвертитоновое пианино… с его помощью, взволнованно пояснил Дэриан, он может воспроизводить микротоны и реально слышать музыку, которую сочиняет на основе гаммы на сорок три интервала («Полагаю, кроме тебя, никто ее не услышит», — заметил в ответ Абрахам).
Постепенно выясняется, что за Абрахамом Лихтом кто-то шпионит.
Его враги, спекулянты с Уолл-стрит или, вернее, нанятые ими профессиональные агенты, вероятно, из сыскного агентства Пинкертона.
Однажды утром за домом со стороны болот на сырой после дождя земле обнаруживаются следы. Часто ветер приносит чьи-то чужие воркующие насмешливые голоса. А как-то ночью Абрахам с изумлением обнаруживает, что куда-то исчезли его космогонические записи. В другой раз, когда Розамунда стелит постель, к его ужасу, в окне появляется призрачное лицо; он запускает в него ботинком, и лицо исчезает.
Или еще: душным вечером в самый разгар лета Абрахам, Розамунда и Дэриан садятся ужинать, рядом, на своем детском стульчике, — Мелани; в этот момент снаружи доносится треск, словно кто-то или что-то продирается сквозь кусты.
— Уж это-то точно не Катрина, — зловеще роняет Абрахам, не переставая жевать. — Это чужой.
В дневнике (обычно Абрахам запирает его в бюро) он записывает твердым почерком: Я подпалил змее хвост, но не убил ее. Хотя ему непонятно, каким образом Рокфеллер, Меллон, Морган и другие дознались о его тайных планах, ведь он еще ничего не написал Гуверу и даже с Розамундой ими не поделился. Разве что… пинкертоновцы проникли к нему в кабинет, прочитали последние дневниковые записи и доложили заказчикам. Или… болтая с кем-нибудь в Мюркирке, Дэриан ненароком проговорился?
Пока дышу, последний удар еще впереди.
И вот однажды Абрахам возвращается из своего очередного загадочного путешествия с двуствольным «винчестером» двенадцатого калибра, украшенным по прикладу серебряными пластинами, и несколькими коробками патронов. Розамунде, которая впервые видит такое оружие собственными глазами, становится страшно; Дэриан молча смотрит на ружье, в недоумении моргая.
— Не волнуйтесь, — с откровенным сарказмом цедит Абрахам, — я и цента не потратил из драгоценных заработков Дэриана. Это ружье я честно выиграл в покер в Пэ-де-Сабль.
От своего друга Аарона Дирфилда Дэриан узнает, что местный люд перешептывается, будто где-то в усадьбе у Абрахама Лихта закопаны «миллионы долларов». Потому что до того, как рухнули банки, он успел снять со счетов все свои богатства.
— Богатства! — грустно усмехается Дэриан. — Если бы. Отец был бы горд, узнай он, что про него рассказывают такие небылицы.
24 октября 1929 года, в тот самый злосчастный день, когда начал стремительно обрушиваться рынок ценных бумаг и который впоследствии окрестили «черным четвергом», Абрахам Лихт в обществе еще четырех финансистов с Манхэттена пребывал в Майами, размышляя на берегу океана о перспективах новых вложений. При первом же сигнале тревоги все сели на арендованную «сессну» и полетели на север, где выяснилось, что дела обстоят не так плохо, как можно было судить по биржевым бюллетеням… богатейшие игроки, собравшись на тайную встречу в доме Моргана, договорились сформировать резервный фонд (составивший, как выяснилось позже, 240 миллионов долларов) для поддержания курса акций. На следующий день было продано не более половины от вчерашнего объема, и общее настроение заметно улучшилось, пусть до полного оптимизма было еще далеко; посоветовавшись сам с собою, Абрахам Лихт решил не впадать в панику, хотя потерпел убытки по всем позициям: акции «АТ и Т» упали на 18 пунктов, «Бетлехем стил» — на 23, «Кенникотт коппер» — на 30. Самое последнее приобретение — акции «Электровижн», компании по электронным разработкам, базирующейся в Рутерфорде, Нью-Джерси, и успешно занимавшейся разработкой новых потрясающих способов одновременной передачи на дальние расстояния радио- и видеосигнала (как на киноэкране) — «настанет день, и мы войдем в каждый американский дом, принося акционерам баснословные доходы», — пошло прахом. Компания трагически рухнула и через несколько недель вообще сошла со сцены, что повлекло самоубийство ее исполнительного директора; но «Формула Либкнехта», известная на рынке просто как «Либкнехт инкорпорейтед», удерживала свои позиции. «Если не трусить и не продавать свои акции по дешевке, а дождаться, пока рынок оживится и все вернется на круги своя, что наверняка рано или поздно произойдет, я ничего не потеряю». Газеты уже трубили, что кризис позади. А правительство обнародовало специальное коммюнике, согласно которому никакого «кризиса» вовсе не было — просто «рыночная истерия», спровоцированная неизвестной причиной. И только дураки, не имеющие никакого финансового опыта, рванулись в банки закрывать счета…
День, потом еще один прошел на Уолл-стрит спокойно; там царил сдержанный оптимизм; курс акций, принадлежавших Абрахаму, держался на одном и том же уровне, а акции «Стандард ойл» даже поднялись в цене. Министр финансов заявил, что «никогда еще национальная экономика не обнаруживала таких признаков здоровья…», на снимках в газетах Джон Д. Рокфеллер-старший и его сын деловито скупали акции… Финансисты — знакомые Абрахама, изрядно подогретые выпитым, хвастали, будто «держат ситуацию под контролем».
Наступило воскресенье: Нью-Йорк вздохнул с облегчением — чертова биржа по воскресеньям не работает.
Но за воскресеньем последовал, увы, понедельник… Решив с утра продать акций на три миллиона долларов, Абрахам обнаружил, что рухнул в пропасть практически вместе со всеми своими соотечественниками: на бирже продано девять миллионов акций, еще четыре за ее пределами, внебиржевыми маклерами, общие убытки превысили 10 миллиардов долларов.
Десять миллиардов!
— Этого не может быть, — беспрестанно повторял Абрахам, обращаясь к встревоженной жене и к собственному отражению в зеркале. — Этого просто не может быть.
Подобно многим другим биржевым спекулянтам, Абрахам частенько предавался мечтам о какой-нибудь финансовой катастрофе, которая, разорив большинство, не затронет лишь его и еще несколько предусмотрительных игроков, позволив им, напротив, неслыханно нажиться; но никогда и представить себе не мог катастрофы, в которой окажется всего лишь одним из сотен тысяч сметенных чудовищным ураганом.
На следующее утро подтвердились худшие опасения Абрахама: всеобщее столпотворение, ужас, паника — настоящая Паника! Выпученные глаза, отвисшие челюсти, кишки, выворачиваемые наизнанку; ничего похожего до той поры не случалось нигде в мире — шестнадцать миллионов акций продано на бирже, еще семь — на улице, за несколько часов ухнули тридцать миллиардов долларов. Тридцать! «Кенникотт коппер» перестала существовать. Акции «Коул моторз» упали на шестьдесят, семьдесят, девяносто пунктов. От «Вестингауса», компании, в которую Абрахам вложился всего месяц назад, осталась всего треть. За ней последовали — «АТ и Т», «Бетлехем стил», «Мексикан сиборд», «Флайшман йист», «Пан-Америкэн вестерн», «Либкнехт инкорпорейтед»… «Лихта больше нет! — с диким хохотом вопил Абрахам, продираясь сквозь ревущую, рыдающую, беснующуюся толпу незнакомых людей, заполнивших помещение фондовой биржи. — Словно его никогда и не существовало».
И все же судьба оказалась к нему милосердна, избавив его от позора упасть прямо на улице, как случилось со многими.
А когда он все же потерял сознание на следующее утро, то очнулся под присмотром жены; Розамунда, женщина, закаленная всей своей предшествующей жизнью, женщина, которой не раз назначала свидание Смерть, сразу же вызвала «Скорую», которая отвезла парализованного, с пепельным лицом мужчину, отца ее крохотной дочурки, в пресвитерианскую больницу «Коламбия».
Разгар лета. Облачившись в модный ослепительно белый льняной костюм и шляпу-панаму, Абрахам Лихт отправляется в Мэнитоуик, поездка занимает весь день. В кармане у него, подтверждая серьезность намерений, 800 долларов, он исполнен решимости добыть еще, но, оказавшись на месте, к своему ужасу, узнает, что все лошади пали!.. Сгорели заживо, все девять, в пожаре, когда за несколько дней до того в конюшню ударила молния. (В Мэнитоуике пожар считают «подозрительным», ибо все лошади были застрахованы на большую сумму.) Но Абрахам Лихт потрясен. Лошади пали? Девять прекрасных чистопородных английских рысаков пали?! И ни один не уцелел?
Вернувшись в Мюркирк, он уклоняется от поцелуя молодой жены, потому что вся его одежда пропахла горелой плотью и паленой лошадиной шерстью — ужасным запахом умирающих в агонии животных.
Дрожащими пальцами он вытаскивает из кармана 800 долларов и возвращает сыну.
— Слишком поздно, Дэриан! Я пришел слишком поздно, им уже ничем нельзя было помочь.
Разгар лета.
Иными словами — Вечность.
Над болотом тонкими струйками вьется туман. То тут, то там весело вскрикивает какая-то птица. Духота опустилась на болота с раннего утра, влажная, давящая, сонная… Может, пойдем на охоту? Подстрелим какую-нибудь пестренькую птичку? Или серенькую?
Абрахам в резиновых сапогах по колено, в полосатой рубахе с отрезанным воротником, заправленной в мешковато сидящие на исхудавшей фигуре штаны, в грязной панаме, лихо сдвинутой на затылок, с ружьем под мышкой и маленькой Мелани, радостно ерзающей у него на плече. Ну что, на охоту, дорогая? Славная моя, ненаглядная. Единственное мое счастье.
Но с огорода за ними бдительно наблюдает Розамунда. Нет. Нет. Нет, резко окликает она.
Конец лета.
Тяжелое, наполненное серным духом, насыщенное тайнами время.
Они могут, конечно, украсть его заметки снова (теперь он тщательно шифрует их), поэтому он и прячет их между тысячами страниц своих мемуаров или разбрасывает под столом так, что едва ли кто сможет в них разобраться, но в мысли его им не проникнуть; в его могучие мысли; в его персональную космологию.
Их наемные агенты могут наблюдать за ним в свои подзорные трубы, фиксировать каждое его движение, каждое слово, но только в дневное время; ночь принадлежит ему.
Ночь: она исполнена тайны.
Скоро, очень скоро, когда она заснет, он возьмет свою дочь и откроет ей огромный живой океан неба… черный, но светящийся, погруженный во мрак, но пронизанный светом… звезды, которых не счесть и не объять воображением, это под силу только воображению Абрахама Лихта.
Небо, родная моя Мелани, это судоходное море, на берегах которого мы стоим вниз головой. Небо — это море, в котором тонут дураки, пустившиеся в плавание без надлежащих карт.
Сияющий диск Луны, отбрасывающий тени.
Смутно-красный Марс, плывущий над высокой крышей церкви.
Большая Медведица с ее неясным посланием; Телец, предупреждающий нас о чем-то (а может, это не предупреждение, может — приказ?); подмигивающие Плеяды, о да, в небе полно тайн, как и в ночи, как и в огромном болоте в летнее время, являющем собою Вечность.
Он подозревает, что жена беременна, но не отваживается спросить: «Неужели ты думаешь, что меня можно провести, я знаю, что ребенок — не мой?»
Нет, легко представить себе, какая разыграется сцена, и в этом спектакле роль у него будет незавидная, любительская.
Конец лета, сгущаются сумерки, он, с трудом сдерживаясь, сидит на заднем крыльце дома, пока Дэриан наигрывает попеременно на миримбе, «сосульках» и крохотной скрипке «Мелани — четыре» — песенку, написанную ко дню рождения девочки; к удивлению Абрахама, а ведь он как-никак отец ребенка, Мелани подпевает… Вместе с Розамундой и Дэрианом. Они явно подстроили это.
— Тебе нравится моя песенка, папочка? Это дядя Дэриан написал ее для меня.
Абрахам улыбается, целует ребенка, может, это его ребенок, а может, нет, у нее на редкость звучное для такого возраста переливчатое сопрано, как у Милли, но, может, и Милли не его ребенок?
— Нет, родная. Мне твоя деньрожденная песенка не нравится. Но кто я такой, в конце концов, чтобы считаться с моим мнением? — мягко отвечает Абрахам, встает и удаляется с насмешливо-стариковским достоинством. Дэриан, Розамунда и растерянная девочка смотрят ему вслед.
Ну вот, последний год того, что пошляки называют моей «жизнью».
Крики! Переполох! — в гостиную залетела огромная птица, она порхает от окна к окну, ударяется о стекло, втягивает голову, отчаянно хлопает крыльями, в воздухе пахнет смертью… исчезла, наверное, залетела в дымоход… всего лишь скворец, но Абрахаму Лихту кажется, что это стервятник с хищным клювом, конечно же, это Катрина, опять она со своими жестокими шуточками, он хлопает в ладоши: Вон! вон! вон! Убирайся к себе в ад, злобная старуха! Топает так сильно, что в полу проламывается несколько подгнивших досок, лицо со следами былой красоты искажено страхом и яростью, Розамунда пытается урезонить его: это всего лишь птица, напуганная птица, сейчас мы поймаем ее наволочкой, но он и слышать ничего не хочет, отталкивает ее — где мое ружье, куда ты спрятала мое ружье? Розамунда бросается на кухню, хватает Мелани, выскакивает наружу и по счастливому стечению обстоятельств натыкается как раз на Дэриана, оказывается, это он, а не сосед едет на велосипеде — «На помощь! На помощь! О Господи, ну сделай же что-нибудь, лишь бы он оставил ее в покое».
Это впервые, когда Розамунда позволяет себе так говорить. И впервые Дэриан так тесно прижимает ее к себе, а она — так тесно, так тесно! — прижимается к нему.
Бедняга скворец гибнет, шейка сломана. Его безвольное черноперое тельце беспомощно валяется на полу среди мягких игрушек Мелани. Нет, стало быть, никакой нужды в безотказной двустволке двенадцатого калибра, которую Абрахам Лихт тщательно смазал, пристрелял на случай экстренной необходимости и спрятал у себя в кабинете.
— А если бы отец выстрелил… — Дэриан не находит себе места… — А меня бы здесь не оказалось…
Дэриан тайком говорит об отце с доктором Аароном Дирфилдом, тот велит привести Абрахама для осмотра, но, разумеется, Дэриану не удается убедить отца пойти к врачу, как не удается убедить подозрительного старика и встретиться с ним у себя дома.
— Слушай, этому мяснику Дирфилду, должно быть, лет сто, — насмешливо заявляет он. — Этот тип и в лучшие-то свои годы мало что в своем деле смыслил, а теперь, когда ему давно пора на свалку, небось и вовсе из ума выжил.
Дэриан объясняет, что Аарон Дирфилд — сын того доктора Дирфилда, ровесник Дэриана, но Абрахам только фыркает, давая понять, что если это шутка, то она зашла слишком далеко.
Розамунда остерегает: Его нельзя обижать. Нельзя уязвлять его гордость.
Розамунда со слезами говорит: Мы не должны настраивать его против себя.
И еще: Он спас мне жизнь, Дэриан. Я не могу его предать.
Закончив репетицию хора в лютеранской церкви, Дэриан заезжает к Аарону Дирфилду выпить по рюмочке и посоветоваться.
— Наверное, это последствия инсульта. Вероятно, он перенес еще один удар, послабее. Не исключено также, что у него то, что называют «синильностью», то есть просто старческое слабоумие… Весьма сожалею, Дэриан.
Дэриан не знает, что и сказать. Он тоже весьма сожалеет; но сожалениями делу не поможешь. Ему приходилось слышать о престарелых, да и не таких уж престарелых жителях долины Чатокуа, что они в припадке ярости хватаются за кувалды, ледорубы, грабли, топоры; чтобы убить человека, не обязательно иметь для этого двустволку двенадцатого калибра.
В тот вечер Аарон между делом спрашивает Дэриана, как там его сестра Эстер; Дэриан отвечает, что, насколько ему известно, у той все в порядке… Эстер — деловая, энергичная женщина, должен признаться, она участвует в пикетах, демонстрациях, забастовках, даже сидела в тюрьме… разъезжает по западной части штата Нью-Йорк, по Огайо, Индиане, Иллинойсу с людьми из Лиги по контролю за рождаемостью, с людьми Маргарет Зангер; она приятельница одной из близких помощниц Зангер; в основном в Лиге состоят женщины, но есть и несколько мужчин, посвятивших себя тому, что они называют прямым действием (это предполагает участие в акциях разъяренных толп, аресты, насилие со стороны полиции, тюремные сроки, публичность, подогреваемую развязными газетными репортажами), — словом, действуют они в нарушение законов штатов, воспрещающих распространение какой бы то ни было информации, связанной с контролем над рождаемостью.
Аарон подливает эля гостю, потом себе. Вздыхает. В свои тридцать с лишним он все еще не женат: когда-то был помолвлен с одной девушкой из местных, но сейчас свободен; Дэриану кое-что известно о друге, но не так уж много. Он один из немногочисленных врачей общего профиля в Мюркирке, доктор Дирфилд — человек занятой; устает; но любезен с людьми; он одинок; преждевременно лысеет, носит очки с толстыми линзами (очень похож на отца, ныне покойного, встретив на улице, его легко принять за отца, ощущение не из приятных: словно призрака увидел); человек, привыкший откровенно сообщать людям, что у них не в порядке и как с этим справиться; но сейчас он растерян, уставился на свои чистые, коротко подстриженные ногти.
— Знаешь, Дэриан, я ведь всегда думал… что мы с Эстер могли бы пожениться, — говорит Аарон. — Она служила бы у меня сестрой, по крайней мере пока не появились бы дети.
Дэриан смущен, у него едва не срывается с языка: «Да, но любишь ли ты ее? Делал ли предложение?» Однако вслух он только бормочет, что было бы неплохо. (А сам думает: кому это нужно? Зачем его сестре быть докторской женой, а не свободной женщиной? Зачем ей на всю жизнь приковывать себя к Мюркирку?)
— Не понимаю, как Эстер, всегда такая незлобивая девушка, может вести себя так… безрассудно. Что у нее общего с этой Зангер? Знаешь, ведь вся эта компания — коммунисты и атеисты, готовые на куски разорвать саму ткань общества, ты не думаешь? — нервно вопрошает Аарон; осушив стакан, Дэриан с неопределенной улыбкой отвечает:
— Знаешь ли, друг мой, я всего лишь музыкант, какое имеет значение, что я думаю?
Он не отваживается подойти к ней. Или к ним. Хотя почти физически ощущает упругость ее маленьких налившихся грудей, ее твердого округлого живота, белого с голубоватыми прожилками, грешного, тугого, как барабан.
Он подглядывает за ними, за любовниками. Хотя, наверное, они это чувствуют, потому что ведут себя невинно, даже пальцами не прикасаются друг к другу, когда он рядом.
К изумлению Дэриана и на удивление всему лютеранскому приходу, однажды в воскресенье Абрахам Лихт появляется на десятичасовой службе в вызывающе ярких подтяжках, желтом шарфе, обмотанном вокруг дряблой стариковской шеи, в изящной, хотя и замызганной фетровой шляпе и красивых, ручной работы, кожаных туфлях, которым износа нет (так оно и получится); пришел послушать в исполнении капеллы из двадцати участников хоры и арии из генделевского «Мессии», исполнение ему понравилось. Поклонник оперного искусства, меломан, Абрахам тронут выступлением провинциальной церковной капеллы и вынужден признать, что есть и заслуга его сына в том, как красиво, мощно и гармонично звучит этот хор. Но еще до окончания службы он решительно уходит, ибо в голове у него начинает стучать: И тогда откроются глаза слепых, и отворятся уши глухих, и хромой полетит, как олень, и запоет немой. Безошибочный сигнал престарелому мужу молодой жены, беременной от другого.
Долгий октябрь, дождливый и ветреный. Когда же он кончится! Оскорбление, нанесенное банкиром Карром (из Вандерпоэлского опекунского банка), который отказался одолжить ему 1200 долларов, все еще бередит душу Абрахама: какие-то несчастные 1200 долларов. Есть только то, чего нет, аккуратным почерком записывает Абрахам на верху пустого бланка.
У колодезной воды, всегда такой прозрачной и такой вкусной, появляется отчетливый металлический привкус. Нет в ней былой чистоты, она заражена какой-то отравой. Однако же, когда Абрахам лукаво предлагает Дэриану отведать ее в своем присутствии, тот выпивает полный стакан и спокойно возражает отцу: все нормально.
Абрахам заливается смехом.
— Знаешь что, мой мальчик, это тебе, а не мне надо бы выступать на сцене. Безрассудно, но здорово — выпить этот яд и глазом не моргнуть.
— Да это совершенно нормальная вода, отец. Я уверен.
И она:
— Абрахам, у нас совершенно нормальная вода. Я тоже уверена.
(Миссис Лихт, с небрежно подколотыми на затылке волосами, в застиранной старой белой рубахе, потерявшей всякую форму, и некогда роскошных шерстяных брюках, конечно, не может не вставить свое словечко от кухонной плиты. Вымученная, тревожная улыбка. Виноватый взгляд.)
Абрахам с усмешкой удаляется. Проверяет «винчестер», висящий в стенном шкафу в кабинете: тот хорошо смазан, но к нему прилипли какие-то крохотные песчинки и пылинки. Он заглядывает в одно дуло, потом в другое. Ничего не видно. В случае чего — например, Катрина снова влетит в дымоход, или правительственные агенты в прорезиненных костюмах (в бытность сотрудником бюро и у него был такой) подберутся со стороны болот — не хватит времени зарядить, так что нужно озаботиться заранее. Джентльмен не пачкает перчаток.
Помимо ружья Абрахам, о чем не знают домашние, эти шпионы-любовники, приобрел еще кое-что — «смитвессон» 38-го калибра, никелированный, с перламутровой рукояткой, на удивление тяжелый; он купил его на складе спортивного магазина в Иннисфейле. «Выколачиватель долгов», так назвал его хозяин. И его Абрахам тоже держит заряженным; а размеры позволяют, уходя из дома, сунуть его в карман пальто.
Но — мертв враг, и он тоже мертв; и никаких «долгов» с него уже не стребуешь. Таков один из принципов английского общего права.
Когда-то он занимался адвокатской практикой. И процветал. В Филадельфии. Одна женщина по фамилии Шриксдейл поручила ему найти своего сына. Но, хотя задание он выполнил, в дальнейшем отказалась от его услуг. «А теперь все потеряно. Смешно!»
Интересно, если его враги мертвы, кто же шпионит за ним, а ведь кто-то определенно шпионит: роется в его бумагах, читает дневник, так что приходится писать исключительно шифром. На старом погосте церкви Назорея перекликаются скворцы, дрозды, воробьи. Стаи птиц так похожи на стаи людей. И старуха Катрина, прикинувшись одной из этих птиц, машет крыльями рядом с его (занавешенными) окнами. Именно те, кто ближе всего по крови, возвращаются, чтобы преследовать нас. Необходимо самым срочным образом поглубже закопать их трупы!
Надо все же еще потренироваться с пистолетом и ружьем.
Он боится их взрывной мощи. Стоит выстрелить, и на куски разлетится (насквозь грешный) мир.
Он задает Розамунде прямой вопрос, и та, пораженная, отрицает, будто беременна. Как отрицает и то, что тайно положила деньги Артура Грилля на счет в Вандерпоэлский опекунский банк.
(Она утверждает, что Абрахам сам вложил ее деньги много лет назад, и они пропали вместе с его деньгами.)
Но ведь она его жена. Они — «законные супруги».
«В болезни и во здравии».
«Пока смерть не разлучит нас».
Если она носит под сердцем ублюдка, то по закону это ребенок Абрахама Лихта. Известно ли ей это?
Она отрицает. Отрицает.
…Приблизительно два миллиона долларов на депозитах и в недвижимости на Лонг-Айленде, уверенно заявляет Абрахам, вплотную поднося керосиновую лампу, чтобы лучше разглядеть напрягшееся лицо Розалинды. (Наверное, чтобы досадить ему, такому великому ценителю женской красоты, она позволила волосам неряшливо рассыпаться волнистыми, темно-серебристыми прядями; на ней сейчас, как на школьнице, очки в металлической оправе, говорит, что стала хуже видеть.) Помню, как мы оба были удивлены, когда выяснилось, что отец все же не лишил тебя наследства.
Но ты же сам распорядился этими деньгами, Абрахам. Я в тот же день переписала их на тебя. В присутствии отцовских адвокатов, помнишь? Ну, вспомни же, пожалуйста. Ты вложил их в дело, и они пропали вместе со всем остальным.
Женщина лжет, лжет. Но совсем не так, как Миллисент, ибо нет у нее артистического дара Миллисент, как нет и ее классической красоты. Грязнуля — фермерская жена в мужских башмаках на резиновой подошве, кудахчет, рассыпая по корытцам зерно для цыплят — для голосистого выводка пестрокрылых курочек, которым не хватает петуха; и оказывает дурное влияние на маленькую девочку: та и одета кое-как, и волосы у нее вечно растрепаны, уши проглядывают сквозь них, мать позволяет ей играть с соседскими сорванцами на главной дороге, с детьми тех, что Абрахама Лихта не уважают, говорят, что он, мол, из ума выжил. Святость супружеского ложа не терпит лжи, назидательно произносит Абрахам. Признайся, где тот подвал, в котором ты спрятала деньги? Собственность жены по закону — это собственность ее мужа. Говори. Почему ты меня больше не любишь?
— Абрахам, не надо! Умоляю тебя! — Она прячет свое виноватое лицо, начинает рыдать.
Теперь, раздевшись, ей будет что показать любовнику: синяк в форме почки на плече, синяк с персиковым отливом под глазом, и эти уродские очки, теперь они погнуты. Не искушай меня больше, шепчет Абрахам.
Однажды в ноябре, под конец дня, Абрахам Лихт в игривом настроении подходит к окну; его впалые щеки заросли щетиной, в глазах прыгают чертики, пыльная зеленая шапка, подобранная где-то на дороге, надвинута низко на лоб; он стучит по оконной раме, самодельная дверь открывается, и Абрахам делает заявление:
— Знаешь что, мой мальчик, ты выставляешь себя дураком в глазах целого света. Я ведь слышу, что люди говорят, хотя и презираю сплетни. Пока не поздно, ты должен жениться. Ты даже не представляешь себе, какая это радость иметь собственных жену и ребенка.
Заметное ударение на слове «собственный».
Дэриан, который только что вернулся домой после восьмичасового рабочего дня в Мюркиркской школе (где он в этом полугодии работает на полной ставке учителя так называемых «общественных дисциплин», музыки, а также иногда подменяет преподавателя физкультуры), непонимающе смотрит на отца; решает обратить разговор в шутку:
— Ты прав, отец. Не представляю. Но жизнь не так просто устроить.
Обведя взглядом неприбранную комнату, забитую этими идиотскими пианолами и прочими инструментами, струнными, стеклянными, бамбуковыми, и еще бог знает чем — какими-то жестянками, спутанными мотками проволоки, Абрахам щурится и отвечает:
— В жизни никогда и ничто не устраивается «легко», Дэриан. Все устраивается силой.
Так, словно меня и не было никогда.
Лихт [34]погас!
(Однако если можешь еще каламбурить, как шекспировский Фальстаф, значит, еще не весь вышел.)
И все же постепенно, шаг за шагом, он выпадает из Времени. Из утомительного капризного его коловращения. Кто-то только что захватил пост президента Соединенных Штатов с помощью смехотворных обещаний Нового Курса; а кто-то отошел от дел и предан забвению.
Тому засасывающему, как болото, забвению, в которое, подобно любовникам, подобно собственным детям, погружаются враги.
Лишь пузыри остаются на грязной поверхности. Птицы умолкают, тишина…
Ум его ясен. Он спокоен. Он в отличной физической форме.
Его глаза… его зрение. Что-то яркое колышется, волнами проплывает перед глазами. Солнечные зайчики. Катаракта? Он говорит Дирфилду, полнеющему молодому человеку в очках с толстыми линзами, что не доверит врачам Вандерпоэлской больницы оперировать и вросший ноготь, не говоря уж о глазах. Его глазах. Он говорит Дирфилду, что не желает, чтобы его выслушивали стетоскопом, нет уж, покорно благодарю. Чтобы прослушивали его сердце, легкие, внутренние органы. Нет уж, спасибо.
(Дирфилд явился к нему в дом под вымышленным предлогом, прозрачным, жалким предлогом, что, мол, Розамунда вызвала его осмотреть ребенка. Абрахам только рассмеялся: его жена и сын такие неумелые заговорщики.)
Большую часть дня он вынужден покоряться врагам. Но ночь принадлежит ему, всегда ему принадлежала. Если бы только Мелани поняла… Почему она всегда избегает отца, ведь он всего лишь хочет открыть ей кое-какие бесценные секреты: где объединяются Прошлое, Настоящее и Будущее? — На Небесах.
— Мелани, родная моя, ведь все это твое. Эти карты, эти диаграммы, эти созвездия, я щелкаю их как орехи… как мерцающий Сириус воздействует на наше счастье, как танец Плеяд становится нашим танцем и еще — как проплывают в наших снах спутники Юпитера, как самая яркая звезда в созвездии Овна разгорается в нашей крови огненным символом чести.
Но ребенок выскальзывает из его шершавых (усы) объятий и убегает к матери.
Я убью этого старика!
Он видит опухшие глаза Розамунды, ее искривившиеся от боли мягкие губы. Он знает, что старик бил ее, наверняка угрожал, хотя Розамунда не хочет ничего говорить.
— В чем дело? Он что, ревнует? Злится? Но почему? На тебя? На меня? Да ведь между нами ничего нет, — говорит Дэриан. — Что мне делать, Розамунда? Скажи. Не молчи. Что мне делать?
Розамунда отталкивает его и выходит из комнаты, не глядя на него, на лице застыло упрямое выражение. Она прячет синяки, которыми испещрена ее истерзанная плоть, словно это знаки доблести. Дэриан кричит ей вслед:
— Ну и иди к черту! Оба идите!
Накануне он слышал в ночи приглушенные голоса. Глухие звуки: бум! бум! бум! — словно чье-то тело вдалбливали в стену или в спинку кровати. Выскочил из постели, побежал, принялся колотить в дверь и дергать за ручку (но дверь заперта на замок). Что там происходит? В чем дело? Отец! Розамунда! Ну, откройте же дверь, пожалуйста. Дэриан не имеет права предъявлять такие требования отцу, Абрахам колотит по двери с другой стороны. Ничего не происходит. Все в порядке. Уходи. Ты ничего не понимаешь.
Дэриан импульсивно бросается за Розамундой. Старик уехал на «паккарде» и оставил их вдвоем; Мелани спит, укрытая стеганым ватным одеялом. Дэриан нежно привлекает Розамунду к себе, все настойчивее, настойчивее; обхватывает ее лицо ладонями, целует; жадный, яростный, властный поцелуй, которого он так долго жаждал.
Не надо, шепчет Розамунда.
Дэриан, я не могу.
Дэриан…
За месяц до смерти Абрахама Лихта его жена и сын становятся любовниками.
Дэриан, потрясенный, исступленно уговаривает себя: Это всего лишь любовь. С людьми такое случается постоянно.
(Как и все любовники, они переговариваются шепотом, таятся. А когда ты понял впервые, спрашивает Розамунда, и Дэриан признается: при первой же встрече, там, в гостинице «Эмпайр-стейт», помнишь? — Тебя привел Абрахам, ты была в багряном бархатном платье, вы не успели на мой концерт, помнишь? Розамунда смеется, трет глаза, говорит: та женщина была не я, не такая, как я сейчас; а Дэриан отвечает: возможно, но мужчина был тот же самый — я, когда речь идет о тебе, я — это всегда я. Что их удивляет, как удивляет всех любовников, так это насколько естественно слились наконец их тела, с какой страстью и в то же время целомудрием это произошло, словно не было долгих месяцев, даже лет воздержания, когда они так тянулись друг к другу, только друг к другу, в тоске, но и в восторге предвкушения, зная в глубине души, что когда-нибудь это случится; в сущности, не прикасаясь друг к другу, они давно уже стали любовниками. Дэриан теперь не тот, каким был всего несколько часов назад. Он — возлюбленный. Длинноногий сухопарый Дэриан отныне любовник, и он клянется, что будет любить эту женщину вечно, — ее и Мелани; понадобится — любого убьет за нее, и это правильно, справедливо, такова Природа, так должно быть, и так всегда бывает между людьми. Он спасет их обеих — ее и Мелани, — убережет от любой беды.
Несколько дней спустя, когда они, обнаженные, лежат в объятиях друг друга — прядь ее волнистых волос на его лице, их дыхание и сердцебиение слитны, как звучание инструментов в хорошо отлаженном оркестре, — он признается, что в городе (по словам Аарона Дирфилда) шепчутся, будто они уже давно любовники и что отец Мелани — он, а не Абрахам; и Розамунда со вздохом отвечает: знаю, догадалась.)
Сердитый, как шершень, с гневно сверкающими глазами, он клеймит это «дивное диво»: триумфальное избрание Франклина Делано Рузвельта, поражение Герберта Гувера, Новый Курс для Пасынков Судьбы.
— Дураки, мошенники. Только не говорите мне о «хитроумном и гибком искусстве» политики.
Но Рузвельт не такой, возражает Дэриан.
Да, подхватывает Розамунда, отваживаясь возразить мужу, он не такой.
Абрахам с достоинством встает с кресла; с достоинством старается твердо держаться на ногах; впалые щеки, заостренные ястребиные черты, кожа, пожелтевшая, как слоновая кость, следы былой красоты… вот исповедь его сердца, теперь оно обнажено, вот оно — на ладони, клюйте, рвите его на части, жадные стервятники.
Спотыкаясь, он бродит по болотам, «где когда-нибудь они меня найдут»… он не поранился, даже не устал, дышит ровно; он не позволяет им отвезти себя в Мюркирк, чтобы доктор Дирфилд осмотрел его. «Нет, нет и нет. Этим костям я сам страж, и я не согласен». Хотя со зрением у него плохо. Катаракта, а возможно, и глаукома. Хотя на шее, прямо под левым ухом, появился какой-то нарост. Хотя мочится он, как старик, медленной тонкой струйкой, которая иногда стекает по ноге. И его голова… сознание его вечно взбудоражено, плывет, поток мерцающих звезд в созвездии Большого Пса просачивается сквозь стены его замка и… прощай, король! Прощай.
И все равно он не согласен.
Даже когда его едва ли не на руках несут в дом, он надменно повторяет:
— Для своего возраста, с учетом всех обстоятельств и перенесенных страданий, Абрахам Лихт в отменной физической форме.
Думаешь, он знает? — шепчутся знающие свою вину любовники, одновременно напуганные и ликующие, как все прелюбодеи. Думаешь… он догадывается? Бедный Абрахам! Они целуются, водят кончиками языков по лицам друг друга, жаждут только одного — слиться воедино так, чтобы ничто, даже мысль, их не разделяла. Знают, какая опасность грозит им, если старик догадается, но не в силах противиться зову любви, страсти, алчной жажде ласк; что же им делать, как правильно, благородно, этично, нравственно и практично поступить в подобной ситуации, ведь они не могут не предаваться любви, потому что так сильно любят друг друга, было бы невыносимой мукой лишить себя этой любви после стольких лет, в течение которых они отказывались от близости, их тела неудержимо стремятся навстречу, они больше не думают об Абрахаме Лихте — но продолжают терзать себя: Думаешь, он знает? И если так, то…
Чему быть, того не миновать.
Он пробирается сквозь сбросивший листву лес, бредет по болоту, по кромке болота, где земля промерзла и ледок трескается под ногами, как ломающиеся зубы; его ноздри, словно ноздри жеребца, улавливают дымок. «Кто тут? Кто?» Женщина поет для него, мурлычет что-то без слов; расчесывает в тумане свои длинные светлые волосы, он не слышит, не обращает на нее никакого внимания, подобно Одиссею он заткнет уши и ничего не услышит, еще не время; лямка от тяжелого ружья натерла плечо, Абрахам Лихт, эсквайр, сельский джентльмен, джентльмен-фермер, охотник, в разнообразии спортивных занятий ищет отголосок Игры, потому что Игра — это и охотник, и добыча, добыча и охотник; он в пузырящихся на коленях старых твидовых «в елочку» штанах, замусоленном кашемировом пальто, щеголеватой фетровой шляпе, лихо сдвинутой на затылок, как у Джимми Уокера. В свое время, повертевшись перед трехстворчатым зеркалом в примерочной модного магазина Лайла на Лексингтон-авеню, Абрахам Лихт велел немного подогнать это пальто, чтобы в плечах — а плечи у него широкие — оно сидело плотно, но удобно, 740 долларов не такие уж большие деньги, в те веселые деньки, он, миллионер, свободно мог позволить себе выбросить и в десять раз больше. «АТ и Т» — цена акций растет. «Стандард ойл» — тоже. «Коул моторз» — тоже. «Вестингауз» — то же самое. И «Либкнехт инкорпорейтед» — все выше и выше.
А женщина все поет, дразнит, манит. Будь у него получше зрение, наверное, он мог бы ее увидеть… а может, он и не хочет ее видеть. Поправив ружье на плече, он удаляется. Ружье заряжено, но пока у него не было желания проверить его в деле; он знает, что выстрел будет оглушительным; Дэриан услышит и поднимет шум. Услышит и Розамунда, тогда шуму будет еще больше. Голубые, как лед, вены изрезали ему лицо, словно раскаленной проволокой.
Иногда, в ясные морозные дни, Мелани просит его взять ее с собой.
— Папочка, можно и мне? Ну, пожалуйста, папочка. — Она задирает головку, улыбается, на ней уже красная вязаная шапочка, правда, сбившаяся набок, потому что надевала она ее сама. — Мама ничего не узнает.
— Да, малыш. Если поторопишься.
Но мама знает, мама всегда знает и не отпускает ее.
Маму пугает ружье.
— Ради всего святого, Абрахам, не надо.
— Оно не заряжено, миссис Лихт. А чего бояться незаряженного ружья, — дразнит он, — если у тебя чиста совесть.
Уж этот-то ребенок — его. На сей счет у Абрахама сомнений нет.
Абрахам решительно выходит из дома и невзначай, словно это его совершенно не волнует, окликает Мелани:
— Ну что, крошка, идешь с папкой? Или дома остаешься?
Мелани хохочет и бросается за ним; пронзительный голос матери останавливает ее:
— Мелани, нельзя!
Ребенок застывает на месте, начинает хлюпать маленьким носиком, она бы хотела, смеясь, подбежать к отцу, но нет, поворачивается и быстро шагает назад в дом; он снисходительно улыбается, он прощает ее, понимает: еще не время, иди домой, малышка, успокой маму; словно перепуганная кошка, девочка мчится к открытой двери, где — изо рта вылетают облачка морозного пара, стекла очков полыхают на зимнем солнце — зовет ее мать:
— Мелани. Мелани!
Тридцать три года от роду — и это первая великая страсть в его жизни, она навсегда останется его единственной великой страстью, после смерти отца он женится на этой женщине, пусть хоть весь Мюркирк изойдет от скандальных сплетен. Никогда еще Дэриан не испытывал такого воодушевления; никогда не охватывало его такое безумие. Даже за пределами студии он продолжает сочинять музыку, он пишет ее даже во сне, торжествующую музыку победившей любви, любви такой немыслимой, что до конца она победить не может; запретной любви; грешной любви; любви между братом и сестрой; любви трансцендентальной; любви обыкновенной: какая бывает у всех людей. Идеями полна его голова! Он даже не успевает записывать их, пальцам становится больно! Симфония для голосов… трио для флейты, виолончели и «резонансного пианино»… оратория без слов… соната, в которой алеаторическое звучание дополняется звучанием рояля… четырехчасовое сочинение для камерного оркестра, особых инструментов и хора, которое он назовет «Робин, сын мельника: история Предначертания»… В конце концов сочинение будет исполнено Нью-Йоркским филармоническим оркестром, когда композитору сравняется сорок два года, и по прихоти судьбы произойдет это именно 10 мая 1942 года в «Карнеги-холл»; сколько же ему пришлось ждать! — будут восхищаться поклонники, но Дэриан Лихт не испытает горечи, Дэриана Лихта постоянно сжигает внутренний огонь, он постоянно влюблен.
По крайней мере о том вещает его музыка.
Ничего не говори отцу. Я тебе скоро позвоню.
Милли, от которой уже больше года ничего не было слышно, прислала Дэриану пакет с газетными вырезками, вряд ли он читает нью-йоркские издания, мир политики и расовых волнений от него явно далек, это нереальный для него мир; а теперь, когда он стал музыкальным директором Объединенного школьного центра в округе Мюркирк — должность он занял исключительно ради жалованья (хотя какое ж это жалованье, не преминул заметить Абрахам Лихт), — у него на газеты и вовсе не остается времени. На присланных Милли вырезках — первые полосы газет с огромными заголовками: «ПРИНЦ ЭЛИХУ УБИТ В ГАРЛЕМЕ», отчеты начинаются словами: «Негритянский лидер застрелен неизвестными неграми». Кошмарные подробности убийства негра-революционера, сраженного пулей на улице, прямо у своего дома, больше напоминающего крепость, но Дэриан не может понять, какое все это имеет отношение к нему. Он вглядывается в фотографии, сопровождающие статьи; нет, конечно, это не их брат Элайша; хотя Милли скорее всего хочет, чтобы он думал, будто принц Элиху и Элайша — одно лицо, иначе зачем было посылать эти вырезки и просить ничего не говорить отцу? Но Дэриан уверен: этого злобного на вид принца Элиху, которого считают то ли африканцем, то ли уроженцем Ямайки, он в жизни не видел.
Дэриан рвет вырезки, Розамунде их тоже совсем незачем видеть. У его старшей сестры были в свое время «проблемы с выпивкой», на это намекал ему Уоррен Стерлинг; надо позвонить Милли, думает Дэриан, да, надо это сделать не откладывая, но ведь он так чертовски занят, да и о чем говорить?
Лучше дождаться, пока она позвонит сама. Если позвонит.
Все вышло случайно, но обвиняют его.
Машина почтальона с низкой осадкой застревает в грязи на главной дороге, колеса беспомощно буксуют, так что ему ничего не остается, кроме как выйти и постучать в дом Лихтов, они с Дэрианом старые знакомые, вместе ходили в школу, но, выглянув в окно, Абрахам Лихт не узнает почтальона, у Абрахама Лихта плохое зрение, он почти не спал всю ночь, и уже не первую, он убежден, что это его враги пришли за ним, федеральные агенты пришли за ним так же, как некогда пришли они за ним и Лайшей, и они с сыном едва успели убежать по крышам, под пулями, которые впивались им в затылки, а сейчас они пришли по специальному указанию министра финансов, ибо Абрахам Лихт знает всю подноготную того, что произошло в октябре 1929 года, он бросается за ружьем, запертым в кабинете и постоянно находящемся в боевой готовности на такой вот крайний случай; вообще-то он собирается всего лишь припугнуть незваного гостя (так он будет клясться впоследствии), но каким-то образом один из двух стволов сам собой разряжается, раздается оглушительный грохот, крупная дробь вдребезги разносит оконное стекло, повсюду разлетаются осколки, отдачей от выстрела Абрахама швыряет на пол, и тут на пороге появляется бледный как мел Дэриан: О Господи, отец, ты цел? Из-за спины у него выглядывает Розамунда, Абрахам встает на колени и ползет к ружью, один ствол еще заряжен, можно выстрелить, но Дэриан пытается вырвать ружье у него из рук: Не надо отец, ради Бога, не надо, он борется с Абрахамом Лихтом, у того вывихнуто плечо, но боли он не чувствует, ему лишь стыдно, он сокрушается: выставил себя дураком перед женщиной, ему удается встать на ноги и прежде, чем кто-либо успевает его остановить, выбежать из дома через заднюю дверь; с непокрытой головой, в одной рубашке, он бежит в сторону болота, бежит без ботинок через замерзшую топь и, подобно опытному раненому зверю, скрывается там от сына и жены, те отчаянно зовут его, но он не откликается, он исчезает на болоте, покрывшемся грязным ледком и заросшем жидким кустарником, и прячется там до конца дня.
А когда возвращается в сумерках, ружья на месте не находит.
И больше никто из домашних, включая самого Абрахама Лихта, речи об этом происшествии не заводит.
Словно меня никогда и не было.
Он стоит, склонившись над жарким пламенем, с кочергой в руке. По щекам текут слезы, задерживаясь в складках морщин, усах, ресницах; и усы, и ресницы опалены; но он полон решимости уничтожить все компрометирующие материалы; все свидетельства, касающиеся Абрахама Лихта; он должен стереть все следы Абрахама Лихта; каждую бумажку, каждый финансовый отчет, все ненужные акции лопнувших компаний, тайну «Формулы Либкнехта», записи космогонических размышлений, зашифрованные дневники, а также ни много ни мало две тысячи страниц мемуаров, озаглавленных «Исповедь моего сердца», сочинение которых заняло у него шестьдесят лет, труд всей жизни — все уничтожить!
Розамунда яростно колотит в дверь, просит отпереть, в доме полно дыма, чем он там занимается, что сжигает? И где? В камине? Но ведь дымоход забит, ему же это хорошо известно; но Абрахам не обращает на нее ни малейшего внимания, он порвал с ней все отношения, и с сыном тоже, он испытывает к тайным прелюбодеям лишь надменное презрение. Абрахам, умоляю, что ты делаешь? Открой же дверь, наконец! Стук не прекращается, она сильная для своего возраста и своего сложения женщина — такая стройная, так отменно воспитана, как и все прежние жены Абрахама Лихта, да, она отлично воспитана, но все же предала его, он не обращает на нее внимания, его завораживают огонь, клубы дыма, языки пламени, хищно пожирающего все, чем он питает его: в огонь летят и в считанные секунды превращаются в пепел нотариально заверенные документы, относящиеся к «Компании Сантьяго-де-Куба», несколько пожелтевших экземпляров «Фрелихтс Тип», официальные бланки компании «Панамский канал, лтд.», за ними — компаний «Медные рудники З.З. Энсона с сыновьями, лтд.», Общества по восстановлению наследия Э. Огюста Наполеона Бонапарта и рекламациям, а вот надушенное любовное письмо от женщины по имени Эва (чье сердце, как укоряла она его, Абрахам разбил), связка нераспечатанных писем от Миллисент (эта, в свою очередь, разбила его сердце, и он не дал ей шанса попытаться залечить нанесенные раны), малограмотное письмо от некоего «Феликса Биса, доктора наук» с угрозами судебного преследования, а вот целая гора бумаги — мемуары и зашифрованные записи, касающиеся связей между отдаленными созвездиями и самыми незначительными событиями человеческой жизни, размышления о Прошлом, Настоящем и Будущем, вместе сгорающие в огне; ибо он отдает себе отчет в том, что скоро умрет во сне или (лучше) на болоте, на зимнем болоте, где никто его не отыщет.
Пистолет 38-го калибра. Оттягивает карман куртки. Он собирается забросить его куда-нибудь подальше на болоте, где весной, когда растает лед, он погрузится в мутную жижу и сгинет навсегда. Где его никогда не найдут, а если и найдут, с ним не свяжут… потому что я так и не прибег к его помощи, мог использовать, но не стал, четыре пули — вот все, что потребовалось бы, но я не сделал этого, помните мою доброту.
Пилигрим
…Место, где старится и угасает, перетекая во тьму Ночи, солнечный свет, место, где деревья — это Ночь, где в тумане бродит женщина, где она расчесывает свои длинные бледно-золотистые волосы и поет; воздух мерцает и морозно поблескивает, вдруг он снова становится молод, на юных пружинистых ногах бежит, летит, едва касаясь поникшей болотной травы, на восток, где никто его не знает, на запад, где никто его не знает, на север, где громоздятся ослепительно белые торосы, где оглушают своим воем зимние ветры, кто-то шепчет его имя, кто-то, бродящий в тумане, знает его имя, пора, говорит она, сулит покой, одиночество, забвение, это место Ночи, место, где ждут его дети, где все голоса мира сливаются в один оглушительный звук, где свет слепит глаза, она прижимает его к себе, шепчет его имя, волосы у него отросли длинные, редкими седыми прядями цепляются за самые высокие ветви деревьев-пауков, лишайник клочьями пророс в складках кожи, ноги запутались в высокой траве, пальцы рук стали усиками и корнями растений, парок от дыхания, некогда прерывистого и горячего, превратился в облачко крохотных льдинок, чуткие ноздри — ноздри горячего жеребца — покрылись ледяной коркой, скрюченные пальцы — изо льда, она сулит Ночь, она сулит сон, леденеют ресницы, затвердевает, как лед, выпуклая поверхность глазного яблока, льдом покрываются легкие, в ледяную колонну превращается позвоночный столб, жилы образуют заледеневшие ветви дерева, созвездие изо льда, даже самое яростное зимнее солнце не в силах растопить такие деревья, даже самый яростный зимний ветер не проникает сквозь них, это место, где все погружено в ледяной сон, это место — Ночь.