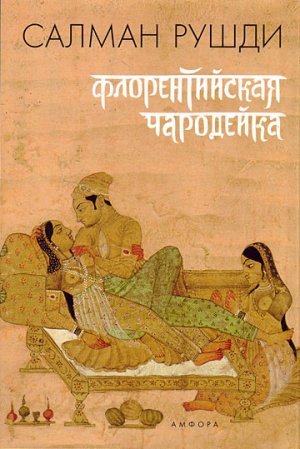
Франческо Петрарка
- Легко, как двигалась она, не ходит
- Никто из смертных; музыкой чудесной
- Звучали в ангельских устах слова.
- Живое солнце, светлый дух небесный
- Я лицезрел…
Мирза Талиб
- Найдите толмача и приведите его ко мне,
- Ибо есть странник в городе,
- Истории его хотел бы я услышать.
Salman Rushdie
the enchantress of Florence
© 2009, Salman Rushdie
All rights reserved
© E. Бросалина, перевод на русский язык, 2009
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023
© ООО “Издательство ACT”, 2023
Издательство CORPUS ®
I
1. Пламенеющее в последних лучах заходящего солнца озеро…
Пламенеющее в последних лучах заходящего солнца озеро под городом дворцов переливалось, словно расплавленное золото. Страннику, приближавшемуся к нему по идущей вдоль берега дороге, не потребовалось больших усилий, чтобы вообразить, будто вскоре ему предстоит встреча с государем, богатства которого несметны и который специально велел заполнить огромную впадину жидким золотом, дабы изумлять и приводить в священный трепет каждого, кто вступает в его владения. Озеро огромно, и если предположить, что оно всего лишь малая толика царских сокровищ, то каковы же тогда размеры этого океана?! По всей видимости, жидкое золото никем не охранялось. Возможно, это добрый знак. Быть может, здешний правитель настолько щедр, что любому, вступающему в его владения – будь он даже из чужих земель, – дозволено без помех черпать горстями драгоценную жидкость. Если так, то он, должно быть, и вправду человек необычайный, вроде короля Пристера Джона[1], полузабытые легенды и баллады о счастливых временах которого полны описаний множества чудес. “Быть может, – мечтательно рассуждал про себя путешественник, – за теми вот городскими стенами бьет источник вечной молодости, а где-то поблизости находится тайная дверь в земной рай…”
Но тут солнце скрылось за горизонтом, и золото исчезло с поверхности озера. Оно легло на дно, где до наступления следующего дня его будут бдительно охранять русалки и водяные змеи. До самого рассвета вода – единственное сокровище, которое сможет предложить озеро истомленному жаждой путнику, и наш странник готов был принять его с великой признательностью.
Чужеземец ехал на простой двухколесной арбе, запряженной парой буйволов. Однако вместо того чтобы сидеть на жестких подушках, он предпочел стоять, небрежно опершись одною рукой на перила решетчатого деревянного ограждения, словно бог на летающей колеснице. Повозка раскачивалась и дергалась в такт буйволиной поступи, да и сама дорога была вся в рытвинах и ухабах. Езда стоя вполне могла привести к падению, а тогда – прощай, жизнь! Но путешественник упрямо продолжал стоять, умудряясь сохранять при этом спокойный, даже горделивый вид. Вознице давно надоело призывать его к осторожности. Поначалу он принял чужеземца за круглого дурака и махнул на него рукой: сломает себе шею – что ж, туда ему и дорога, здесь чужака оплакивать никто не станет. Правда, вскоре презрение уступило место невольному восхищению. Может, странник и впрямь выглядел чудно: лицо слишком смазливое для настоящего мужчины, да и одежда дурацкая – пестрый плащ из разноцветных ромбиков кожи, – но его осанке, его умению сохранять равновесие можно было позавидовать.
Повозку трясло, колеса то проваливались в колдобины, то наскакивали на булыжники, а чужеземец как ни в чем не бывало продолжал стоять и даже ни разу не покачнулся, сохраняя изящество и непринужденность позы. “Хоть и дурак, но до чего же ловок! – подумал возница. – А может, он и не дурак вовсе, может, это человек, с которым стоит считаться? Если уж и есть у чужака явный недостаток, – продолжал рассуждать про себя хозяин повозки, – так это, пожалуй, выпендривание, желание казаться не таким, каков он на самом деле, а таким, каким он хочет, чтобы его видели другие. Правда, в этих краях у всех есть такая склонность, и в этом смысле они немногим от него отличаются, так что не такой уж он и странный на самом-то деле”.
Когда чужеземец заявил, что его мучает жажда, возница – неожиданно для самого себя – спустился к озеру, наполнил водою выдолбленную из высушенной тыквы и отполированную чашу и с таким почтением подал ее незнакомцу, словно перед ним был знатный господин.
– Тоже мне, князь выискался! Стоишь тут, а я бегай для тебя за водой! – проворчал возчик себе под нос. – С чего это я тебе прислуживаю – сам не пойму. Какое такое у тебя право мной командовать? Да кто ты такой на самом-то деле?! Уж не из благородных, это точно, не то с чего бы ты тащился на моей повозке! А еще нос задираешь! Не иначе как прощелыга, бандит какой-нибудь!
Незнакомец жадно пил. Струйки сбегали вниз, к бритому подбородку, образуя подобие водяной бороды. Наконец он передал пустую чашу вознице и со вздохом облегчения смахнул оставшиеся капли.
– Кто я такой? – словно говоря сам с собою, но на местном наречии произнес странник. – Я человек, владеющий страшным секретом, но он предназначен лишь для ушей великого императора!
Возница снова почувствовал себя уверенно: первое впечатление его не обмануло – этот парень и впрямь полный дурак, так что нечего с ним церемониться.
– Можешь оставить свой секрет при себе, – равнодушно отозвался он. – Секреты – они лишь у малых ребятишек да лазутчиков.
Незнакомец слез с повозки возле караван-сарая, откуда начинались и где кончались все дальние дороги. Он был на удивление высокого роста и держал в руках хурджин из ковровой ткани.
– А еще у колдунов, влюбленных и… государей, – бросил на прощанье чужестранец, перед тем как войти в караван-сарай.
Там, как обычно, царили шум и суета. Лошади, верблюды, волы, ослы, козы – всех их требовалось накормить и напоить. Кругом бегала, скакала и летала прочая живность, пронзительно визжали обезьяны, лаяли грозного вида псы; в небо зеленым фейерверком то и дело взлетали крикливые попугаи. Кузнецы ковали, плотники ладили повозки, а в крытых торговых рядах, расположенных по четырем сторонам огромной площади, люди, готовясь в дальний путь, запасались всем необходимым, покупали съестное, свечи, масло, мыло, прочные веревки. Перенося на головах грузы непомерного веса и объема, носились взад-вперед неутомимые кули в красных тюрбанах. Одни собирались в дорогу и нагружали повозки, другие стремились поскорее разгрузиться и отдохнуть. Здесь за ночлег брали дешево. Деревянные лежаки, перетянутые веревками, с набитыми конским волосом колючими матрасами рядами, как в казармах, стояли на плоских крышах одноэтажных строений по всему периметру громадного подворья. Здесь можно было провести ночь и, устремив взгляд в черное небо, воображать, будто ты равен бессмертным богам. Поодаль, к западу от караван-сарая, стояли лагерем императорские полки, вернувшиеся недавно с полей сражений. Оттуда доносился глухой гул. Полкам не разрешалось входить в город дворцов, им было отведено место под холмом. С армией, только что прибывшей с поля битвы, не занятой своим прямым ратным ремеслом, следовало быть предельно осторожным. Нашему путнику вспомнилась история Древнего Рима. Там император не доверял никому, кроме своих верных преторианцев. Путник знал, что вопрос о доверии к его персоне вскоре станет ключевым. Не сумеешь внушить доверия – потеряешь жизнь.
Совсем близко от караван-сарая высилась украшенная слоновьими бивнями башня, обозначавшая место, где находились главные дворцовые ворота. Все слоны считались личной собственностью правителя, и башня с торчащими из нее бивнями призвана была демонстрировать его могущество. “Берегись! – казалось, говорила башня. – Ты ступаешь на землю самого владыки слонов, обладателя такого множества толстокожих гигантов, что он с легкостью позволил себе истребить целые тысячи их лишь ради того, чтобы украсить меня”. В этом зримом символе могущества путник усмотрел проявление такого же вызывающего стремления к превосходству, какое жгло и его душу. Было ли это чистым огнем или печатью Сатаны – как знать? Тот, по велению кого была воздвигнута башня, для подтверждения своего превосходства явно избрал путь устрашения – качество, которое путнику часто казалось признаком малодушия. “Неужели человек может доказать свою исключительность лишь посредством насилия?” – спросил он себя. Спросил – и не нашел ответа, однако ему хотелось надеяться, что превосходство может быть достигнуто и иным путем, а именно – через чувство прекрасного: он знал, что красив; знал и то, что его красота тоже дает ему власть над людьми.
За клыкастой башней находился большущий колодец, от которого по всему склону холма тянулась вверх целая сеть немыслимо сложных сооружений для снабжения водой увенчанного множеством куполов дворцового комплекса.
Без воды человек ничто, – подумал странник. – Будь он хоть император, но, оставшись без воды, он обратится в прах, как любой другой. Вода – вот истинная госпожа, и все мы – ее рабы. У себя во Флоренции он однажды встретил человека, который умел заставить воду исчезнуть. Это был фокусник. Он наполнил кувшин водой до самых краев, пошептал над ним какие-то заклинания, потом перевернул кувшин – и вместо жидкости оттуда заструился поток шелковых шарфов. Разумеется, это был ловкий фокус, и уже к концу дня он сумел выпытать у фокусника секрет трюка, присовокупив эту тайну к другим, уже им приобретенным. Он успел накопить множество тайн, но лишь одна из них была достойна того, чтобы ее предложить в дар императору.
Дорога круто пошла вверх, и вскоре перед ним открылась панорама города. Безо всякого сомнения, это был самый большой город из всех, какие ему доводилось видеть: больше, чем Флоренция, больше Венеции, больше Рима. Однажды он побывал в Лондоне, но и тот уступал этому городу по величине. По мере того как сгущались сумерки, город, казалось, рос у него на глазах. Густонаселенные предместья лепились у его стен, с верхушек минаретов неслись крики муэдзинов, в отдалении были видны огни обширных поместий. Словно грозное предупреждение, один за другим загорались то там, то здесь всё новые и новые огни, и словно им в ответ в темной чаше небес одна за другой вспыхивали звезды. “Будто земля и небо готовятся к решительной схватке, – подумал он. – Будто две армии затаились во тьме, чтобы с первыми лучами солнца ринуться в бой. И ни в лабиринтах улиц, ни в богатых домах на равнине нет ни одного человека, который хотя бы раз слышал мое имя и готов принять на веру то, о чем я намерен рассказать. И все-таки я это сделаю. Должен сделать. Ради этого я пересек моря и океаны и теперь не отступлюсь”.
Он шел вперед широкими, решительными шагами. Его высокий рост, его длинные, хотя, признаться, довольно грязные волосы, колышущиеся на ветру, словно золотистая озерная вода, привлекали к нему любопытные взгляды. Дорога вела его все выше. Вот он миновал Слоновью башню, и ему стали видны каменные ворота с барельефами, изображающими стоящих друг против друга слонов. Ворота так и назывались – Хатьяпала[2]. Они были распахнуты, и оттуда доносился гул веселящейся и пьющей, насыщающейся и совокупляющейся массы людей. У ворот стояли стражники, но в глазах их не было ничего угрожающего. Настоящие препоны ждали его впереди. Пространство непосредственно за стенами считалось местом, доступным всем: здесь назначали встречи, торговали, покупали и развлекались простолюдины. Странника то и дело обгоняли люди, они спешили, ведомые каждый своей насущной нуждой или жаждой удовольствий. Между внешними и внутренними, дворцовыми, воротами по обеим сторонам вымощенной булыжником дороги тянулись бесконечные ряды харчевен, веселых домов, постоялых дворов, прилавков со съестным и лотков со всякой всячиной. Здесь все занимались вечным как мир делом – куплей-продажей. Одежда, посуда, безделушки, оружие, ром… Здесь был “черный рынок” – рынок жуликов и воров: вздутые цены, грубая ругань и сомнительное качество товара. Однако незнакомые с планом города, утомленные долгой дорогой путники не желали тратить остатки сил, чтобы идти вдоль городской стены к воротам на противоположной стороне, где находился более приличный и дешевый рынок, и довольствовались тем, который ближе. Их потребности были просты, а нужды безотлагательны.
Живые куры со связанными лапками, подвешенные вниз головой, заполошно трепыхались – их уже поджидали кипящие котлы; у прилавков, где готовили пищу для мясоненавистников-вегетарианцев, было потише – овощи не вопили. А еще ветер доносил до странника звонкие женские голоса – дразнящие, призывные голоса женщин, раззадоривающих невидимых мужчин. Он чуял в воздухе запах этих женщин. В любом случае, решил путник, сегодня уже слишком поздно добиваться встречи с государем. Деньги у него имелись, а путь был долгим, потому что непрямой. Таков был его излюбленный способ действия: он всегда шел вперед, но окольными путями, петляя и обходя препятствия. Сойдя с корабля в Сурате, он через Бурханпур, Сиронж, Нарвар, Гвалиор и Дхол-пур добрался до Агры и лишь оттуда двинулся сюда, к новой столице. Прямо теперь ему требовалась по возможности удобная постель, желательно не усатая женщина и пусть недолгое, но полное забытье, какое может подарить лишь добрая выпивка.
Позже, удовлетворив свои насущные потребности в одном из веселых заведений, где было не продохнуть от запахов человеческих тел, он уснул возле всю ночь не смыкавшей глаз старательной шлюхи. Под собственный трубный храп он стал смотреть сны. Он мог смотреть сны на семи языках: на итальянском и испанском, на арабском и персидском, на английском, русском и португальском. Он подцеплял языки, как моряк – дурные болезни. Они липли к нему сами собой, словно гонорея, сифилис, чесотка, горячка, цинга или чума. Стоило ему погрузиться в сон, как тут же голоса половины мира на разных наречиях взахлеб принимались нашептывать ему небывалые истории скитаний по свету. А в этом, лишь наполовину открытом, мире каждый новый день приносил новые, чарующие впечатления и ощущения. Там, во сне, поэтическое воображение рассказчика свободно, оно еще не взято в шоры прозой жизни. Наш путник и сам умел сочинять истории, но он покинул свой край, потому что рассказы о чудесах неудержимо влекли его все дальше и дальше от родных мест. Среди этих рассказов был один, который мог принести ему славу и богатство, но мог и стоить жизни.
2. На борту пиратского корабля под началом шотландского милорда…
На борту пиратского корабля под началом шотландского милорда, названном “Скатах” – в честь легендарной богини-воительницы с острова Скай, – команда которого преспокойно занималась своим разбойничьим ремеслом у побережья Южной Америки, но в настоящий момент направлялась к берегам Индии по делу государственной важности, был обнаружен “заяц”. Им оказался бездельник-флорентиец.
Его не выкинули безо всяких проволочек за борт исключительно потому, что он умудрился у всех на глазах вытащить из уха трясущегося от ужаса боцмана живую водяную змею, которую и выбросили в море вместо него. Парня нашли среди канатов на носу судна через семь дней после того, как корабль обогнул южную оконечность Африканского континента. Одетый в горчичного цвета камзол и штаны в обтяжку, он сладко храпел, накрывшись клоунским плащом, сшитым из разноцветных ромбиков кожи, но даже во сне прижимал к себе небольшую суму из ковровой ткани. Он не сделал ни малейшей попытки спрятаться или удрать. Похоже, парень не имел ничего против того, чтобы его обнаружили, и был глубочайше уверен в своей способности убеждать, поражать и очаровывать. В любом случае, на этом судне ему удалось проделать уже немалый путь. К тому же оказалось, что он действительно ловкий фокусник. Он превращал золотые монеты в дым, а густой желтый дым – обратно в золото; из наполненного водой перевернутого вверх дном кувшина у него вместо жидкости струился поток шелковых шарфов; одним изящным движением руки он щедро приумножал порции рыбы и ломти хлеба, – все это, конечно, отдавало безбожием, но вечно голодные моряки предпочли закрыть на это глаза. Дабы не навлечь на себя гнев Иисуса Христа за то, что они позволили какому-то прощелыге-кудеснику узурпировать Его прерогативу, они торопливо крестились и жадно глотали свою неожиданно обильную, хотя теологически весьма сомнительную пищу. Даже Джордж Луи Хоуксбенк – лорд Хоуксбенк, глава рода Хоуксбенков, то бишь, согласно шотландской традиции, тот один-единственный, который имел право именоваться высокородным Хоуксбенком из Хоуксбенка, в отличие от всех прочих мелкотравчатых Хоуксбенков, проживавших в других, менее значимых, местах Шотландии, – подпал под обаяние пройдохи-пассажира, этого шута, когда того привели в капитанскую каюту для решения его дальнейшей судьбы. Молодой прощелыга назвал себя Учелло.
– Учелло ди Фиренце, маг и ученый, к вашим услугам, милорд, – на превосходном английском представился он, с непринужденной грацией склоняясь в глубоком поклоне.
Лорд Хоуксбенк заулыбался и поднес к носу надушенный платок.
– Я мог бы тебе и поверить, – сказал он, – если б не знал доподлинно, что именно в названном тобою месте и с такой же фамилией жил некий художник Паоло, который в вашем Дуомо[3] создал фреску в честь моего славного предка сэра Джона Хоуксбенка, более известного как Джованни Милано, в прошлом наемника, а впоследствии флорентийского генерала, победителя битвы при Полпетто. Однако этот художник, к несчастью для тебя, уже много лет как умер.
Молодой нахал пренебрежительно щелкнул языком:
– Ясное дело, я не тот покойный живописец, – произнес он и горделиво выпрямился. – Отправляясь путешествовать, я взял себе это имя, потому что на моем родном наречии оно означает “птица”, а птицы, как и я, – самые отважные в мире путешественники. – С этими словами парень проворно выхватил из-за пазухи живого сокола с колпачком на голове, и тут же, словно из воздуха, материализовалась рукавица сокольничего. То и другое он с поклоном вручил ошалевшему от изумления лорду, добавив при этом: – А вот и сокол для господина с Ястребиного берега[4].
Однако едва Хоуксбенк надел рукавицу, как Учелло, словно женщина, отвергающая возлюбленного, щелкнул пальцами, и, к немалому смятению шотландского лорда, птица в кожаном колпачке и сама перчатка исчезли так же молниеносно, как и появились. Учелло же как ни в чем не бывало продолжал:
– Я взял себе такое имя еще и потому, что в моем родном городе это “птичье” словцо имеет и другой смысл: его употребляют, когда говорят о мужском члене, коим я горжусь, однако не настолько дурно воспитан, чтобы предъявлять его всем и каждому.
На удивление быстро оправившись от шока, Хоуксбенк из Хоуксбенка разразился громким хохотом.
– Что ж, – молвил лорд, – в этом отношении мы с тобой похожи.
Высокородный Хоуксбенк успел немало повидать на своем веку. Он выглядел моложе, чем был на самом деле. У него были ясные глаза и гладкое, без морщин лицо, однако пятый десяток он разменял уже лет семь назад. О его владении мечом и шпагой ходили легенды, и он был силен, как белый бык. На утлом плоту он доплыл по Желтой реке[5] до самых ее истоков, где в качестве угощения ему поднесли в золотой чаше зажаренный на углях пенис тигра; он охотился и сразил белого носорога в кратере потухшего вулкана Нгоронгоро; в родных шотландских горах он покорил двести восемьдесят четыре вершины, он взбирался на все – от Бен-Невиса до недоступного пика Сгурр-Диарг на острове Скай, родине кровожадной богини Скатах. Когда-то давным-давно в родовом замке Хоуксбенков он разругался в пух и прах со своей законной супругой – крошечной крикливой женщиной, у которой были рыжие кудри и челюсть словно голландские щипцы для колки орехов. Он оставил ее разводить черных овец и отбыл, чтобы, как и его предок, попытать счастья в далеких краях. Он стал капитаном корабля и под началом Дрейка принял деятельное участие в грабеже груженных золотом испанских кораблей в Карибском море.
В награду за доблесть благодарная королева доверила Хоуксбенку выполнение важной миссии: в качестве посла ему предстояло вручить Великому Моголу[6] послание от самой Глорианы[7] и привезти ответ. При этом он получал единоличное право собственности на все, что ему удастся добыть в Хиндустане[8], – будь то драгоценности, золото или опиум.
– В Италии мы обычно говорим не “могол”, а “могор”, – заметил самозванец, выслушав рассказ высокородного шотландца.
– Кто их разберет, как это у них произносится, – поддержал его Хоуксбенк. – Чужое слово может сто раз исказиться в другом языке.
Их внезапно возникшую обоюдную симпатию скрепил томик сонетов Петрарки, который Учелло приметил на каменной столешнице низкого столика у локтя Хоуксбенка.
– О, блистательный Петрарка! Вот уж кто и вправду истинный маг и волшебник! – воскликнул он и, приняв позу заправского оратора-римлянина, начал декламировать на итальянском:
Benedetto sia ’l giorno, et ’l mese, et l’anno,
et la stagione, e ’l tempo, et l’ora, e ’l punto,
e ’l bel paese, e ’l loco ov’io fui giunto
da’duo begli occhi che legato m’’nno…’ [9]
– Человек, любящий Петрарку, как я, непременно должен стать моим господином! – воскликнул Учелло.
– Человек, чувствующий как я, непременно должен выпить со мной! – ответствовал шотландец. – Ты подобрал ключ к моему сердцу, и я желаю поделиться с тобою своей тайной. Только помни – никому ни слова! Следуй за мной!
В своей каюте, за одной из сдвигающихся панелей, лорд Хоуксбенк хранил шкатулку с любимой коллекцией диковинных предметов искусства. Это было собрание небольших по размеру вещиц, без которых, как выразился бравый шотландец, человек, постоянно находящийся в дороге, может утратить чувство пространства и времени, поскольку от множества необычных и новых впечатлений расшатывается душевное здоровье.
– Это вещи не мои, – признался он своему новому приятелю-флорентийцу, – но они помогают мне не забыть, кто я есть. Какое-то время я держу их при себе, а потом даю им уйти.
Сначала он достал из ящика горсть драгоценных камней поразительной чистоты и размера, затем золотой слиток, который позволил бы любому прожить в роскоши до конца своих дней. “Это всё пустяки”, – пробормотал он и небрежно отодвинул в сторону то и другое, после чего принялся доставать свои, как он их назвал, “настоящие сокровища”. Каждый предмет был любовно обернут тканью и покоился в гнездышке из жатой бумаги и тряпочек: шелковый платок, в знак любви подаренный языческой богиней древнего Согда давно забытому герою; кусочек китового уса, на который чья-то искусная рука нанесла сцену охоты на оленя; медальон с портретом Ее Величества королевы Английской, восьмиугольная книжица в кожаном переплете из Святой земли, на крошечных страницах которой с беспримерным изяществом был начертан весь текст Корана. Он извлек из шкатулки безносую головку из Македонии – якобы скульптурное изображение самого Александра Великого, а также одну из загадочных печаток древней цивилизации долины Инда, найденную в Египте, с изображением буйвола и иероглифическими письменами. Эти знаки так и не были расшифрованы, и назначение печатки оставалось тайной; полированную каменную пластину из Китая с алой гексаграммой из “И цзин”[11]и природным узором, похожим на горный пик в тумане; яйцо из тончайшего фарфора с удивительной росписью; высушенную человеческую голову – произведение обитателей затопленных лесов бассейна Амазонки – и наконец, словник уже исчезнувшего языка племени, селившегося когда-то на Панамском перешейке. Из всего племени в живых осталась лишь одна древняя старуха, но и та не смогла правильно воспроизвести ни единого слова по причине полного отсутствия зубов.
Лорд Хоуксбенк из Хоуксбенка открыл шкафчик, где стояли в ряд ценнейшие бокалы, чудесным образом перенесшие многочисленные скитания по морям и океанам, выбрал из них два одинаковых – пузатых и матовых, знаменитого муранского стекла – и плеснул в каждый солидную порцию бренди. Учелло приблизился и взял один из них. Лорд Хоуксбенк сделал глубокий вдох и жадно отпил из своего.
– Ты из Флоренции, и потому тебе наверняка близка мысль о самой могущественной силе на земле, о власти человеческого духа и о ненасытном его стремлении к красоте, к самосовершенствованию и… к любви, – произнес он.
Человек, назвавшийся Учелло, уже собрался ответить, но шотландец жестом остановил его.
– Подожди, дай мне договорить, – продолжал он, – потому что существуют вещи, в которых даже ваши славные философы не понимают ничего. Человеческий дух, как бы велик и благороден он ни был, иногда может испытывать муки голода, как последний нищий. Вид всех этих прелестных вещиц способен ослабить эти муки, но только на какое-то время. Дух все равно томится, страдает и жаждет. Он словно царь, которому постоянно угрожают вторжением враги, такие, к примеру, как страх и тревога, одиночество и смятение души, странная, невероятная гордыня или дикий, загнанный внутрь стыд. Тайные желания терзают дух человеческий, постоянно иссушают его и в конце концов лишают всяких сил. Вижу, ты не понимаешь, что я имею в виду, – заключил Хоуксбенк с глубоким вздохом. – Что ж, тогда выскажусь яснее. Секрет, которым тебе не должно делиться ни с кем, находится не в этом ящике. Он покоится… нет, какое там покоится – он говорит сам за себя! Вот!
Флорентиец, уже успевший смекнуть, о каких именно тайных желаниях ведет речь высокородный Хоуксбенк, с должным почтением воззрился на внушительных размеров “предмет”, который в окружении спутанного клубка влажных волос его превосходительство изволило выложить прямо на столик. От него исходил слабый запах фенхеля, и больше всего он напоминал фирменную колбаску, именуемую финоккьона.
– Если вы оставите море и согласитесь поселиться в моем родном краю, – с серьезным видом произнес Учелло, – то все ваши треволнения останутся позади, поскольку есть много юных вельмож в Сан-Лоренцо, с которыми вы обретете желанное счастье. Я же, к величайшему сожалению…
– Допивай! – оборвал его побагровевший лицом Хоуксбенк, быстро приведя в порядок свою одежду. – Ни слова больше!
Флорентийцу не понравился недобрый огонек, появившийся в глазах лорда, – он бы предпочел, чтобы рука шотландца не находилась в столь опасной близости к эфесу шпаги. Губы Хоуксбенка улыбались, но улыбка скорее напоминала кровожадный оскал хищника.
Засим последовало долгое, тягостное молчание, и Учелло понял, что жизнь его висит на волоске. Наконец Хоуксбенк одним глотком осушил свой бокал и с хриплым, неприятным смешком проговорил:
– Вот что, господин хороший: секрет мой вы знаете, а теперь извольте открыть мне ваш, ибо он у вас, без сомнения, имеется. Я подумал было, что он у нас с вами общий, но ошибся, так что теперь выкладывайте все как есть, да побыстрей!
Человек, назвавшийся Учелло ди Фиренце, попытался изменить направление разговора:
– Для меня было бы великой честью, сэр, услышать от вас рассказ о захвате груженного сокровищами галеона “Каса-фуэго”. И потом, вы наверняка были с Дрейком во время битвы при Вальпараисо и Номбре-де-Диос, когда его ранили, – разве нет?
Хоуксбенк вместо ответа швырнул свой бокал об стену и с криком: “Говори правду, мерзавец, или умри!” – обнажил меч.
Флорентиец, тщательно подбирая слова, начал говорить:
– Как я теперь понял, я здесь для того, чтобы исполнять вашу волю. Однако, – поспешно продолжал он, почувствовав, как лезвие касается его горла, – в перспективе у меня действительно есть своя собственная цель, я, можно сказать, человек в поиске своего истинного предназначения, но более добавить не решусь. На моем секрете лежит заклятие самой могущественной чародейки наших дней. Есть только один человек на свете, который, услышав мою тайну, может остаться в живых. Я не желаю вам смерти и потому буду молчать.
Лорд Хоуксбенк снова рассмеялся, однако на сей раз в его смехе не было ничего устрашающего: гроза пронеслась мимо, и в небе засверкало солнце.
– Ты смешишь меня, пташка! – проговорил он. – Неужели ты думаешь, что меня можно напутать проклятием какой-то безобразной ведьмы? Меня, который в День мертвецов на празднике вуду плясал с самим бароном Самеди[12] и остался цел, несмотря на все его вопли! Ну нет, так просто ты от меня не отделаешься! Выкладывай свой секрет!
– Что ж, значит, так тому и быть. Жил-был однажды принц – искатель приключений. Одни звали его Аргалья, другие – Аркалья. Он слыл доблестным воином, обладал волшебным оружием и имел в услужении четырех великанов. И была при нем женщина по имени Анжелика…
– Погоди, – молвил высокородный Хоуксбенк, хватаясь за виски. – От твоих бредней у меня разболелась голова… Ладно, продолжай, – через одну-две минуты сказал он.
– Анжелика была принцессой из рода Чингисхана и Тамерлана…
– Погоди! Нет, говори!
– Прекраснейшая из прекрасных…
– Замолчи! – прохрипел шотландец и, потеряв сознание, рухнул на пол.
Наш путешественник, почти устыдившись той легкости, с какой ему удалось плеснуть лауданум в стакан благородного лорда, аккуратно вернул ящик с сокровищами в тайник, запахнул свой пестрый плащ и поспешил на палубу, взывая о помощи. Плащ он выиграл в карты у венецианского торговца бриллиантами, немало изумленного тем, что какой-то флорентиец, оказавшийся на Риальто, смог обставить его в местной игре “скарабочьон”. Бородатого иудейского купца звали Шейлок. Плащ ему сшили по особому заказу в лучшей портняжной мастерской Венеции, под названием “II того invidioso”[13]. Над дверью красовалась картинка с изображением зеленоглазого араба. Это был не просто плащ, а мечта любого мага, потому что подкладка его являла собой целый лабиринт потайных карманов, ложных складок и швов, в которых торговец бриллиантами мог прятать свой драгоценный товар от посторонних глаз, а новый счастливый обладатель мог использовать их для своих бесчисленных трюков.
– Друзья, поспешите! Ваш командир нуждается в помощи! – вскричал, выбегая на палубу, Учелло, весьма убедительно при этом изображая тревогу.
Среди членов видавшей виды пиратской команды, ныне преобразившейся в посольское сопровождение, нашлось много таких, которые с подозрением отнеслись к внезапному обмороку капитана, и их косые взгляды в сторону чужака навряд ли можно было счесть благожелательными, однако Учелло ди Фиренце так сокрушался по поводу происшедшего, что сумел-таки заставить их поверить в его искренность. Он помог уложить находившегося в беспамятстве капитана на постель, снял с него одежду и облачил лорда в ночную рубаху; он прикладывал ко лбу заболевшего то холодные, то горячие компрессы; он сказал, что не станет ни спать, ни есть, пока сиятельный Хоуксбенк не придет в себя. Корабельный врач заявил во всеуслышание, что молодой человек – незаменимый ему помощник, после чего угрожающе придвинувшиеся было к Учелло люди стали потихоньку расходиться.
Оставшись один на один с флорентийцем, врач признался ему, что внезапный обморок пациента ставит его в тупик.
– Насколько я могу судить, – сказал он, – слава Господу, капитан ничем не болен, только почему-то никак не проснется. Что ж, – меланхолично заключил он, – быть может, в этом недружелюбном мире лучше спать и видеть сны, нежели бодрствовать.
Врача, свидетеля многих кровопролитных сражений, прозвали Хоукинс Слава Господу. Добрый и простой, с весьма скудным багажом познаний в медицине, он исправно отрезал конечности, умело извлекал пули и зашивал раны после очередной рукопашной с испанцами, но справиться с поразившим капитана таинственным недугом, взявшимся неизвестно откуда, словно только что обнаруженный “заяц” или наказание Господне, оказалось ему не под силу При Вальпараисо Хоукинс лишился левого глаза, при Номбре-де-Диос потерял половину ноги. Ночи напролет он распевал жалостливые португальские фаду, обращенные к некоей девице на балконе в окрестностях Опорто. Он аккомпанировал сам себе на цыганской скрипочке и горько плакал. Учелло без особого труда догадался, что при этом добряк доктор думал об оставленной дома супруге или возлюбленной и растравлял свою сердечную рану картинами того, как она, подвыпив, ублажает в постели не калек, а вполне здоровых мужчин: рыбаков, провонявших рыбой, похотливых францисканцев, которые, словно привидения, наводнили страну после первых конкистадоров, а также всех прочих, независимо от цвета кожи и происхождения: мулатов, метисов, англичан, китайцев и евреев. “Одурманенный любовью себе уже не хозяин, обмануть такого будет нетрудно”, – подумал Учелло.
“Скатах” обогнула Африканский Рог, прошла мимо острова Сокотра, пополнила продовольственные запасы в Маскате и, подгоняемая муссонным ветром, двинулась от персидских берегов на юго-восток, держа курс на порт Диу, который португальцы называли земным раем, а доктор Хоукинс – Гузератом. Лорд Хоуксбенк меж тем продолжал мирно почивать.
– Его сон так безмятежен, – беспомощно вздыхал добряк Хоукинс. – Это доказывает, что совесть его чиста и по крайней мере душа его вполне здорова и готова к встрече с Создателем в любой момент.
– Не допусти Господь! – воскликнул Учелло.
– Славься, Господь, и пока не забирай его от нас! – подхватил Хоукинс.
Во время их долгих бдений у постели больного Учелло подробно расспрашивал доктора о его далекой португалке, и Хоукинс отвечал ему с большой охотой. Флорентиец терпеливо выслушивал восторженные гимны в честь ее очей, ее губ, грудей и бедер, живота, зада и стройных ног. Он выучил наизусть все тайные (но теперь переставшие таковыми быть) ласкательные имена, которыми они наделяли друг друга в постели, он узнал, что она клялась любить его вечно.
– Она лгала, лгала! – рыдал доктор.
– Тебе это доподлинно известно? – спросил Учелло, и когда добрейший Хоукинс Слава Господу, уныло повесив голову, проговорил: “Все это было так давно, а от меня осталась всего половина, так что уж лучше приготовить себя к самому худшему”, – флорентиец сумел разогнать его печаль: – Брось горевать, Слава Господу! Лучше возблагодари Его, ибо ты грустишь напрасно. Лично я уверен, что она тебе верна и ждет тебя не дождется. У тебя не стало ноги? Ну и что? Это всего лишь значит, что всю освободившуюся ввиду отсутствия ноги любовь твоя женщина разделит меж другими частями тела. Нет одного глаза? Зато другим, здоровым, ты будешь с удвоенным жаром взирать на ту, что хранила тебе верность и любит тебя так же, как ты ее. Довольно причитать, Слава Господу! Спой веселую песню и перестань проливать слезы.
Утешая таким манером простака эскулапа и уверяя беднягу, что моряки будут горевать без его песен, флорентиец оставался один на один с впавшим в кому Хоуксбенком и ночь за ночью обследовал обшивку каюты в поисках тайников. Он рассудил, что человек, устроивший один тайник, вряд ли им ограничится, и оказался прав. К тому времени, когда на горизонте замаячил порт Диу, он общипал высокородного Хоуксбенка как хороший повар – цыпленка. Он обнаружил семь тайников, и теперь все драгоценности вместе с деревянными коробочками и семь золотых слитков обрели новое место обитания в бесчисленных карманах плаща Шейлока, причем плащ по-прежнему казался легким как перышко: зеленоглазый араб из Венеции знал свое ремесло, и сколько драгоценных предметов ни пряталось в складках волшебного плаща, он выглядел невесомым. Что же касается “диковинок”, то нашего воришку они не заинтересовали: флорентиец оставил их мирно дремать в своих гнездышках. “Пусть ими подкормятся другие пичуги”, – решил он. Однако огромный улов не удовлетворил Учелло, потому что главное сокровище пока еще не было им обнаружено. Учелло старался не впадать в отчаяние. Судьба дала ему в руки величайший шанс, и он был просто обязан воспользоваться им! Где же это может находиться? Он обследовал уже все помещение, но безрезультатно: желанная вещь так и не нашлась. Черт возьми, неужто это сокровище заговорено и сделалось невидимо простым глазом?!
После краткой остановки в Диу судно взяло курс на Сурат, город, куда только что с карательной экспедицией наведался сам Акбар и откуда лорд Хоуксбенк планировал двинуться к столице Великого Могола уже по суше.
В самую последнюю ночь перед прибытием в Сурат (превращенный разгневанным императором в дымящиеся руины), в то время как Хоукинс Слава Господу на палубе изливал в песнях свою душу перед упившейся вдрызг по случаю окончания долгого морского похода командой, находившийся в капитанской каюте флорентиец наконец обнаружил то, за чем охотился, – в восьмом тайнике, на один больше, чем священное число семь, на один больше, чем мог предположить любой бывалый вор. После этого Учелло присоединился к остальным. Он пел, пил и веселился больше, чем кто-либо другой. Он обладал редкой способностью не спать сутками и потому в предрассветный час, никем не замеченный, воспользовался одной из шлюпок, добрался в ней до берега и исчез, словно фантом.
Он скрылся задолго до того, как Хоукинс Слава Господу поднял тревогу, обнаружив лорда Хоуксбенка из Хоуксбенка в его последней в этой жизни корабельной койке уже с посиневшими губами, навсегда освободившегося от мучительных желаний своей финоккъоны. Учелло ди Фиренце перестал существовать, от него осталось лишь имя, которое он сбросил, как змея сбрасывает старую кожу. Зато у самого сердца безымянного путешественника теперь лежало бесценное сокровище – послание, начертанное рукою Елизаветы Тюдор и скрепленное ее личной печатью, письмо королевы Английской, которое должно было распахнуть перед ним заветные двери во дворец Великого Могола. Он стал послом королевы Англии.
3. На заре дворцы из красноватого песчаника…
На заре дворцы из красноватого песчаника в новом “граде победы” великого императора Акбара казались созданными из клубов багрового дыма. Большинство великих городов кажутся древними чуть ли не со дня своего основания, Сикри же всегда будет выглядеть как город-призрак. Когда солнце стояло в зените, тяжкий молот зноя бил по каменным плитам, отчего люди глохли, воздух дрожал, как перепуганный насмерть раб, а граница между здравым смыслом и бредом, между реальностью и вымыслом становилась зыбкой.
Сам император временами терял эту грань. Привидениями скользили по его покоям, будто играя в прятки, мелькали и пропадали из виду раджпутские князья и турецкие султаны. Одна из царственных особ вообще не существовала во плоти. Это была созданная воображением императора любимая жена. Он выдумал ее, как одинокие дети придумывают себе друзей, и, несмотря на наличие множества вполне реальных, хотя и бесшумно скользящих жен, склонен был считать привидениями именно этих, реальной же для него стала она, несуществующая. Он даже дал ей имя – Джодха, и ни одна живая душа не смела оспорить ее существование. В тиши женских покоев, в шелковых лабиринтах дворца ее влияние и власть крепли день ото дня. Тансен слагал в честь нее песни, в галерее искусств ее красота была запечатлена кистью живописцев и воспета в стихах поэтов.
Великий художник перс Абдус Самад самолично написал ее портрет. Он никогда не встречал ее, он творил по памяти, изобразив ее такой, какой она явилась ему во сне, и когда Акбар увидел его работу, то даже захлопал в ладоши – столь ослепительно прекрасно было ее лицо. “Она у тебя прямо как в жизни!” – воскликнул он. Абдус Самад вздохнул наконец свободно и перестал чувствовать себя так, будто его голова едва держится на плечах. После того как этот шедевр живописного искусства был выставлен на публичное обозрение в галерее, весь двор уверился, что Джодха и вправду существует.
Навратна[14], то есть все девять величайших талантов среди его приближенных, признали не только то, что она существует, но и то, что красотою, умом, грациозностью и мелодичностью голоса превосходит всех прочих. “Ах, Акбар! Ах, Джодха-баи![15] Подобной любви еще не видел свет!”
Строительство города было завершено в срок, как раз к сорокалетию императора. Его строили тяжкие двенадцать лет, но долгое время Акбару казалось, будто город вырастает сам собой, как по волшебству. Его министр строго следил за тем, чтобы во время пребывания Его Величества в своей резиденции никаких строительных работ не производилось. Когда здесь находился император, замолкали молоты каменщиков, плотники не забивали гвоздей, а мастера-декораторы, художники, отделочники, резчики по дереву исчезали из виду. Тогда в городе должны были раздаваться лишь приглушенные, радующие сердце звуки. Слабый ветерок разносил отдаленный перезвон колокольцев на ногах танцовщиц, журчание фонтанов и мелодии гения музыки Тансена. Слух императора услаждали поэтическими шедеврами; по вторникам в открытом павильоне шла неторопливая игра в шахматы – при этом в качестве шахматных фигур использовались девушки-рабыни, – а во второй половине дня в затененных покоях, под огромными колыхающимися опахалами, начинались игры любовные.
Томная атмосфера чувственности, царившая во всех дворцах, была не столько результатом жары, сколько следствием необычайно высокой сексуальной потенции правителя.
Правда, ни один город не состоит лишь из дворцов.
Под стенами дворцового ансамбля, возведенного на мощном монолите красного камня, ютился другой, реальный город из дерева и глины, навоза и кирпича. Здесь люди селились согласно своему происхождению и роду занятий. Одну улицу образовывали лавки торговцев серебром, на другой жили и трудились оружейники со своим громыхающим товаром, еще дальше шли дома и лавки тех, кто торговал тканями, одеждой, украшениями. С восточной стороны тесной колонией жили хинду, далее вдоль городских стен раскинулся квартал персов, затем – квартал выходцев с Алтая – туранцев, а за ним, вблизи пятничной мечети, располагались жилища мусульман, родившихся уже в Индии. Окрестности пестрели поместьями знати; вне дворцового комплекса находились также скрипториум – хранилище рукописей, слава о котором уже успела облететь весь мир, и два павильона: один музыкальный, второй – для танцевальных представлений. Жители “нижних” Сикри в большинстве своем не знали, что такое досуг, и, когда император возвращался из очередного похода и в действие вступал запрет на шум, людям начинало казаться, что их лишают возможности дышать. Из страха нарушить покой владыки владык приходилось, перед тем как отрубить голову курице, вставлять ей в горло кляп. Возница, у которого скрипела телега, мог легко схлопотать кнут, а его крики боли могли повлечь за собой куда более суровое наказание; женщины во время родов зажимали себе рты, а зашедший на базар, где изъяснялись с помощью жестов, подумал бы, что попал к умалишенным. “Когда владыка в городе, мы все дуреем, – говорили люди, но, поскольку шпионов и доносчиков было не счесть, тут же поспешно добавляли: – От радости”.
Люди глинобитного города доказывали свою любовь к императору, но делали это бессловесно, поскольку звук их голосов был под запретом. Когда же владыка отправлялся в очередной поход, на одно из бесчисленных (хотя неизменно победоносных) сражений – в Гуджарат, Раджастан, Кабул или Кашмир, – тюрьму молчания отпирали, и рокотали барабаны, и веселье било ключом, и люди наконец-то могли поделиться друг с другом всем тем, о чем не рассказывали месяцами. Можно было крикнуть: “Ялюблю тебя!”, или “Уменя мать умерла!”, или “Если не отдашь мне долг, я тебе руки переломаю!”, или “Я тоже тебя люблю, милая!”
К счастью обитателей “нижнего” города ратные заботы часто вынуждали владыку покидать свою резиденцию, и в его отсутствие шум и гам перенаселенных бедных кварталов вкупе с грохотом возобновленных строительных работ терзал слух обитательниц женской дворцовой половины. Бедняжки, они ничего не могли с этим поделать! Они жались друг к другу, возлежа на постелях, и тихо стенали, однако то, как и чем именно они пытались отвлечь и развлечь себя за плотными занавесями, мы здесь описывать не будем. Незапятнанной и чистой помыслами оставалась лишь одна из жен владыки – та, которая жила в его воображении. Это она поведала Акбару о тех неудобствах, которые терпят его подданные из-за ретивых чинуш, стремящихся любыми средствами сохранить покой императора. Узнав об этом, Акбар немедленно отменил приказ, заменил жестокого министра общественных работ на более мягкосердечного и велел пронести себя по улицам, возглашая при этом: “Шумите и кричите, люди, сколько душа пожелает! Шум – знак жизни, а громкий шум – признак того, что жизнь – хорошая штука. Успеем намолчаться, когда смерть придет”. Город взорвался радостными криками. В этот день все поняли, что их император не похож на прежних и теперь все пойдет по-иному.
В стране наконец-то настал мир, но душе императора покой был неведом. Он только что вернулся из похода. Он задавил мятеж в Сурате, но и на марше, и во время боя философские и языковые проблемы занимали его ум наряду со стратегическими. Император Абул-Фатх Джелаль-ад-дин Мухаммад, царь царей, которого с детства так и звали – Акбар, то есть “великий”, а впоследствии стали, презрев явную тавтологию, именовать Великий Акбар, то есть великий вдвойне, величайший из великих, настолько великий, что удвоение эпитета почиталось не только уместным, но и совершенно необходимым, дабы с наибольшей полнотой выразить величие его славы; Великий Могол, запорошенный дорожной пылью, закаленный в битвах, непобедимый и меланхоличный, начинающий полнеть и длинноусый, разочарованный и поэтичный, наделенный невероятной мужской силой обладатель абсолютной власти; тот, который был столь великолепен, столь всемогущ, что с трудом верилось, как все это могло сочетаться в одном человеке, – этот правитель, словно неудержимый потоп, поглощающий одно за другим царства и части света, этот многоглавый монстр, говорящий о себе во множественном числе, во время долгого, однообразного пути домой и компании множества отрубленных голов поверженных врагов в наглухо запечатанных кувшинах предавался размышлениям о соблазнительных возможностях, которые представляет употребление формы первого лица единственного числа, то есть местоимения “я”.
Монотонные и тягучие дни путешествия по суше располагают человека соответствующего темперамента к неторопливым размышлениям на самые разнообразные, не связанные между собою темы, и Великий Могол на обратном пути к столице думал об изменчивости мира, о величине звезд, о грудях своих жен и о природе Господа. Ныне же предметом его размышлений явилась проблема грамматическая, а именно употребление личных местоимений первого, второго и третьего лица единственного и множественного числа и их соотношение с личностью как таковой. Сам Акбар никогда – ни в мыслях, ни во сне – не говорил о себе “я”. По отношению к себе он всегда употреблял “мы” – иначе и быть не могло. Император был воплощенное “мы”: произнося “мы”, он твердо и вполне искренне был убежден, что вмещает в себе все народы, все города и земли свои, все горы, долины, реки и озера, все растения – словом, все, что жило и дышало в пределах его царства, включая птиц, кусачих комаров и безымянных гадов, затаившихся под землей и расшатывающих основы Вселенной. Он являл собой воплощение и итог всех побед, вместилище всех качеств, способностей, жизненного опыта и, пожалуй, даже душ своих поверженных или временно усмиренных врагов. Кроме того, он был убежден, что в его особе заключено прошлое и настоящее народа и в ней же залог его будущего.
“Мы” – только так и следует называть себя государю. Однако чисто умозрительно, а также справедливости ради можно предположить, что простые смертные, думая о себе, тоже употребляют форму множественного числа. Неправы ли они? Или – о предательская мысль! – неправ он сам? Быть может, представление индивидуума о себе как о члене некоего сообщества, по сути дела, и означает реальное существование в мире, пребывание среди себе подобных как часть бытия вообще. Может статься, употребление по отношению к себе формы личного местоимения во множественном числе вовсе не является прерогативой государя, его священным, исключительным правом? Можно ведь предположить далее, что поскольку качества монарха – пусть даже в менее рафинированной, примитивной форме, – словно в зеркале, находят отражение в мыслях его подданных, то это неизбежно должно было привести к тому, что как мужская, так и женская части его народа тоже иногда говорят о себе “мы”. Возможно, они употребляют это местоимение, подразумевая себя, своих детей, матерей и теток, своих братьев по вере, знакомых или друзей. Как и он, эти люди соединяют в себе множество “я”. Человек может думать о себе как об отце семейства и в то же время являться сыном для тех, кто произвел на свет его самого; с хозяином он будет не таким, как у себя дома с женой. Короче говоря, каждый человек не что иное, как мешок, набитый разнообразными “я”, точно так же, как и он сам. Тогда выходит, что между правителем и его подданными особой разницы нет?
И тут заинтересовавшая его первоначально лингвистическая проблема неожиданно предстала перед ним в новом, пугающем варианте: если люди, которыми он правит, все же предпочитают, говоря о себе, употреблять местоимение первого лица в единственном числе, то, возможно, и он сам вправе говорить о себе “я”?! Быть может, это “я” и обозначает отдельного индивидуума, отличного от прочих? Быть может, именно это неприкрытое, единичное я” и есть ядро, затоптанное в мире бесчисленными “мы”?
Вопрос напугал его всерьез. Не знающий страха и поражений и, что греха таить, довольно тучный, он скакал на белом коне, направляясь домой, но от собственного вопроса ему стало не по себе. Той ночью проблема “я” не дала ему уснуть. Что он скажет Джодхе при встрече? И если он скажет “это я” или “я вернулся”, ответит ли она ему, употребив интимно-фамильярную форму, то самое “ты”, которое обычно употребляют при обращении к детям, возлюбленным или богам? И что тогда это будет означать? Что он для нее как дитя или как бог или он просто желанный возлюбленный, которого она создала силой своего воображения, подобно тому как создал ее он сам? Может статься, это малюсенькое словечко и является самым трогательным и самым возбуждающим словом в языке. “Я – робко, едва слышно прошептал он. – Я здесь. Я люблю тебя. Иди ко мне”.
На обратном пути его ждало еще одно, последнее, военное предприятие. Следовало примерно наказать некоего возомнившего о себе невесть что князька. Раздавить упрямца – правителя Кучх-Нахина, что на полуострове Катиявар. Правитель был молод, слишком говорлив, к тому же обладал великолепными усами (усы были гордостью императора, и он не желал иметь соперников по этой части). Глупый князек почему-то обожал говорить о свободе. “Свобода – для кого и от чего? – возмущался про себя Акбар. – Свобода – это сказка для детей, это забава для женщин. Ни один человек на земле не свободен”.
Под прикрытием белесых деревьев лесного массива Гир полки Акбара бесшумно, словно чума, подобралась к самым стенам жалкой крепости Кучх-Нахин, и ее защитники, угадав во внезапном треске ломающихся деревьев приближение смертного часа, сами снесли укрепления, выкинули белый флаг и стали молить о милосердии. Вместо того чтобы казнить побежденного противника, император частенько забирал его дочь себе в жены, а побежденному тестю предоставлял какую-нибудь должность при дворе, справедливо полагая, что врага лучше сделать родственником, нежели гниющим трупом. На сей раз, однако, он в ярости выдрал наглому красавчику усы и изрубил его на куски. Он сделал это самолично, своим собственным мечом, как наверняка сделал бы его дед, после чего, весь дрожа, терзаясь угрызениями совести, удалился к себе в шатер.
У императора были большие с прищуром глаза, как у юной мечтательницы или у моряка, жаждущего увидеть землю, они всегда были устремлены куда-то вдаль. Припухлые, по-женски чувственные губы были сложены в капризную гримасу. Правда, несмотря на женственные черты лица, он был мужчиной в превосходной степени, с могучим, крепким телом. Совсем мальчиком он задушил тигрицу голыми руками, но, придя в смятение от своего поступка, поклялся никогда в жизни не есть мяса и стал вегетарианцем. Травоядный мусульманин, воитель, мечтавший о мире, император-философ… Одним словом, клубок противоречий. Таков он был, этот величайший правитель, которого когда-либо знал мир.
На никому не нужные мертвые тела, на залитую кровью, разрушенную крепость опустилась ночь. Внизу, в долине, Акбар, сидя в своем разубранном шатре, под журчавшие, словно ручеек, соловьиные трели, как всегда после кровопролитного сражения, предавался черной меланхолии и горько сокрушался по поводу своего личного генеалогического древа. Он не хотел, ну никак не хотел походить на своих кровожадных предков. Их имена – имена грабителей и захватчиков – угнетали его. Его собственное имя принесло к нему с каскадами человеческой крови. Дед его Бабур был воитель родом из Ферганы. Он покорил Хиндустан, но терпеть не мог это новое свое владение, где всегда было слишком много всего – слишком много богатств и слишком много богов… Бабур был машиной для уничтожения с удивительным даром красноречия; до Бабура в роду Акбара были правители из Трансок-сании[16] и Монголии. Самым известным среди них был Темучин, он же Чингисхан, которому Акбар был обязан тем, что прозывался также “могол” или “монгол”, каковым себя не желал чувствовать. Он ощущал себя… хиндустанцем. Его “орда” никогда не была ни Золотой, ни Голубой, ни Белой. Само это слово, орда, резало ему слух, казалось неприятным, грубым, как свинячье хрюканье. Он не желал иметь в своем подчинении орду; не хотел заливать глазницы врагов расплавленным серебром или расплющивать их в лепешку тяжелым помостом и пировать на нем с соратниками. Он устал от войн. Ему вспомнилось, как первый его наставник, перс Мир, говорил ему о том, что человек, желающий быть в согласии с самим собою, должен научиться жить в мире с другими. “Сулх-и-кул — глубокий покой”, – твердил он. Ни один хан не понял бы его. Но ему, Акбару, не нужно ханства. Ему нужна просто его страна.
Темучин был далеко не единственным среди его предков, кто не знал пощады. Своим появлением на свет он был обязан Тимуру, которого прозвали Железная Нога. Этот Тимур, или Тамерлан, разрушил до основания Дамаск и Багдад и оставил от Дели руины, населенные пятьюдесятью тысячами духов убиенных. Нет, Акбар определенно предпочел бы иметь других предков. Он давно перестал говорить на чагатае, языке, названном в честь одного из сыновей Чингисхана, и сначала изъяснялся на фарси, а затем стал пользоваться языком-ублюдком, рожденным и выросшим в армейской среде, – урду В нем смешалось около дюжины самых разных говоров; из скрежета и свиста, ко всеобщему изумлению, возник красивейший и благозвучнейший язык – язык поэзии.
Смуглокожий правитель Кучх-Нахина был строен и очень молод. Его лишенное усов, ободранное лицо заливала кровь. Он опустился на колени перед Акбаром и замер в ожидании рокового удара.
– История повторяется, – еле выговорил он. – Семьдесят лет назад твой дед убил моего.
– Наш дед, – молвил Акбар, привычно употребляя множественное число первого лица (сейчас было не время экспериментировать – еще не хватало, чтобы свидетелем эксперимента стало это ничтожество!) – был варваром, который умел говорить, как поэт. Мы же, напротив, поэт с варварским прошлым и со своей, присущей варвару, ратной долей, но она внушает нам отвращение. Это как раз доказывает, что история не знает повторений: она движется вперед, и человек меняется тоже.
– Странно слышать такое от палача, – тихо произнес юный правитель, – хотя что толку спорить, когда перед тобой сама Смерть.
– Да, твой час пробил, – холодно согласился император. – Но прежде чем умереть, скажи честно: каким тебе видится рай – там, по ту сторону занавеса?
Князь поднял обезображенное лицо и взглянул прямо в глаза Акбару:
– В раю “почитание” и “несогласие” не противоречат друг другу. Всевышний не тиран. В обители Господа каждый свободно может выражать свои мысли, это способ почитания.
“Щенок, зазнайка, воображает, что умнее всех”, – с раздражением подумал Акбар, но слова князька нашли отклик в его душе.
– Обещаем построить особый храм для такого рода почитания, – сказал он и с возгласом “Аллах акбар!”, что могло означать “Аллах велик” или же “Акбар Всемогущий”, отрубил жалкому прыщу его наглую, несговорчивую и и вмиг ставшую абсолютно никчемной голову.
После убийства князька, как всегда в подобных случаях, Акбара посетил знакомый демон одиночества. Всякий раз, когда кто-нибудь смел говорить с ним как с равным, Акбар впадал в бешенство. Он понимал, что это нехорошо: гнев правителя – его недостаток, гневливый правитель все одно что ошибающийся бог. Одно из главных противоречий его натуры в том и заключалось, что он, будучи не только философствующим и плачущим убийцей, но еще и эгоцентриком, привыкшим к раболепию и лести, тем не менее тосковал по совсем иному миру, такому, где он мог бы встретить равного себе, родственную душу, брата по разуму, человека, с которым можно было бы делиться мыслями, обмениваться знаниями, испытывая и даря радость общения; он мечтал о таком устройстве мира, при котором можно было бы одержать над противником верх не посредством кровавой расправы, но способом более приятным, хотя и требующим напряжения всех умственных сил, – то есть в ходе диспута. Существует ли такой миропорядок и можно ли найти к нему дорогу? – спрашивал себя император. Существует ли на свете равный ему человек? Может статься, убитый князек с отодранными усами как раз и был тем самым человеком. Неужто он сейчас убил единственного, кто мог бы сделаться его задушевным другом? Под влиянием выпитого вина мысли Акбара становились все более сбивчивыми и сентиментальными, и на глаза навернулись пьяные слезы. Какой путь избрать, чтобы добиться желаемого – стать по-настоящему Акбаром?
Говорить было не с кем. Своего личного слугу, глухого Бхактирама Джайна, он прогнал прочь, чтобы никто не мешал ему пить. Глухой слуга хорош тем, что не слышит, о чем бормочет его пьяный господин, однако Бхактирам научился читать по губам, и это обесценило его; он теперь мог продать его, как и всякий другой.
Шептались, что владыка безумен. Об этом твердили все: его солдаты, его слуги, его жены. И Бхактирам, возможно, говорил за его спиной то же самое. Разумеется, в лицо это ему не смел бросить никто: он, словно сказочный герой, был огромного роста, он был доблестным воином, и коли такой человек предпочитал слыть чуть-чуть не в себе, то это его, императорское, дело. Император, однако, не был помешанным. Просто он был недоволен самим собой. Он изо всех сил пытался найти себя.
Ладно, он выполнит обещание, данное им князьку Кучх-Нахина, – воздвигнет новый храм, который станет местом для диспутов, где каждый будет иметь право высказывать свои мысли на любую тему, включая такие, как существование Всевышнего и необходимость императорской власти. Возможно, в этом новом храме он научится терпимости. Нет, не то чтобы заново научится, а постарается реализовать ту терпимость, которая – он это чувствовал – и без того была органически ему присуща, только спрятана глубоко в сердце. Тот смиренный Акбар, порожденный детскими годами, проведенными в изгнании, наверное, лучшее из всех его “я”. Под внешними символами власти в нем еще наверняка жив Акбар-ребенок, чье детство прошло не под знаком побед, но под знаком неудач. Неудачником был его отец. Неудача носила имя Хумаюн.
Он не хотел вспоминать об отце. Тот слишком любил опиум, потерял империю и вернул себе власть лишь после того, как прикинулся шиитом (и вдобавок передал владыке Персии знаменитый алмаз Кох-и-Нор), чтобы ему дали войско, но почти сразу после возвращения к власти умер, упав с лестницы в дворцовой библиотеке.
Акбар никогда не видел своего отца. Он родился в Синде, после поражения Хумаюна в битве при Чаусе, когда царская власть, которая по праву принадлежала Хумаюну, но к которой он оказался непригоден, оказалась в руках Шер-шаха Сури. Бросив сына, лишившийся трона отец ретировался в Персию. Подумать только: оставить на произвол судьбы своего годовалого сына! Допустить, чтобы его нашел и взял на воспитание брат и заклятый враг Хумаюна – дядя Аскари из Кандагара, беспощадный Аскари, который задушил бы его собственными руками, если бы смог добраться до него, но добраться до него он не смог, ибо рядом с ребенком всегда была жена Аскари. Акбар остался в живых потому, что так решила его тетка.
Там, в Кандагаре, он и освоил науку выживания и борьбы, научился тому, как убивать и выслеживать добычу; научился – хотя никто его не учил – и многому другому, например, что следует надеяться лишь на собственные силы, что следует держать язык за зубами и не говорить лишнего, иначе тебя запросто могут убить. Там и тогда он понял, что такое потеря и как, даже потеряв все, можно сохранить достоинство; понял и то, как иногда полезно для души признать свое поражение; там и тогда он приобрел умение вовремя отступать, не попадаться в капкан собственных желаний, как бы сильны они ни были; там и тогда он узнал, что такое быть покинутым вообще и родным отцом в частности; там он понял, что бывают никчемные отцы и никому не нужные дети. Там же, в Кандагаре, он научился самым действенным способам, к которым прибегает слабый для защиты от того, кто старше и сильнее: научился скрытности, предусмотрительности, хитрости, смирению, а также умению видеть не только то, что перед тобой, но и то, что вокруг, то есть выработал периферическое зрение.
Таковы были его уроки – уроки уничижения, от которого нередко начинается путь к величию.
Были, однако, и такие вещи, которым никто его не учил и которые он так и не освоил.
– Мы император Хиндустана, но до сих пор не умеем написать свое имя, Бхактирам! – громыхал он на рассвете, пока глухой Джайн омывал его.
– Да, о благословенное целое, отец множества сыновей, супруг сонма жен, опора Вселенной! – откликнулся Бхактирам, передавая господину полотенце.
Время императорского утреннего туалета являлось также временем императорского прославления. Бхактирам с гордостью носил звание льстеца высшей категории и был мастером витиеватого славословия старой школы. Для этого требовалась исключительная память, дабы изощренные, но по возможности короткие восхваления могли дать желаемый эффект. Из-за бесконечных повторений требовалось строго выдерживать последовательность при перечислении всех императорских достоинств. Память у Бхактирама была великолепной и никогда его не подводила. Он мог славить часами.
В воде купели Акбар увидел свое отражение. Лицо было свирепым, как у вестника смерти.
– Мы, император Хиндустана, – вскричал он, – не можем прочитать собственные законы! Что ты скажешь на это, Бхактирам?
– О да, справедливейший из судей, отец множества сыновей, супруг сонма жен, владыка мира, опора Вселенной и устроитель всего сущего! – нараспев произнес Бхактирам.
– Мы – чистое сияние, мы – светило Хиндустана и солнце славы, – заговорил Акбар, который и сам знал толк в славословии, – и тем не менее юные лета мы провели в вонючей дыре, в Кандагаре, где мужчины совокупляются с женщинами, чтобы делать мальчиков, и с мальчиками – чтобы делать из них мужчин; где нам пришлось день и ночь быть настороже, потому что на тебя могли напасть сзади с такой же долей вероятности, с какой и изрубить в открытом поединке.
– Да, о слепящий свет, отец множества сыновей, супруг сонма жен, владыка мира, правитель всех живущих, всеустроитель, чистое сияние и светило Хиндустана!
Глухота глухотой, но намеки Бхактирам ловил на лету.
– Скажи, Бхактирам, разве в таком окружении следовало расти будущему монарху? – гневно продолжал Акбар, чуть не перевернув купель. – Разве допустимо, чтобы наследник был таким, как мы, – неграмотным, с повадками звереныша, постоянно опасающимся за свою задницу?
– Да, о да, мудрейший из мудрых, отец множества сыновей, супруг сонма жен, владыка мира, опора Вселенной, правитель всего живого, средоточие жизни, чистое сияние, светило Хиндустана, солнце славы, господин людских душ и вершитель судеб!
– Ты лишь притворяешься, будто не понимаешь по губам! – зарычал император.
– Да, о прозорливейший из пророков, отец множества…
– Старый козел! Давно пора перерезать тебе горло и поджарить на вертеле!
– Да, о милосерднейший, отец…
– Не иначе твоя мать зачала тебя с боровом!
– Да, о красноречивейший, о…
– Перестань. Нам уже лучше. Ладно, живи себе.
4. И вот снова перед ним его Сикри, колышущийся в знойном воздухе…
И вот снова перед ним его Сикри, колышущийся в знойном воздухе, словно опиумный мираж, и шелковые занавеси окон красного дворца, будто знамена, полощутся на ветру Здесь, где приседают и распускают веера хвостов павлины, где перед ним танцуют девушки, его истинный дом. Раздираемый раздорами мир есть реальность, но его Сикри – прекрасная сказка. Император спешил в Сикри, как курильщик опиума – к своей заветной трубке. Здесь он был магом-волшебником. Здесь он создавал свой собственный мир, где будто бы не существовало различий по вере, по положению и происхождению. Самые прекрасные женщины жили в его дворцах, и все принадлежали ему одному. Талантливейшие люди страны были собраны здесь, и среди них – Девять Жемчужин, Девять Звезд – самые что ни на есть блистательные, их присутствие дает ему неограниченные возможности. С их помощью он, как по волшебству, заново создает мир, эту землю и ее будущее, самоё вечность. С такими, каку него, помощниками, он станет императором-магом, он преобразует реальность. Напевы Тансена распахнут врата рая, и небесные силы снизойдут на землю. Стихи Файзи проложат себе дорогу в сердца и умы, и тогда каждый будет различать, где свет и где тьма. Со стратегическим умом его полководца раджи Мана Сингха, с финансовым гением раджи Тодара Мала его империи ничто не страшно. И есть еще Бирбал – лучший из девяти, лучший из лучших, его первый министр и верный друг.
Первый министр и остроумнейший человек своего времени Бирбал встречал императора возле Слоновьей башни.
– Можно задать тебе всего один вопрос, Бирбал? – спросил Акбар спешившись. – Он всю дорогу не давал мне покоя.
Первый остроумец империи смиренно склонился перед владыкой:
– Ваша воля – закон, о Джаханпана[17].
– Тогда скажи: что было сначала – курица или яйцо?
– Курица, – не раздумывая ответил Бирбал.
– Ты в этом уверен? – изумился Акбар.
– Я обещал Вашему Величеству ответить всего на один вопрос.
Первый министр и император стояли на крепостной стене. Высоко в небе кружили стаи ворон.
– Как думаешь, сколько ворон в моем царстве? – вопросил Акбар.
– Ровно девяносто девять тысяч девятьсот девяносто, – немедленно отозвался Бирбал.
– А если мы пересчитаем и окажется, что их больше? – поинтересовался император.
– Значит, у наших ворон гостят соседи.
– А если их будет меньше?
– Значит, наши вороны отправились мир посмотреть.
Во время торжественного приема к императору подвели гостя, им оказался иезуитский священник, отец Джозеф, прославившийся знанием множества языков и наречий. Он мог свободно изъясняться на нескольких десятках языков и, будучи представленным Акбару, предложил императору угадать, какой из многих является его родным. Пока Акбар ломал над этим голову, первый министр незаметно подкрался к иезуиту и неожиданно дал ему пинка под зад. Священник разразился цветистой бранью, и не на португальском, как можно было предположить, а на итальянском.
– Видите ли, Джаханпана, – заметил Бирбал, – когда человеку требуется отвести душу и выругаться, он всегда делает это на родном языке.
– Будь ты безбожником, что ты мог бы сказать верующим? – спросил однажды Бирбала император.
Бирбал, высокородный брахман из Тривикрампура, без колебаний ответил:
– Я бы сказал, что они сами такие же безбожники, как я, просто у меня на одного бога меньше, чем у каждого из них.
– Это как?
– А вот как: любой верующий приведет массу веских оснований для неприятия всех прочих божеств, кроме своего, и именно эти веские основания дают мне право утверждать, что никаких богов нет вообще.
В другой раз первый министр и его господин находились в Кхвабче – Дворце сновидений. Они смотрели на гладкую поверхность Ануп-Талао – Несравненного водоема, устроенного лишь для одного человека – самого Акбара. Говорили, что перед каким-либо бедствием его волнующиеся воды предупреждают императора об опасности.
– Как ты знаешь, Бирбал, самая любимая из наших жен имеет несчастье не существовать во плоти. Несмотря на то что мы любим ее больше прочих, ценим ее превыше утраченного Кох-и-Нора, она безутешна. “Самая сварливая, самая скандальная из твоих жен, – говорит она, – существо из плоти и крови, и в самом конце победа останется за ней, а не за мною”.
– Тебе следует сказать ей на это, – посоветовал Бирбал, – что именно в самом конце ее превосходство станет очевидно всем, ибо в самом конце, когда все другие твои жены тоже перестанут быть, она останется единственной твоей любовью, и слава о ней будет жить в веках. Таким образом, хотя можно признать, что в действительности ее и не существует, она и есть самая что ни на есть живая. Посмотри-ка вон на то высокое окно. Кто, если не она, и нетерпении ждет возле него твоего возвращения?
Другие жены Джодху ненавидели: как мог император пренебрегать ими, реальными, ради нее, несуществующей?! В любом случае ей следовало исчезать хотя бы на время его отсутствия, а не маячить тут и там, рядом с теми, кто из плоти и крови. Пусть бы растворилась в воздухе, скрылась в зеркале, стала тенью, как это принято у привидений.
Однако она и не думала исчезать, и эта ее непоследовательность была вполне в духе призраков. Откуда она могла получить представление о хороших манерах, раз ее этому никто не учил? Она была невежей, ничтожеством и заслуживала презрения. Жены шипели, что император слепил ее, используя их в качестве исходного материала. Он утверждал, будто она дочь раджи Джодхпура, но это не так! Одна из цариц и вправду была из джодхпурского царского дома, только она была не дочерью, а сестрой раджи! Господин твердо верил, что именно его выдуманная возлюбленная родила ему первенца, долгожданного сына, зачатого с благословения одного святого человека, того самого, вблизи горной обители которого и был возведен этот город. Только и это противоречило истине, как не уставала объяснять всем его настоящая мать, принцесса Хира Кунвари, больше известная под именем Мириам уз-Замани, дочь амберского раджи Бихармала из рода Качхвахов.
От одной из жен воображаемая и самая любимая супруга взяла красоту от другой – веру, от третьей – несметные богатства. Однако характер император придумал ей сам. В бескорыстии, во внимании к малейшему желанию господина, в готовности отдать себя в его распоряжение в любое время дня и ночи ей не было равных среди живущих. Она была нереальна и совершенна – какой бывает только мечта. Жены опасались ее, потому что понимали: она безупречна и потому непобедима, и император всегда будет любить ее больше всех. Они ненавидели ее и с наслаждением убили бы, но покуда он не пресытился ею или не умер, она все равно будет существовать. Мысль о смерти императора была довольно соблазнительна, однако пока жены не рассматривали ее всерьез. До сих пор они таили обиду, но громко не роптали. Про себя каждая из них полагала, что император лишился рассудка, но благоразумно никогда не произносила ничего подобного вслух. Во время его отлучек, когда он скакал по горам и лесам и убивал людей, жены старались ее не тревожить, даже имя ее – Джодха, Джодха-баи – никогда не произносили. Она бродила по дворцовым покоям в полном одиночестве. Ею была тень, мелькнувшая сквозь узорчатую каменную решетку окна; ею был подхваченный ветром край одежды… По ночам она стояла в маленькой башенке на крыше главного дворца, Панч-Махала, и всматривалась в даль, в ожидании того, кто дал ей жизнь.
Еще задолго до взбудоражившего столицу появления в Фатехпур-Сикри златовласого вруна из далеких земель с его неправдоподобными историями о чародейках и заклятиях Джодха знала, что ее сиятельный супруг унаследовал от своих предков дар колдовства. Чингисхан, как всем было хорошо известно, был некромант, приносил в жертву животных, использовал всякие зелья и с помощью черной магии сумел оставить после себя сотни тысяч детей. Все знали и о том, как Тимур сжег Коран и, покончив с завоеванием земли, строил планы добраться до звезд и покорить небеса. Все слышали историю о Бабуре, который спас своего сына Хумаюна тем, что очертил вокруг его смертного одра магический круг, выманил из него Смерть и заставил ее вместо мальчика взять себя. Все они водили дружбу с Сатаной и со Смертью, так что не было ничего удивительного в том, что и ее господин на равных общался с силами потустороннего мира. Само ее существование – яркое тому подтверждение.
Сделать фантазию реальностью – прерогатива Господа, такое не может совершить простой смертный. Это прямое посягательство на Его право. В те времена Сикри был наводнен поэтами, музыкантами и художниками. Кривляющиеся эгоцентрики, они все как один претендовали на гениальность и возглашали, будто умеют создавать прекрасное из ничего, и все же ни один скульптор, ни один поэт, ни один живописец – никто не сумел создать до сих пор такое чудо, как ее император, ее Совершенный Муж. При дворе вечно толпилось также множество чужестранцев, среди них мелькали напомаженные чудные лица вельмож, задубевшие на ветру физиономии купцов и постные физиономии священнослужителей. Все они на разных, но одинаково неблагозвучных языках наперебой расхваливали свои края, своих богов, своих царей. Из высокого окна она через узорчатую каменную решетку смотрела вниз, где на огромной, обнесенной стеною площадке для официальных приемов расхаживали, раздуваясь от важности, эти странные, неприятные люди. Император как-то показал ей привезенные ими в подарок картины с изображением тамошних гор и долин, а ей вспомнились Гималаи и Кашмир, и она громко рассмеялась – настолько забавными показались ей выспренние описания иноземных природных красот – всех этих “ваалов” и “аальп”. “Полуслова для обозначения невзрачных полувещей”, – подумала Джодха. В их краях правители – дикари, и своего бога они прибили гвоздями к дереву. Разве у нее могло быть хоть что-то общее со всеми этими возмутительными людьми?! Разумеется, нет.
Истории, которые они рассказывали, не казались ей занимательными. Одну из них она услышала от императора. В ней говорилось о том, как в древности какой-то греческий скульптор вдохнул жизнь в статую, а после влюбился в нее. История эта завершилась печально, да и вообще это была детская сказочка, она не шла ни в какое сравнение с ее вполне ощутимым существованием. Все очень просто: она присутствует здесь и сейчас. Лишь один-единственный человек мог совершить подобное чудо – сотворить ее усилием воли.
Нет, Джодху чужестранцы нисколько не интересовали, зато они поражали воображение ее супруга. Что, собственно, влекло их в дальние страны? Что искали они? Похоже, не то, что могло пригодиться им в реальной жизни. Будь у них хоть капля здравого смысла, они бы поняли, насколько бесполезны странствия. Путешествие – никчемное, пустое занятие. Оно удаляет тебя от места, где твое существование имеет смысл и которое, в свою очередь, имеет для тебя определенную значимость, ибо ты отдаешь ему себя и свои силы, и приводит в волшебные края, где ты, по сути, никто, да и вид имеешь донельзя глупый.
Именно так оно и есть: Сикри для них такая же диковина, как для нее их Англия и Португалия, Голландия или Франция. Понять и представить, что являют собою эти страны, она неспособна. Мир такой разный! “Они для нас и мы для них нереальны, как сновидения”, – сказал ей однажды Акбар. Она любила сиятельного супруга, кроме прочих достоинств также и за то, что он всегда внимательно выслушивал ее, а не отмахивался, как от надоедливой мухи.
“Ты только представь, Джодха, – сказал он ей однажды, когда они коротали вечер за картами, – что, если бы было возможно проникнуть в мечты другого человека, изменить их, а взамен набраться мужества и дать ему доступ к своим? Что, если весь мир станет овеществленной мечтой?” Когда он произносил такие фразы, она не решалась назвать его фантазером, потому что кем как не овеществленной мечтой была она сама? Джодха никогда не покидала дворцовый комплекс, где она появилась на свет десять лет назад, где была сотворена сразу взрослой, сотворена человеком, который не только ее создал, но и стал ее возлюбленным. Она его творение, его жена. Она была почти уверена: стоит ей выйти за дворцовые стены, как чары утратят силу и она перестанет жить. Возможно, ей и удалось бы уцелеть, будь рядом он: его непоколебимая вера придала бы ей сил, – в ином случае у нее нет шансов на спасение. К счастью, у нее не возникало ни малейшего желания покидать дворцовые покои. Нескончаемые крытые и занавешенные галереи, переходы, соединявшие все дворцы в одно целое, вполне удовлетворяли ее потребность к странствиям. Здесь была ее собственная маленькая вселенная, она не знала, что такое страсть к покорению чужих территорий. Пускай остальной мир живет как ему хочется, с нее довольно и этого обнесенного крепостными стенами обширного каменного квадрата.
Она была женщиной без прошлого, без жизненных вех – вернее сказать, у нее имелись лишь такие, которыми пожелал наделить ее тот, кто ее создал, да и они, как злобно утверждали другие жены, были украдены у других. Вопрос о том, насколько она независима в своем бытии, если таковое у нее имеется, занимал ее постоянно, он требовал ответа. Неужели если Создатель отвернется от сотворенного им человека, человек просто перестанет существовать? Сложный, можно сказать, глобальный вопрос. Джодху же больше волновало ее собственное положение. Например, обладает ли она свободой воли или целиком зависима от того, чья воля ее породила? И существует ли она лишь вследствие его упрямого нежелания сомневаться в возможности ее существования? И будет ли она продолжать жить, если он умрет?
Джодха вдруг почувствовала прилив жизненных сил. Вот-вот должно было что-то произойти. Смутные страхи исчезли. Он! Он идет!
Император вступил во дворец. Всем существом ощущала она его жадное предвкушение встречи. Да, вот-вот что-то случится. Его шаги отдавались эхом у нее в крови. Он подходил все ближе, и в ней, словно в зеркале, росло его отражение. Да, Джодха была его зеркальным отражением, потому что именно он ее сотворил, но вместе с тем она жила сама по себе. Да, акт творения уже свершился, и теперь она может существовать как и все, сама по себе, – в тех пределах и с теми качествами, которые заложены в нее создателем, и поступать согласно своей природе. О, какой сильной, полнокровной, яростно желающей всего на свете ощутила она себя! Власть императора над нею далеко не безгранична, ей нужно лишь выражать вслух то, что она думает, и сейчас, как никогда прежде, она к этому готова. Решено: она проявит характер, она не будет смиренной и покорной. Он не любит покорных и смиренных женщин.
Разумеется, поначалу она воздержится от нападок, будет мягкой и трепетно-нежной. Скажет: “Как ты мог оставить меня на столь долгий срок, оставить одну? Ведь все то время мне приходилось разбираться во множестве мелких интриг. Здесь никому нельзя верить и ничему нельзя доверять. Здесь сами стены шепчутся о тайных заговорах”. Она справилась, она хранила мир и покой во дворце до дня его возвращения, раскрывая мелкие, корыстные уловки слуг, изгоняя прилепившихся к стенам, подглядывающих и подслушивающих гекконов, заставляя умолкнуть заговорщески шуршащих мышей. И все это ей приходилось делать в то время, когда она слабела день ото дня, когда сама борьба – борьба за выживание – требовала от нее напряжения всех сил. А другие жены… Нет, она не станет упоминать других жен, они не существуют. Есть только она одна. Она ведь тоже колдунья. Она наколдовала сама себя. Ей нужно околдовать всего лишь одного человека, и он уже здесь, рядом. Он не пошел к другим женам. Он пришел за наслаждением. Он переполнял все ее существо, он и его желание, и ожидание того, что вскоре должно произойти. Кому как не ей знать, что ему нужно, она в этом разбирается лучше, чем кто-либо другой. Она знает все!
Двери распахнулись. Она существует. Она бессмертна, ибо ее сотворила Любовь.
На нем был высокий тюрбан из золотой парчи и расшитая золотом курта[18]. На нем была пыль покоренных земель, словно боевые отличия покрывавшая его плечи и грудь. И озорная улыбка на губах.
– Я хотел приехать скорее, но меня задержали, – произнес Акбар.
Что-то в его речи показалось ей странным. Какая-то неловкость, почти робость царапнула ее слух. Что с ним? Джодха предпочла не заметить столь несвойственную ему неуверенность и действовать по заранее обдуманному плану.
– Ах так? Вы хотели? – сказала она, вставая и прикрывая, как того требовали приличия, нижнюю часть лица концом шелкового головного шарфа. Она не стала принаряжаться к его приезду и была одета буднично. – Мужчина обычно сам не знает, чего хочет. Мужчина обычно не хочет того, о чем говорит. Мужчина всегда хочет того, в чем испытывает нужду.
Акбара несколько озадачило ее явное нежелание заметить его переход от множественного числа к единственному, хотя тем самым он оказывал ей великую честь. Ему казалось, что Джодха должна была почувствовать себя на седьмом небе от счастья – ведь он делится с ней своим последним достижением и тем самым доказывает ей свою любовь. Да, он был озадачен и, пожалуй, немного растерян.
– А ты настолько хорошо разбираешься в мужчинах? – грозно нахмурив брови, спросил он, подходя ближе. – Скольких ты успела познать? Ты что же, выдумала себе их, пока я отсутствовал? Или подыскала для развлечения настоящих, из плоти и крови? Если таковые имеются, я должен их убить!
Он был убежден, что теперь-то она непременно будет вынуждена заметить всю необычность и чувственную новизну местоимения “я”. Теперь-то она наверняка поймет, что он хотел этим выразить!
Она не заметила и не поняла. Она твердо верила, что знает, чем и как его пронять, и думала в этот момент лишь о том, как вернее это сделать с помощью слов.
– Вообще-то женщины в большинстве своем гораздо меньше думают о мужчинах, нежели полагает большинство мужчин, – изрекла она. – Даже о своем любимом и единственном они вспоминают куда меньше, чем кажется мужчинам. Женщина не так сильно нуждается в мужчине, как он – в ней. Вот почему для него важно крепко держаться за ту, которая ему мила, иначе она непременно от него ускользнет.
Она не принарядилась и сделала это намеренно.
– Хочешь куколку – ступай в “кукольный дом”, там они уже давно мажутся-красятся, охают-ахают и таскают друг друга за волосы, – сказала она и сразу поняла, что совершила промах: о других женах упоминать не следовало.
Он помрачнел, глазау него потемнели. Неверный шаг, она сделала неверный шаг! Еще немного – и ее очарование перестанет действовать. Тогда она посмотрела ему прямо в глаза своим самым колдовским взглядом – и он вернулся. Чары ее не подвели. Она заговорила чуть громче.
Джодха не стала ему льстить.
– Взгляни на себя, – сказала она. – Ты уже сейчас выглядишь стариком. Сыновья легко могут принять тебя за своего деда.
И с победами она не стала его поздравлять.
– Если бы история пошла по другому пути, – сказала она, – тогда старые боги, те, которых ты подмял под себя, продолжали бы править по-прежнему. Многоголовые, они не наказывали и не писали законов, зато создавали неисчислимое множество легенд и сказаний и совершали удивительные деяния; боги-хранители всего живого рядом со своими женами-богинями, своей энергией одаряющими весь мир; боги-проказники, боги-громовержцы и боги-флейтисты. Их было великое множество, и, возможно, при них нам всем жилось бы не в пример лучше.
Она была уверена в неотразимости своей красоты и теперь, сбросив шелка, позволила ему наконец увидеть себя целиком – и он забыл обо всем.
Джодхе были отлично известны все семь способов усиления наслаждения с использованием ногтей. Перед долгим походом она поставила ему на память о себе три метки – глубокие царапины на спине, груди и мошонке. Теперь, когда он находился подле нее, всего лишь одним прикосновением ногтей к его щекам, нижней губе и грудям она могла довести его до экстатического состояния – сделать так, что он задрожит как в лихорадке и все волоски на его теле приподнимутся от острейшего наслаждения. Могла и пометить, оставив ногтями на его шее след в виде полумесяца; медленно и долго могла впиваться ему в щеки, оставлять длинные царапины на голове, на бедрах и на всегда чувствительной к ее ласкам груди; она была искусна и в применении способа возбуждения под названием “прыжок кролика”: для этого требовалось, не касаясь других частей тела, оставить метки по окружности соска. И никто в целом свете, кроме нее, не умел с таким совершенством делать “павлиньи лапки”: ее большой палец давил на сосок его левой груди, в то время как остальные пальцы совершали обход соска и ее длинные, загнутые ногти – именно ради этого она холила их и затачивала, – впиваясь в кожу, оставляли узор, напоминавший отпечатки лап павлина на сырой глине.
Она знала, что именно он будет говорить во время этих игр. Он будет рассказывать, как вдали от нее, в походном шатре, закрывал глаза, думая о ней, повторял движения ее рук и этим достигал удовлетворения.
Она ждала, но он почему-то не стал говорить об этом. Она увидела, что он испытывает нетерпение, пожалуй, даже раздражение и досаду, и ничего не понимала. Казалось, тонкости любовного акта утратили для него всякую привлекательность, он стремился поскорее овладеть ею и на этом поставить точку. Ей стало ясно, что он изменился и теперь перемены ждут их всех.
Что касается императора, то он больше никогда в чьем-либо присутствии не говорил о себе в единственном числе. Для всего мира и даже для женщины, которая любила его, он был “плюральным”, таким он и останется. Акбар усвоил преподанный ему урок.
5. Его сыновья, летающие как ветер на своих конях…
Его сыновья, летающие как ветер на своих конях и саблями подсекающие колышки палаток; его сыновья – и снова верхом – длинными палками с закругленными концами забивающие мячи в сетки во время игрищ под названием чауган; его сыновья, по ночам гоняющие светящиеся мячи; его сыновья на охоте, где лучший в своем деле посвящает их в секреты погони за леопардом; его сыновья, со страстью предающиеся “забаве влюбленных” – гонке почтовых голубей… Его сыновья… Как они красивы, как искусны в играх! Взять хотя бы старшего, его наследника Селима, который в свои четырнадцать стал настолько совершенен в стрельбе из лука, что ради него пришлось выработать новые, более жесткие, правила. А Мурад и Даниял – сидят на лошадях, как взрослые наездники! О, как он любил их, всех троих! И все трое ни на что не годны. Их глаза! Младшим – десять и одиннадцать, но и они уже зависимы от опиума, они пьяны, даже когда скачут верхом, обалдуи несчастные! Слугам были даны самые строгие указания на этот счет, но кто же посмеет отказать царским отпрыскам!
К каждому он приставил верных людей, так что знал о страсти Селима к опиуму и о его ночных, отнюдь не безобидных, любовных забавах. Возможно, склонность юнца к извращенным, изощренным способам полового удовлетворения вполне закономерна, однако вскоре придется-таки предупредить его, чтобы несколько умерил свой пыл: танцовщицы жаловались, что расцарапанные ягодицы и растерзанные “бутоны граната” мешают им выполнять свои прямые обязанности.
Испорченные дети – горе его, плоть от плоти его; дети, унаследовавшие все его недостатки и ни одного достоинства! Неизлечимую болезнь Мурада пока удается скрывать, но сколь долго это будет оставаться тайной? Даниял? Похоже, он совсем безвольный, в нем нет даже намека на характер, хотя он унаследовал свойственную всем потомкам Чагатая красоту. В этом не было ни малейшей личной его заслуги, но он тем не менее очень ею гордился. Может, десятилетнего ребенка не стоит судить так строго? Пожалуй, и не стоило бы, будь он обыкновенным мальчишкой. Только это ведь не просто дети. Это маленькие боги, будущие правители, – к несчастью, обреченные на власть. Он их любил. Они предадут его, это ясно. Свет его очей, они придут убивать его сонного, маленькие подонки. Он все время должен быть настороже.
Нынче, как и в любой другой день, он думал о том, что ему очень хотелось бы доверять им. Бирбалу и Джодхе, Абул-Фазлу и Тодару Малу он доверял как себе самому, но мальчиков своих держал под постоянным наблюдением. Ему страстно хотелось верить им, хотелось видеть в них опору старости. Он мечтал о счастье целиком положиться на три пары прекрасных зорких глаз, когда его собственные утратят остроту зрения; на шесть крепких рук, которые все разом станут служить ему, когда ослабеют его собственные. Со многими головами, многорукий, он и вправду стал бы подлинным божеством. Он хотел доверять им, потому что верность почитал за великую добродетель, заслуживающую всяческого поощрения, но слишком хорошо знал историю своего клана и помнил, что эта добродетель была не в чести у его сородичей. Его сыновья вырастут, станут превосходными воинами, отрастят пышные усы и примутся плести заговоры против родного отца – это уже и сейчас ясно видно по их глазам. В среде таких как они, в среде потомков Чагатая из Ферганы, дети всегда плели заговоры против своих царственных родителей, с тем чтобы заточить их в крепость, сослать на какой-нибудь остров или собственноручно отсечь голову.
Его драгоценный Селим, кровожадный ублюдок, уже сейчас придумывает разнообразные способы расправы с людьми: Если кто-либо предаст меня, отец, то я отсеку ему задницу, после велю зашить его в шкуру только что освежеванного зверя, прикажу посадить задом наперед на осла и возить по жаре, пока солнце не завершит то, что я задумал. Ну да, от зноя шкура начинает мало-помалу ссыхаться, и тогда враг медленно умирает в муках от удушения.
“Кто тебе внушил такую жестокую мысль, сынок?” – спросил император. “Это я сам придумал, – соврал Селим. – И не тебе упрекать меня в жестокости, отец. Ты у меня на глазах выхватил меч и отсек человеку ноги за кражу пары туфель”. Сын был прав, и Акбар вынужден признать: все темное, что таится в душе принца, тот унаследовал от него самого.
Селим. Его первенец, его любимец и его наиболее вероятный палач. А когда его, Акбара, не станет, все трое сыновей будут яростно, словно дикие псы, грызться меж собой за кость Власти. Он прикрывал глаза и под перестук копыт скакунов, несущих на себе его сыновей, представлял, как задушит в корне мятеж жалкого мальчишки. “Конечно, мы простим его и сохраним ему жизнь, а как же иначе, – думал император. – Ведь он сын наш, он лихой наездник, он великолепен, даже смех у него поистине царский”. Из груди императора исторгся горестный вздох: нет, не доверял он своим сыновьям!
Непостижимо, но все эти опасения никак не влияли на его отцовские чувства. Он любил своих мальчиков, и даже если ему суждено умереть от сыновней руки, он не перестанет любить эту руку, пусть и наносящую смертельный удар. Тем не менее это совсем не означало, что он готов дать соплякам убить себя, – пока жив, он будет бороться, скорее он увидит их в аду, чем допустит такое. Он, Акбар великий и могучий, унижать себя не позволит никому.
Он верил мистику Чишти, гробница которого находилась во дворе пятничной мечети, но святого человека больше нет рядом; он доверял собакам, музыке, стихам, своему острослову-цирюльнику и жене, которую сотворил из ничего. Он верил красоте, искусству живописцев и мудрости предков. Однако в последнее время относительно многого другого, например по поводу религии, его стали одолевать сомнения. Он знал, что жизни доверять не следует, что этот мир – ненадежная опора. На вратах своей усыпальницы он велел высечь слова, которые будто бы принадлежали Иисусу из Назарета: Этот мир – всего лишь мост. Переходи через него, но не возводи на нем дом свой. Даже этому принципу он не последовал: построил себе не дом, а целый город. Кто полагает, что в его распоряжении час, рассчитывает быть вечно. Этот мир – всего лишь час. Остальное нашему взору недоступно.
“Так оно и есть, – говорил себе Акбар. – Я хочу слишком многого. Думаю, что передо мною вечность. Одного часа мне мало, я мечтаю о том, что не дозволено смертному, – о славе вечной. („Приятно говорить о себе в единственном числе – тогда ты сам с собой более откровенен”, – подумал император. Однако это „я” должно остаться его сугубо личным делом, вслух произносить его Акбар себе запретил.) Итак, я позволю себе надеяться на долгую жизнь, на мир души, на понимание и хорошую, обильную трапезу Но больше всего я уповаю на то, что явится молодой и сильный, кому я смогу довериться. Пускай не родной сын, но я сделаю его больше чем сыном: он станет моим молотом и моей наковальней. Он станет символом моей веры в красоту и истину. На моей ладони он вырастет и дотянется до небес”.
Вот о чем думал Акбар в тот самый день, когда к нему привели юношу в потешном плаще из цветных кожаных ромбов и с письмом королевы Английской в руках.
Давным-давно утратившая способность спать потаскушка из “веселого дома”, что у главных ворот, по имени Мохини, разбудила своего странного заморского клиента на рассвете. Он тут же вскинулся, грубо притянул ее к себе и приставил ей к горлу непонятно откуда взявшийся нож.
– Не валяй дурака, – проговорила она. – За ночь я сто раз успела бы убить тебя, покуда ты храпел так громко, что мог разбудить императора, и не льсти себя надеждой, что я не подумывала об этом.
Когда он заявился, она предложила ему две формы оплаты: за один раз и за всю ночь.
– А как выгоднее?
– Обычно платят за ночь, – серьезно сказала Мохини. – Хотя большинство моих клиентов либо слишком старые, либо пьяные, либо обкуренные, а то и вообще ничего не умеют, их и на один-то раз едва хватает. Можешь сэкономить и заплатить за раз.
– Я дам тебе вдвое больше, если останешься со мной на всю ночь, – ответил он. – Я давно не спал рядом с женщиной, а женское тело делает мои сны слаще.
– Хочешь сорить деньгами – пожалуйста, я не возражаю, – холодно сказала Мохини, – но сладости в моем теле давно не осталось.
Она была так худа, что товарки прозвали ее между собой Скелетиной. Клиенты побогаче обычно брали Мохини в паре с ее антиподом – невероятно толстой шлюхой по прозвищу Матраска, чтобы испытать удовольствие от женского тела в двух его максимально противоположных вариантах – самом костлявом и самом мягком. Скелетина поглощала пищу по-волчьи – много и быстро, но оставалась тощей, в то время как Матраска тучнела день ото дня. В “веселом доме” шептались, будто они заключили тайный договор с Сатаной и в аду Скелетина раздуется, а Матраска станет плоской как доска и будет греметь сосками, словно деревянными колышками. Мохини считалась доли-артхи. Это означало, что она, подобно верной жене, была обязана заниматься своим ремеслом до самой смерти, то бишь до того часа, когда ее тело возложат на погребальный костер – артхи. Ей даже устроили – на радость толпе – некую пародию на настоящую свадебную церемонию – посадили вместо доли — паланкина – на запряженную ослом тележку и повезли в “веселый дом”. “Эй, чего не радуешься, сегодня у тебя свадьба, другой-то не будет!” – выкрикнул какой-то уличный бродяга, но шлюхи опрокинули ему на голову с балкона полный горшок еще теплой мочи, что заставило его умолкнуть надолго. Женихом в ее случае был “веселый дом”, символической представительницей которого являлась его хозяйка Рангили-биби – старая, беззубая, сморщенная шлюха, настолько свирепая, что ее уважали и боялись все, даже стражи порядка. Вообще-то они должны были прикрыть ее заведение, но не решались из страха перед ее дурным глазом. Другое, более рациональное, объяснение беспрепятственного существования ее предприятия состояло в том, что, по слухам, настоящим собственником борделя был некий придворный или, как утверждали многие, священнослужитель, возможно даже один из мистиков, денно и нощно творивших молитвы у гробницы Чишти. Однако, как всем хорошо известно, придворные, да и священнослужители тоже, сегодня в милости, а завтра в опале, меж тем как сглаз действует безотказно, так что страх перед дурным глазом Рангили-биби имел даже больший эффект, чем слухи о некоем высоком покровителе.
Обида, которую Мохини затаила на жизнь, никак не была связана с ее ремеслом. Работа как работа, не хуже прочих; благодаря ей у Мохини был кров, пропитание и одежда; без этой работы ей осталось бы просто сдохнуть в канаве, как запаршивевшей собаке. Ее обида имела вполне определенный адрес и была связана с прежней хозяйкой, четырнадцатилетней княжной Ман-баи из Амбера, молоденькой распутницей, которая почти постоянно жила при дворе Акбара и завела тайные шашни со своим двоюродным братом, принцем Селимом. У Ман-баи была сотня рабынь, но Мохини-Скелетина была ее любимицей. Когда знойным днем Селим, весь в поту после тяжких охотничьих трудов, возвращался домой, именно на Мохини лежала почетная обязанность раздевать его и умащать золотистое тело принца освежающими ароматными маслами. Именно Мохини выбирала для него либо сандал, либо мускус, либо пачули или розу, именно Мохини выпала честь растирать член принца, готовя его к свиданию со своей госпожой. Другие рабыни в это время обмахивали Селима опахалами, массировали ему ноги, но прикасаться к царскому детородному органу дозволялось одной лишь Мохини, а все потому, что она владела секретами смесей, способствующих повышению интенсивности соития и увеличению его продолжительности. Она составляла мази из тамаринда и корицы, из перца и имбиря, которые в соединении с медом большой черной пчелы позволяли мужчине, не прилагая особых усилий, доставлять женщине максимум удовольствия, при этом сам он испытывал приятнейшее ощущение тепла и пульсации. Иногда Мохини натирала этими мазями влагалище Ман-баи, иногда член Селима, а иногда проделывала это с обоими партнерами. Таким манером она сумела сделаться необходимой и Селиму, и своей госпоже.
Это ее мастерство, а именно владение секретом зелья, с помощью которого мужчина мог совокупляться с энергией и продолжительностью коня, в конце концов и погубило Мохини. Как-то раз она велела оскопить козла, отварила его яички в молоке, поперчила, посолила, прожарила в топленом масле, а затем приготовила нежнейшего вкуса паштет. Она поднесла его принцу на серебряной ложке, объяснив, что это лекарство позволит ему, не чувствуя утомления, совершить акт любви пять, десять, а то и двадцать раз кряду. “Вкус восхитительный!” – сказал принц и съел все без остатка. На следующее утро он вышел от Ман-баи, чрезвычайно довольный собою, оставив ее в полумертвом состоянии.
Долгие сорок семь дней (и ночей) сиятельная Ман-баи даже помыслить не могла о любовных играх, и все это время полный раскаяния в содеянном принц навещал ее. Он был заботлив, но несколько раздражен и вместо нее трахал ее рабынь, причем очень часто спрашивал именно ту, самую костлявую, которая подарила ему незабываемый сексуальный опыт. Ман-баи не возражала, но внутри у нее все кипело от ревности и злости. Знаменательная ночь с Мохини, когда Селим обнаружил, что выносливость Скелетины беспредельна и даже сто и одно совокупление ей, в отличие от ее госпожи, не нанесло, по всей видимости, существенного вреда, решило ее судьбу раз и навсегда. У сиятельной Ман-баи лопнуло терпение, и Мохини изгнали из дворца. Она лишилась всего, кроме своего умения составлять возбуждающие желание снадобья. Из дворца она угодила на самое дно, в бордель, но благодаря своему таланту сумела и здесь сделаться личностью весьма популярной.
Мохини мечтала об отмщении.
– Если когда-нибудь по воле судьбы она окажется в моей власти, – сказала Мохини своему необычному гостю, – я натру ее таким зельем, что даже шакалы сбегутся, чтобы ее трахать, и не они одни: ею будут пользоваться вороны и змеи, прокаженные и буйволы – до тех пор, пока от нее не останется ничего, кроме нескольких слипшихся прядей волос. Я сожгу их – и делу конец. Правда, она собирается стать женой Селима, так что можешь забыть все, что я сейчас тебе наговорила. Для мне подобных вынашивать планы мести такая же непозволительная роскошь, как иметь ребенка.
По не вполне ясной для нее причине она рассказывала желтоволосому незнакомцу такие вещи, о которых не говорила никому. Возможно, тут сыграла роль его необычная внешность, странный цвет волос и непривычная опрятность.
– Не иначе как ты навел на меня какие-то чары, – с беспокойством сказала она. – Никогда прежде я ни одному из клиентов даже пялиться на себя при дневном свете не дозволяла, а тебе всю историю своей жизни выболтала.
Когда ей было одиннадцать, ее лишил девственности родной дядя. Она родила урода, и мать утопила ребенка, даже не показав ей, из опасения, что Мохини преисполнится ненависти к себе и своей будущей жизни.
– Зря она беспокоилась, – сказала Мохини, – потому что, как выяснилось, природа наделила меня такими качествами по этой части и столь неистребимым желанием заниматься этим делом, что насильник с его жалким приборчиком в моей судьбе ничего не изменил. Что правда, то правда – теплотой души я никогда не отличалась, а после черной несправедливости, сотворенной со мной Ман-баи, от меня так и веет холодом. В летнее время мужчинам это нравится, но зимой работы у меня немного.
– Подготовь меня, – попросил желтоволосый гость. – Сегодня мне предстоит посещение дворца, по делу чрезвычайной важности. Я должен предстать в наилучшем виде, или меня ожидает смерть.
– Если у тебя хватит на это денег, я готова и сделаю так, что ты станешь желанным для всех.
И она принялась трудиться над его телом, чтобы один лишь аромат его кружил людям голову. Мохини запросила за свою работу один мухур[19], честно признавшись, что завышает цену, и онемела от изумления, когда меж его пальцев блеснуло целых три монеты.
– За три золотых, – сказала она, – я, если хочешь, сделаю так, что люди примут тебя за ангела, слетевшего с небес, а после того как ты справишься со своим важным делом, можешь целую неделю бесплатно удовлетворять свои самые немыслимые желания со мной и Матраской.
Она велела принести металлический чан и наполнила его холодной и горячей водой в соотношении один к трем, затем намылила своего гостя с головы до пят мылом из алоэ, сандала и камфоры – как она выразилась, “для того, чтобы, прежде чем я придам тебе царственный вид, твоя кожа очистилась и все поры раскрылись”. После этого она достала из-под кровати волшебную шкатулку с благовониями, бережно обернутую тряпицей.
– Прежде чем тебя допустят до императора, тебе придется задабривать многих, – предупредила она. – Поэтому аромат для Его Величества я запрячу поглубже, под те запахи, которыми тебе придется охмурять стражу и прочих. В присутствии императора все они улетучатся, останется лишь самый главный.
Она принялась за работу. В ход пошли вытяжки из магнолии, лилии и календулы, а также из других, незнакомых ему, растений с волшебными свойствами, про которые он даже не рискнул ее расспросить. Большей частью это были соки деревьев из Турции, Китая и с Кипра, а еще экстракт китовых желез.
Когда она завершила свой труд, ему показалось, что от него несет низкопробным притоном, где он, собственно, и пребывал, и он пожалел, что воспользовался услугами Скелетины, хотя тактично не выказал недовольства. Из своей небольшой сумы он извлек одеяние столь роскошное, что Скелетина разинула рот от удивления.
– Ты что, убил кого-нибудь, чтобы завладеть всем этим, или сам не тот, кем кажешься? – спросила женщина.
Он не ответил ей: пышно разодеться, путешествуя в одиночку, значило привлечь к себе внимание грабителей, являться же ко двору в рубище – глупость иного рода, но она тоже могла стоить ему жизни.
– Мне пора, – произнес он.
– Возвращайся, – сказала Скелетина, – и не забывай о моем предложении.
Несмотря на гнетущую жару, он накинул все тот же пестрый плащ и двинулся ко дворцу. Притирания Скелетины чудесным образом делали свое дело: вместо того чтобы отправить его к дальним воротам, где обычно собиралась целая толпа желающих добиться аудиенции у государя, стражники повели себя с неожиданной сердечностью. Жадно втягивая ноздрями его запах, они расплывались в улыбках, словно им только что сообщили нечто чрезвычайно приятное. Начальник стражи тотчас же отправил гонца за государевым советником, тот прибыл разгневанный, что его осмелились побеспокоить. Он шагнул к гостю, и тут легкий ветерок донес до него тонкий аромат, неожиданно напомнивший о его первой возлюбленной. Он вызвался самолично пойти к Бирбалу, дабы все устроить, и быстро вернулся с разрешением на высочайшую аудиенцию. Сопровождая чужеземца во внутренние покои, он, как положено, осведомился об имени гостя, и тот без колебаний ответил ему на безупречном фарси:
– Можете звать меня Могор. Перед вами Могор дель Аморе, флорентиец, в настоящий момент выполняющий важную миссию Ее Величества королевы Англии.
Исполненным изящества жестом он снял бархатную шляпу с белым пером, закрепленным пряжкой с неведомым драгоценным камнем желтого цвета, отвесил низкий поклон, и это убедило всех наблюдавших за ним (а его появление собрало изрядное число зрителей, восхищенно-мечтательные взгляды которых явились еще одним свидетельством волшебного дара Скелетины) в том, что перед ними настоящий придворный, искушенный в тонкостях дворцового этикета.
– Пожалуйте сюда, господин посол, – тоже кланяясь, проговорил советник.
Меж тем два предыдущих запаха улетучились и в воздухе возник третий, пробуждавший самые немыслимые фантазии.
Шагая по красным анфиладам дворца, человек, теперь носивший имя Могор дель Аморе, замечал за занавешенными резными окнами легкое движение. Ему казалось, что в сумраке затемненных комнат он различает блеск множества миндалевидных глаз. Один раз он увидел, как чья-то рука, вся в кольцах и браслетах, игриво машет ему, словно приглашая зайти. Он явно недооценил способности Мохини. Несомненно, в своем деле она ничем не уступала по мастерству прочим знаменитостям, которыми славился этот город художников, поэтов и музыкантов.
“Поглядим, какой аромат она припасла для императора. Если он окажется таким же действенным, как предыдущие, все у меня сложится как надо”, – подумал он, крепче сжал свиток с печатью Тюдоров и широким, уверенным шагом двинулся дальше.
В самом центре огромного зала для аудиенций возвышалось дерево из красного камня, с которого свисало нечто, на взгляд чужестранца напоминавшее гигантскую гроздь бананов. Длинные ветви каменного древа тянулись от ствола к четырем углам тронного зала, и с каждой свешивались шелковые занавеси, расшитые серебряной и золотой нитью, а прямо по центру, спиною к древу, стоял самый страшный (за одним исключением) человек на свете; он был мал ростом, зато обладал величайшим в мире интеллектом. Император любил его, завистники люто ненавидели. Искуснейший льстец и переговорщик, он ежедневно съедал по двенадцать килограммов всякой снеди и мог заказать своим поварам приготовить только лишь для вечерней трапезы тысячу разных кушаний; человек, для которого всеобъемлющие знания являлись не мечтой, а насущной жизненной потребностью.
Именно таков был Абул-Фазл – человек, который знал все, за исключением языков – как чужеземных, так и бесчисленных местных, – они ему не давались, так что в этом отношении он был белой вороной среди вавилонского многоязычия, господствовавшего при дворе Акбара. Историк и мастер плетения интриг, ярчайший из Созвездия Девяти и второе по важности доверенное лицо самого грозного (без какого бы то ни было исключения) человека на свете, Абул-Фазл знал подлинную историю сотворения мира, которую, по его словам, ему поведали ангелы небесные, но знал также и то, сколько полагалось на день корма для лошадей дворцовых конюшен и как следует готовить изысканное блюдо из риса – бирияни, а также почему рабов переименовали в учеников; ему было известно все об иудеях и о движении небесных светил, о семи смертных грехах, о девяти философских системах, о шестнадцати заповедях и восемнадцати ветвях знания, а также о сорока двух нечистых деяниях. Через сеть осведомителей он знал обо всем, что говорилось и замышлялось кем-либо в пределах Фатехпур-Сикри: обо всех заговорах, случаях проявления непочтительности, обо всех нарушениях морали, – и потому жизнь каждого в этом городе зависела от него, а также от того, что он напишет. (Не случайно владыка Бухары Абдулла сказал, что пера Абул-Фазла следует страшиться более, нежели его меча.) Его перо пощадило лишь одного человека, который и так ничего не боялся, – императора Акбара.
Могор дель Аморе видел Абул-Фазла лишь в профиль – тот не обернулся, когда гость вошел, и молчал так долго, что было очевидно: это делается с намерением оскорбить. “Посол Елизаветы Английской” понял, что его испытывают. Он тоже не спешил заговорить, и тяжелые, напряженные минуты глухого молчания позволили им лучше изучить друг друга.
“Напрасно ты полагаешь, что твое молчание ни о чем мне не говорит, – думал чужеземец. – Твой блестящий ум и нарочитая грубость, твоя тучность и строгий профиль свидетельствуют о том, что ты являешь собой определенный тип человека, в котором сочетаются любовь к удовольствиям и подозрительность, а склонность к насилию (потому что твое молчание – это тоже своего рода нападение) идет рука об руку с глубоким пониманием красоты; слабое же место подобной вселенной, находящейся во власти самомнения и злопамятности, – тщеславие. Именно тщеславие держит таких, как ты, у себя в плену. Сыграю на твоем тщеславии и добьюсь своей цели”.
Самый грозный (за исключением одного) наконец прервал молчание и, как будто читая его мысли, насмешливо сказал:
– Как я понимаю, ваше превосходительство, вы надушились духами, специально предназначенными для того, чтобы обольщать царей, из чего заключаю, что вы кое-что о нас знаете, и скорее всего, не кое-что, а довольно много. Я не почувствовал особого доверия к вашей персоне, когда мне о вас доложили, и теперь, когда я вас обоняю, доверяю вам и того менее.
Интуиция подсказала желтоволосому Могору дель Аморе, что именно Абул-Фазл является подлинным автором трактата о волшебных свойствах ароматов, которыми так искусно пользовалась Мохини, и потому на его обоняние они не оказывали воздействия, – более того, в его присутствии они перестали действовать и на других. Стражи у четырех входов в залу перестали блаженно улыбаться, девушки-рабыни, сгоравшие от желания познакомиться с иноземцем поближе, мгновенно утратили к нему всякий интерес. У гостя внезапно возникло чувство, что он стоит под пронзительным взглядом царского любимца совсем голым и только правда или нечто к ней очень близкое может спасти его.
– Когда к нам пожаловал посланец короля Испании Филиппа, – словно размышляя вслух, заговорил Абул-Фазл, – он явился со свитой, со слонами, нагруженными подарками от Его Величества; он привез нам в дар более двадцати чистокровных арабских жеребцов и много драгоценностей. Он не явился к нам на воловьей повозке и не провел ночь в “веселом доме” с женщиной настолько тощей, что даже трудно вообразить, будто это женщина.
– Мой господин и покровитель лорд Хоуксбенк, глава одноименного клана, к несчастью, отошел к Господу нашему и ангелам Его как раз тогда, когда мы входили в порт Сурат, – заговорил Могор. – На смертном одре он взял с меня клятву, что я выполню поручение, возложенное на него Ее Величеством. Увы, команда состояла сплошь из жуликов и бандитов, и тело моего господина еще не успело остыть, а они уже стали обшаривать его каюту в поисках ценностей. Должен признаться, мне лишь чудом удалось выбраться оттуда живым и сохранить послание Ее Величества, потому что, зная, как я был предан своему хозяину, они наверняка перерезали бы мне горло, посмей я защитить его имущество от разграбления. Боюсь, останки лорда Хоуксбенка не преданы земле согласно христианскому обычаю, однако я горжусь тем, что сумел добраться до вашего славного города, чтобы выполнить его миссию, которая теперь стала моей.
– Сдается мне, королева Английская не питает теплых чувств к нашему сиятельному другу, королю Испании, – раздумчиво произнес Абул-Фазл.
– Испания – грубый мужлан, – парировал Могор, – меж тем как Англия – родина изящных искусств, красоты и самой Глорианы. Не давайте себя одурачить наглыми утверждениями Филиппа. Все должно устремляться к подобному себе, и не кто иной, как Елизавета, славою и величием является в полной мере равной вашему императору.
В упоении от собственного красноречия Могор дель Аморе совсем разошелся. Из его слов следовало, что далекая рыжеволосая королева Запада – зеркальное отражение императора, а самого шахиншаха, царя царей, несмотря на пышные усы и прочие, явно мужские, достоинства, вполне можно считать Елизаветой Востока, ибо славою они равны.
Лицо Абул-Фазла закаменело.
– Как ты смеешь низводить моего господина до уровня женщины! – произнес он почти шепотом. – Считай, что тебе повезло: у тебя в руках свиток – я вижу, он действительно скреплен печатью королевского дома Англии, что гарантирует тебе как послу личную неприкосновенность. Если бы не это, будь уверен – твоя дерзость дорого бы тебе обошлась: я велел бы бросить тебя под ноги бешеному слону, который привязан здесь неподалеку, специально для того, чтобы избавляться от таких наглых свиней, как ты.
– Ваш император известен во всем мире как несравненный ценитель женской красоты, – отозвался Могор дель Аморе. – Уверен, Его Величество Алмаз Востока нисколько не чувствовал бы себя оскорбленным сравнением с Ее Величеством – самой великолепной драгоценностью Запада, – невзирая на то, что она женщина.
– Мудрецы-назаретяне, присланные к нам португальцами из Гоа, невысокого мнения о самой великолепной драгоценности, – сказал всесильный министр, пожимая плечами. – Говорят, она богоотступница, слабый правитель и скоро ее свергнут. Говорят, ее соотечественники сплошь воры, а ты, вероятно, явился сюда шпионить.
– Португальцы и сами сплошь пираты да грабители, – упорствовал Могор. – Ни один разумный человек не должен верить их речам.
– Отец Аквавива принадлежит к общине Иисуса, он, как и ты, итальянец, а его соратник, отец Монсеррат, – из Испании.
– Они прибыли к вам на корабле под флагом мошенников-португальцев, а это означает, что они и сами дикие португальские псы.
Над их головами вдруг загремел хохот, как будто над ними потешались сами боги, и звучный, густой бас произнес:
– Пощади его, уважаемый мунши[20]. Сохрани ему жизнь хотя бы до того момента, пока мы не прочтем доставленное им послание.
Шитые серебром шелковые занавеси разошлись вплоть до стен, и на самой верхушке каменного древа все узрели раскинувшегося на атласных подушках и сотрясавшегося от приступов безудержного смеха Абул-Фатха Джелаль-ад-дина Мухаммада Акбара собственной персоной, в данный момент более всего похожего на гигантского пестрого попугая.
Он проснулся с чувством непонятной тревоги, и даже самые изощренные ласки возлюбленной не могли его успокоить. Посреди ночи его разбудило истошное карканье вороны, ненароком залетевшей в опочивальню к Джодхе. В то жуткое мгновение, когда черное крыло коснулось его щеки, императору со сна померещилось, что наступил конец света. Слуги прогнали птицу, но императора продолжало трясти. Вторую половину ночи его одолевали недобрые вещие сны. В какой-то момент ему привиделось, будто ворон – вестник конца света – вознамерился вырвать из его груди сердце и расклевать его, подобно тому как на поле брани в Ахаде поступил Хинд из Мекки с поверженным дядей Пророка Хамзой. Если жалкий трус смог уничтожить непобедимого, могучего Хамзу, то и его в любой момент может сразить бесшумно прилетевшая из темноты черная и безобразная, как ворона, злая стрела. Удалось же птице, несмотря на многочисленную стражу, проникнуть в его покои и коснуться крылом его лица – значит, и убийца вполне может подобраться к нему совсем близко.
Мучимый страхом смерти император оказался беззащитным перед внезапным чувством симпатии, напоминавшим первую любовь.
Прибытие мошенника, назвавшегося послом, вызвало у него любопытство, и после того, как по его наущению Абул-Фазл вдоволь поиздевался над юным бродягой, настроение у императора стало значительно лучше. Абул-Фазл, который на самом деле был человеком весьма общительным и дружелюбным, умел, как никто другой в Сикри, притвориться свирепым, и Акбар, наблюдая поверх голов комедию допроса, почувствовал, как черные ночные тучи постепенно рассеиваются.
“А самозванец держится отменно”, – подумал Акбар. К тому времени, как император дернул шнуры, поддерживающие занавеси, и обнаружил свое присутствие, он уже находился в отличнейшем расположении духа, однако совершенно не был готов к тому чувству, которое завладело им, едва он встретился глазами с золотоволосым гостем.
Это была любовь с первого взгляда – или что-то весьма на нее похожее. Сердце его забилось учащенно, словно у влюбленной девы, он испустил глубокий вздох, и на щеках его заиграл румянец. Как он красив, этот молодой повеса, как уверен в себе, как независим! И было в нем еще что-то, не видное глазу, – некая таинственность, и это делало его привлекательнее сотни придворных. Сколько же ему может быть лет? (Император плохо определял возраст фаранги.[21] Этому могло быть всего двадцать пять, но, возможно, и все тридцать.)
“Он старше, чем наши сыновья, по возрасту он не может быть нам сыном, – подумал Акбар и сам удивился, как ему в голову могла прийти такая дикая мысль. – Уж не имеем ли мы дело с колдовством? Может, на нас воздействуют чары? Что ж, сделаем вид, будто ни о чем не догадываемся. Пока что ничего страшного не произошло”.
Император считал себя достаточно искушенным для того, чтобы вовремя уклониться от удара кинжалом и не выпить отравленное питье. Он решил довериться влечению сердца и разобраться в причине столь неожиданной симпатии.
Неизбежной расплатой за власть является отсутствие в жизни правителя каких-либо сюрпризов. Император озаботился выработкой сложнейшей системы осведомления, дабы обезопасить себя от любых неожиданностей, однако Могор дель Аморе сумел поразить Акбара и уже по одной этой причине заслуживал пристального внимания.
– Зачитайте нам королевское послание, – молвил Акбар, и Могор, изогнувшись, отвесил нелепо-глубокий поклон, а когда распрямился, то держал свиток уже в развернутом виде, хотя ни император, ни Абул-Фазл не заметили, как и когда он умудрился сломать печать. “Ну и артист! – сказал себе император. – Нам это по душе”. Самозваный посол меж тем прочитал послание по-английски, а затем весьма бегло стал переводить его на фарси.
“Ваше Величество, непобедимый и могущественный государь, – читал он, – приветствую тебя, господин Зелабдим Эчебар и владыка Камбея”.
Абул-Фазл насмешливо фыркнул:
– Зелабдим?! Надо же! Да еще и Эчебар! Это что за птица?
Император хлопнул себя по бедрам и разразился неудержимым хохотом.
– Это мы и есть! – сквозь смех проговорил он. – Это нас называют падишахом Эчебаром и владыкой легендарного Камбея. Бедная темная Англия! Нам жаль народ, которым правит столь невежественная королева!
Могор приостановил чтение, ожидая, когда умолкнет императорский смех.
– Продолжай, – махнул рукою Акбар. – Великий Зелабдим повелевает тебе читать дальше. – Он снова захохотал и платком смахнул выступившие слезы.
“Посол” снова отвесил поклон, причем с еще большей грацией, и продолжил чтение. К тому времени, как он закончил, и император, и его министр вновь подпали под обаяние его чар. В письме же далее говорилось: “В интересах развития торговли, а также в интересах достижения иных взаимовыгодных целей мы предлагаем Вам заключить союз. Как нам стало известно, Вы провозгласили себя Непобедимым, и, поверьте, мы нисколько не оспариваем Ваше право так себя называть. Однако есть некто, именующий себя таким же образом. Заверяем Вас, что мы полагаем это лицо недостойным подобного прозвания. Мы имеем в виду, о могучий владыка, презренного епископа римского Григория XIII, чьи планы по поводу земель Востока могут быть для Вашего Величества весьма опасны. Уверяем Вас, что отнюдь не со святыми целями шлет он своих служителей в Камбей, Китай и Японию. Этот самый епископ затевает сейчас войну против нас, а его католические прихвостни при Вашем дворе – все до одного предатели и шпионы.
Берегитесь приспешников его! Заключите союз с нами, и совместно мы уничтожим всех недругов наших. Знаю, тело мое, тело женщины, немощно, зато я обладаю истинно королевским мужеством, а в груди у меня бьется сердце мужчины – сердце короля Англии. Не иначе как с презрением думаю я о том, что какой-то подлый епископ осмеливается выступать против меня и моих союзников, ибо я обладаю не только властью, но и силой, вполне достаточной для того, чтобы победить. А когда прах всех недругов наших развеют ветры, Вы, Ваше Величество, будете рады тому, что вступили в союз с Англией”.
Когда “посол” завершил свой перевод, императору стало ясно, что за какие-то считаные минуты его угораздило влюбиться второй раз; его неожиданно охватило страстное желание обладать той, которая обратилась к нему с посланием.
– Как ты полагаешь, Абул-Фазл, может, нам стоит без промедления сделать эту женщину нашей женой? – восликнул Акбар. – Королева-девственница, рани Зелабат Гилориана Пехлеви – красиво звучит, а? Мы полагаем взять ее в жены немедленно.
– Великолепная мысль! – воскликнул Могор дель Аморе. – А вот и медальон с ее портретом, она посылает его в знак своего всемилостивейшего расположения. Вы будете очарованы ее красотой, которая превосходит красоту и изящество ее слога.
Он взмахнул кружевом манжеты, и в его руке оказался медальон. Абул-Фазл принял его явно с опаской. У него возникло чувство, что они заходят слишком далеко, что появление этого Могора при дворе Акбара будет иметь чрезвычайные и, возможно, далеко не самые благоприятные для них последствия. Однако когда он попытался объяснить императору, что им ни к чему эти новые осложнения, тот попросту от него отмахнулся.
– Послание, как и податель его, нам приятно, – сказал Акбар. – Приведи его завтра в наши внутренние покои, мы желаем поговорить с ним еще.
Аудиенция была окончена.
Внезапное увлечение императора Зелабдина Эчебара своим зеркальным отражением в образе королевы Зелабат Гилорианы Первой привело к тому, что в Англию с императорскими гонцами полетели десятки писем от Акбара к королеве Елизавете. Все они остались без ответа. Пространные письма с личной печатью императора своей пылкостью и откровенностью в выражении сексуальных желаний являли собой пример эпистолярного стиля, не принятого в Азии (да и в Европе тоже). Многие из них не достигли адресата из-за того, что гонцы по дороге были взяты в плен противниками Елизаветы, и от Кабула до Кале эти перехваченные письма служили для знатных особ поводом для нескончаемых шуток: всех приводили в восторг как безумные признания Акбара в вечной любви к женщине, которую он в глаза не видел, так и его дикие мечты о создании державы, которая соединит в себе Западное и Восточное полушария. Те послания, которые все же достигли Уайтхолла, были либо признаны фальшивками, либо сочтены делом рук какого-либо маньяка, а гонцы, совершившие долгое и опасное путешествие, были вознаграждены за это тюремным заключением. Через некоторое время их попросту стали гнать прочь, и те из них, кому повезло, пройдя полмира, дохромать до Фатехпур-Сикри, не жалели язвительных слов в адрес английской королевы. “Она потому и девственница, – говорили они, – что ни одному мужчине неохота ложиться в постель с холодной как рыба девицей”. Миновал год и один день, и любовь Акбара исчезла, испарилась столь же странно и стремительно, сколь и явилась. Возможно, здесь сыграл роль бунт его жен, которые в кои-то веки сплотились вокруг Джодхи и пригрозили лишить его своих ласк, если он не перестанет слать глупые письма этой англичанке, чье молчание – после ее собственных навязчивых признаний, вызвавших интерес к ней императора, – яснее ясного свидетельствовало о ее неискренности и доказывало, насколько нелепы усилия понять эту чужую, невзрачную женщину, в то время как вокруг столько любящих и привлекательных.
Уже в самом конце его долгого правления, через много лет после появления Могора дель Аморе, стареющего императора охватила ностальгия по прошлому, он вспомнил странный эпизод с письмом от королевы Англии и захотел снова посмотреть на послание. Когда документ был найден и переведен заново, то оказалось, что большая часть оригинального текста исчезла. В той, что сохранилась, не было никаких упоминаний ни о его непобедимости, ни о претензиях римского епископа, как не оказалось и предложения о военном союзе против общего врага. По существу, оно содержало всего лишь требование предоставить льготы английским купцам, выраженное, правда, с соблюдением всех правил дипломатической вежливости. Когда император узнал правду, он – уже в который раз! – подумал о том, сколь странной притягательностью обладал незнакомец, явившийся к нему в то далекое утро, после ночного кошмара с участием вороны.
К тому времени эта информация не представляла для него никакой реальной ценности, хотя напомнила о том, чего ему забывать не следовало: колдовство совсем не обязательно осуществляется посредством таинственных снадобий, известных настоек или магических побрякушек. С помощью хорошо подвешенного языка можно добиться не меньшего эффекта.
6. Острый язык способен ранить куда серьезнее…
“Острый язык способен ранить куда серьезнее, чем самый острый меч”, – думал император. За доказательством справедливости этого умозаключения далеко и ходить-то было не нужно – достаточно поприсутствовать на словесных баталиях философов, а битвы эти теперь ежедневно происходили в богато расшитом, украшенном зеркальцами шатре Нового учения. Там все гудело, лучшие умы империи бились в нем насмерть острыми мечами слов. Акбар исполнил обещание, которое дал самому себе в тот день, когда разрубил на куски непокорного князька Кучх-Нахина, и возвел храм для дискуссий, где поклонение святыням было вытеснено соревнованием умов. Император взял с собой туда Могора дель Аморе, чтобы похвастаться этим новшеством, поразить гостя свободомыслием и блестящей оригинальностью двора Великих Моголов, а заодно и продемонстрировать португальским иезуитам, что они не единственные европейцы, имеющие доступ к императору.
Участники дискуссии, возлежа на коврах средь подушек, разбились на две группы – “водохлебов” и “винолюбов”. Они расположились по обеим сторонам от места, предназначенного для государя и его гостя. Членами группы, называвшей себя манкул, были мудрецы и мистики, всем напиткам предпочитавшие воду. В качестве их противников выступали философы и ученые, они именовали себя маа-кул и утоляли жажду исключительно вином. Ныне здесь присутствовали Абул-Фазл и Бирбал – оба, как всегда, заняли места среди “винолюбов”.
Хмурый подросток, принц Селим, тоже был здесь. Он сидел рядом с аскетического вида лидером “водохлебов” по имени Бадауни. Худой как спичка Бадауни принадлежал к тому типу молодых людей, которые уже родились стариками. Он недолюбливал Абул-Фазла, и шарообразный советник платил ему той же монетой. Эти двое осыпали друг друга столь изысканной бранью (“Жирный безумец!” – “Букашка мерзкая!”), что Акбар невольно засомневался, способны ли подобные перепалки привести в конце концов к гармоничному сосуществованию, о котором он мечтал, и открывает ли свобода слова путь к единству или же неизбежно ведет к хаосу. Акбар решил, что сей храм не выдержит испытания временем. Единственным и всемогущим божеством в нем является аргументация как таковая. Однако аргумент смертен, и даже если его воскрешают, он все равно рано или поздно умирает. Идеи – они как морской прилив или фазы Луны: когда приходит их время, они появляются, растут и крепнут, а затем, с оборотом большого колеса, теряют силу, блекнут и исчезают вовсе. Идея – построение временное, как шатер, там ей и место. В постройке шатров моголы были в каком-то смысле гениями, их временные жилища были отмечены красотой и выдумкой. Когда армия выступала в поход, кроме слонов и верблюдов ее сопровождало две с половиной тысячи человек, единственной обязанностью которых было ставить и разбирать во время привалов палаточный город в миниатюре. Его пагоды, павильоны и дворцы служили образцами для каменщиков при строительстве Фатехпур-Сикри. И все же шатер он и есть шатер: это сооружение из холста, ковров и деревянных стоек служило прекрасной иллюстрацией непостоянства и переменчивости того, что рождал человеческий разум. Возможно, через сотню лет придет день, когда его великая империя перестанет существовать (О да! Здесь, в шатре для диспутов, император был готов допустить даже гибель своего творения!) и его потомки станут свидетелями того, как этот шатер разберут и позабудут о его славном прошлом.
– Лишь приняв реальность смерти, мы способны понять, что такое жизнь, – изрек Акбар.
– Парадокс, Ваше Величество, – дерзко возразил Могор дель Аморе, – подобен узлу: зацепившись за него, человеку легко прослыть умным, несмотря на то что узел этот душит его мыслительные способности, и тогда он более всего напоминает курицу, которой связали лапки, прежде чем бросить в кипяток. Смерть поможет понять смысл жизни? Материальное благосостояние ведет к духовному оскудению? Чушь какая! Так можно дойти до того, что насилие есть милосердие, уродство есть красота, а почитаемое священным являет собою полную тому противоположность. Этот шатер и вправду зеркальный, здесь все иллюзорно и все представляется в искаженном виде. Здесь можно барахтаться в болоте парадоксов всю жизнь, и за это время тебе в голову не придет ни одна трезвая мысль.
Император почувствовал, как его захлестывает слепая ярость, подобная той, которая заставила его выдрать усы провинившемуся князю Кучх-Нахина. Он не верил своим ушам: неужто этот иноземный мошенник посмел… Лицо Акбара приобрело багровый оттенок, на губах выступила пена. Тихий ужас объял всех присутствующих, потому что в гневе Акбар был способен на все: собственными руками он мог разорвать в клочья небеса, мог вырвать всем языки, дабы никто не проговорился о том, что слышал, мог вынуть из человека душу и утопить ее в его же еще не остывшей крови.
Гробовое молчание прервал наконец принц Селим, подвигнутый на это Бадауни:
– Ты понимаешь, что твои слова могут стоить тебе жизни? – обратился он к чужеземцу в нелепом теплом плаще.
Могор дель Аморе оставался, во всяком случае внешне, абсолютно спокоен.
– Если в этом городе меня за подобное могут лишить жизни, то он не стоит того, чтобы в нем жить, – ответил он. – К тому же, как я понял, в этом месте всем правит Его Величество Разум, а не Его Величество император.
Молчание стало тяжелым, как сбитое масло. Лицо Акбара почернело. Но вдруг тучи рассеялись, император разразился веселым смехом и, хлопнув Могора по плечу, согласно кивнул.
– Чужеземец преподал нам хороший урок, друзья мои. Требуется выйти из круга, чтобы убедиться, что это окружность.
Теперь под прицелом всеобщего неодобрения оказался Селим, однако он промолчал. У Бадауни, всегдашнего противника и соперника Абул-Фазла, сделалось такое лицо, что Абул-Фазл почувствовал даже некоторую симпатию к желтоволосому чужаку, неожиданно полюбившемуся его господину. Что же до самого чужака, то Могор понял: эту партию он выиграл, но нажил себе могущественного врага, тем более опасного, что им оказался капризный и злопамятный юнец.
“Скелетину смертельно ненавидит его любовница-княжна, а меня – Селим собственной персоной. Вряд ли при таком раскладе у нас с ней есть надежда на победу”, – с тревогой подумал Могор, но, ничем не выдавая своего беспокойства, с изысканным поклоном принял из рук Бирбала бокал красного вина.
Император в этот момент тоже думал о Селиме. Как горячо радовался Акбар его появлению на свет! Правда, быть может, он допустил ошибку, отдав ребенка на попечение мистиков – последователей шейха Селима Чишти, в честь которого и был назван наследник. Характер у мальчика полон противоречий: он привязчивый, любит цветы и растения, но в то же время до беспамятства обкуривается опиумом и предается разврату, хотя и выращен суровыми поборниками нравственности. Селим безмерно стремится к удовольствиям, цитирует великих мудрецов и презирает отцовских любимцев, о которых говорит: “Не жди прозрения от лишенных зрения”. Мальчик похож на скворца, поющего с чужого голоса, его вполне могут использовать в игре против отца.
Пришелец же – полная ему противоположность; он ввязывается в любой спор и настолько увлекается самим процессом, что даже не постеснялся в пылу дискуссии подколоть императора, да еще при свидетелях, а это уж совсем никуда не годится. Возможно, именно с ним императору легче было бы говорить о том, что недоступно пониманию его сыновей. Когда Акбар убил князька Кучх-Нахина, его уже посещала мысль, что, может статься, он уничтожил единственного в мире человека, который способен был понять его и которого он смог бы полюбить. И вот теперь судьба, как бы откликаясь на его затаенное желание, дает ему еще один шанс – посылает второго подобного человека. Он, может быть, даже еще интереснее, потому что не только красно говорит, но и готов к любым неординарным действиям; это человек рассуждающий и вместе с тем склонный совершать безрассудные поступки, человек-парадокс, отрицающий парадоксы. На самом-то деле мошенник не менее противоречив, чем его Селим, и, вероятно, не более противоречив, чем любой другой на этой земле, но именно эта особенность характера Мотора вызывала у него интерес. Возможно, он мог бы открыть тому юноше свое сердце, сказать ему то, чего не говорил никогда и никому, даже глухому льстецу Бхактираму Джайну, даже всесильному и всезнающему Абул-Фазлу.
Есть столько вещей, которые ему хотелось бы обсудить, вещей темных, неясных даже для Абул-Фазла и Бирбала, вещей, которые он не был готов обсуждать открыто в шатре Нового учения. К примеру, ему хотелось бы выяснить, отчего человеку надлежит придерживаться какой бы то ни было веры лишь на том основании, что это вера его отцов. Быть может, религия всего лишь семейная традиция? Быть может, истинной, единственно правильной веры вообще не существует, а есть лишь преемственность поколений? А ведь передать можно не только добродетель, но и заблуждение… Может ли быть, что религия не более чем заблуждение наших предков?
Что, если религии не существует вовсе? О да, в мыслях он допускал даже такое. Ему хотелось поделиться хоть с кем-нибудь подозрением, что это люди сотворили Бога, а не наоборот. Ему хотелось произнести вслух: мера всех вещей – человек, а не Бог. Человек – это центр, это верх и низ, это все, что вокруг; человек – это ангел и дьявол, чудо и грех; есть лишь человек – и нет ничего выше его. И пусть отныне и вовеки не станем мы строить иных храмов, кроме тех, где будут поклоняться роду людскому.
Основать религию Человека – в этом заключалась его самая заветная и дерзостная мечта. В шатре Нового учения “водохлебы” и “винолюбы” обзывали друг друга богохульниками и глупцами, а Акбару не терпелось поделиться с кем-нибудь своим разочарованием как в мистиках, так и в философах; хотелось отмахнуться от дискуссий, вычеркнуть из памяти все вековые, унаследованные от предков представления о должном и недолжном, сакральном и мирском и вознести человека, нагого, каким он рождается, на трон небесный. Ибо если исходить из того, что человек создал Бога, то это значит, что в силах человеческих и низвергнуть его. Возможно ли, чтобы сотворенный стал свободен от власти сотворившего его? А может статься, уже сотворенное божество нельзя уничтожить? Не обретает ли творение независимость воли, которая делает его бессмертным? Ответов на эти вопросы у императора не было, но сами по себе вопросы уже в какой-то степени содержали в себе эти ответы. Может быть, чужеземцу легче разобраться в том, что недоступно пониманию его соплеменников? А он сам, Акбар? Смог бы он существовать за пределами привычного круга представлений, в пугающей неизвестности нового мышления?
– Мы уходим, – сказал он, обращаясь к гостю. – Для одного дня мы услышали вполне достаточно мудрых мыслей.
Призрачный покой, обволакивающий замерший в знойном мареве дворцовый комплекс, вынуждал его обитателей устанавливать связь с событиями реального мира, ориентируясь на знамения и приметы. Когда случалась задержка с ежедневной поставкой льда, это означало, что во владениях царя неспокойно. Когда поверхность Ануп-Талао – несравненного, кристально чистого императорского водоема – подергивалась вдруг зеленой ряской, это означало, что кто-то во дворце готовит заговор. Когда же император покидал дворец и в паланкине следовал к озеру Сикри, все знали, что государь чем-то встревожен. Знамения, связанные с огнем, землей и воздухом, тоже учитывались, но самыми надежными все же считались те, что относились к водной стихии. Вода снабжала императора информацией, волны нашептывали ему правду, именно вода приносила ему успокоение. Тонкими ручейками и широкими потоками она бежала и журчала во внутренних двориках и вокруг всего дворцового ансамбля, и она же охлаждала его каменные чертоги снизу Разумеется, вода была символом чистоты для суровых стоиков – последователей Бадауни, однако у императора Акбара с этой животворной субстанцией существовала совсем особая и гораздо более глубокая связь, чем у любого религиозного фанатика.
Каждое утро Бхактирам Джайн приносил государю для ритуального омовения сосуд с горячей водой. Акбар погружал лицо в пар, всматривался и определял свои действия на день. Когда он шел в императорскую баню-хаммам, то ложился в бассейне на спину и некоторое время колыхался по уши в воде, как большая рыба, а вода шептала ему самые потаенные мысли всех тех, кто в это время купался в радиусе трех миль от него. Искусственные водоемы обладали ограниченной возможностью передачи информации, поэтому, когда возникала нужда узнать о происходившем где-то в отдалении, ему требовалось погружение в реку. Однако магию хаммама тоже не следовало недооценивать. Именно вода бассейна поведала ему, например, о тайном дневнике, который вел тот же узколобый Бадауни. Дневник содержал злобную критику императорских идей и привычек, и если бы Акбар дал понять, что знает об этих записях, то ему не оставалось бы ничего другого, кроме как самолично и немедленно снести Бадауни его тупую башку. Поэтому Акбар оберегал тайну записей “водохлеба” так же бережно, как и свои собственные секреты. Правда, каждую ночь он засылал в покои злокозненного Бадауни своего самого лучшего шпиона Умара Айяра, с тем чтобы тот прочел и запомнил очередные, самые последние, страницы тайного сочинения, посвященного его царственной особе.
В услугах Умара Айяра император нуждался ничуть не меньше, чем в помощи воды. О его роли тайного соглядатая не было известно никому, кроме самого Акбара, – не знал об этом ни Бирбал, ни даже глава дворцовой шпионской сети Абул-Фазл. Юный евнух Умар Айяр, тоненький и гибкий, с безусым, гладким личиком, вполне мог сойти за девушку. По приказу Акбара он жил в одной из комнатенок женской половины дворца под видом прислужницы. Утром, в тот самый день, когда Акбар пригласил Могора дель Аморе сопровождать его в шатер Нового учения, Умар Айяр через потайную дверь, о существовании которой не подозревал даже Бхактирам Джайн, вошел в императорскую опочивальню и доложил своему господину о слушке, просочившемся сквозь стены борделя у Слоновьих ворот: там шептались, будто желтоволосый чужеземец владеет некой тайной, способной повлиять на судьбу империи. Умару не удалось выяснить, в чем заключается эта тайна, и по сему поводу он сокрушался так по-девичьи, что императору пришлось утешать его, дабы тот вдобавок ко всему еще и не залился слезами.
Именно оттого, что Акбару ужасно хотелось узнать, в чем там дело, он прикинулся, будто ни о чем не догадывается, и хитроумно выстраивал свои встречи с гостем таким образом, чтобы, насколько возможно, оттянуть момент раскрытия секрета. Он постоянно держал чужеземца при своей особе, но никогда не оставался с ним наедине. Он брал его с собой на прогулку к голубятням, где гоняли голубей, он разрешил ему занять почетное место рядом с носителем императорского зонта, когда направился в паланкине к светящемуся озеру.
Акбар и впрямь пребывал в душевном смятении. Мало того, что ему предстояло выслушать некий великий секрет, доставленный с другого конца света, так к этому добавились еще и события прошлой ночи, проведенной с возлюбленной Джодхой. Он обнаружил, что она его не возбуждает так, как это бывало всегда. Она никогда его не разочаровывала, а давеча он поймал себя на мысли, что, быть может, для разнообразия стоит обратить внимание на какую-нибудь хорошенькую наложницу. Если ко всему этому добавить сомнения по поводу Всевышнего, то смятенное состояние его души было вполне объяснимо. Явно пришло время полежать на воде.
Из сентиментальности он сохранил, повелев заново оснастить их, четыре любимых дедом Бабуром судна. Теперь они курсировали по озеру. На самом большом из них, “Ганджаише”, что значит “вместительный”, доставляли лед из Кашмира; правда, на последнем этапе его путешествия с Гималайских вершин, прежде чем он попадал в дворцовые кувшины, его перегружали на малое судно, которое свирепому Бабуру – почитателю красот природы и основателю империи Великих Моголов – подарил когда-то тезка Акбара, султан Джелаль-ад-дин. Сам Акбар предпочитал “Асаиш”, что значит “располагающий к отдыху”, которому для связи с берегом и перевозки гостей было придано небольшое быстроходное суденышко “Фармаиш”. Четвертый корабль, “Араиш” (“украшение”), предназначался для романтических встреч и посещался в основном в ночное время. Акбар провел Могора дель Аморе в главную каюту “Асаиша” и облегченно вздохнул: он всегда радовался, когда под его ногами вместо твердой почвы плескалась чуткая вода.
Чужеземца прямо распирало от желания открыться – он напомнил Акбару испуганную женщину, которой пришло время рожать. Акбар продлил его мучения, озаботив себя соблюдением всех правил приема гостя: он приказал принести подушки, вино и книги. Прежде чем напиток достигал царственных уст, его надлежало трижды испробовать на возможное наличие яда, и хотя эта процедура раздражала императора, он ею не пренебрегал.
Правило в отношении книг Акбар изменил. В прежние времена каждую из книг для императора полагалось просматривать трем разным цензорам на предмет обнаружения неприличных мест и всякого рода измышлений. “Иными словами, – провозгласил юный Акбар, взойдя на трон, – нам предстоит читать самое скучное из когда-либо написанного. Мы этого делать не намерены”. С тех пор император читал все что хотел, однако мнения трех “рецензентов” все-таки доводились до его сведения, поскольку правила, охранявшего государя от всего, что могло его поразить, никто не отменял. Подушки тоже проходили досмотр – на случай, если кому-нибудь из недоброжелателей вздумалось бы засунуть в одну из них гибельное лезвие. Все эти процедуры были наконец выполнены, и лишь после этого Акбар повелел оставить себя наедине с гостем.
– Ваше Величество, – начал Могор дель Аморе, и его голос, хоть и совсем чуть-чуть, но все-таки дрогнул, – позвольте мне изложить вам дело чрезвычайной важности. Оно предназначено лишь для ваших – и более ничьих – ушей.
Акбар разразился громким смехом:
– Полагаем, если бы еще несколько минут мы не позволили тебе говорить, то ты не выдержал бы и отправился на тот свет. Весь последний час ты напоминал чирей, готовый прорваться.
Чужеземец залился краской.
– Вашему Величеству известно все на свете, – проговорил он, низко поклонившись (император не предложил ему сесть), – однако осмелюсь предположить, что мое сообщение станет для вас неожиданностью, хотя оно и касается достаточно известных фактов.
Теперь уже император не смеялся.
– Хорошо, – произнес он. – Говори, что там у тебя, и хватит играть в прятки.
– Ваша воля, государь. Итак, давным-давно в турецкой стороне жил принц – страстный любитель приключений, звали его Аргалья или Аркалья. Он был отважным воином, владел волшебным оружием и держал при себе женщину по имени Анжелика…
И тут со стремительно приближавшейся легкой лодки, где находился Абул-Фазл с небольшой группой людей, донесся громкий крик: “Тревога! Жизнь императора в опасности! Спасайте императора!” В тот же момент в каюту ворвалась команда судна, и Могор дель Аморе был схвачен. Чья-то мускулистая рука сдавила ему горло, и сразу три меча были приставлены к его груди. Император поднялся, и вооруженные люди на всякий случай окружили его плотным кольцом.
– Анжелика, принцесса Индии и Катая[22]… – прохрипел чужеземец. Сильная рука еще крепче сдавила ему горло. – Самая прекрасная… – успел еще выговорить он, прежде чем потерял сознание.
7. В кромешном мраке каземата его цепи…
В кромешном мраке каземата его цепи доставляли ему такие же муки, как и тайна, которую он так и не успел открыть. Они обвивали его тело, и во тьме ему представлялось, будто он замурован внутри огромного человека из железа. Двигаться он не мог. Свет? Его можно было вызвать лишь силой воображения: каземат был выдолблен в скальной породе под дворцовым комплексом. Он дышал воздухом, которому было тысяча лет, и столько же лет, наверное, было тем существам, что ползали по его ногам, забирались в волосы на голове и копошились возле мошонки: тараканы-альбиносы, слепые змеи, прозрачные, безволосые мыши, призраки-скорпионы, вши. Ему предстояло умереть, так и не рассказав свою историю. Он отказывался в это поверить, а она, невысказанная, продолжала в нем жить, лезла ему в уши, щипала глаза, она липла к нёбу и щекотала язык. Каждый живой человек жаждет быть услышанным. Он еще жил, но если умрет, так и не высказавшись, то уподобится таракану-альбиносу – нет, еще хуже – станет просто плесенью. Каземат не был способен воспринять его рассказ, каземат недвижим и черен, ему неведомо, что такое время и свет, что такое движение, а рассказ требовал и движения, и времени, и света. Он чувствовал, как мало-помалу его история уплывает от него, теряет свое значение, перестает жить. Нет у него никакого рассказа. Нет и не было. Он не человек. Здесь нет людей – лишь каземат и липкая тьма.
Когда за ним пришли, он не понимал, сколько времени провел в заключении, – может, день, а может, целый век. Он не видел грубых рук, снявших с него цепи, какое-то время он даже не слышал и не мог говорить. Ему завязали глаза и отвели куда-то, где его мыли и скребли. “Как покойника перед погребением, – подумал он, – как хладный труп”. Правда, в этой басурманской стране не хоронят по-христиански, его обернут в саван и закопают. Или сожгут. И не будет мира его душе. И после смерти, как и пока он был жив, невысказанное будет мучить его, и это станет его личным адом, и не будет этому конца. Вдруг он услышал какие-то звуки: Когда-то, давным-давно… Это был его собственный голос. …Жил принц, – и он почувствовал, как сердце его застучало и кровь побежала быстрее. Распухший язык шевелился. Сердце молотом колотилось в груди. Он снова обрел тело и способность произносить слова! Ему сняли с глаз повязку. Четыре страшных великана и женщина были с ним…