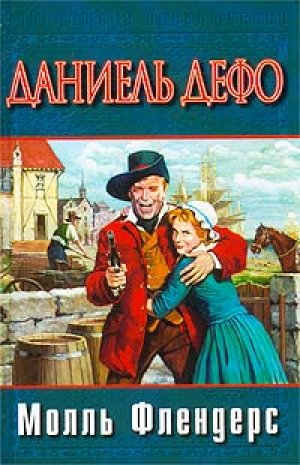
Предисловие автора
В последнее время публика так привыкла к романам, что история подлинной жизни, в которой от читателя скрыты имена действующих лиц и другие сведения о них, вряд ли будет сочтена былью; но в этом отношении мы должны предоставить читателя его собственному суждению: пусть он принимает эту книгу, как ему будет угодно.
Молль Флендерс[1], очевидно, описывает здесь собственную жизнь и вначале сообщает причины, заставившие ее скрыть свое настоящее имя, так что прибавить к этому нечего.»
Правда, подлинные записи пересказаны здесь иными словами, и слог замечательной дамы, о которой идет речь, слегка изменен; главное, в ее уста вложены более скромные выражения, нежели те, что стояли у нее; рукопись, попавшая в наши руки, была написана языком, больше похожим на жаргон Ньюгета, чем на язык раскаявшейся и смирившейся женщины, за которую она выдает себя на последних страницах.
Перу, занимавшемуся отделкой повести и превратившему ее в то, что вы видите перед собой, стоило немало труда принарядить ее в приличное платье и заставить говорить приличным языком. Когда развращенная с юных лет женщина, к тому же дитя разврата и греха, повествует о порочной своей жизни, особенно подробно останавливается на обстоятельствах своего совращения и на всех ступенях преступлений, которые она прошла за шестьдесят лет, то автору нелегко так все это скрасить, чтобы не было повода для нареканий, особенно со стороны недоброжелательных читателей.
Во всяком случае, были приложены все старания к тому, чтобы не допустить в эту повесть в настоящем ее виде никаких непристойностей, никакого бесстыдства, ни одного грубого выражения героини. С этой целью кое-какие подробности порочной части ее жизни, которые нельзя передать в пристойной форме, опущены вовсе, многое же сильно сокращено. То, что оставлено, надо надеяться, не оскорбит самого целомудренного читателя, самого скромного слушателя; и так как даже из самого дурного рассказа можно извлечь пользу, то нравоучение, надо надеяться, удержит читателя от легких мыслей даже в тех случаях, когда сам рассказ может их возбудить. Повесть о порочной жизни, кончившейся раскаянием, непременно требует живого описания порока, иначе потускнеет красота раскаяния, а под умелым пером оно, несомненно, должно выйти ярким и привлекательным.
Говорят, будто раскаяние нельзя изобразить с такой живостью, красотой и блеском, как преступление. Если в таком мнении и есть доля правды, то объясняется это, мне кажется, тем, что при чтении порок и добродетель вызывают неодинаковые чувства; несомненно, различие заключено не в истинных качествах предмета, а во вкусах и склонностях читателя.
Но так как настоящее произведение предназначено главным образом для людей, умеющих читать и извлекать пользу из прочитанного, то, надо надеяться, таким читателям нравоучение понравится гораздо больше, чем содержание, выводы — больше, чем самый рассказ, и намерение писавшей — больше, чем жизнь героини.
Повесть эта изобилует занятными приключениями, и все они содержат в себе назидание. Благодаря соответствующему освещению они всегда так или иначе поучительны для читателя. Распутная жизнь героини с молодым джентльменом в Колчестере[2] содержит столько черточек, изобличающих порок и предостерегающих всех вступающих на этот путь о гибельном конце подобных похождений, нелепость, безрассудство и гнусность поведения обеих сторон так очевидны, что этим с избытком искупается слишком живописное изображение героиней своего беспутства и порочности.
Раскаяние ее любовника из Бата и то, как он под влиянием болезни решает покинуть ее; справедливое предостережение против излишних вольностей даже в чисто дружеских отношениях; наша неспособность осуществить без божественной помощи самые благие намерения — в этих страницах разборчивый читатель обнаружит больше подлинной красоты, чем во всей цепи любовных приключений, которые к ним приводят.
Словом, все повествование заботливо очищено от легкомыслия и нескромности, которые там были, и еще более заботливо приспособлено для добродетельных и благочестивых целей. Никто не может без явной несправедливости бросить нам упрек за наше намерение опубликовать его.
Для доказательства пользы театральных представлений и необходимости разрешать их[3] при самом просвещенном и благочестивом правлении поборники театра во все времена ссылались на то, что драмы и комедии преследуют нравственные цели и при помощи живого изображения насаждают добродетель и благородство, в то же время изобличая и осмеивая всякого рода пороки и испорченность нравов. Если бы те, кто так говорит, действительно руководствовались этим правилом, защищая ту или иную пьесу, многое можно было бы сказать в похвалу им.
Это основное требование строжайшим образом соблюдено на всем протяжении настоящей книги, во всех бесконечно разнообразных ее эпизодах; в ней нет ни одного дурного поступка, который бы рано или поздно не привел к беде или несчастью, все выведенные в ней негодяи либо несут наказание, либо раскаиваются; дурное изображается только с целью осуждения, а добродетель и справедливость всегда вознаграждаются. Можно ли с большей точностью выполнить вышеупомянутое правило — и при соблюдении его не становятся ли поучительными даже такие вещи, которые справедливо нами осуждаются, например: изображение дурного общества, употребление непристойных выражений и тому подобное?
На этом основании настоящая книга предлагается читателю в качестве произведения, каждый эпизод, которого содержит что-нибудь поучительное; ее выводы могут послужить читателю назиданием, если он пожелает воспользоваться ими.
Все подвиги этой интересной дамы служат прекрасным предостережением честным людям, показывая, как заманивают простаков, как их обирают и грабят и, значит, каким образом избежать всего этого. Ограбление девочки, которую тщеславная мать разрядила, отправляя в танцевальную школу, является хорошим уроком на будущее для подобных людей, как и похищение золотых часов у маленькой барышни в Сент-Джеймском парке.
Похищение узла у легковерной девушки на стоянке почтовых карет на Сент-Джон-стрит, кража во время пожара, а также в Гарвиче учат, как важно сохранять самообладание при разных неожиданностях.
Скромная и трудолюбивая жизнь, которую героиня вела в последние годы в Виргинии с ссыльным мужем, является отличным назиданием для всех несчастных, вынужденных устраиваться в чужих краях, куда их загнала ссылка или другие невзгоды; мы видим, что прилежание и усердие не остаются без награды даже в отдаленнейших частях света и что нет такого жалкого, презренного и безотрадного положения, из которого мы бы не выбрались при помощи неутомимого труда, так как труд поднимает людей, упавших на самое дно, и дает им новые силы для жизни.
Вот те важные выводы, к которым нас подводит эта книга; их вполне достаточно, чтобы предлагать ее вниманию публики, а тем более оправдать ее издание.
Рукопись содержит еще две великолепные повести[4], о которых отчасти можно судить по некоторым отрывкам, вошедшим в настоящую книгу, но обе они слишком длинны, чтобы поместить их в этом томе; они могли бы составить самостоятельные книги. Я имею в виду: жизнь пестуньи, как называет ее героиня, женщины, которая в течение немногих лет перебывала благородной дамой, содержанкой и сводней, повивальной бабкой и содержательницей родильного приюта, процентщицей и похитительницей детей, укрывательницей воров и краденого; но все же эта воровка и наставница воров и т.п. напоследок раскаялась.
Вторая повесть — жизнь ссыльного мужа героини, разбойника с большой дороги, который, по-видимому, двенадцать лет промышлял грабежом и так ловко выпутался, что ему разрешили пойти в ссылку добровольно, а не в качестве каторжника; жизнь его полна необыкновенных приключений.
Но, как я уже сказал, вещи эти слишком велики, чтобы поместить их, и я не обещаю, что они будут изданы отдельно.
Повесть эта не доведена до самого конца жизни знаменитой Молль Флендерс, ибо никто не может довести свое жизнеописание до смерти: покойники писать не умеют. Но жизнь ее мужа, написанная третьим лицом, подробно излагает, как жили они вместе в той стране и как по прошествии восьми лет снова вернулись в Англию, успев за это время сильно разбогатеть; там говорится далее, что Молль дожила до глубокой старости, но уже не так горько каялась, как сначала; только она, по-видимому, всегда с отвращением говорила о своей прежней жизни, от начала до конца ее.
В Мериленде и Виргинии[5] жизнь ее была полна занимательных приключений, но рассказ о них не отличается такой складностью, как ее собственный; поэтому наша повесть только выиграет, если мы опустим эту часть.
Мое настоящее имя так хорошо известно в архивах или протоколах Ньюгета[6] и Олд Бейли[7], и с ним до сих пор связаны настолько важные обстоятельства, касающиеся моей частной жизни, что нечего ожидать, чтобы я назвала его здесь или сообщила какие-либо сведения о своей семье; может быть, после моей смерти все это станет известно, теперь же сообщать об этом было бы неудобно, даже если бы вышло полное прощение всех без исключения преступников и преступлений.
Достаточно будет вам сказать, что некоторые из самых дурных моих товарок, уже неспособные причинить мне какой-либо вред (они ушли из этого мира по ступенькам лестницы, ведущей на виселицу, которая часто угрожала и мне) знали меня под именем Молль Флендерс; поэтому позвольте мне выступать под этим именем, пока я не наберусь решимости признаться, кем я была и кто я теперь.
Слышала я, что в одном соседнем государстве — во Франции или в другом каком-то в точности не знаю, — существует королевский приказ, в силу которого дети преступника, приговоренного к смертной казни, к галерам или к ссылке, остающиеся обыкновенно без всяких средств вследствие конфискации имущества родителей, немедленно берутся в опеку правительством и помещаются в приют, называемый Сиротским домом, где их воспитывают, одевают, кормят, учат, а при выходе оттуда готовят к ремеслу или отдают в услужение, так что они получают, полную возможность добывать себе пропитание полезным и честным трудом.
Если бы такой обычай существовал и в нашей стране, я бы не осталась бедной, покинутой девочкой, без друзей, без одежды, без помощи или помощника, как выпало мне на долю и вследствие чего я не только испытала большие бедствия, прежде чем могла понять или поправить свое положение, но еще ввергнута была в порочную жизнь, которая приводит обыкновенно к быстрому разрушению души и тела.
Но у нас дело обстоит иначе. Матушка моя попала под суд за мелкую кражу, едва стоящую упоминания: она утащила три штуки тонкого полотна у одного мануфактурщика на Чипсайде[8]. Подробности слишком долго рассказывать, и я слышала их в стольких версиях, что положительно не могу сказать, какая из них правильна.
Как бы там ни было, все они сходятся в том, что матушка сослалась на свой живот, что ее нашли беременной и исполнение приговора было отсрочено[9] на семь месяцев; за это время она произвела меня на свет, а когда оправилась, приговор вошел в силу, но в смягченном виде: она была сослана в колонии, оставив меня, шестимесячную малютку, притом, надо думать, в дурных руках.
Все это происходило в слишком, раннюю пору моей жизни, чтобы я могла рассказать что-нибудь о себе иначе как с чужих слов; достаточно упомянуть, что я родилась в том несчастном месте, и не было прихода, куда бы можно было отдать меня на попечение на время малолетства; не могу объяснить, как я осталась в живых, знаю только, что какая-то родственница моей матери, как мне передавали, взяла меня к себе, но по чьему распоряжению и на чей счет меня содержала, ничего мне не известно.
Первое, что я могу припомнить о себе, это то, что я скиталась с шайкой людей, известных под названием цыган или египтян; но думаю, что я была у них недолго, потому что они не изменили цвета моей кожи, как делают со всеми детьми, которых уводят с собой; ничего не могу сказать, как я к ним попала и как от них вырвалась.
Бросили они меня в Колчестере, в Эссексе, и мне смутно помнится, что я сама покинула их там (то есть спряталась и не захотела идти с ними дальше), но я не в состоянии рассказать какие-либо подробности; помню только, что, когда меня взяли приходские власти Колчестера, я сказала, что пришла в город с цыганами, но не захотела идти с ними дальше и они меня бросили, но куда ушли — не знаю; за цыганами была послана во все стороны погоня, но, кажется, их не удалось найти.
Теперь я была, можно сказать, пристроена; правда, местные приходы, по закону, не обязаны были заботиться обо мне, однако, лишь только стало известно мое положение и что для работы я не гожусь, так как было мне всего три года, городские власти сжалились надо мной и взяли меня на свое попечение, как если бы я родилась в этом городе.
Посчастливилось мне попасть на воспитание к одной женщине, правда, бедной, но знававшей лучшие времена, которая добывала себе скромное пропитание тем, что ухаживала за такими детьми, как я, и снабжала их всем необходимым, пока они не достигали возраста, когда могли поступить в услужение или зарабатывать хлеб самостоятельно.
Эта женщина держала также маленькую школу, в которой обучала детей чтению и шитью; так как вращалась она когда-то в хорошем обществе, то воспитывала детей с большим искусством и большой заботливостью.
Но самое ценное было то, что воспитывала она нас также в страхе Божьем, будучи сама, во-первых, очень скромной и набожной, во-вторых, очень домовитой и опрятной и, в-третьих, с хорошими манерами и безукоризненного поведения. Таким образом, если не считать скудной пищи, убогого помещения и грубой одежды, получали мы такое светское воспитание, точно в танцевальной школе.
Я оставалась там до восьми лет, когда однажды, к ужасу своему, узнала, что городские власти распорядились отдать меня в услужение.[10] Я очень мало что могла бы делать, куда бы меня ни определили, разве только быть на побегушках или состоять судомойкой при кухарке; мне часто так говорили, и я очень этого боялась, потому что питала непреодолимое отвращение к черной работе, несмотря на свою молодость; и я сказала своей воспитательнице, что, наверно, смогу зарабатывать на жизнь, не поступая в услужение, если ей будет угодно позволить мне; ведь она научила меня работать иглой и прясть грубую шерсть, что является главным промыслом того города; и если она согласится оставить меня, я буду работать на нее, и буду работать очень усердно.
Я почти каждый день твердила ей об усердной работе, а сама трудилась не покладая рук и плакала с утра до ночи; и так я разжалобила добрую, сердобольную женщину, что она наконец стала за меня тревожиться: очень она меня любила.
Как-то раз после этого, войдя в комнату, где все мы, бедные дети, трудились, добрая наша воспитательница села прямо против меня, не на своем обычном месте, ко как будто нарочно с целью наблюдать за моей работой, Я исполняла какой-то заданный ею урок — помнится, метила рубашки. Помолчав немного, она обратилась ко мне:
— Вечно ты плачешь, дурочка (я и тогда плакала). Ну, скажи мне, о чем ты плачешь?
— Они хотят меня взять и отдать в прислуги, — проговорила я, — а я не умею работать по хозяйству.
— Полно, детка! Если ты не умеешь работать по хозяйству, то понемногу научишься. Тебя не приставят сразу к тяжелой работе.
— Нет, приставят, — говорю, — а если я не смогу делать ее, меня будут бить и служанки будут побоями заставлять меня работать. Я маленькая, и мне тяжело работать! — И с этими словами я так разрыдалась, что не могла больше говорить.
Моя добрая воспитательница очень расчувствовалась и решила не отдавать меня покамест в услужение; она велела мне не плакать, сказав, что поговорит с господином мэром и что меня не отдадут в услужение, пока я не подрасту.
Однако это обещание не успокоило меня, потому что самая мысль о том, что я пойду когда-нибудь в прислуги, страшила меня; даже если бы моя воспитательница сказала, что меня не тронут до двадцати лет, это нисколько бы меня не утешило; я вечно бы плакала от одного страха, что дело этим кончится.
Видя, что я не унимаюсь, воспитательница рассердилась.
— Чего ты ревешь? Ведь я сказала, что тебя не отдадут в прислуги, пока ты не подрастешь.
— Да, — говорю, — но потом все же придется пойти.
— С ума сошла девчонка! А ты что же, хочешь быть барыней?
— Ну да, — говорю и снова заплакала в три ручья. Тут старушка не выдержала и расхохоталась, как вы легко можете себе представить.
— Вот оно что! Вам угодно быть барыней! — стала она издеваться надо мной. — И вы думаете сделаться барыней, если будете шить да прясть?
— Да, — простодушно ответила я.
— Сколько же ты можешь заработать в день, дурочка?
— Три пенса пряжей и четыре пенса шитьем
— Ах, горе-барыня, — продолжала она насмехаться, — этак далеко не уедешь!
— С меня будет довольно. Только позвольте, мне остаться у вас, — сказала я таким умоляющим тоном, что добрая женщина разжалобилась, как она признавалась мне впоследствии.
— Да ведь этого не хватит тебе на пищу и на одежду. Кто же станет одевать маленькую барыню? — проговорила она, с улыбкой глядя на меня.
— Так я буду работать еще больше и все деньги буду отдавать вам, — отвечала я.
— Бедное дитя, все равно этого не хватит на твое содержание, одна провизия обойдется дороже.
— Тогда не нужно мне провизии, — продолжала я свои простодушные ответы, — позвольте мне только жить с вами.
— Разве ты можешь жить без еды?
— Могу, — продолжала я детскую свою речь и снова залилась горькими слезами.
Я ничуть не хитрила; вы легко можете видеть, что все мои ответы были непринужденными; но столько в них было простодушия и столько горячего порыва, что добрая, жалостливая женщина тоже заплакала, разрыдалась, как и я, взяла меня за руку и увела из классной комнаты. «Ладно, — говорит, — ты не поступишь в прислуги, ты будешь жить со мной», — и слова ее на этот раз меня успокоили.
После этого отправилась она раз к мэру поговорить о своих делах; зашел разговор и обо мне, и добрая моя воспитательница рассказала господину мэру всю эту сцену; тот пришел в такой восторг, что позвал послушать жену и двух дочерей, и вы можете себе представить, как весело все они смеялись.
И вот не прошло и недели, является вдруг к нам жена мэра с дочерьми навестить мою старую воспитательницу, посмотреть ее школу и детей. Посидев немного, жена мэра спрашивает:
— Скажите мне миссис***, где же та девочка, которая хочет быть барыней?
Услышав эти слова, я страшно испугалась, сама не знаю почему; но жена мэра подходит ко мне и говорит:
— Здравствуйте, мисс, покажите-ка мне, что такое вы шьете.
Слово «мисс» очень редко можно было слышать в нашей школе, и я удивилась, почему она называет меня таким нехорошим именем; все же я встала, сделала реверанс, она взяла у меня из рук работу, взглянула на нее и сказала; что сделано очень хорошо, потом посмотрела на мои руки и. сказала:
— Право, она. может стать барыней: поглядите, какие у нее беленькие ручки.
Ужасно мне это понравилось, но жена мэра этим не ограничилась, сунула руку в карман, дала мне шиллинг и велела работать старательно и прилежно учиться, тогда мне, может быть, удастся сделаться барыней.
Все это время моя добрая старушка-воспитательница, жена мэра и все прочие вовсе меня не понимали, потому что они подразумевали под словом «барыня» одно, а я — совсем другое. Увы! Мне казалось, что быть барыней — значит работать на себя и зарабатывать столько денег, чтобы не нужно было идти в прислуги, тогда как для них это означало высокое положение в обществе, богатство, широкую жизнь и не знаю что еще.
Когда жена мэра удалилась, вошли ее дочери и тоже пожелали увидеть барыню; они долго со мной разговаривали, и я отвечала им с тем же простодушием; каждый раз, как они спрашивали меня, действительно ли я решила стать барыней, я отвечала «да». Наконец они спросили меня, что же такое «барыня». Вопрос очень меня смутил. Все же я кое-как объяснила, что это женщина, которая не ходит работать по домам; они были в восторге от моих ответов, моя болтовня им, видно, очень понравилась и позабавила их, и они тоже дали мне денег.
Деньги эти я все отдала своей наставнице, как я называла ее, и пообещала старушке по-прежнему отдавать ей все, что буду зарабатывать, когда стану барыней. После этого и после других моих слов воспитательница начала понимать, что я подразумеваю под словами «быть барыней» и что они означают для меня всего лишь возможность собственным трудом зарабатывать себе на хлеб; наконец она меня спросила, так ли это.
Я ответила ей «да» и упорно твердила, что это и значит быть барыней. «Ведь вот такая-то, — сказала я, называя одну женщину, которая чинила кружева и стирала дамские кружевные чепчики, — ведь она же барыня, и все зовут ее мадам».
— Глупенькая, — рассмеялась моя добрая старушка, — такой барыней тебе стать нетрудно: про нее дурная слава идет, у нее двое незаконных.
Я ни слова не поняла, однако ответила: «Я знаю, что ее зовут мадам и она не живет в прислугах». Поэтому я твердо стояла на том, что она барыня, и хотела быть такой же.
Все это снова было передано дамам, и те очень смеялись, и время от времени дочери господина мэра приходили повидать меня, спрашивая, где маленькая барыня, что наполняло меня немалой гордостью. Навещая меня, эти молодые дамы иногда приводили с собой знакомых; таким образом, меня скоро знал чуть не весь город.
Мне было тогда около десяти лет, и я уже начинала походить на маленькую женщину, так как была очень серьезной и чинной, и вы легко можете себе представить, какую я чувствовала гордость, слыша от дам, что я хорошенькая и буду красавицей. Однако эта гордость не оказывала еще на меня дурного действия; деньги, которые дамы часто дарили мне, а я отдавала старушке-воспитательнице, женщина эта добросовестно тратила на меня, покупая мне чепчики, белье и перчатки, так что я была опрятно одета; будь на мне лохмотья, они и то всегда были бы чистые, я сама бы стирала их; но, повторяю, добрая моя воспитательница; когда мне дарили деньги, добросовестно тратила их на меня и всегда говорила дамам, что то-то и то-то куплено на их деньги; это побуждало их делать мне новые подарки, пока наконец городские власти и в самом деле не вызвали меня и не предложили поступить на службу. Но я уже стала тогда такой прекрасной работницей и дамы были так добры ко мне, что обошлось без службы; я могла зарабатывать для своей воспитательницы все, что она тратила на мое содержание, поэтому она попросила разрешения оставить у себя «барыню», как все называли меня, говоря, что я буду ей помогать в обучении детей, с чем я отлично могла справиться, потому что работала очень ловко, даром что была еще очень молода.
Однако доброта моих покровительниц пошла еще дальше; узнав, что город больше не содержит меня, они стали чаще дарить деньги, а когда я подросла, начали приносить мне работу на дом: шить белье, чинить кружева, отделывать шляпки, и не только платили мне, но еще и учили, как все это нужно делать, так что я действительно сделалась барыней, как я понимала это слово: мне не исполнилось еще двенадцати лет, а я не только справляла себе платья и платила воспитательнице за пропитание, но еще и откладывала деньги про черный день.
Дамы часто мне дарили свои платья или что-нибудь из платья своих детей: то чулки, то юбку, то одно, то другое; и моя старушка берегла все это, как мать, заставляя меня чинить и переделывать, потому что была она на редкость бережливая хозяйка.
Наконец так я полюбилась одной из дам, что она пожелала пригласить меня на месяц к себе в дом, чтобы я, говорила она, побыла с ее дочерьми.
Хотя это приглашение было необыкновенной любезностью с ее стороны, однако, как сказала ей добрая моя старушка, она причинит маленькой барыне больше зла, чем добра, если решила взять меня лишь на время. «Да, — согласилась дама, — вы правы; возьму ее к себе на неделю посмотреть, сойдутся ли с ней мои дочери и понравится ли мне ее характер, и потом с вами поговорю, а если тем временем кто-нибудь придет навестить ее, как обыкновенно, скажите, что вы послали ее ко мне».
Все было устроено по-хорошему, и я отправилась в гости к названной даме; но так мне там понравилось с молодыми барышнями и им так понравилось со мной, что тяжело было от них уходить, да и им не хотелось со мной расставаться.
Все же я их покинула и жила еще с год у моей честной старушки: теперь я была ей настоящей помощницей, потому что мне минуло уж четырнадцать лет, росту была я высокого и смотрела маленькой женщиной; но так я приохотилась к барской жизни в доме той дамы, что уже не чувствовала себя привольно, как раньше, в своем старом жилище, и я думала, что и вправду хорошо быть барыней, только понятия мои о том, что такое барыня, теперь совсем переменились, и так как я думала, что хорошо быть барыней, — то нравилось мне быть с барынями и страшно хотелось вернуться к ним.
Когда мне исполнилось четырнадцать лет и три месяца, моя добрая старушка — мне бы следовало называть ее матерью — заболела и умерла. Я оказалась тогда в очень печальном положении: ведь не стоит большого труда разорить семью бедного человека, когда его снесут на кладбище; так что после похорон бедной старушки приходские дети тотчас были разобраны церковными старостами; со школой было покончено, и ученицам осталось только сидеть дома и ждать, пока их пошлют в другое место. Все добро, оставшееся после покойницы, начисто прибрала ее дочь, замужняя женщина, мать шести или семи детей; увозя пожитки, она не нашла ничего лучше, как посмеяться надо мной, сказав, что маленькая барыня может устраиваться теперь самостоятельно, если ей угодно.
Я перепугалась почти до потери разума и не знала, что делать; ведь меня просто-напросто выгоняли вон, и, что еще хуже, у честной старушки хранились мои двадцать два шиллинга, составлявшие все богатство маленькой барыни; когда же я попросила у дочери свои деньги, она прикрикнула на меня, сказав, что знать ничего не знает.
Между тем добрая старушка говорила дочери о моих деньгах, показывала, где они лежат, объяснила, что это деньги девочки, раза два или три звала меня, чтобы мне их вернуть, но, к несчастью, меня не было дома, — а когда я вернулась, она уже не могла говорить. Впрочем, дочь оказалась настолько честной, что впоследствии отдала мне деньги, несмотря на то, что сначала поступила со мной жестоко.
Теперь я действительно была бедной барыней и в тот же вечер должна была отправиться на все четыре стороны: дочь вывезла все до единой вещи покойницы, у меня не было ни крова, ни куска хлеба. Но, видно, — кто-то из соседей сжалился надо мной и дал знать о случившемся той даме, в семье которой я гостила; она тотчас же прислала за мной служанку, которую пожелали сопровождать две хозяйские дочери, я мигом собрала свои пожитки и с радостным сердцем отправилась к ней. Ужас моего положения так на меня подействовал, что я уже не хотела быть барыней и охотно бы согласилась стать служанкой и исполнять любую работу, какую мне дадут.
Но моя новая великодушная госпожа была лучшего мнения обо мне. Я называю ее великодушной, потому что она во всем настолько же превосходила добрую женщину, у которой я жила, насколько выше было ее общественное положение; говорю «во всем», за исключением честности; и хотя эту даму нельзя упрекнуть ни в чем, однако ни при каких обстоятельствах я не должна забывать, что моя наставница, несмотря на свою бедность, была такой честной, что честнее и не сыскать.
Только эта добрая барыня, как я сказала, увела меня к себе, как первая дама, то есть жена мэра, послала дочерей позаботиться обо мне, и еще одна семья, приметившая меня, когда я была маленькой барыней и брала работу на дом, послала за мной вслед за женой мэра, так что все дамы наперебой стали за мной ухаживать и были в большой обиде, особенно жена мэра, что ее приятельница перехватила меня у нее; ведь я по праву принадлежу ей, говорила жена мэра, так как она первая обратила на меня внимание. Но та дама, у которой я жила, не захотела отпустить меня; ну, а мне ничего лучшего и не надо было.
Так и жила я у этой дамы до семнадцати с половиной, и было это столь полезно для моего воспитания, что лучше и вообразить нельзя: дочерей моей хозяйки обучали танцевать, говорить по-французски и писать; обучали их также музыке; так как я всегда была с ними, то вместе с ними и училась; и хотя ко мне не были приставлены учителя, однако я при помощи подражания и расспросов научилась всему, чему их учили при помощи наставлений и указаний; словом, я научилась танцевать и говорить по-французски не хуже их самих, а пела гораздо лучше, потому что у меня был хороший голос. Я не могла так быстро научиться играть на клавикордах и на спинете[11], потому что у меня не было своего инструмента для упражнений и я могла заниматься только урывками, когда не играли барышни; но все же я научилась играть вполне сносно, так как под конец барышни обзавелись двумя инструментами, то есть и клавикордами и спинетом, и сами стали давать мне уроки. Что же касается танцев, то они просто не могли не обучить меня контрдансу, потому что я всегда была нужна для пары[12]; и вообще их готовность обучать меня всему, чему они сами выучились, ничуть не уступала моей охоте учиться у них.
Таким образом, я пользовалась всеми выгодами воспитания, которое получила бы, будь я такой же барышней, как и те, с которыми я жила; и кое в чем я имела над ними преимущество, даром что они стояли выше меня по положению; природа наделила меня дарами, которых никаким богатством не приобрести. Во-первых, я была гораздо красивее их, во-вторых, лучше сложена и, в-третьих, лучше пела, то есть голос у меня был лучше; надеюсь, вы мне поверите, что высказываю я не свое мнение, а мнение всех, кто знал ту семью.
Со всем тем я не чужда была тщеславия, свойственного нашему полу: мне хорошо было известно, что все меня считают хорошенькой или, если хотите, красавицей, и я сама вполне разделяла это мнение и в особенности любила слышать его от других, что случалось часто и доставляло мне большое удовольствие.
До сих пор, как видите, жизнь моя текла без особых происшествий; я не только жила в прекрасной семье, всеми уважаемой за добродетель, скромность и другие хорошие качества, но и сама слыла девушкой рассудительной, скромной и добродетельной, какой и была на самом деле, к тому же я не имела еще повода направлять свои мысли в другую сторону и познать искушение порока.
Но то, чем я так тщеславилась, стало моей гибелью или, вернее, причиной ее было мое тщеславие. У моей покровительницы было двое сыновей, юношей весьма даровитых и отменно воспитанных, и, на свое несчастье, я с ними была очень хороша, они же обошлись со мной совсем иначе.
Старший, большой весельчак, одинаково хорошо проводивший время в столице и в деревне, хотя и совершал по легкомыслию дурные поступки, но благодаря большой опытности дешево расплачивался за свои удовольствия. Начал он с того, что расставил мне пагубную ловушку, в которую попадаются все женщины, то есть при всяком случае замечал, какая я хорошенькая, какая милая, какая грациозная и тому подобное; и делал он это преловко, умел заманивать женщин в свои сети так же, как куропаток; говорил эти вещи не мне, а сестрам, улучая минуту, когда я была недалеко и наверное могла услышать его. Сестры вполголоса останавливали его: «Те, братец, она тебя услышит; она в соседней комнате». Тогда он начинал говорить тише, делая вид, будто попался впросак, и признавался, что поступил нехорошо, потом, словно забывшись, снова возвышал голос, а я, в восторге от его слов, жадно к ним прислушивалась, как только представлялся случай.
Наживив таким образом удочку и легко найдя способ забросить ее на моем пути, он стал играть в открытую; и вот однажды, проходя мимо комнаты сестры, когда я была там, он весело ко мне обращается:
— Ах, мисс Бетти![13] Как поживаете, мисс Бетти? У вас не горят уши, мисс Бетти?
Я сделала реверанс и покраснела, но ничего не ответила.
— Зачем ты так говоришь, братец? — сказала барышня.
— Затем, что у нас внизу целых полчаса шел разговор о ней.
— Но ведь вы не могли говорить о ней ничего дурного, я в этом уверена, и нам не интересно, что вы там болтали.
— Помилуй! — говорит. — Дурного у нас и в мыслях не было, напротив, мы говорили о ней много-много хорошего. Столько лестных вещей было сказано о мисс Бетти, уверяю тебя; мы говорили, что она самая красивая девушка в Колчестере; словом, в городе начинают пить за ее здоровье.
— Удивляюсь тебе, братец, — оборвала его сестра. — Бетти не хватает только одного, но это одно стоит всего остального, потому что нынче наш пол ценят дешево; молодая женщина может быть писаной красавицей, знатной, воспитанной, остроумной, рассудительной, изящной и скромной, обладать всевозможными прекрасными качествами, но если у нее нет денег — у нее нет ничего; в наши дни одни только деньги заставляют уважать женщину; нет денег — и мужчины не церемонятся с нашей сестрой.
— Постой, сестрица, не торопись, — вмешался младший брат, находившийся тут же, — я — исключение из твоего правила. Уверяю тебя, если я встречу женщину с такими совершенствами, как ты говоришь, я не стану беспокоиться о деньгах.
— О, ты будешь осторожен и не увлечешься женщиной, у которой ничего нет!
— Почем ты знаешь?
— К чему все эти разглагольствования о богатстве, сестра? — не выдержал старший. — Не знаю, как в чем другом, а в деньгах у тебя ведь нет недостатка.
— Понимаю, братец, — резко ответила сестра. — Ты хочешь сказать, что у меня есть деньги, а красотой Бог обидел. Но такие уж нынче времена, что довольно одних денег: деньги всегда, дадут мне преимущество над моими сверстницами.
— Это верно, — заметил младший брат, — зато и у сверстниц может быть преимущество: ведь с красотой можно иногда подцепить мужа, невзирая на деньги, и когда горничная миловиднее госпожи, то часто не остается внакладе и идет под венец первой.
Я сообразила, что пора мне убраться, и ушла, но недалеко, так что мне слышен был весь разговор, и узнала я кучу лестных для себя вещей, приятно пощекотавших мое самолюбие, но, как я вскоре обнаружила, подорвавших мое положение в семье, потому что сестра жестоко поссорилась из-за меня с младшим братом; он наговорил ей много грубостей, которые она приняла близко к сердцу, как я в том убедилась из ее последующего обращения со мной, очень несправедливого, ибо у меня и в мыслях никогда не было того, в чем она меня подозревала относительно своего младшего брата; старший, тот действительно как-то загадочно и издалека заговаривал со мной, и я имела глупость принять всерьез его шутки, которые при неопытности моей поселили во мне самые несбыточные надежды.
Однажды он взбежал по лестнице в комнату, где обыкновенно сидели за шитьем его сестры, что проделывал часто; еще с лестницы он, по обыкновению, окликнул их. Я была в комнате одна подошла к двери и сказала:
«Сударь, барышень здесь нет, они гуляют в саду». Тут он как раз подлетел и будто нечаянно заключил меня в объятия.
— Ах, мисс Бетти, вы здесь? Вот прекрасно! Вас-то мне и нужно, а не сестер, — проговорил он и с этими словами, не выпуская меня из объятий, три или четыре раза поцеловал.
Я стала отбиваться, но не очень настойчиво, а он крепко держал меня и продолжал целовать, пока совсем не задохся, и, садясь, сказал:
— Милая Бетти, я влюблен в вас.
От этих слов, должна сознаться, вся кровь во мне закипела и хлынула к сердцу. Волнение мое, конечно, не укрылось от него. Он повторил еще несколько раз, что влюблен в меня, и сердце мое отчетливо говорило, что слова эти мне нравятся. Да, каждый раз, как он твердил: «Я влюблен в вас», румянец мой ясно отвечал:
«Мне это приятно, сударь».
Однако в тот раз дело этим и ограничилось. Он остался бы со мной и дольше, но, взглянув случайно в окно, увидел, что к дому подходят сестры, поэтому быстро простился, еще раз поцеловал меня, сказал, что не шутит и что вскоре я услышу о нем еще, и ушел, оставив меня в изумлении, Но и в большой радости. Если бы дело было чистое, все было бы хорошо, но беда в том, что мисс Бетти была искренна, а барин забавлялся.
С тех пор голова моя пошла кругом, я была поистине сама не своя; подумать только: такой барин признавался в любви ко мне и говорил, что я прелестное создание! Не знала я, как и перенести все это: загордилась до последней степени. Высоко держала я голову и, не подозревая о порочности нашего века, совсем забыла о добродетели: если бы молодой барин пожелал, он тогда же мог позволить себе со мною какие угодно вольности. На мое счастье, он в тот раз не воспользовался этой возможностью.
Вскоре он снова нашел случай поймать меня врасплох, и почти в той же обстановке с его стороны все было рассчитано, а для меня явилось неожиданностью. Вышло так: барышни с матерью пошли куда-то в гости, младший брат уехал за город, а отец уже с неделю был в Лондоне. Молодой барин так усердно сторожил каждый мой шаг, что ему было известно, где я нахожусь, тогда как я даже не знала, что он дома. И вот он проворно вбегает по лестнице и, увидя меня за работой, подходит прямо ко мне; тут он начал то же, что и прежде: обнял меня и целовал чуть ли не четверть часа подряд.
Я находилась в комнате его младшей сестры, и так как в доме никого не было, кроме служанок в нижнем этаже, то он вел себя посмелее; словом, был со мной очень пылок. Может быть, он счел меня слишком покладистой, потому что я не оказывала сопротивления, когда он держал меня в объятиях и целовал; и правда, мне это было так приятно, что где уж было сопротивляться.
Утомившись от этой возни, мы уселись рядом, и он долго со мной разговаривал: сказал, что он в восторге от меня и что не знал покоя, пока не признался мне в любви, и если я тоже полюблю его и захочу осчастливить, то, спасу его жизнь, и много других прекрасных вещей. Я почти не отвечала ему, но достаточно показала свою наивность и полное непонимание его намерений.
Потом он взял меня за руку и стал ходить со мной по комнате, а улучив минуту, повалил меня на кровать и неистово стал целовать, но, надо отдать ему справедливость, не допускал никакой грубости, ограничиваясь одними поцелуями. Тут ему послышалось, будто кто-то поднимается по лестнице; он вскочил с кровати, поднял меня и поклялся, что очень, очень меня любит, но что чувства его самые честные и он не желает причинить мне никакого зла; сунул мне в руку пять гиней и сошел вниз.
От денег я пришла в еще большее замешательство, чем прежде от любви, и так возгордилась, что себя не помнила. Говорю об этом для того, чтобы молодые неопытные девушки, которым попадутся на глаза эти строки, знали, какие их ожидают невзгоды, если они слишком рано возомнят о своей наружности. Стоит только девушке вообразить себя хорошенькой, и она ни за что не усомнится в правдивости мужчины, который клянется ей в любви; ведь если она считает себя настолько привлекательной, чтобы пленить его, то чего же естественнее, что он поддается ее чарам.
Мой кавалер теперь в такой же мере распалился сам, как и подогрел мое тщеславие; найдя, вероятно, что случай очень удобный «и жалко пропустить его, он через полчаса снова входит ко мне и принимается за прежнее, на этот раз без особых предисловий.
Начал он с того, что, войдя в комнату, запер за собой дверь.
— Мисс Бетти, — сказал он, — мне послышалось, будто кто-то поднимается по лестнице, но я ошибся; теперь же если кто и придет, то не застанут нас за поцелуями.
Я сказала, что не знаю, кто может подняться к нам, так как, по-моему, в доме нет никого, кроме кухарки и еще одной служанки, а они никогда, не ходят по этой лестнице.
— Прекрасно, милая, — ответил он, — однако лучше принять Предосторожности.
С этими словами он сел, и мы начали разговаривать. Хоть я была еще вся в огне после его первого посещения и больше молчала, он словно говорил за двоих, повторяя, как страстно меня любит и что пока он, правда, не может распоряжаться своим состоянием, но зато потом твердо решил сделать нас обоих счастливыми, иными словами, жениться на мне, и кучу подобных вещей; а я, глупенькая, не понимала, к чему он клонит, и поступала так, точно бы и не было другой любви, кроме той, что ведет к браку; если бы, однако, он заговорил о ней, у меня не было бы ни основания, ни сил сказать ему нет; но до этого у нас еще не дошло.
Посидели мы немного, вдруг он поднялся и, чуть не задушив поцелуями, снова повалил меня на кровать; но при этом позволил себе такие вещи; о которых неприлично рассказывать, а я в ту минуту не в силах была отказать ему в чем-либо, даже если бы он зашел гораздо дальше.
Но хоть он и допустил эти вольности, все же дело не дошло до так называемой высшей благосклонности, которой, нужно отдать ему справедливость, он и не добивался; эта сдержанность послужила оправданием всех вольностей, которые он впоследствии допускал со мной. В этот раз он очень скоро ушел, отсыпав мне чуть ли не целую горсть золота и рассыпаясь в уверениях, что любит меня безумно, больше всех женщин на свете.
Не удивительно, что после этого я начала размышлять, но, увы! размышления мои были не очень основательны. Тщеславия и гордости у меня было хоть отбавляй, о добродетели же я почти не думала. Правда, иногда я спрашивала себя, чего, собственно, хочет молодой барин, но на уме были только ласковые слова да золото; есть ли у него намерение жениться или нет, казалось мне делом маловажным; не думала я также, какие ему поставить условия, пока он не сделал мне определенного предложения, о чем вы скоро услышите.
Так шла я к падению, не испытывая ни малейшего беспокойства; пусть моя участь послужит уроком девушкам, у которых тщеславие торжествует над добродетелью. Оба мы натворили кучу глупостей. Если бы я вела себя благопристойно и оказала сопротивление, как того требовала честь и добродетель, он или отказался бы от своих приставаний, видя, что нечего рассчитывать на успех, или честно предложил бы мне руку; за это его, может быть, кто-нибудь, и порицал бы, зато мне никто не сделал бы упрека. Словом, если бы он знал меня, знал, как легко добиться пустяка, которого он желал, то, долго не задумываясь, сунул бы мне четыре или пять гиней и овладел бы мною в следующую же нашу встречу. С другой стороны, если бы мне были известны его мысли, если бы я знала, какой, кажусь ему неприступной, то поставила бы условия, потребовав от него или немедленно жениться, или содержать меня до женитьбы, и получила бы все, чего хотела: ведь мой обожатель был очень богат, да еще ожидал наследства. Но мне и в голову не приходило подумать об этом, я только гордилась своей красотой да тем, что меня любит такой барин. По целым часам любовалась я золотом, пересчитывала гинеи тысячу раз в день. Никогда еще бедная тщеславная девушка не пребывала в таком заблуждении, как я; мне не было никакого дела до того, что ждет меня; не помышляя о гибели, я стояла на краю пропасти; мне даже кажется, что я скорее бы бросилась в нее, чем постаралась обойти.
Все же я проявила в это время довольно ловкости, чтобы не дать никому в семье ни малейшего повода для подозрений, будто я в стачке с молодым барином. Я едва глядела на него при посторонних и небрежно отвечала на его вопросы; несмотря на все это, нам удавалось время от времени видеться, перекинуться словом и даже обменяться поцелуями, но удобного случая для дурного дела не представлялось, тем более что он шел гораздо более окольными путями, чем было нужно; дело казалось ему трудным, и он сам создавал себе затруднения.
Но дьявол-искуситель не знает покоя и всегда найдет случай толкнуть нас на дурное дело. Однажды вечером, когда я с молодым барином и с его сестрами гуляла в саду, он улучил минуту и сунул мне в руку записку, в которой сообщал, что завтра при всех пошлет меня в город с поручением и встретит меня где-нибудь на дороге.
Действительно, после обеда он, деловито обращается ко мне в присутствии сестер:
— Мисс Бетти, хочу просить вас об одном одолжении.
— Каком одолжении? — спросила младшая сестра.
— Что ж, сестра, если ты не можешь сегодня обойтись без мисс Бетти, отложим до другого раза, — сказал он с самым равнодушным видом.
Тогда обе сестры в один голос стали уверять, что свободно могут обойтись без меня, а та, что задала вопрос, извинилась перед ним.
— Но ведь тебе нужно сказать мисс Бетти, чего ты от нее хочешь, — проговорила старшая. — Если это твое частное дело, о котором нам нельзя слышать, отзови ее в сторону. Вот она.
— Помилуй, сестра, — так же равнодушно ответил он, — какое у меня может быть частное дело! Просто! я хотел просить мисс Бетти сходить на Хай-стрит[14] (тут он вынул из кармана брыжи), в такую-то лавку, — и пустился рассказывать длинную историю о двух красивых шейных платках, которые приторговал и теперь хочет, чтобы я купила воротник для брыжей, и если не согласятся отдать платки по условленной цене, мне следует поторговаться и набавить шиллинг; потом выдумал еще поручения и надавал их столько, что я должна была отлучиться надолго.
Покончив с этим, он стал сочинять новую историю о предстоящем ему визите в хорошо знакомое сестрам семейство, где должны быть господа такие-то и такие-то и будет очень весело, и церемонно предложил сестрам сопровождать его, а те столь же церемонно отказались, объяснив, что ждут к себе сегодня гостей, чье посещение он, кстати сказать, сам подстроил.
Только что он кончил, как вошел его лакей и доложил, что подъехала карета сэра В. Г.; при этих словах он выбежал из комнаты и тотчас вернулся.
— Увы, — воскликнул он, — все мои планы приятно провести время разом рушатся: сэр В. прислал за мной карету и просит заехать к нему поговорить о каком-то важном деле.
Этот сэр В. был помещиком, жившим в трех милях от нас, у которого он накануне выпросил карету, назначив ей приехать к трем часам.
И вот мой поклонник велит подать себе лучший парик, шляпу, шпагу и, приказав лакею отправиться с извинениями в тот дом, куда он собирался, иными словами, выдумав благовидный предлог услать лакея, спешит к карете. По дороге, однако, останавливается и деловитейшим образом напоминает мне о своих поручениях, шепнув при этом: «Идите поскорей за мной, милая». Я ничего не ответила, а только сделала реверанс, как бы подтверждая, что исполню то, о чем он мне сказал при сестрах. Через четверть часа ушла и я, не переменив платья, а только положив в карман чепчик, маску, веер и перчатки; таким образом, ни у кого в доме не возникло никаких подозрений. Он поджидал меня в переулке, по которому я должна была пройти; кучер знал, куда ехать — в местечко Майл Энд, где жил один его доверенный человек; войдя к нему, мы нашли все, что нужно, чтобы предаться пороку.
Когда мы остались одни, спутник мой торжественно заявил, что он привез меня сюда не с целью обмануть, что его страстная любовь не допускает вероломства, что он решил жениться на мне, лишь только вступит во владенье своим имуществом, а до тех пор, если я соглашусь уступить его желанию, даст мне весьма приличное содержание и принялся всячески меня уверять в искренности своих чувств, говоря, что никогда меня не покинет; словом, предпринял в тысячу раз больше предварительных шагов, чем было нужно.
Так как он добивался от меня ответа, то я сказала, что после стольких уверений не могу сомневаться в искренности его любви, но… И я замолчала, как бы предоставляя ему догадаться, что я хочу сказать.
— Но что, милая? Догадываюсь, что вы хотите сказать: что будет, если вы забеременеете? Не правда ли? Будьте покойны, я позабочусь о вас, обеспечу, и вас и ребенка. А в доказательство того, что я не шучу, — продолжал он, — вот вам залог. — С этими словами он вынул шелковый кошелек с сотней гиней и вручил его мне, сказав: — Такой подарок я буду вам делать ежегодно до нашей свадьбы.
Я то краснела, то бледнела при виде кошелька; от его предложения меня бросило в жар, я не в силах была вымолвить слова, и он прекрасно это видел; сунув кошелек за пазуху, я больше ему не сопротивлялась и позволила делать с собой что угодно и сколько угодно. Так совершилось мое падение; с этого дня покинули меня добродетель и скромность, и нечем мне было больше снискать благословение Божие и поддержку от людей.
Но этим дело не кончилось. Я вернулась в город, исполнила его поручения и пришла домой прежде, чем кто-нибудь заметил мое долгое отсутствие. Что же касается моего любовника, то он приехал только поздно] вечером, и ни у кого в семье не возникло ни малейших подозрений на наш счет.
После этого мы по его почину не раз повторяли наши преступные свидания, обычно дома, когда мать и сестры молодого барина уходили в гости; он так внимательно сторожил их, что никогда не упускал подобных случаев и являлся ко мне, зная заранее, что застанет меня одну и никто нам не помешает. Таким образом, почти полгода мы спокойно предавались нашим порочным утехам, и, несмотря на это, я, к великому своему удовольствию, не забеременела.
Но не прошли еще эти полгода, как младший брат, О котором я уже упоминала, тоже принялся за меня. Встретив меня раз вечером в саду, он завел ту же песню, признался в любви, заявив о честности своих намерении; словом, безо всяких обиняков предложил мне руку и сердце.
Представьте себе мое замешательство: никогда еще не случалось мне быть в таком затруднении. Я стала упорно отказываться от его предложения, приводя разные доводы: что это был бы неравный брак и его семья никогда бы меня не простила, что это было бы неблагодарностью по отношению к его батюшке и матушке, так великодушно принявшим меня, когда я находилась в самом беспомощном положении; словом, чего только не говорила, чтобы разубедить его, утаила одну лишь правду, которая положила бы конец всем его домогательствам, но я не смела даже заикнуться о ней,
Но тут случилось такое, чего я не ожидала и что еще более меня смутило. Молодой человек, от природы прямой и честный, был одушевлен самыми благородными намерениями и, сознавая свою правоту, не старался, подобно старшему брату, держать в тайне от домашних нежные чувства к мисс Бетти. И хотя он никому не сообщил о сделанном мне предложении, все же из его слов мать и сестры поняли, что он меня любит; правда, мне они не подавали вида, но от него не скрывали своих подозрений, и вскоре я обнаружила в их обращении со мной еще большую перемену, чем раньше.
Я заметила тучи, но не предвидела бури. Перемену в их обращении со мной, повторяю, нетрудно было заметить; с каждым днем они относились ко мне все хуже и хуже, пока наконец я не узнала от прислуги, что в скором времени меня попросят уйти.
Известие это не испугало меня, так как я была в полной уверенности, что обо мне позаботятся, тем более что каждый день я могла забеременеть и тогда мне все равно не пришлось бы здесь остаться.
Спустя некоторое время младший брат, улучив минуту, сказал мне, что о его чувствах стало известно всей семье. Меня он не обвинял, потому что прекрасно знал, каким способом об этом проведали. Он признался мне, что причиной огласки были его собственные слова, ибо он не держал своих чувств ко мне в должной тайне по той причине, что, если бы я согласилась принадлежать ему, он открыл бы родным, что любит меня и намерен на мне жениться; правда, отец и мать, может быть, разгневались бы на него и проявили суровость, но он теперь способен зарабатывать самостоятельно, так как изучил право и уверен, что может содержать меня в достатке; одним словом, полагая, что я не буду его стыдиться, он решил и сам не стыдиться меня и бесстрашно признаться в своих чувствах к той, кого избрал себе в жены; таким образом, мне не остается ничего другого, как отдать ему свою руку, а за остальное он берет ответственность на себя.
Положение мое было ужасно; я горько раскаивалась теперь в своей уступчивости старшему брату, не потому чтоб чувствовала угрызения совести, а при мысли о том, какое счастье я упустила. Ибо хотя совесть, как уже сказано, не особенно меня мучила, все же я и подумать не могла о том, чтобы быть любовницей одного брата и женой другого. Тут я вспомнила, что старший брат обещал жениться на мне, когда вступит во владение своим имуществом; но меня поразило теперь то, о чем я и раньше часто думала, — а именно, что он не обмолвился ни одним словом об этом обещании с тех пор, как я стала его любовницей; однако до сих пор, хотя, повторяю, я часто думала об этом, меня это нимало не беспокоило, потому что ни его страсть, ни щедрость нисколько не уменьшались, из осторожности он только просил меня не тратить ни копейки на платья и не наряжаться, так как это непременно возбудило бы подозрение его родных, поскольку все знают, что я не могу достать такие вещи обыкновенным путем, а только при помощи чьей-либо благосклонности, и меня немедленно заподозрили бы в том, что я ею пользуюсь.
Итак, я была в большом затруднении и не знала, что делать; больше всего меня смущало то, что младший брат не только за мной ухаживал, но и нисколько не скрывался. Он входил в комнату сестры или матери, садился и расточал мне любезности в их присутствии; в результате весь дом говорил об этом, мать осыпала его упреками, и обращение со мной совсем изменилось. Словом, мать обронила несколько замечаний, из которых легко было понять, что она хочет заставить меня покинуть семью, иными словами — выгнать вон. Я уверена, что это не оставалось тайной для старшего брата, однако он, как и все другие, едва ли догадывался, что младший брат сделал мне предложение; но мне ясно было, что дело этим не кончится, и потому я считала совершенно необходимым признаться старшему во всем или заставить его самого заговорить об этом, но не знала мне ли ему открыться первой или предоставить первое слово ему.
После серьезного размышления (а надо сказать, что теперь я наконец стала серьезно смотреть на вещи) и решила заговорить первой; скоро и случай представился: на следующий день младший брат уехал по делам в Лондон, семья, как и раньше бывало, ушла в гости, а мой любовник, по обыкновению, явился провести, часок-другой с мисс Бетти.
Посидев немного, он без труда заметил во мне перемену: пропала вся моя непринужденность и веселость, и, главное, лицо было заплаканное; увидя это, он тотчас же участливо меня спросил, в чем дело и не случилось ли чего со мной. Я охотно бы отложила признание, но долее скрываться было невозможно; и вот, позволяя ему с великим трудом вытянуть из меня то, в чем мне так хотелось открыться, я сказала ему, что действительно одна вещь тревожит меня, но это тайна, хотя мне и трудно таиться от него, а как признаться — я не знаю: это явилось для меня неожиданностью, но привело также в большое замешательство, и я не знаю, на что решиться, если он не поможет мне советом. Он ласково попросил меня не тревожиться, обещая, что бы ни случилось, защитить меня от целого света.
Тогда я начала издалека и сказала, что боюсь, не донес ли кто-нибудь госпожам о нашей связи. Ведь сразу видна резкая перемена в их обращении со мной: дошло до того, что они часто придираются ко мне и подчас бранят без малейшего повода с моей стороны. Раньше я всегда спала в одной постели со старшей сестрой, но с недавних пор меня стали класть одну или с кем-нибудь из служанок, и не раз до меня долетали очень нелюбезные слова по моему адресу. В довершение всего, как передавала мне одна из служанок, господа говорили, что меня нужно выгнать вон и что мое дальнейшее пребывание в доме небезопасно для семьи.
Выслушав меня, он улыбнулся; тогда я спросила, как можно быть таким легкомысленным. Ведь должен же он понимать, что, если нас накроют, я погибла, и ему это повредит, хотя он и не пострадает так сильно, как я. Я стала его упрекать, говоря, что он похож на всех мужчин: в их руках — доброе имя женщины, и часто оно для них игрушка, безделица; для мужчины гибель несчастной, подчинившейся его воле, — пустяк, не стоящий никакого внимания.
Видя, что я разгорячилась и говорю серьезно, он сразу переменил тон; сказал, что ему обидно слышать такое мнение о себе, что он никогда не давал мне для этого ни малейшего повода, а, напротив, оберегал мое доброе имя как свое собственное, что о нашей связи, он уверен, не подозревает ни одна душа в доме, так осторожно мы себя вели, а улыбнулся он моим мыслям лишь потому, что совсем недавно убедился как раз в обратном, то есть что о нашем сговоре никто даже не догадывается, и когда он мне расскажет, почему он в этом уверен, я тоже улыбнусь, так как его рассказ безусловно меня удовлетворит.
— Тут какая-то непостижимая для меня тайна, — говорю, — как могу я быть удовлетворена тем, что меня выгонят вон? Ведь если наша связь не раскрыта, то не знаю, чем еще я провинилась перед вашими родными, которые теперь отворачиваются от меня, а раньше обращались ласково, как с родной дочерью.
— Видишь ли, дитя мое, — говорит, — это верно, что мои родные недовольны тобой, но у них нет ни малейших подозрений на наш счет, а подозревают они моего братца Робина и вполне убеждены, что он за тобой ухаживает. И неудивительно: этот дурак сам навел их на такую мысль, так как вечно болтает о своих чувствах, ставя себя в самое смешное положение. Мне кажется, что это очень нехорошо с его стороны; ведь не может же он не видеть, что его болтовня раздражает родных и восстанавливает их против тебя; но я и доволен, ведь меня-то они ни в чем не подозревают. Надеюсь, что и ты останешься довольна этим.
— Конечно, довольна, — говорю, — но не вполне; меня больше тревожит другое, хотя и это причиняло порядочное беспокойство.
— Что же тебя тревожит? — спросил он.
В ответ я только расплакалась, не в силах вымолвить слова. Он всячески старался успокоить меня, но очень настойчиво просил объясниться. Наконец я сказала, что считаю своим долгом сделать ему и это признание; во-первых, оно касается его, во-вторых, я нуждаюсь в его совете, так как нахожусь в большом замешательстве, из которого не знаю, как выйти. Тут я изложила все; сказала, как неосторожно поступил его брат, предав дело огласке: ведь если бы он держал все в тайне, я могла бы наотрез отказать ему, не вступая ни в какие объяснения, и со временем он прекратил бы свои домогательства, но, он, во-первых, тщеславно возомнил будто я ему не откажу, а во-вторых, взял на себя смелость разболтать о своих намерениях всему дому.
Я рассказала своему любовнику, как упорно я сопротивлялась его брату и как благородны и искренне были его предложения.
— Однако, — закончила я, — положение мое станет еще более трудным; ведь если ваши родные сердятся на меня теперь за то, что ваш брат хочет на мне жениться, они еще пуще рассердятся, когда узнают, что я отказала ему, и тотчас же скажут: тут что-то неладно, девчонка, наверное, уже за кем-нибудь замужем, иначе никогда бы не отказалась от такой блестящей партии.
Речь моя сильно его поразила. Он ответил, что положение мое действительно очень щекотливое и он не видит, каким образом из него выпутаться, но обещал подумать и на ближайшем свидании сообщить о своем решении, попросив, чтобы до тех пор я не давала согласия его брату, но и не отказывала ему наотрез, а держала его в неопределенности.
При словах «не давала согласия» я так и подпрыгнула. Ведь он хорошо знает, сказала я ему, что я не могу дать согласия, так как сам пообещал жениться на мне и связал меня словом; постоянно говорил, что я его жена, я искренно считала себя его женой[15], точно мы были повенчаны; он дал мне на это право, постоянно убеждая меня называться его женой.
— Послушай, милая, — сказал он мне в ответ, — не думай сейчас об этом: хотя я не муж тебе, но буду вести себя, как муж. Перестань же тревожиться и позволь мне хорошенько все обдумать; в следующий раз я дам тебе более обстоятельный ответ.
Так он меня успокаивал всеми средствами, но я заметил, что он очень озабочен, и хотя он был очень мил со мной, целовал несчетное число раз и к тому же дал денег, однако больше ничего не предпринимал во время нашего более чем двухчасового свидания, чем я была очень поражена, настолько это непохоже было на него, никогда не пропускавшего подобных случаев.
Брат его вернулся из Лондона только через пять или шесть дней, и прошло еще два дня, прежде чем старшему представился случай поговорить с ним с глазу на глаз о нашем деле; в тот же вечер он нашел способ (мы долго оставались вместе) передать мне весь разговор, который, насколько помнится, был такой.
Старший сказал, что дошли до него после отъезда брата странные слухи, будто Робин ухаживает за мисс Бетти.
— Ну и что ж? — с некоторым раздражением отвечал младший. — Кому какое до этого дело?
— Успокойся, Робин, я на тебя вовсе не сержусь и не собираюсь вмешиваться в твои дела, но мне кажется, что они из-за этого встревожились и стали дурно обращаться с бедной девушкой, а на всякую обиду, причиненную ей, я смотрю как на личное оскорбление.
— Кто такие они? — спрашивает Робин.
— Мать и сестры, — отвечает старший. — Но разве это серьезно? Ты действительно любишь девушку?
— Изволь, скажу тебе откровенно: я люблю ее больше всех женщин на свете, и она будет моей, что бы ни говорили и ни делали мать и сестры. Думаю что девушка мне не откажет.
Эти слова кольнули меня в самое сердце; хотя было естественно предположить, что я ему не откажу, однако совесть говорила мне, что нужно отказать, и я видела в этом отказе свою гибель; но я сознавала, что мои интересы заставляют меня сейчас говорить иное, почему и перебила рассказчика такими словами:
— Вот как! Он воображает, что я ему не откажу? Ну, так увидит, что откажу наотрез.
— Хорошо, милая. Но дай мне досказать все, что между нами произошло, а потом говори что хочешь.
Он так ответил брату:
— Но ты ведь знаешь, Робин, что у нее нет ни гроша за душой, между тем как тебе могут представиться выгодные партии.
— Что за беда, что у нее ничего нет, — сказал Робин, — я люблю Бетти и никогда не пожертвую ради кошелька влечением сердца.
— На эти слова, милая, — прибавил мой любовник, обращаясь ко мне, — мне нечего было возразить.
— Ну, а я сумею возразить. Теперь я научилась говорить нет, хотя раньше и не умела. Если бы теперь предложил мне руку первый вельможа в королевстве, я бы самым решительным образом ответила ему нет.
— Но что же, милая, ты можешь сказать Робину? Ты же сама говорила давеча, что он задаст тебе кучу вопросов и весь дом будет с удивлением спрашивать, что все это значит.
— А разве я не могу заткнуть всем рты, сказав, что я уже замужем за его старшим братом? — с улыбкой ответила я.
При этих словах мой собеседник тоже улыбнулся, но я видела, что он встревожен и не в силах скрыть свое замешательство.
— Конечно, — сказал он, — это до известной степени справедливо. Все же я убежден, что ты шутишь, так как отлично понимаешь все неудобство такого ответа по многим причинам.
— Нет, нет, не беспокойтесь, — весело говорю я, — я не собираюсь разглашать нашу тайну без вашего согласия.
— Но чем же тогда объяснишь ты им свой решительный отказ от такой явно выгодной для тебя партии?
— Мало ли чем. Во-первых, я вообще не обязана приводить какие-нибудь причины, а во-вторых, могу заявить, что я уже замужем, не говоря, за кем именно: думаю, что такой ответ отобьет у него охоту к дальнейшим расспросам.
— Да, но тогда к тебе будет приставать весь дом, и, если ты наотрез откажешься от всяких объяснений, будет обида и возникнут подозрения.
— Так что же мне делать? — спрашиваю. — Как прикажете мне поступить? Как я уже вам сказала, я в большом затруднении и посвятила вас в это дело, чтобы услышать от вас совет.
— Поверь мне, милая, я много об этом думал, и хотя то, что я тебе посоветую, очень мне неприятно и может сначала показаться тебе странным, однако, взвесив все, скажу: не препятствуй ему изъявлять свои чувства и, если находишь его намерения искренними и серьезными, выходи за него замуж.
Услышав такие слова, я с ужасом на него посмотрела, побледнела как смерть и чуть не упала без чувств с кресла, на котором сидела; он тогда испуганно вскочил и, закричав: «Милая, что с тобой? Что ты?» — стал меня встряхивать и называть по имени, пока не привел в себя, хотя для этого понадобилось немало времени; в течение нескольких минут я не могла вымолвить ни слова.
Когда я совсем оправилась, он сказал:
— Милая, нужно подумать над этим серьезно. Ты видишь, как неприязненно стала относиться к тебе семья после речей моего брата. Представь же себе, как все озлобятся, когда узнают о нашей связи. Мне кажется, это будет гибельным и для меня, и для тебя.
— Вот как! — гневно воскликнула я. — Все ваши обещания и клятвы пошли насмарку при первых признаках недовольства семьи? Разве я не предсказывала этого, хоть вы и относились легкомысленно к моим замечаниям и делали вид, что стоите выше таких пустяков?
А теперь до чего вы дошли? Где ваша верность и честь, ваша любовь и святость ваших обещаний?
Он невозмутимо выслушал мои упреки, на которые я не скупилась.
— Милая, — сказал он наконец, когда я замолчала, — я еще не нарушил ни одного своего обещания.
Я сказал, что женюсь на тебе, когда вступлю во владение своим имуществом, но ты видишь, что мой отец здоров и крепок. Он может прожить еще тридцать лет и будет ничуть не дряхлее многих наших горожан. Ты сама никогда не торопила меня с женитьбой, зная, что это может погубить меня; То же можно сказать и об остальном: ни в чем я не обманул тебя.
Я не могла отрицать ни одного сказанного им слова:
— Как же тогда, — сказала я, — вы убеждаете меня сделать такой ужасный шаг: покинуть вас, хоть сами меня не покинули? Почему вы не допускаете никакой привязанности, никакой любви с моей стороны, если сами так меня любите? Разве я вам не платила взаимностью? Ничем не засвидетельствовала своей искренности и своей страсти? Разве, пожертвовав честью и скромностью; я не доказала, что узы, связывающие меня с вами, слишком прочны, чтобы их разорвать?
— Но, моя милая, ведь, выйдя замуж, ты приобретешь положение, честь твоя будет спасена, и все происшедшее между нами будет предано вечному забвению, как если бы ничего и не случилось. Ты навсегда сохранишь мою искреннюю привязанность, но она будет честной и безупречной по отношению к моему брату: ты станешь моей милой сестрой, как теперь ты моя милая… — И он запнулся.
— Ваша милая потаскушка, — договорила я, — вот что вы хотели и вправе были бы сказать; я понимаю вас. Все же прошу вас вспомнить, сколь часто и подолгу вы убеждали меня смотреть на себя как на честную женщину; уверяли, что если не в глазах света, то в мыслях я ваша жена и что брак наш так же действителен, как если бы мы были повенчаны приходским священником. Ведь это были ваши собственные слова.
Найдя свой тон чересчур резким, я решила немного смягчить его. Он стоял в остолбенении, не отвечая ни слова, а я продолжала так:
— Ведь не думаете же вы, — я не считаю вас настолько несправедливым, — что я уступила всем вашим уговорам без любви, — которой не могут поколебать никакие превратности судьбы. Разве я дала когда-нибудь повод для такого низкого мнения обо мне? Если в то время я уступила своей любви, вняла вашим убеждениям и стала смотреть на себя как на вашу жену, то неужели прикажете теперь считать ложью все ваши доводы и называться вашей потаскушкой или любовницей, что одно и то же? И вы собираетесь передать меня вашему брату? Разве вы можете передать мою любовь? Можете приказать мне разлюбить вас и полюбить его? Неужели вы думаете, что я в силах совершить такую замену по заказу? Нет, сударь, поверьте, что это невозможно, и, как бы вы ни переменились, я останусь навсегда верной; скорее соглашусь даже, раз стряслось такое несчастье, быть вашей потаскушкой, чем женой вашего брата.
Речь моя, по-видимому, произвела на него впечатление, и он был растроган и сказал, что любит меня по-прежнему, что никогда не нарушал данных мне обещаний, но что это дело грозит мне, как ему кажется, многими Неприятностями, и то, что он мне посоветовал, представляется ему единственным выходом; однако он уверен, что это не повлечет полного разрыва между нами и мы останемся друзьями на всю жизнь, любя друг друга даже сильнее, чем в настоящем нашем положении; и он ручается, что мне нечего опасаться с его стороны разглашения тайны, гибельного для нас обоих; в заключение он хочет спросить меня об одной вещи, которая может оказаться тут помехой, и если получит удовлетворительный ответ, то у него не останется никаких сомнений, что это единственный для меня выход.
Я сразу догадалась, какой это вопрос, именно — не беременна ли я. Что до этого, сказала я ему, то пусть он не беспокоится, я не беременна.
— Прости меня, милая, — сказал он тогда, — мне больше некогда разговаривать. Подумай хорошенько. Я твердо убежден, что это наилучший для тебя выход.
И с этими словами он простился, тем более поспешно, что у ворот позвонили мать и сестры как раз в ту минуту, когда он встал и собрался уходить.
Он покинул меня в самом крайнем смятении мыслей; и он ясно видел это на другой день и всю неделю, но все не мог найти случая заговорить со мной от того вторника до самого воскресенья, когда я, чувствуя себя не совсем здоровой, не пошла в церковь, а он, выдумав какой-то предлог, остался дома.
И этот раз он пробыл у меня целых полтора часа, и мы снова спорили, выставляя друг другу те же доводы, так что повторять здесь этот разговор нет смысла; наконец я, разгорячившись, спросила, какого же он мнения о моей стыдливости, если способен предположить, что я соглашусь быть в связи с двумя братьями, и заверила его, что это невозможно. Если даже он скажет мне, добавила я, что никогда меня больше не увидит — страшнее чего для меня могла быть одна только смерть, — то и тогда я ни за что не пойду на такую бесчестную для меня и низкую для него сделку; поэтому, если у него осталась хоть капля уважения или любви ко мне, умоляла я, пусть он мне больше об этом не говорит или же пусть обнажит шпагу и убьет меня. Он был поражен моим упрямством, как он выразился; сказал, что я жестока и к нему, и к себе, что беда стряслась неожиданно для нас обоих, но он не видит другого способа спастись от гибели, почему мое поведение кажется ему еще более жестоким. Однако, если я запрещаю говорить об этом, прибавил он с необычной холодностью, то нам вообще не о чем разговаривать — и с этими словами встал, чтобы проститься. Я тоже встала с напускным равнодушием, но когда он подошел ко мне, — как бы для прощального поцелуя, я так исступленно разрыдалась, что, даже если бы хотела, не могла сказать ни слова и только сжала ему руку, точно прощаясь, а слезы ручьем текли из глаз.
Сцена эта сильно взволновала его, он снова сел и принялся нежно утешать меня, настаивая, однако, на необходимости принять его предложение; впрочем, уверял, что, если даже я откажусь, он по-прежнему будет содержать меня, но ясно давал понять, что будет отказывать мне в главном — даже как любовнице, ибо считал бесчестным поддерживать связь с женщиной, которая рано или поздно может стать женой его брата.
То, что я теряла в нем любовника, не было для меня таким огорчением, как потеря его самого, ибо я действительно любила его до безумия, а также гибель моих заветных надежд стать со временем его женой. Все это так меня удручало, что я слегла, у меня началась жесточайшая горячка, и долго никто в семье не чаял видеть меня в живых.
И правда, было мне очень плохо и я часто бредила, но ничто так меня не угнетало, как боязнь сказать в бреду что-нибудь такое, что могло ему повредить. При этом я сильно мучилась желанием видеть его, и он тоже очень хотел меня видеть, потому что любил меня страстно; но это было неосуществимо; ни у него, ни у меня не было ни малейшей возможности устроить свидание.
Уже около пяти недель я лежала в постели; и хотя через три недели горячка моя начала спадать, но по временам приступы ее возобновлялись. Несколько раз доктора говорили, что они больше ничего не в состоянии сделать для меня и борьбу с болезнью нужно предоставить природе, лишь помогая этой последней укрепляющими средствами. Через пять недель мне стало лучше, но я была так слаба, так изменилась и поправлялась так медленно, что доктора боялись, как бы у меня не началась чахотка; больше всего раздражало меня высказанное ими мнение, что я чем-то угнетена, что что-то меня мучит, словом, что я влюблена. Весь дом принялся осаждать меня расспросами, действительно ли я влюблена и в него, но я всячески это отрицала.
Однажды за столом по этому поводу произошла стычка, которая чуть было не привела к ссоре. Вся семья, за исключением отца, сидела в столовой, а я, больная, находилась у себя в комнате. Началось с того, что старуха хозяйка, пославшая мне какое-то кушанье, велела служанке подняться наверх и спросить, не хочу ли я еще, но служанка, вернувшись, доложила, что я не съела и половины посланного мне.
— Бедная девушка! — сказала старая дама. — Боюсь, что она не поправится.
— Как же мисс Бетти поправиться? — заметил старший брат. — Ведь, говорят, она влюблена.
— Никогда не поверю этому, — возразила ему мать.
— Не знаю, что и сказать, — вмешалась старшая сестра. — Все кругом твердят, какая она красавица, какая прелесть и не знаю, что еще; твердят ей прямо в лицо, так что, я думаю, у дурочки голова закружилась и она невесть что о себе возомнила! Право, не знаю, что и подумать.
— Однако, сестра, нужно признать, что она в самом деле очень хороша, — сказал старший брат.
— Конечно, и гораздо красивее тебя, сестра, — отозвался Робин, — тебя это и злит.
— Ладно, ладно, не в этом дело, — перебила его сестра, — девчонка недурна, и она знает это; незачем ей об этом твердить и возбуждать в ней тщеславие
— Речь идет не о тщеславии, — возразил старший брат, — а о том, что она влюблена. Сестры, по-видимому, думают, что она влюблена в собственную особу.
— Я так хотел бы, чтобы она была влюблена в меня, — сказал Робин, — я мигом бы успокоил ее страдания.
— Что ты этим хочешь сказать, сынок? — встревожилась старуха. — Как можешь ты говорить такие вещи?
— Неужели вы думаете, матушка, — чистосердечно заявил Робин, — что я позволю бедной девушке умирать от любви ко мне, находясь от нее так близко?
— Фи, брат, — вмешалась младшая сестра, — как можешь ты говорить это? Неужели ты возьмешь девчонку, у которой нет ни гроша за душой?
— Помилуй, сестрица, ведь красота то же приданое, а добрый нрав и подавно. Желал бы я, чтобы у тебя была половина такого приданого, — сказал Робин, сразу заставив ее замолчать.
— Мне кажется, — проговорила старшая сестра, — что не Бетти влюблена, а мой братец. Удивляюсь, как он не открыл своих чувств Бетти; ручаюсь, что она не скажет нет.
— Женщины, которые уступают, когда их просят, — сказал Робин, — головой выше тех, которые уступают прежде, чем их попросят. Вот тебе мой ответ, сестрица.
Сестра была задета и с гневом заявила, что терпеть дольше невозможно: пора разделаться с девкой, — она подразумевала меня; правда, болезнь не позволяет выгнать меня вон сейчас же, но она надеется, что отец и мать позаботятся о том, как только я встану с постели.
Робин возразил, что это дело хозяина и хозяйки дома, которым не пристало слушаться такой неразумной особы, как его старшая сестра.
Дело этим не кончилось; сестра бранилась, Робин отшучивался и издевался, а положение бедной Бетти в семье сильно ухудшилось. Когда мне обо всем рассказали, я разрыдалась, и старая дама поднялась ко мне, услышав, в каком я состоянии. Я пожаловалась ей на жестокость докторов, высказывающих предположение, для которого у них нет никаких оснований, — жестокость, особенно чувствительную при моем положении в семье; выразила надежду, что мной не совершено ничего, что подрывало бы ее уважение ко мне или давало повод для раздоров между ее сыновьями и дочерьми; сказала, что у меня на уме скорее гроб, чем любовь, и умоляла не менять доброго мнения обо мне из-за чужих грехов.
Старая дама чувствовала правоту моих слов, но сказала, что раз в доме произошла такая ссора и ее младший сын наговорил таких глупостей, то она просит сделать ей одолжение, ответить откровенно на один вопрос. Я заявила, что отвечу со всей прямотой и искренностью. Тогда она спросила, было ли что-нибудь между мной и ее сыном Робертом. Я ответила с самыми торжественными уверениями, на какие только была способна, и притом совершенно правдиво, что между нами ничего нет и никогда не было; сказала, что мистер Роберт болтал и шутил, по своему обыкновению, и что я всегда относилась к его словам так, как он, мне кажется, сам к ним относился, то есть считала, что они говорятся на ветер и лишены всякого значения; я поклялась, что между нами не произошло ровнехонько ничего такого, на что она намекает, и что люди, внушившие ей эти подозрения, причинили мне большие неприятности и оказали плохую услугу мистеру Роберту.
Старуха осталась вполне довольна, поцеловала меня, стала ласково утешать, велела заботиться о своем здоровье, ни в чем себе не отказывать — и с тем удалилась. Но, сойдя вниз, она обнаружила, что ссора между сестрами и братом разгорелась пуще прежнего; девушки были взбешены его словами о том, что они некрасивы, что у них никогда не было поклонников, что никто не искал их любви, а, напротив, сами они бесцеремонно готовы сделать первый шаг, и тому подобное. Робин насмешливо противопоставлял им мисс Бетти: какая она хорошенькая, веселая, как прекрасно поет и танцует, и насколько изящнее их; словом, колол сестер чем только мог. Мать спустилась в самый разгар ссоры и, чтобы положить ей конец, передала свой разговор со мной и мои уверения, что между мистером Робертом и мной ничего не было.
— Тут она не права, — сказал Робин, — так как если бы между нами не произошло ничего особенного, то мы были бы ближе друг к другу, чем сейчас. Я ей сказал, что люблю ее безумно, но никак не мог добиться, чтобы плутовка поверила в серьезность моих заверений.
— Не понимаю, как ты мог на это рассчитывать, — отвечала мать. — Нужно быть не в своем уме, чтобы поверить в серьезность подобных обращений к бедной девушке, положение которой тебе хорошо известно. Но если, как ты говоришь, тебе не удалось убедить девушку в серьезности твоих намерений, то что же нам об этом думать, сынок? В твоих речах так мало склада, что не понять, серьезно ты говоришь или шутишь; считаю, однако, да и ты это признаешь, что девушка ответила правдиво, хотелось бы и от тебя услышать правдивый ответ, на который я могла бы положиться, есть тут что-нибудь или нет? Серьезные у тебя намерения или нет? В своем ты уме или нет? Вопрос важны и хотелось, чтобы ты нас успокоил на этот счет.
— Правильно, матушка, не к чему больше говорить обиняками и изощряться во лжи; мне не до шуток, точв-в-точь как человеку, идущему на виселицу. Если мисс Бетти пожелает сказать, что она меня любит и согласна стать моей женой, я женюсь на ней завтра утром натощак и произнесу брачный обет, позабыв и думать завтраке.
— В таком случае одного сына я потеряла, — проговорила мать глухим голосом, очень встревоженная словами Робина.
— Полагаю, что нет, матушка, — сказал Робин, — никогда мужчина не бывает потерян, если его нашла хорошая женщина.
— Но ведь, дитя мое, она нищая.
— Значит, тем более нуждается в участии, — ответил Робин. — Я возьму ее из-под опеки прихода, и мы пойдем просить милостыню вместе.
— Нехорошо шутить такими вещами, — заметил мать.
— Я не шучу, матушка: мы пойдем просить у вас, матушка, и у батюшки прощения и благословения.
— От твоих слов не легче, сын мой: если ты говоришь серьезно, ты погиб.
— Боюсь, что нет, — сказал Робин, — боюсь, что она не захочет стать моей женой. После того как тут чванились и фыркали мои сестрицы, думаю, что мне никогда не удастся склонить ее к этому.
— Сказки рассказываешь! Она еще не вовсе лишилась разума. Мисс Бетти не дура, — проговорила младшая сестра. — Ты думаешь, она лучше других женщин умеет говорить нет?
— Вы правы, мисс Забавница, — отвечал Робин, мисс Бетти не дура, но мисс Бетти может быть связана каким-нибудь обещанием, и что тогда?
— Об этом мы ничего не знаем, — вступила старшая сестра. — Кому же, однако, могла она пообещать? Мисс Бетти никуда не выходит; значит, кому-нибудь из вас.
— Мне нечего ответить на этот вопрос, — сказал Робин, — довольно меня уже допрашивали, теперь очередь моего брата. Если ты говоришь, что кому-нибудь из нас, порасспроси его.
Слова эти задели за живое старшего брата, заключившего, что Робин что-то подметил. Однако он не подал виду и спокойно проговорил:
— Сделай милость, не прогуливайся на мой счет. Уверяю тебя, таким товаром я не торгую. Мне не о чем говорить ни с какими мисс Бетти в нашем приходе. — И с этими словами встал и поспешно скрылся.
— Вот уж могу поручиться за своего брата: он лучше знает свет, — заметила старшая сестра.
Так кончился этот разговор, сильно встревоживший старшего брата. Он пришел к заключению, что Робину все известно, и начал гадать, причастна я к этому или нет; но при всей его ловкости ему не удавалось пробраться ко мне. В конце концов ему стало невтерпеж, и он решил меня увидеть, к каким бы последствиям это ни привело. Для осуществления своего намерения он однажды после обеда подкараулил старшую сестру, когда она поднималась наверх, и побежал за ней.
— Послушай, сестра, — крикнул он, — где та больная? Нельзя ли ее увидеть?
— Думаю, что можно; но подожди, я сначала войду на минутку и тогда скажу тебе, — отвечала сестра.
Подбежав к двери, моей комнаты, она предупредила меня и тотчас же крикнула:
— Брат, можешь войти, если тебе угодно.
— Хорошо, — сказал он, входя ко мне, и продолжал тем же деланным тоном: — Где же наша болящая, которая убирает от любви? Как вы себя чувствуете, мисс Бетти?
Я хотела было подняться с кресла, но настолько ослабела во время болезни, что не смогла; увидев мои бесплодные попытки, сестра сказала:
— Сидите, сидите, брату не нужно церемоний, особенно теперь, когда вы так слабы.
— Да, да, мисс Бетти, сидите, пожалуйста, спокойно, — проговорил он и уселся в кресло прямо против меня, притворяясь очень веселым.
В разговоре с нами он перескакивал с одного предмета на другой, развлекая сестру, и время от времени заводил старую песенку.
— Бедняжка Бетти, — говорил он, — тяжело быть влюбленной, смотрите, как извела вас любовь.
Понемногу разговорилась и я.
— Рада видеть вас таким веселым, сударь. Но, мне кажется, доктор мог бы найти себе лучшее занятие, чем потешаться над своими пациентами. Если бы моя болезнь была в этом, я не позволила бы ему лечить себя. Знаете поговорку?
— Какую поговорку? Ах, да:
Я угадал, не правда ли?
Я улыбнулась и промолчала.
— Конечно, — продолжал он, — следствие ясно показывает, что причиной была любовь; ведь доктор, видимо, принес вам мало пользы, все находят, что вы поправляетесь очень медленно. Боюсь, тут что-то кроется мисс Бетти. Боюсь, что болезнь ваша неизлечима.
— Право, сударь, болезнь моя не та, что вы предполагаете, — проговорила я с улыбкой.
Долго болтали мы о таких пустяках. Вдруг он попросил меня спеть что-нибудь; я только улыбнулась в ответ и сказала, что дни песен для меня миновали. Тогда он предложил сам сыграть на флейте; в ответ на эта сестра выразила опасение, как бы у меня не разболелась голова. Я поклонилась и сказала:
— Не беспокойтесь, пожалуйста, сударыня, я очень люблю игру на флейте.
— Ну так сыграй, брат, — сказала тогда сестра.
Он тотчас же вынул из кармана ключ и обратился сестре:
— Милая, я очень ленив, сходи, пожалуйста, за флейтой; она лежит в таком-то ящике. — И назвал место, где ее заведомо не было, чтобы сестра искала подольше.
Как только сестра ушла, он мне рассказал всю семейную сцену, слова младшего брата обо мне и то, как он его встревожили и как он пошел на хитрость, чтобы добиться свидания со мной. Я поклялась ему, что не промолвила ни слова ни его брату, ни вообще кому бы то ни было. Рассказала о крайне трудном своем положении, о том, что причиной моей болезни была моя любовь к нему и его предложение забыть о моих чувствах и перенести их на другого, и что смерть была бы мне в тысячу раз приятнее выздоровления, после которого неизбежно придется возобновить прежнюю борьбу. И я предвижу, прибавила я, что, как только оправлюсь, тотчас буду вынуждена покинуть приютившую меня семью; что же касается предложения выйти замуж за брата, то мне противно и думать об этом после всего, что между нами произошло, и он может быть уверен, что я никогда больше не позволю Робину даже говорить со мной. Если он желает нарушить все свои обещания, клятвы и обязательства по отношению ко мне, пусть это будет делом его совести, но он никогда не вправе будет сказать про меня, которую убедил называться его женой и которая позволила ему обращаться с собой как с женой, что я не была ему верна, как бы он ни поступал со мной.
Он начал было отвечать, выразив сожаление, что ему не удалось меня уговорить, но тут раздались шаги возвращавшейся сестры; все же я успела произнести в ответ, что никому не удастся уговорить меня любить одного брата и выйти замуж за другого. Он покачал головою и сказал: «В таком случае я погиб». В эту минуту в комнату вошла сестра и заявила, что ее поиски были безуспешны. «Ладно, — весело проговорил он, — довольно лениться», — встал и сам отправился на поиски, но вернулся тоже с пустыми руками — не потому, что не мог найти флейту, просто не было у него никакого желания играть; кроме того, цель, к которой он стремился, послав сестру за флейтой, была им достигнута; ведь он только хотел поговорить со мной, что ему и удалось, хотя он остался не очень доволен разговором.
Я же, напротив, была очень довольна тем, что высказала ему свое мнение с такой откровенностью и прямотой; и хотя мои слова вовсе не произвели желаемого действия, то есть не вернули мне любовника, однако лишили его всякой возможности покинуть меня иначе как явно бесчестным путем, нарушив слово джентльмена, столько раз обещавшего никогда меня не покидать и жениться на мне, как только он вступит во владение своим состоянием.
Через несколько недель я уже могла ходить по дому и начала поправляться; но я по-прежнему оставалась печальной, молчаливой, скучной и замкнутой, что очень поражало всю семью, за исключением того, кто знал причину моей меланхолии; однако он не скоро обратил на это внимание, и я тоже не чувствовала ни малейшего расположения пускаться в разговоры, вела себя с ним почтительно, но не проронила ни единого слова, которое бы касалось наших отношений. Так продолжалось месяца четыре; и, ожидая каждый день, что меня попросил удалиться вследствие общей неприязни ко мне за другой проступок, в котором я была совершенно неповинна, я ничего больше не ждала от этого господина после всех его торжественных обещаний, кроме того, что он меня погубит и бросит.
Наконец я сама завела речь о своем уходе. Как-то раз вышел у меня серьезный разговор с хозяйкой дома о моем положении и о том, как угнетающе подействовала на меня болезнь.
— Боюсь, Бетти, — сказала мне старуха, — что н вас повлияла беседа со мной о моем сыне и вы печалитесь о нем; скажите, не будет ли нескромностью спросить вас какие у вас отношения с ним? Когда я обращаюсь Робину, он только смеется и шутит.
— Да, сударыня, — отвечала я, — наши отношения признаюсь вам откровенно, приняли нежелательный оборот. Мистер Роберт несколько раз предлагал мне руку, чего я никак неожидала при моем положении. Но всегда давала ему отпор, может, в более резких выражениях, чем мне подобало, так как я обязана относиться почтительно ко всем членам вашей семьи; однако я никогда настолько не забывала своих обязанностей к вам сударыня, и ко всей вашей семье, чтобы согласиться на шаг, который, я знала, будет большой неблагодарностью к вам, и решительно заявила ему, что никогда думать не стану о таких вещах без вашего согласия, сударыня, а также без согласия вашего супруга, отца его которым я обязана по гроб жизни.
— Возможно ли, мисс Бетти! — воскликнула старуха. — Так вы вели себя гораздо совестливее по отношению к нам, чем мы по отношению к вам. Мы опасались, что вы расставляете ловушку моему сыну, и, боясь как бы он не попал в нее, я собиралась предложить вам покинуть наш дом, но до сих пор все откладывала, что бы вы от огорчения опять не заболели. Мы ведь продолжаем питать к вам уважение, хотя и не в такой степени чтобы пожертвовать ради него судьбой нашего сына; если дело обстоит так, мы все были к вам очень несправедливы.
— Я вам сказала правду, сударыня, спросите сына. Если у него есть хоть капля совести, он расскажет вам точь-в-точь то же самое.
Старуха тут же идет к дочерям и в точности передает им мой рассказ; как я и ожидала, они удивились чрезвычайно. Одна сказала, что никогда бы этого не подумала; другая заявила, что Робин дурак; третья не поверила ни одному моему слову и ручалась, что Робин расскажет все иначе. Но старуха, твердо решившая добраться до правды, прежде чем я успею каким-либо образом осведомить ее сына о случившемся, хотела немедленно поговорить с сыном и с этой целью послала за ним, потому что он был недалеко, в доме одного стряпчего, и тотчас же вернулся по Зову матери.
Когда он пришел, все женщины были в сборе, и мать сказала ему:
— Садись, Робин, мне нужно поговорить с тобой.
— Я весь к вашим услугам, матушка, — весело откликнулся Робин. — Надеюсь, что речь идет о хорошей жене, так как я в большом убытке по этой части.
— Каким образам? — сказала мать. — Ведь ты же говорил о своем намерении жениться на мисс Бетти.
— Совершенно верно, матушка, — ответил Робин, — но есть одно лицо, которое решительно против этого брака.
— Против этого брака? Кто же это может быть?
— Не кто иной, как сама мисс Бетти, — проговорил Робин.
— Как так? — удивилась мать. — Разве ты спрашивал ее?
— Спрашивал, матушка. После болезни я пять раз атаковал ее по всем правилам искусства, и пять раз моя атака была отбита; плутовка проявляет необыкновенное упорство и ставит совершенно непосильные для меня условия капитуляции.
— Объясни, что ты хочешь сказать; я поражена, я тебя не понимаю. Надеюсь, ты говоришь несерьезно.
— Но ведь, матушка, мое дело просто и никаких объяснений не требует: она говорит, что не хочет меня — чего же проще? По-моему, это очень просто и довольно-таки жестоко.
— Да, но ты говоришь о непосильных для тебя условиях; чего же она хочет — дарственной записи? Муж должен записать на жену часть соответственно ее приданному; а какое же у мисс Бетти приданое?
— Нет, что касается приданого, то она достаточно богата, в этом отношении я удовлетворен; но сам я не в состоянии выполнить ее условия, а она решительно заявляет, что без этого не пойдет за меня. Тут вмешались сестры.
— Матушка, — сказала вторая сестра, — с ним нельзя говорить серьезно; ни на один вопрос он не отвечает прямо. Оставьте его лучше в покое и больше с ним не говорите об этом, вы ведь знаете, как убрать девчонку с его дороги.
Эта дерзость возмутила было Робина, но он тотчас поквитался с сестрой.
— Есть два рода людей, матушка, с которыми невозможно спорить: умные и дураки, — сказал он, обращаясь к матери, — признаюсь, мне трудновато сражаться на два фронта одновременно.
— Брат, наверно, считает нас дурами, — запальчиво сказала младшая сестра, — думает, что мы поверим, будто он серьезно делал предложение мисс Бетти, а та отказала ему.
— Отвечай — не отвечай, сказал Соломон[16], — перебил сестру Робин. — Если твой брат говорит, что он не меньше пяти раз делал предложение мисс Бетти и та наотрез ему отказала, то, мне кажется, младшей сестре негоже сомневаться в его правдивости, если не сомневается мать.
— Ты же слышал, матушка говорит, что не понимает тебя, — заметила вторая сестра.
— Есть некоторая разница между просьбой объясниться и обвинением во лжи.
— Скажи нам, однако, сынок, если ты расположен посвятить нас в эту тайну, какие же условие поставила она тебе, — спросила старуха.
— Я давно бы уже сказал, матушка, — отвечал Робин, — если бы эти злючки не перебивали меня. Она требует, чтобы я склонил отца и вас, матушка, дать свое согласие, иначе она наотрез отказывается разговаривав со мной о подобных вещах. Разве я когда-нибудь в силах буду выполнить ее требование? Надеюсь, мои пылкие сестры теперь удовлетворены и хоть чуточку покраснеют. Мне сказать больше нечего.
Все были поражены ответом Робина, мать, впрочем меньше всех, так как уже знала об этом из разговора мной. Что касается дочерей, то они долго не могли ело вымолвить, мать же проговорила с возбуждением:
— Я это уже слышала, но не могла поверить. Если так, то все мы были несправедливы к Бетти, и она вела себя лучше, чем я ожидала.
— Да, — сказала старшая сестра, — если так, то она поступила вполне порядочно.
— Нужно признать, — сказала старуха, — что не ее вина, если мой сын имел глупость увлечься ею, но ответ ее свидетельствует о таком почтении к нам, какого я не ожидала; впредь я буду о ней более высокого мнения.
— А я нет, — заявил Робин, — пока вы не дадите своего согласия.
— Дай мне немного подумать, — сказала мать. — Уверяю тебя, что, не будь здесь некоторых других препятствий, я теперь была бы склонна дать согласие.
— Хотел бы я, чтобы вы склонились окончательно. Если бы вы столько же думали о моем счастье, как о моем достатке, вы бы тотчас же согласились.
— Послушай, Робин, — снова обратилась к нему с вопросом мать, — действительно ли у тебя серьезные намерения? Ты взаправду хочешь жениться на ней?
— Право, матушка, — ответил Робин, — жестоко с вашей стороны спрашивать меня об этом после всего, что я вам сказал. Я не говорю, что женюсь на ней. Как мне решиться на это? Вы же видите, что я не могу взять ее без вашего согласия. Но я самым серьезным образом заявляю, что никогда не женюсь на другой. Бетти или никто — вот мой девиз. Судьба моя зависит от вашего решения, матушка, лишь бы в нем не принимали участия мои добрейшие сестры.
Все это было ужасно для меня, потому что мать стала сдаваться, и Робин непрестанно ее уговаривал. С другой стороны, она посоветовалась со старшим сыном, и тот пустил в ход все доводы, чтобы убедить ее согласиться: ссылался на страстную любовь ко мне брата, на почтительность, которую я проявила к семье, отказываясь от своей выгоды в столь деликатном вопросе, и на тысячу подобных вещей. Что же касается отца, то это был человек, всецело занятый общественными обязанностями и добыванием денег, редко бывавший дома, думавший только об обогащении и все семейные дела оставлявший на решение жены.
Легко себе представить, что, когда секрет был, по их мнению, разгадан, старший брат, которого никто ни в чем не подозревал, без особенного труда и опасности получил ко мне более свободный доступ, чем прежде, да что там, мать сама пошла навстречу его желанию и предложила ему поговорить с мисс Бетти.
— Может быть, многое тебе в этом деле будет яснее, чем мне, — сказала она, — посмотри, действительно ли она так тверда в своем решении, как говорит Робин.
Ему только этого и нужно было; он сделал вид, будто соглашается поговорить со мной, уступая просьбе матери, которая привела меня в свою комнату, сказав, что у ее сына есть ко мне дело, и оставила нас вдвоем; он же закрыл за нею дверь.
Потом он подошел ко мне, обнял и нежно поцеловал, сказав, что наступила та решительная минута, которая может сделать меня счастливой или несчастной на всю жизнь, и что, если я не соглашусь подчиниться его желанию, мы оба погибли. Затем он передал мне весь разговор между Робином, как он называл брата, матерью, сестрами и им самим.
— Теперь, дитя мое, — обратился он ко мне, — взвесьте хорошенько, что значит выйти замуж за джентльмена из хорошей семьи, с хорошим состоянием, с согласия родителей, и наслаждаться всем, что может дать свет; представьте, с другой стороны, тяжелую участь женщины, потерявшей свое доброе имя; хотя я, покуда жив, останусь верным вашим другом, однако же ко мне будут относиться с подозрением, так что вы побоитесь видеться со мной, а я побоюсь вас признавать.
Не дав мне времени ответить, он продолжал так:
— Все, что произошло между нами, дитя мое, если мы будем благоразумны, может быть похоронено и предано забвению. Когда вы станете моей сестрой, я всегда буду вашим искренним другом, без всяких поползновений на более близкие отношения, и мы сможем общаться и беседовать, не упрекая друг друга в прошлых грехах. Прошу вас подумать над этим и не воздвигать препятствий на пути к своему спасению, и благоденствию. В доказательство моей искренности, — прибавил он, — вот вам пятьсот фунтов — возмещение за вольности, которые я себе позволил с вами; будем смотреть на них как на безрассудство молодости, которое, нужно надеяться, будет заглажено нашим раскаянием.
Я не в силах передать того чувства и той силы убеждения, с какой он говорил все это. Пусть те, кто читает мою Повесть, поверят, что говорил он свыше полутора часов и подкрепил свои просьбы всеми доводами, какие «может изобрести человеческий ум.
Не могу сказать, однако, чтобы что-нибудь из его длинной речи произвело на меня впечатление и заставило согласиться с ним. Наконец он заявил напрямик, что, если я откажусь, он, к сожалению, вынужден будет навсегда прекратить наши прежние отношения; хотя он любит меня по-прежнему и я по-прежнему ему мила, однако он не утерял чувства порядочности настолько, чтобы продолжать связь с женщиной, за которой ухаживает и на которой хочет жениться его родной брат; и если он теперь расстанется со мной, услышав о моем отказе, то хотя и не оставит меня своими заботами, чтобы я ни в чем не нуждалась, как пообещал с самого начала, однако пусть меня не удивляет его заявление, что он больше не может видеться со мной и что я, конечно, не вправе на это рассчитывать.
Я выслушала последнюю часть его речи с удивлением и тревогой, и мне стоило больших усилий не упасть в обморок, потому что я, право, любила его до безумия. Заменив мое волнение, он стал умолять меня подумать серьезно; поклялся, что это единственный способ сохранить добрые отношения между нами, что в новом положении мы останемся самыми искренними друзьями, будем любить друг друга чистой родственной любовью, не чувствуя угрызений совести и не подвергаясь ничьим упрекам, что он навеки мне признателен за счастье, которым я его подарила, что на всю жизнь он мой должник и будет уплачивать свой долг до последнего вздоха. В конце концов он посеял во мне некоторое колебание. Ему удалось чрезвычайно живо обрисовать ожидающие меня опасности, я уже видела себя выброшенной на улицу, беззащитной потаскушкой — а я ведь ею и была, — может быть, ошельмованной, без друзей, без знакомых, покинувшей этот город, где мне нельзя было оставаться. Все это страшило меня до последней степени, и он пользовался каждым случаем, чтобы рисовать мне будущее в самых мрачных красках, а с другой стороны, всячески расхваливал легкую, сытую жизнь, которая ожидала меня, если я послушаюсь его совета.
На все мои возражения, все ссылки на его любовь и прежние обещания он отвечал, что нам необходимо теперь принять другие меры; что же касается обещания жениться, то обстоятельства, говорил он, не позволяют сдержать его, так как, по всей вероятности, я стану женой его брата, прежде чем он сам сможет жениться на мне.
Словом, он убедил меня, можно сказать, вопреки всем моим убеждениям, разбил все мои доводы, и я начала сознавать опасность своего положения, о которой прежде не думала: увидела себя брошенной обоими братьями, одинокой и предоставленной собственным силам.
Эта опасность и его убеждения в конце концов побудили меня согласиться, хотя я шла в церковь с такой же охотой, как медведь на рогатину. Я немного беспокоилась так же, как бы мой новый супруг, к которому, кстати сказать, я не чувствовала ни малейшего расположения, не оказался слишком подозрительным и не потребовал у меня некоторых объяснений в первую нашу брачную ночь; но не знаю, было ли это сделано с умыслом или нет, только старший брат позаботился основательно напоить его перед отходом ко сну, так что я имела удовольствие провести первую ночь с пьяным мужем. Как он ухитрился, не знаю, но убеждена, что все это было сделано для того, чтобы Робин не мог составить представления о разнице между девушкой и замужней женщиной, и действительно, никогда у того не возникало никаких сомнений и ни малейшего беспокойства на этот счет.
Здесь я должна вернуться назад, к тому месту, где остановилась. Покончив со мной, старший брат принялся за мать и не отставал до тех пор, пока та не уступила ему и даже мужа уведомила только письмом, посланным по почте; словом, дала согласие на наш тайный брак, взявшись уладить дело с отцом позднее.
Потом он стал подъезжать к брату, хвалился, что оказал ему неоценимую услугу, добившись согласия матери, — это была, правда, но хлопотал он вовсе не для того, чтобы услужить брату, а в собственных целях; в общем, очень ловко провел Робина, да еще получил от него благодарность, назван был верным другом за то, что сбыл брату в жены свою любовницу. Вот как интерес вытесняет любовь, вот с какой легкостью люди отрекаются от чести, справедливости и даже от религии, когда дело доходит до спасения своей шкуры!
Теперь мне нужно вернуться к братцу Робину, как мы всегда называли его, который, получив согласие матери, тотчас прибежал ко мне сообщить новость и рассказал все подробности с такой неподдельной прямотой, что, должна сознаться, мне было очень больно служить орудием обмана столь честного юноши. Но другого выхода не было: он хотел взять меня в жены, а я не могла сказать ему, что я любовница его брата, хотя и не имела другого способа отделаться от него; так мало-помалу я сдалась на его просьбы, и вскоре мы поженились.
Скромность не позволяет мне разоблачить тайны брачной постели, но мне оказалось как нельзя более на руку то, что муж мой, как уже сказано выше, был до такой степени пьян, ложась в постель, что не мог припомнить утром, имел он сношение со мной или нет, и, чтобы оградить себя от всяких неприятностей с этой стороны, я вынуждена была ответить ему утвердительно, хотя на самом деле между нами ничего не было.
Дальнейшие подробности относительно этой семьи и моей собственной жизни в течение пяти лет, проведенных с этим мужем, имеют очень мало отношения к настоящей повести; отмечу только, что у нас было двое детей и что через пять лет муж мой умер. Обращался он со мной очень хорошо, и жили мы в полном согласии, но, так как он получил от семьи не много и в течение своей короткой жизни не приобрел большого состояния, то положение мое было не блестящим и брак не принес мне большой выгоды. Правда, я сохранила обязательства старшего брата на пятьсот фунтов за мое согласие на брак с Робином; эти бумаги вместе с частью тех денег, что он прежде дарил мне, и приблизительно такой же суммой, доставшейся мне от мужа, составляли около тысячи двухсот фунтов; таков был весь мой капитал, когда я овдовела.
Дети мои, к счастью, были взяты у меня родителями мужа; это все, что они получили от мисс Бетти.
Признаюсь, я не была очень опечалена потерей мужа, не могу сказать также, чтобы я когда-нибудь по-настоящему любила его или отвечала взаимностью на его хорошее обращение, хотя был он нежен, ласков, приветлив, — лучшего мужа и пожелать нельзя; но его брат, всегда находившийся у меня перед глазами, по крайней мере пока мы жили в провинции, был для меня вечной приманкой: лежа с мужем, я постоянно представляла себя в объятиях его брата. И хотя тот ни разу не подарил меня лаской этого рода после моей свадьбы и вел себя со мной по-братски, однако я не могла относиться к нему как сестра; словом, я каждый день мысленно совершала прелюбодеяние и кровосмешение, что, без сомнения, так же грешно, как если бы я и в самом деле совершала подобные вещи.[17]
Еще при жизни мужа старший брат женился; к тому времени мы переехали в Лондон, и старуха мать прислала нам приглашение на свадьбу. Муж поехал, а я, сказавшись больной, осталась дома, потому что, говоря по правде, мне было бы невыносимо видеть его с другой женщиной, хотя я знала, что никогда он не будет моим.
И вот я осталась одна на свете, еще молодая и красивая, как все мне говорили и как я сама думала; у меня было теперь приличное состояние, и я знала себе цену. За мной ухаживало несколько богатых купцов, а особенно усердно один торговец полотном, в доме которого я, будучи дружна с его сестрой, поселилась после смерти мужа. Там было мне приволье; жила я беззаботно и в приятном обществе, так как сестра моего хозяина была сумасбродная и веселая женщина, далеко не такая строгая по части добродетели, как мне казалось на первых порах. Она ввела меня в разгульную компанию и даже пригласила к себе нескольких мужчин, которым явно хотела угодить, знакомя с хорошенькой вдовушкой, как она меня называла и как меня скоро стали называть многие. Громкая слава притягивает дураков, и потому все меня здесь ласкали, я имела кучу поклонников, и ни от кого из них не получила честного предложения. Что же касается намерений всех этих любезников, то я слишком хорошо их понимала, чтобы еще раз попасться в ловушку. Положение изменилось: теперь у меня были деньги, и я могла обойтись без кавалеров. Однажды меня поймали на удочку, называемую любовью, но с этой игрой было покончено; я твердо решила, что соглашусь только на брак, и притом выгодный.
Правда, я любила общество веселых и остроумных, обходительных и видных мужчин и часто развлекалась с ними; но я убедилась на опыте, что самый блестящий человек подчас преследует самые темные цели, то есть темные по отношению к моим собственным намерениям. С другой стороны, те, что приходили с самыми лучшими предложениями, были самыми невзрачными и неприятными людьми на свете. Я не питала отвращения к купцам, но считала, что если уж купец, так пусть будет похож на барина, хотела, чтобы мой муж, сопровождая меня ко двору или в театр, умел носить шпагу и имел вид человека из хорошего общества, чтобы не казалось, будто поверх кафтана на нем надет рабочий фартук, а парик примят шляпой или будто он привешен к шпаге, а не шпага к нему, словом, чтобы его ремесло не было написано у него на физиономии.
Все же нашла я наконец эту амфибию, это земноводное, которое зовется «купец-барин»; в наказание за свою блажь я попалась в ловушку, которую, можно сказать, сама себе расставила.
Он тоже торговал мануфактурой; хотя моя приятельница охотно пристроила бы меня к своему брату, однако, когда дело дошло до сговора, оказалось, что она хлопочет о любовнице, а не о жене, я же оставалась верной правилу, что женщине никогда не следует быть содержанкой, если у нее достаточно денег, чтобы содержать себя.
Так тщеславие, а не убеждение, деньги, а не добродетель удерживали меня на честном пути, хотя лучше было бы, как потом оказалось, чтобы моя приятельница продала меня своему брату, нежели самой продать себя купцу, который был бездельник, барин, лавочник и нищий, все вместе.
Но я поспешила (из-за своей прихоти выйти замуж за барина) разориться самым дурацким образом, ибо мой новый муж, получив сразу кучу денег, пустился в такое мотовство, что и моих и его средств едва хватило на год.
Он очень меня любил месяца три, и от этой любви я имела то удовольствие, что часть моих денег тратилась на меня же и сама я могла кое-что тратить.
— Послушайте, милая, — говорит он мне однажды, — не прокатиться ли нам по Англии?
— Куда же вы хотите прокатиться, мой друг?
— Все равно куда: мне хочется недельку пожить вельможей. Поедем в Оксфорд[18].
— Как же мы поедем? — говорю я. — Верхом я не умею, а для кареты это слишком далеко.
— Слишком далеко! Нет такого места, куда нельзя было бы доехать в карете шестерней. Если я вывожу вас, то хочу, чтобы вы ехали, как герцогиня.
— Чудачество, мой друг! Но раз вам так хочется, пусть будет по-вашему.
Назначили день отъезда: у нас была богатая карета, отличные лошади, кучер, форейтор и два лакея в красивых ливреях, камердинер верхом на лошади и паж, в шляпе с пером, на другой лошади. Слуги называли моего мужа милордом, а я была ее сиятельством графиней; так доехали мы до Оксфорда, совершив очень приятное путешествие, ибо, нужно отдать справедливость моему мужу, ни один нищий на свете не сумел бы лучше разыграть роль вельможи. Мы осмотрели все достопримечательности Оксфорда; сказали двум-трем наставникам колледжей о своем намерении отдать в университет племянника, оставленного на попечение его сиятельства, и пригласили их в репетиторы; позабавились еще над несколькими бедными школярами, посулив им богатые приходы и по меньшей мере место капелланов его сиятельства. Пожив таким образом вельможами, во всяком случае по части трат, отправились мы в Нортгемптон и после двенадцатидневной поездки вернулись домой, промотав около девяноста трех фунтов.
Суетность есть первое свойство фата. Мой муж ставил себе в заслугу, что не придавал никакой цены деньгам. Судьба этого человека, как вы можете судить, не представляет большого интереса, и достаточно будет вам сказать, что через два года с небольшим он обанкротился и, не успев скрыться в Минт[19], угодил в лапы бейлифа[20]. Будучи арестован по одному крупному делу, так как не мог представить обеспечения, из дома бейлифа он послал за мной.
Меня это ничуть не удивило, ибо я давно уже поняла, что ему не выпутаться, и позаботилась приберечь кое-что для себя; но, прислав за мной, он повел себя гораздо умнее, чем я ожидала: сказал напрямик, какого он свалял дурака, позволив накрыть себя, между тем как этого можно было избежать; признался, что ему теперь не справиться, и просил меня вернуться домой и ночью спрятать в безопасном месте все, что есть ценного в доме; потом, сказал, чтобы я, если это возможно, унесла из лавки на сто или двести фунтов товару, «только, говорит, ничего мне об этом не сообщайте, не говорите, что вы берете и куда уносите, так как, что касается меня, говорит, то я решил вырваться из заключения и бежать; и если вы никогда больше не услышите обо мне, дорогая моя, то желаю вам счастья и прошу простить меня за те неприятности, которые я вам доставил». На прощанье он сказал мне еще несколько любезностей, потому что был, как я уже говорила, человеком светским; изысканно вежливое обращение до последней минуты — вот и все то добро, которое я от него имела; жаль только, что промотал он все мое состояние, заставив меня воровать у кредиторов на кусок хлеба.
Все же я сделала, как он мне сказал, — другого выхода не было; расставшись с мужем, я больше никогда его не видела, так как в ту самую или в следующую ночь ему удалось бежать из дома бейлифа; каким образом — не знаю; мне лишь удалось узнать, что около трех часов утра он вернулся домой, перевез остаток своих товаров в Минт, запер лавку, а потом, собрав, сколько мог, денег, бежал во Францию, откуда прислал мне два или три письма и больше не подавал никаких признаков жизни.
Когда муж ненадолго возвращался домой, я его не видела, потому что, получив от него упомянутые предписания, поторопилась их выполнить, после чего уже не заходила к себе, боясь, как бы меня не задержали кредиторы: ведь муж вскоре был объявлен банкротом и меня могли задержать. Но муж мой после отчаянно смелого побега (спустившись из верхнего окна в доме бейлифа на крышу другого дома, он спрыгнул со второго этажа на землю, рискуя сломать себе шею) явился домой и увез свои товары раньше, чем кредиторы успели наложить арест, то есть раньше, чем они добились объявления его банкротом и описи имущества.
Мой муж был настолько внимателен ко мне, — я еще раз повторяю, в нем было много качеств настоящего джентльмена, — что в первом же письме сообщил место, где им были заложены за тридцать фунтов двадцать кусков тонкого голландского полотна, настоящая цена которым была девяносто фунтов; к письму он приложил квитанцию, по которой я выкупила полотно, и через несколько времени выручила за него сто фунтов, на досуге разрезав его и распродав по частям знакомым семьям.
Однако, произведя подсчет, я обнаружила, что, несмотря на эту прибыль и все мои прежние сбережения, дела мои сильно пошатнулись и состояние заметно уменьшилось: вместе с голландским полотном и тюком тонкого муслина, который я успела унести из лавки, едва набралось пятьсот фунтов[21]; при этом положение мое было очень щекотливое, так как, хотя детей у меня не было (я родила от купца-барина одного ребенка[22], но он умер), все же я осталась соломенной вдовой, у которой есть муж и нет мужа[23], и не могла вновь выйти замуж, несмотря на уверенность, что муж мой никогда больше не увидит Англии, проживи он даже пятьдесят лет. Таким образом, повторяю, брак был исключен для меня, какие бы предложения я ни получила; вдобавок мне не с кем было посоветоваться, не было друга, которому я могла бы откровенно рассказать о своем положении; ведь если бы судебные власти были осведомлены о том, где я нахожусь, они бы схватили меня и отобрали все, что мне удалось спасти.
Под влиянием этих страхов я первым делом порвала все свои знакомства и приняла другое имя. С этой целью под влиянием этих страхов я первым делом порвала все свои знакомства и приняла другое имя. С этой целью я перебралась в Минт, сняла помещение в очень укромном месте, оделась во вдовье платье и назвалась миссис Флендерс.
Тут я и скрывалась, и хотя мои новые знакомые ничего обо мне не знали, у меня не было недостатка в обществе. Может быть, женщина редкость в этих краях, а может, люди, чем они несчастней, тем больше нуждаются в развлечении. Как бы то ни было, я вскоре убедилась, что женщина, если только она привлекательная, может всегда рассчитывать на радушный прием у несчастных горемык, населяющих Минт. Я увидела, что те самые люди, которые были не в состоянии заплатить полкроны с фунта своим кредиторам и обедали в долг в трактире Быка, всегда, однако, находили деньги для того, чтобы поужинать с женщиной, которая им приглянулась.
Однако на первых порах я себя соблюдала. Правда, подобно возлюбленной лорда Рочестера[24], которая охотно встречалась с ним, но дальше этого не шла, я уже начинала пользоваться репутацией шлюхи, не ведая тех радостей, какие ведает она. Итак, недовольная и местом, в котором я очутилась, и обществом, которое меня окружало, я стала подумывать о переезде.
В самом деле, было о чем призадуматься, глядя на этих людей: дела их были запутаны самым ужасающим образом, они были хуже нищих, семьи их сделались предметом благотворительности для других и ужаса для них самих. А они, пока у них оставался хоть единый грош в кармане, а подчас даже и не имея его, спешили утопить свои горести в грехе; они отягощали свою совесть все новыми и новыми прегрешениями; вместо того чтобы вспомнить о прежних своих проступках, они всеми средствами стремились забыть их, уготовляя себе новую пищу для раскаяния; они продолжали грешить сегодня, словно в этом видели исцеление от вчерашних грехов.
Впрочем, у меня нет дара проповедника; я хочу лишь сказать, что эти люди слишком далеко зашли в своей неправедности, даже для такой, как я. Гнусным и нелепым казался мне их грех, в нем чувствовалась натяжка, насилие над собой. Они шли не только против своей совести, но даже против собственной природы. Все кругом наводило на грустные размышления, а они насильственно гнали от себя эти мысли. Их песни — это было нетрудно заметить — прерывались невольными вздохами, а лица их, хотя они и улыбались через силу, были бледны и выражали муку; порой она воплем срывалась с их уст, когда за неизменное наслаждение, за порочную ласку им приходилось отдавать последние деньги. Я не раз своими ушами слышала, как, не находя себе места от тоски, кто-нибудь из них издавал глубокий вздох и вскрикивал: «Какой же я подлец, однако! Дай-ка я хоть выпью за твое здоровье, дорогая Бетти!» Это он взывал к своей честной жене, у которой в это время, может быть, и полкроны не было, чтобы прокормить себя и своих четверых детей. Наутро все они вновь начинают каяться. К иному из них, может быть, придет жена, вся в слезах, — пожаловаться на кредиторов, рассказать, как ее выгнали на улицу вместе с детьми или принести еще какую-нибудь ужасную весть. После ее посещения он еще пуще начинает, казниться; он думает без конца о своем положении и чуть с ума не сходит. У него нет правил, на которые он мог бы опереться, он не находит утешения ни в себе самом, ни выше, не видит кругом себя ничего, кроме мрака, и вновь обращается к тем же спасительным средствам — к вину, разврату, к обществу людей, пребывающих в том же состоянии, что и он сам, вновь творит он те же преступления, и так с каждым днем продвигается к своей окончательной гибели.
Я еще не была достаточно развращена, чтобы жить с этой братией. Напротив, я стала весьма серьезно размышлять о том, что мне делать, каково мое нынешнее положение и какой путь избрать мне в дальнейшем. Друзей у меня не было, это я знала; ни одного друга у меня не было на свете, ни единого родственника. Я видела, как таяло мое небольшое состояние, и понимала, что, когда оно вовсе исчезнет, меня ожидают лишь горе да голод. Итак, преисполненная ужаса и к месту, в котором я очутилась, и к тем страшным живым примерам, которые постоянно стояли у меня перед глазами, я решилась уехать.
В Минте я познакомилась с одной доброй, скромной женщиной, такой же, вдовой, как и я, но в лучшем положении. Муж ее был капитаном торгового корабля; потерпев однажды кораблекрушение на пути из Вест-Индии, откуда он рассчитывал вернуться с богатой поживой, он был настолько удручен убытками, что, хотя ему удалось спастись, не вынес потрясения и с горя умер; вдова, преследуемая кредиторами, принуждена была искать убежища в Минте. С помощью друзей она вскоре поправила дела и снова была свободна; узнав, что поселилась в Минте скорее из желания вести уединенную жизнь, чем с целью избежать преследований, и видя, что я чувствую такое же отвращение к этому месту и его обитателям, как и она, вдова капитана предложила мне переехать к ней и жить вместе, пока мне не предоставится случай устроиться по собственному вкусу, вполне возможно, сказала она, что в той части городам где она думает поселиться, за мной станет ухаживать какой-нибудь солидный капитан.
Я приняла ее предложение и жила с ней полгода, жила бы и дольше, но в это время то, чего она желала мне, случилось с ней самой: она очень выгодно вышла замуж. Другим судьба улыбалась, а мне не везло, я ни встречала никого, кроме двух-трех боцманов и других подобных людей, что же касается командиров, то это обыкновенно были люди двоякого рода: 1) те, у кого дела шли хорошо, то есть было хорошее судно, искал только выгодной партии; 2) те, что находились не у дел искали жену, чтобы с ее помощью устроиться; я хочу сказать, — во-первых, жену с деньгами, которая дал бы им возможность приобрести, как говорится, крупный пай в корабле и поощрять таким образом других вступить в долю; или же, во-вторых, жену хоть и без денег, но со связями, которая помогла бы молодом человеку наняться на хороший корабль, что не хуже приданого. Но ни одному из этих условий я не удовлетворяла, была товаром, который сбыть нелегко.
Словом, я скоро убедилась, что выйти замуж в Лондоне — не то, что в провинции, что браки заключают здесь по расчету, по деловым соображениям и любовь не играет при этом почти никакой роли. Правду сказала моя золовка из Колчестера: красота, ум, манеры, рассудительность, ровный характер, хорошее поведение, воспитание, добродетель, набожность и другие достоинства, телесные и душевные, не имеют значения; одни только деньги делают женщину милой. Любовницу мужчина действительно выбирает по влечению сердца: от содержанки требуют, чтобы она была красива, хорошо сложена, имела пригожую внешность и изящные манеры, но что касается жены, то никакое уродство не режет глаз, никакие пороки не оскорбляют нравственного чувства; деньги — вот что важно; приданое не косит, не хромает, деньги всегда милы, какова бы ни была жена.
С другой стороны, мужчин на рынке такая нехватка, что женщины больше не пользуются своим правом отказывать; для женщины большая честь, если ей делают предложение, и если какая-нибудь строптивая молодая леди жеманства ради ответит отказом, никогда не дождаться ей второго предложения, а тем более не загладить своего ложного шага, приняв то, что она отвергла. У мужчин такой огромный выбор, что положение женщины очень невыгодно; мужчина может стучаться в каждую дверь, и, если ему в виде исключения отказали в одном доме, он может быть уверен, что будет принят в другом.
Еще я заметила, что мужчины без всякого зазрения совести снаряжаются, говоря их языком, на охоту за приданым, не имея за душой ни денег, ни каких-либо других достоинств, которые давали бы им право искать себе богатых невест. А держатся они при том с таким высокомерием, что женщина и не думай расспрашивать ни о репутации, ни о состоянии своего поклонника. Пример всему этому я имела случай наблюдать в лице одной молодой дамы, моей соседки, с которой я в это время сблизилась. К ней сватался некий молодой капитан. Она всего-навсего позволила себе спросить кое-кого из его соседей о том, каков его нрав, каких он правил, а может быть, о том, каково его состояние. И вот, несмотря на то, что приданое ее составляло чуть ли не две тысячи фунтов, он выразил ей свое неудовольствие, заявив, что отныне не станет больше беспокоить ее своими посещениями. Я прослышала об этом и, так как мы были уже знакомы с ней, решилась ее навестить. Она обстоятельно рассказала мне обо всем и излила передо мной душу. Я тотчас заметила, что, хоть она и считала, что он поступил с ней дурно, все же была не в силах возмущаться им и больше досадовала на то, что потеряла его, а пуще всего на то, что другая, менее состоятельная женщина его заполучит.
Я старалась подбодрить ее, укоряя в малодушии. Уж на что, говорила я ей, незавидно мое собственное положение, а и я, прежде чем дать мужчине свое согласие на брак с ним, проверила бы, что он за человек и каково его состояние; и я бы встретила его презрением, если бы он считал, что я должна довольствоваться тем, что он сам о себе расскажет. А уж ей, с ее приданым, и подавно не след покоряться тому, что составляет бедствие нашего века; и так ведь мужчины безнаказанно оскорбляют нас, бесприданниц. Если же она безропотно стерпит такую обиду, этим она не только собьет себе цену, но заслужит также и презренье всех женщин нашей части города. У женщины, говорила я, всегда есть возможность отомстить мужчине, который с ней дурно поступает, и есть сколько угодно способов поставить такого молодца на место — иначе что же получается что женщина и впрямь самое несчастное существо на свете?
Мне показалось, что она довольна моими рассуждениями, и она всерьез заверила меня, что была бы рада дать ему почувствовать всю силу своего справедливого негодования и либо заставить его вернуться к себе, либо так отомстить ему, чтобы все кругом узнали об ее мести.
Я сказала ей, что если она последует моему совету, я научу ее, как достигнуть исполнения обоих ее желаний, и что берусь привести капитана к ее дверям, да еще; устрою так, что он будет умолять ее, чтобы она его впустила. Она улыбнулась и тут же дала мне понять, что как она ни сердита на него, а долго стучаться ему не придется.
Как бы то ни было, она выразила готовность следовать моим советам; тогда я сказала ей, что первым делом ей следует заставить его уважать себя: ведь разные люди говорили ей, что он пустил слух, будто бы именно он бросил ее; таким образом, он поставил себя в выгодное положение виновника их размолвки; теперь же ей нужно постараться распространить среди женщин (а это было нетрудно, потому что у нас только и жили что сплетнями), что она сама навела о нем справки и обнаружила, что он вовсе не столь богат, как представлялся. «Дайте им понять, сударыня, — поучала я ее, — что вы узнали за достоверное, что он не таков, каким он сначала вам показался, и что вы предпочитаете с ним не связываться, что вы слышали, что у него крутой нрав, что он любит хвастать тем, как дурно поступал с женщинами, а главное, напирайте на его испорченность и прочее». В последнем утверждении, кстати сказать, была доля истины; впрочем, как мне показалось, он не был ей менее любезен, по этой причине.
Она с готовностью принялась исполнять все, что я ей внушила. Первым делом она постаралась отыскать нужных людей для приведения нашего плана в действие. Ей не пришлось долго искать: стоило ей рассказать свою историю в общих чертах двум кумушкам, живущим по соседству, как эта история сделалась предметом толков за вечерним чаем во всех домах нашей части города, и, куда бы я ни приходила, всюду я попадала на одни и те же разговоры; а так как все знали, что я приятельница этой молодой дамы, то очень часто меня просили высказать свое мнение, и я подтверждала все, что говорилось, с соответствующими преувеличениями, расписывая его особу в самых черных красках; затем, под видом величайшей тайны, о которой другие кумушки еще ничего не знают, я сообщала, что слышала, будто бы его дела весьма запутаны, что он вынужден искать приданое затем, чтобы заплатить свой пай владельцам корабля, на котором он служит, что пай этот им еще не выплачен и что, если он в ближайшее время не внесет его, владельцы корабля его прогонят, а на его место поставят его помощника, который сам зарится на этот пай.
Тут признаюсь, я сильно досадовала на негодника, как я его величала, я еще прибавила, что до меня дошел слух, будто у него есть жена в Плимуте[25] и другая в Вест-Индии, и никто этому не удивился, так как известно, что такие истории частенько приключаются с подобными ему джентльменами.
Дальше все пошло как по-писаному. Так, рядом с нами, под опекой родителей, проживала молодая девица. Отец ее тотчас отказал капитану от дома, а девицу посадили под замок. Еще в другом месте, где он бывал, одна женщина, как это ни удивительно, нашла в себе мужество сказать ему нет. И куда бы он ни толкался, всюду его попрекали высокомерием и тем, что он не дозволял женщинам расспрашивать о своих обстоятельствах и прочем.
Ну так вот, вскоре он понял, что дал маху. Отпугнув от себя всех женщин, которые проживали по эту сторону реки, он направился в Ратклифф[26], где ему удалось познакомиться с некоторыми из тамошних обитательниц. Однако ему не везло: хотя там, как и всюду в наше время, молодые женщины только и ждали жениха, слава его следовала за ним и через реку, а его имя пользовалось такой же печальной известностью на том берегу, как и на этом. Так что хотя в невестах у него недостатка не было, однако невесты с достатком, а только такая ему и была нужна, он среди них не нашел.
Но и это не все. Она сама придумала одну весь хитроумную штуку: вызвала к себе одного молодого человека, своего родственника, и притом женатого, договорилась, чтобы он два или три раза в неделю к не наведывался в роскошной карете с лакеями, одетыми пышные ливреи. Между тем две ее кумушки и я с ним пустили слух, что этот джентльмен к ней ездит свататься, что имеет он тысячу фунтов годового дохода, что она собирается переехать в Сити к своей тетке, так как джентльмену трудно ездить к ней в Роттерхайт[27] — у я очень узки и неудобны наши улицы для проезда в карете!
Это возымело мгновенное действие. Где бы капитан ни появлялся, всюду его поднимали на смех. Он был готов повеситься! Всеми возможными путями пытался он возобновить свое знакомство с ней, писал ей самые пламенные письма, в которых просил прощения за свою былую опрометчивость. Короче говоря, после многих просьб ему удалось добиться разрешения прийти к ней, с тем чтобы, как он говорил, восстановить свое доброе имя в ее глазах.
В это свидание она полностью поквиталась с ним. За кого он ее принимает, вопрошала она, как мог он думать, что она вступит в брак, не зная толком всех обстоятельств человека, с которым заключает столь важный договор? Или он думает, что ее можно втравить в брак против ее воли? Может быть, он спутал ее с кем-нибудь из ее соседок, у которых такое положение, что хоть за первого встречного выходи? Откуда ей знать, в самом ли деле он дурной человек или просто несчастлив в своих соседях, которые его оговорили? Как бы то ни было, ему придется рассеять кой-какие ее подозрения; вполне, впрочем, обоснованные. Иначе чувство собственного достоинства заставит ее показать ему, что она не боится сказать нет ни ему, ни любому другому мужчине.
Тут же она выложила ему все, что ей довелось о нем слышать, или, вернее, все те слухи, которые она сама с моей помощью, распустила о нем: он-де не внес свой пай за часть корабля, которая, по его словам, ему принадлежит: владельцы корабля будто бы намерены по ставить на его место его помощника; о его нравственности всюду говорят дурно; его имя связывают с такими-то и такими-то женщинами; в Плимуте и Вест-Индии у него, оказывается, жены, и все в таком роде. Разве она не вправе требовать, чтобы он объяснился с ней по всем статьям обвинения? Разве они недостаточно серьезны, чтобы отказать ему, если он не сможет оправдаться?
Он был так поражен ее речами, что не мог и слова вымолвить в ответ, а она, видя его замешательство, чуть не подумала, что все, что она ему высказала, было и в самом деле правдой, хоть и знала превосходно, что источник всех этих слухов — она сама.
Однако он оправился и с той минуты сделался самым скромным, самым робким и со всем тем самым усердным из женихов.
Но она все не унималась. Неужели, спрашивала она его, он думает, что она дошла до такой крайности, чтобы ей можно и должно было терпеть подобное обращение с собой? Неужели он не видит, что у нее нет недостатка в поклонниках? Иные из них, кстати сказать, не ленятся ездить к ней из более далеких мест, чем он, — это она намекала на того джентльмена, которого нарочно пригласила ездить к себе.
С помощью подобных уловок она довела его до состояния совершеннейшей покорности; теперь он шел на любые меры, чтобы успокоить ее не только относительно дел своих, но и поведения. Он представил ей неопровержимые доказательства того, что корабельный пай его уплачен, принес свидетельство владельцев корабля о том, что слухи об их намерении сместить его и поставить на его место его помощника лишены каких бы то ни было оснований; словом, он сделался полной противоположностью тому, чем был прежде.
Так удалось мне доказать ей, что женщины сами виноваты, когда мужчины берут верх над ними там, где дело идет о браке: мужчины полагают, что у них якобы неограниченный выбор и что поэтому с женщиной всегда можно поладить; нам же недостает смелости стоять на своем и защищать свои права. И правильно сказал лорд Рочестер, что
Дальше моя приятельница так ловко повела дело, что ему стало казаться труднейшим на свете предприятием заполучить ее себе в жены. На самом же деле она давно уже решилась выйти за него и только об этом и хлопотала все время. А добилась она всего не тем, что напустила на себя холод и важность, а тем, что повела разумную политику: поменявшись с ним ролями, она; обратила его игру против него самого; прежде он высокомерным своим обращением поставил себя так, точно; не нуждался ни в каких рекомендациях, всякие расспросы принимал как личное для себя оскорбление; тогда она с ним поссорилась. И теперь он покорно сносил любые расспросы; мало того, он, со своей стороны, и заикнуться не смел об ее делах.
Довольно с него, что она соглашалась выйти за него замуж. Относительно своего состояния она ему прямо заявила, что так как ее обстоятельства ему известны, то справедливость требует, чтобы и она о нем знала столько же. Правда, он мог судить о ее приданом только по слухам, но ведь он столько раз уверял ее в своей пламенной страсти, сопровождая, как водится, свои уверения всяким любовным вздором, что вряд ли и думал о чем-либо, кроме ее руки. Словом, он лишил себя всякого права расспрашивать о ее состоянии, она же, будучи женщиной рассудительной, воспользовалась этим и тайно от него, прибегнув к помощи доверенных лиц, разместила часть своего капитала таким образом, чтобы он не мог к нему подобраться и довольствовался бы оставшейся долей.
Оставалось же у нее, по чести сказать, немало, а именно тысяча четыреста фунтов наличными, которые она ему и вручила. Со временем она показала ему и остальную часть, однако в руки этих денег не дала. Уже тем, что благодаря этим деньгам он мог не тратить своих на ее расходы, она оказывала ему большую милость. Надобно сказать, что вследствие такой ее политики он не только держал себя чрезвычайно скромно то время, что добивался ее руки, но также оказался весьма любезным мужем, когда наконец добился ее. Не могу тут удержаться, чтобы еще раз не сказать дамам, что они слишком низко расценивают свое положение жены, а оно — да не сочтут меня пристрастной! — и без того достаточно низко. Повторяю, они сами же себя уничижают, себе же готовят унижения в будущем, когда без всякой, на мой взгляд, надобности с самого начала позволяют мужчинам безнаказанно себя обижать.
Я хочу, чтобы этот рассказ помог нашим дамам понять, что вовсе не все преимущества на одной стороне, как то думают мужчины. Это верно, что они пользуются слишком большой возможностью выбирать среди нас к что есть женщины, которые, не дорожа своей честью и не зная себе цены, настолько податливы, что готовы вешаться мужчине на шею, не дожидаясь предложения. Тем не менее мужчины могут убедиться в том, что женщины, которых стоит добиваться, не слишком-то доступны, а у податливых женщин непременно обнаруживается какой-нибудь изъян, и притом настолько существенный, что мужчины в конце концов отдают предпочтение женщинам недоступным, тем, которых труднее завоевать, и отказываются от легких побед, понимая, что женщина, готовая прибежать по первому зову, будет немногого стоить как жена.
Всякий раз, когда дамы стоят на своем и дают понять тем, кто выступает перед ними в роли поклонников, что не согласны сносить их обиды и не боятся произнести слово нет, они выигрывают сражение. Я утверждаю, что мужчины оскорбляют нас, когда говорят нам о том, что на свете женщин много, что будто бы войны, мореплавание и заморская торговля унесли столько мужчин что их число неизмеримо меньше числа женщин и что поэтому женщины находятся в менее выгодном положении, чем мужчины. Я же никогда не соглашусь ни с тем, что нас так уж много, ни с тем, что их так уж мало. Если же мужчины желают знать правду, то невыгодное положение, в котором действительно находятся женщины, служит к великому стыду самих мужчин и объясняется одной-единственной причиной, а именно, что в наш испорченный век мужчины так развращены, что число тех, с которыми честная женщина может иметь дело, и впрямь невелико и что редко встретишь мужчину, на которого можно положиться.
Но даже из этого следует лишь то, что женщинам надлежит быть еще разборчивей, ибо как знать, что представляет собой на самом деле человек, который делает нам предложение? Утверждать же, что женщина должна быть тем доступней вследствие этого, все равно что утверждать, что чем больше опасность, тем больше должна быть наша готовность рисковать. А это, на мой взгляд, совершеннейшая нелепость.
По-моему же, чем больше женщина рискует быть обманутой, тем она должна быть осмотрительней. И если б только дамы приняли это в соображение и действовали бы с оглядкой, они не так легко поддавались бы на обман. Ведь мало кто из нынешних мужчин может похвастаться своей репутацией, и если б наши дамы взяли на себя труд и занялись бы расспросами они вскоре научились бы разбираться в мужчинах в освободились бы от их козней. А те женщины, которым не дорого собственное благополучие и которые тяготятся своим девичеством настолько, что готовы, как они сами выражаются, пойти за первого встречного и рвутся в брак, как боевые лошади в сражение, — что мне им сказать? За них молиться надо, как молятся вообще за сумасшедших. Они мне напоминают людей, которые просаживают все свое состояние в лотерее, где на один выигрыш — сто тысяч пустых билетов.
Ни один здравомыслящий мужчина не станет уважать женщину меньше за то, что она не сдалась сразу, после первой атаки, а захотела навести кое-какие справки о нем, прежде чем дать свое согласие на брак. Наоборот, он будет весьма низкого мнения об ее достоинствах и даже умственных качествах, если она, имея одну-единственную ставку в жизни, тут же ее проиграет, точно брак для нее подобен смерти, такой же прыжок в неизвестное.
Мне бы хотелось внести какую-то правильность в поведение моих сестер в этой области — области, в ко торой, изо всех прочих, как мне кажется, мы больше всего страдаем. Всему виной наше малодушие, боязнь не выйти замуж и оказаться тем жалким существом, имя которому: старая дева. (Впрочем, по этому повод я могла бы рассказать целую историю.) Так вот тут-то и кроется западня, в которую попадаются женщины. А стоило бы нашим дамам лишь пренебречь этим страхом, начни они вести себя подобающим образом, настаивая на своем там, где дело идет об их собственном счастье, и не выказывая своей слабости на каждом шагу, и они избежали бы той самой участи, которой так страшатся. Пусть даже они и не вышли бы замуж так скоро, зато брак их в конечном счете оказался бы и вернее и прочней. Всякая женщина, которой достался дурной муж, чувствует, что поспешила выйти замуж, и ни одна женщина, у которой хороший муж, не скажет, что слишком долго медлила с замужеством. Словом, нет такой женщины (я не говорю об уродствах или погибшей репутации), которая, при правильном ведении дела, не смогла бы со временем хорошо выйти замуж, если же она будет вести себя опрометчиво, ставлю десять тысяч против одного — она погибла. Но перехожу к собственному положению, которое было в то время довольно щекотливо. Обстоятельства мои были таковы, что мне до крайности необходимо было найти себе подходящего мужа, однако я понимала, что этого не достигну, если выкажу себя чересчур доступной и покладистой. В скором времени кругом стало известно, что у вдовы нет приданого. Видимо, хуже этого ничего нельзя было придумать, так как мало-помалу люди прекратили какие бы то ни было разговоры со мной о браке. Ни воспитание, ни красота, ни остроумие, ни любезность — а я, основательно, нет ли, полагала, что обладаю всеми этими качествами, — все это, говорю я, ровно ничего не значило без презренного металла, который ныне ценится выше самой добродетели. Всюду твердили одно: «У вдовушки нет денег».
Поэтому я и надумала во что бы то ни стало переехать куда-нибудь в другое место, где меня не знали, и даже объявиться там, если понадобится, под другим именем.
Я поделилась своими соображениями с подругой, той самой, Которой я в свое время помогла выйти замуж за капитана и которая была готова теперь отплатить мне услугой за услугу. Я открыла ей все свои обстоятельства без утайки. Денег у меня было мало, мне ведь удалось выручить всего лишь пятьсот сорок фунтов после банкротства моего последнего мужа, и часть из них я уже растратила. Впрочем, у меня еще оставалось около четырехсот шестидесяти фунтов, кое-какие наряды, золотые часы, драгоценности, правда довольно дешевенькие, да на тридцать или сорок фунтов еще не проданного полотна.
Мой дорогой и верный друг, жена капитана, была преисполнена благодарности ко мне за все, что я для нее сделала. Не одной дружбой дарила она меня; зная о моем стесненном положении, она всякий раз, что сама была при деньгах, делала мне подарки, иными словами, попросту содержала меня, так что мне не приходилось трогать своих денег. Наконец она подала мне вот какую злополучную мысль: мужчины ведь, даже когда у них самих ничего нет за душой, охотно принимаются ухаживать за состоятельными женщинами; поэтому, хотя бы из одной справедливости, нам следует поступать точно таким же образом с ними и пытаться обмануть обманщика.
Она сказала, что, если я ей доверюсь, она берется сыскать мне богатого мужа, который никогда не попрекнет меня отсутствием приданого. Я ответила, что всецело подчиняюсь ее руководству и без ее приказания не вымолвлю ни слова и не ступлю ни шагу, в полной уверенности, что она поможет мне выпутаться из любых затруднений. Она пообещала.
Первым делом она велела мне называть ее кузиной и отправила к одной своей родственнице в провинцию, после чего явилась вместе с мужем навестить меня называя меня кузиной, она так искусно повела разговор, что муж очень любезно попросил меня, от своего имени и от имени жены, переехать к ним в город и поселиться у них, сказав, что они теперь живут в другом месте. Затем она сказала мужу, что меня, по крайней мере, тысяча пятьсот фунтов состояния и предстоит унаследовать от родственников еще больше.
Довольно было сообщить об этом мужу: мне само не понадобилось ничего предпринимать: я спокойно выжидала, так как вскоре по всему околотку распространился слух, что молодая вдова, живущая у капитана, сущий клад, что у нее по крайней мере тысяча пятьсот фунтов, а то и гораздо больше, что сам капитан говорил это; а если капитана расспрашивали обо мне, он не колеблясь это подтверждал, хотя знал обо мне только то, что сказала ему жена; делал он это без всякого дурного умысла, потому что искренне верил, что так оно и было.
Вот на каком шатком основании строят люди, когда им мерещатся золотые горы. Прослывши женщиной состоятельной, я тотчас привлекла к себе кучу поклонников, так что выбор у меня был богатый, хоть мужчин и уверяют, что их так мало. К слову сказать, это подтверждает то, что я говорила раньше. Мне предстояла тонкая игра: найти среди них наиболее подходящем для себя человека, то есть такого, который легче другим поверил бы слухам о моем богатстве и не стал бы собирать более подробные сведения; ничего другого мне не оставалось, потому что положение мое не допускало тщательных расспросов.
Выбор не стоил мне большого труда; я остановилась на самом усердном из своих поклонников, добилась от него торжественного признания в том, что он меня любит больше всего на свете и что, если я соглашусь осчастливить его, он будет на седьмом небе; я знала, что весь этот пыл объясняется предположением, скорее даже уверенностью, что я очень богата, хотя сама я и не заикалась ему о своем состоянии.
Я сделала выбор, но надо было испытать моего поклонника до конца: от этого зависело мое спасение потому что я знала, что стоит ему пойти на попятный, и я погибла, равно как и он был человек погибший, если бы взял меня; и не выскажи я сомнений насчет его состояния, у него могли возникнуть кое-какие сомнения насчет моего. Итак, я первым долгом стала выражать притворное недоверие к его искренности, говорила, что он за мной ухаживает ради моих денег. Тогда он разражался уверениями в беззаветной любви, но и их я встретила тем же притворным недоверием. Раз утром он снимает с пальца бриллиантовое кольцо и пишет на оконном стекле моей комнаты следующие слова:
Я прочла, попросила у него кольцо и написала ниже:
Он снова берет кольцо и пишет:
Я опять попросила кольцо и написала:
Он покраснел как рак, почувствовав себя задетым за живое, и решил во что бы то ни стало взять верх. Следующими его словами были:
Как увидите, я поставила все на карту в нашем поэтическом состязании, смело написав под этим стихом:
Это была горькая истина; поверил он мне или нет, не могу сказать; мне показалось тогда, что не поверил. Как бы там ни было, он подбежал ко мне, обнял и, покрывая пылкими и страстными поцелуями, долго сжимал в объятиях; потом, заявив, что у него не хватает больше терпения писать на стекле, попросил перо и чернила, достал кусок бумаги и написал:
Я взяла у него перо и немедленно ответила так:
Он сказал, что это жестоко, ибо несправедливо, и ему приходится оспаривать мои слова, то есть совершать невежливость и идти против своего чувства; но раз уж я увлекла его на путь стихоплетства, то он просил позволения продолжать, после чего взял перо и написал:
Я подписала:
Слова эти он почел знаком благоволения и сложил оружие, то есть перо; да, это был знак большого благоволения, степень которого он оценил бы, если бы знал все. Так или иначе, он воспринял его, как я и предполагала, то есть решив, что я склонна продолжать нашу любовную игру; у меня же были для этого все основания: такого приветливого и веселого человека я никогда не встречала и часто думала, что поэтому вдвойне преступно его обманывать; но меня побуждала к этому необходимость устроиться соответственно моему положению, к тому же, каким бы красноречивым доводом: против дурного обращения с этим человеком ни являлась его любовь и доброта, качества эти, несомненно убеждали меня, что он перенесет разочарование с большей кротостью, чем какой-нибудь сорви-голова, у которого только и есть что бурные страсти, которые могут лишь сделать женщину несчастной.
Нужно отдать справедливость моему поклоннику хотя я (как ему казалось) часто шутила с ним насчет своей бедности, однако, убедившись, что это правда, он не позволил себе никаких упреков; ведь, в шутку или всерьез, он заявил, что берет меня, невзирая на приданное, равно как и я, в шутку или всерьез, заявила, что у меня нет ни гроша, словом, отрезала ему все пути к отступлению; и хотя он мог сказать впоследствии, что был обманут, однако не вправе был сказать, что обманула его я.
После этого он следовал за мной по пятам, и так как я увидела, что мне нечего бояться потерять его, то играть роль равнодушной дольше, чем в других случаях позволило бы мне благоразумие; но я смекнула, какие преимущества дадут мне сдержанность и равнодушие, когда придется признаться в своем бедственном положении; это поведение было для меня тем более выгодным, что, как я подметила, он заключал из него, что у меня или много денег, или много рассудительности и что я вовсе не искательница приключений.
Однажды я набралась смелости сказать ему что, право же, встретила с его стороны самое галантное обращение, поскольку он берет меня, не справляясь о моем состоянии, и хочу отплатить ему такой же любезностью, ограничившись лишь самыми необходимыми справками о его делах, однако, надеюсь, он разрешит мне задать несколько вопросов, на которые может ответить или нет, как ему будет угодно; один из этих вопросов касался нашего будущего образа жизни и места, где мы поселимся, так как я слышала, что у него большая плантация в Виргинии и он будто бы хочет туда переселиться, у меня же нет желания отправляться за океан.
С этого времени он охотно стал посвящать меня во се свои дела и откровенно говорил о своем состоянии, откуда я заключила, что он мог бы занимать очень видное положение в обществе; большую часть его имущества составляли три плантации в Виргинии, которые приносили ему прекрасный доход, около трехсот фунтов в год, но если бы он хозяйничал сам, то давали бы в четыре раза больше. «Прекрасно, — подумала я, — ты отвезешь меня туда, когда тебе вздумается, только сейчас я тебе этого не скажу».
Я подшучивала над тем, какой из него выйдет плантатор, но, убедившись, что все мои желания будут исполнены, хотя ему и не нравится, что я отношусь к его плантациям без должного уважения, переменила разговор; сказала, что у меня есть важные основания не переезжать туда; ведь если его плантации так богаты, то я слишком бедна для человека с тысячью двумястами фунтов годового дохода.
Он ответил, что не спрашивает, сколько у меня приданого, так как с самого начала обещал не касаться этого вопроса и сдержит свое слово; во всяком случае, он никогда не предложит мне ехать с ним в Виргинию и сам туда не поедет без меня, если я не изъявлю на то желания.
Таким образом, как видите, все вышло по-моему, и я осталась как нельзя более довольна. До самой этой минуты я продолжала напускать на себя равнодушие, чем порой удивляла его пуще прежнего, но и подогревала его усердие. Я упоминаю об этом главным образом в назидание женщинам; пусть знают они, что ничто так не роняет наш пол и не способствует пренебрежительному отношению к нам, как боязнь решиться на такое напускное равнодушие; если бы мы меньше дорожили вниманием зазнавшихся франтов, то, наверное, нас больше бы уважали и больше бы за нами ухаживали. Я могла откровенно признаться, что все мое большое состояние не составляет и пятисот фунтов, тогда как он ожидал тысячи пятисот: я так крепко подцепила молодчика и так долго держала его в мучительной неизвестности, что, по моему глубокому убеждению, он бы взял меня даже совсем без приданого; и в самом деле, узнав правду, он удивился меньше, чем если бы я вела себя иначе, так как не мог сделать ни малейшего упрека женщине, которая до последней минуты держалась с ним равнодушно, и лишь ограничился замечанием, что предоставлял меня гораздо богаче, чем я была в действительности, но что, будь даже состояние мое еще меньше, он не раскаялся бы в сделке, только не мог бы содержать меня так хорошо, как желал бы.
Словом, мы поженились, и очень счастливо; по крайней мере, я осталась очень довольна: лучшего мужа трудно было сыскать, хотя его положение оказалось не столь блестящим, как я предполагала, и, с другой стороны, его расчет умножить свое состояние с помощью брака не оправдался.
Когда мы обвенчались, я поспешила тотчас же преподнести ему свой маленький капитал и сообщить, что больше у меня ничего нет; это было необходимо, так что, воспользовавшись случаем, когда мы были одни, я однажды вступила с ним в следующий разговор по этому поводу:
— Друг мой, вот уже две недели, как мы женаты; не пора ли вам узнать, есть ли у вашей жены что-нибудь или у нее нет ни гроша?
— Когда найдете нужным, вы мне скажете, дорогая, — отвечает, — а я доволен, что взял жену по сердцу; я ведь не очень досаждал вам расспросами о вашем приданом.
— Да, это правда, но я чувствую большое смущение не знаю, как от него избавиться.
— Что же вас смущает, милая?
— Мне немного тяжело говорить об этом, и вам еще тяжелее будет услышать; мне передавали, будто капитан*** (муж моей подруги) говорил вам, что я очень богата; уверяю вас, я никогда не поручала ему распускать такие слухи.
— Возможно, что капитан*** говорил мне это, но что отсюда следует? Если он меня обманул, это его вина; вы сами никогда не говорили мне о вашем приданом, так что у меня нет никаких оснований упрекать вас, даже если бы вы вовсе ничего не имели.
— Вы — сама справедливость и благородство! — воскликнула я. — Тем больнее мне сознавать, что у меня так мало денег.
— Чем меньше их у вас, дорогая, тем хуже для нас обоих, но надеюсь, вы не боитесь, что я переменюсь к вам из-за отсутствия приданого. Да, да, если у вас нет ничего, признайтесь мне откровенно. Я, может, и вправе сказать капитану, что он меня надул, но вас я ни в чем не могу упрекнуть: разве вы не дали мне понять, что вы бедны? Так что для меня тут нет никакой неожиданности.
— Я очень рада, мой друг, что не участвовала до свадьбы в этом обмане. Если я обманываю вас теперь, то ничего худого в этом нет. Верно, что я бедна, но все-таки у меня кое-что есть, — и с этими словами я вынула несколько банковых билетов и вручила ему около ста шестидесяти фунтов. — Вот вам кое-что, — сказала я, — и это, может быть, не все.
Он уже до такой степени отчаялся получить что-нибудь от меня, что деньги, как ни мало их было, показались ему вдвойне приятными. Он признался, что на них не рассчитывал, заключив из моей речи, что платья, золотые часы и два-три бриллиантовых кольца — все мое состояние.
Дав ему наслаждаться несколько дней этими ста шестьюдесятью фунтами, я отлучилась из дому, будто бы за деньгами, и принесла ему сто фунтов золотом, сказав, что вот и еще часть приданого; в общем, к концу недели я принесла домой еще сто восемьдесят фунтов и фунтов на шестьдесят холста, который мне будто бы пришлось взять вместе со ста фунтами золотом в покрытие долга в шестьсот фунтов, что не составляло и пяти шиллингов за фунт, и хорошо, что хоть это получила.
— А теперь, мой друг, — говорю ему, — должна, к сожалению, признаться вам, что это все мое состояние, — добавив, что если бы лицо, которому я одолжила шестьсот фунтов, не обмануло меня, то у меня была бы тысяча фунтов, но дело не выгорело, и я дала мужу честное слово, что ничего не припрятала, а если бы получила больше, то все бы ему отдала.
Он был так тронут моим поведением и так рад деньгам (ибо страшно боялся, что останется на бобах), что принял мое приношение с большой благодарностью. Так выпуталась я из фальшивого положения, в которое себя поставила, пустив слух о своем богатстве и поймав на эту удочку мужа, — прием, впрочем, очень опасный для женщины, так как она сильно рискует подвергнуться впоследствии дурному обращению со стороны мужа.
Муж мой, нужно отдать ему справедливость, был человек бесконечно добрый, но не дурак; увидя, что доход его недостаточен для того образа жизни, который он предполагал вести в расчете на мое приданое, а также разочаровавшись в размерах поступлений с виргинских плантаций, он не раз выражал намерение отправиться в Виргинию, чтобы жить там на собственной земле, и часто мне расхваливал тамошнюю жизнь, говорил, что там всего много, все дешево, хорошо и т.п.
Я сразу поняла, на что он намекает, и раз утром сказала ему напрямик, что, по-моему, его имения, из-за дальнего расстояния, дают очень мало по сравнению с тем, что они давали бы, если бы он жил там, и я догадываюсь о его желании переехать туда; сказала, что вполне понимаю, как разочаровала его женитьба, и, чтобы его вознаградить, считаю своим долгом поехать вместе с ним в Виргинию и там поселиться.
Он наговорил мне тысячу любезностей по поводу этого предложения. Сказал, что хотя и разочаровался в своих надеждах получить за женой хорошее приданое, но не разочаровался в жене; что о лучшей жене он и мечтать не мог, а мое предложение так мило, что он даже не в силах выразить свое удовольствие.
Короче говоря, мы решили уехать. Он сказал, что него там прекрасный, хорошо обставленный дом, в котором живут его мать и сестра, единственные его родные на свете, но что тотчас по нашем приезде они переберутся в другой дом, который находится в пожизненном владении его матери, а после ее смерти перейдет к нему, так что весь первый дом будет в моем распоряжении, и все оказалось точь-в-точь, как он говорил.
Мы сели на корабль, взяв с собой много хорошей мебели для нашего дома, белья и других необходимых вещей, а также разного товара для продажи, и тронулись в путь.
Подробный отчет о нашем продолжительном и полном опасностей путешествии не входит в мою задачу; ни я, ни мой муж не вели дневника. Могу только сказать, что после ужасающего переезда, дважды напуганные страшными бурями и один раз еще более страшными пиратами, которые пошли на абордаж, отобрали у нас почти весь провиант и, в довершение моего несчастья, увели было моего мужа, но, внявши моим слезным мольбам, отпустили, — после всех этих ужасов мы вошли в реку Йорк в Виргинии и, прибыв на нашу плантацию, были встречены матерью мужа как нельзя более радушно и ласково.
Мы поселились там все вместе: по моей просьбе свекровь осталась в нашем доме, потому что я не хотела разлучаться с этой превосходной женщиной; муж тоже был по-прежнему хорош со мной; словом, я считала себя счастливейшим существом на свете, как вдруг один поразительный случай мигом положил конец всему нашему благоденствию и поставил меня в невообразимо тягостное положение.
Свекровь моя была необыкновенно веселая и добродушная старуха — я вправе называть ее так, потому что ее сыну было уже за тридцать; приятная и общительная, она постоянно развлекала меня рассказами о стране, в которой мы жили, и об ее обитателях.
Между прочим, она часто мне говорила, что большинство жителей этой колонии прибыло из Англии в очень жалком состоянии и что, вообще говоря, их можно разделить на два разряда: одни были завезены хозяевами кораблей и проданы в услужение — «так это называют, дорогая, — сказала она, — на самом же деле они просто рабы», — другие после пребывания в Ньюгете или иных тюрьмах и смягчения приговора сосланы за преступления, караемые в Англии смертной казнью.
— Когда они прибывают к нам, — сказала свекровь, — мы не делаем между ними различия: плантаторы покупают их, и они все вместе работают на полях до окончания срока. По истечении его им предлагают самим стать плантаторами; правительство отводит каждому по нескольку акров земли, и они сначала расчищают и возделывают свои участки, а потом сеют табак и хлеб для собственного потребления; под будущий урожай купцы отпускают им в кредит земледельческие орудия, одежду и другие необходимые предметы, и они ежегодно расширяют запашку и покупают все, что им нужно. Вот каким образом, дитя мое, — продолжала старуха, — многие присужденные к виселице становятся большими людьми, и кой у кого из наших мировых судей, офицеров милиции и членов магистрата руки заклеймены каленым железом.
Она собиралась продолжать свой рассказ, но увлеклась ролью, которую сама в нем играла, и с добродушной доверчивостью призналась мне, что сама принадлежит ко второму разряду здешних жителей; ее сослали сюда за то, что она хватила через край в одном деле и стала преступницей.
— А вот и метка, дитя мое, — проговорила она, снимая перчатку и показывая мне красивую белую руку, заклейменную на ладони, как полагается в таких случаях.
Это признание очень взволновало меня, но свекровь сказала с улыбкой:
— Не считай мою судьбу какой-то необыкновенной, дочь моя. Здесь у многих лучших людей клейменые руки, и они ничуть этого не стыдятся. Майор*** был знаменитым карманником, а судья Б-р грабил лавки, и у обоих заклеймены руки; я могла бы тебе назвать еще несколько таких же, как они.
Мы часто вели разговоры подобного рода, и свекровь подкрепляла сказанное множеством примеров. Как-то раз, когда она мне рассказывала приключения одного ссыльного, прибывшего сюда несколько недель тому назад, я стала усердно просить ее поведать мне что-нибудь о своей жизни, и тогда она с большой откровенностью и прямотой рассказала, как она в молодости попала в очень дурное общество в Лондоне, потому что мать часто посылала ее носить еду одной своей родственнице, заключенной в Ньюгете и умиравшей там с голода; женщина эта впоследствии была присуждена к смертной казни, но, так как была беременна, исполнеиие приговора отсрочили, и она потом умерла в тюрьме. Тут моя свекровь пустилась в длинный перечень разных мерзостей, совершающихся в этом ужасном месте, с котором молодые люди развращаются больше, чем где бы то ни было во всем городе.
— Может быть, дитя мое, — сказала она, — ты мало знаешь о таких вещах или даже вовсе о них не слыхивала, но, поверь, нам всем здесь известно, что одна Ньюгетская тюрьма плодит больше воров и мошенников, чем все притоны и разбойничьи вертепы Англии. Это проклятое место дает половину населения нашей колонии.
И она продолжала свою длинную повесть, пускаясь в такие подробности, от которых мне стало очень неспокойно на душе; когда же по ходу рассказа ей пришлось в одном месте назвать свое имя, я чуть было не упала в обморок. Заметив мою бледность, свекровь спросила, не худо ли мне и что меня встревожило. Я ответила, что меня очень расстроила печальная повесть, что я не в силах больше слушать и прошу ее не рассказывать дальше.
— Зачем же ты расстраиваешься, моя милая? — ласково сказала она. — Все это происходило задолго до твоего появления на свет, и меня это теперь ничуть не волнует; напротив, мне приятно вспоминать о событиях, благодаря которым я очутилась здесь.
И она рассказала мне, как она попала в хорошую семью, прекрасно вела себя, так что после смерти хозяйки на ней женился хозяин, от которого у нее родились мой теперешний муж и его сестра; рассказала, как благодаря своим стараниям и умелому управлению она после смерти мужа улучшила плантации и привела их в то состояние, в котором они находятся сейчас, так что большей частью своего богатства она обязана себе, а не мужу, который умер шестнадцать лет тому назад.
Я прослушала эту часть рассказа очень невнимательно, так как испытывала большую потребность сосредоточиться и отдаться охватившим меня чувствам; можете судить о моем состоянии, если я скажу, что, по моим подсчетам, эта женщина была не кто иная, как моя мать, что я прижила двоих детей и была беременна третьим от родного брата, с которым до сих пор спала каждую ночь.
Я была теперь несчастнейшей женщиной на свете. Ах, не выслушай я этой повести, все было бы хорошо!
Не было бы преступлением спать с мужем, если бы я ничего не знала.
У меня лежала теперь такая тяжесть на душе, что я находилась в постоянной тревоге; я не видела никакой пользы открывать тайну, что дало бы мне кой-какое облегчение, однако и таиться было почти невозможно; я не была уверена, что не проговорюсь во сне и вольно или невольно открою свою тайну мужу. А если это случится, то самое меньшее, что меня ждет, это потеря мужа, потому что он был настолько честен и щепетилен, что не мог бы оставаться моим мужем, узнав, что я его сестра; словом, я была в самом затруднительном положении.
Предоставляю судить читателю, каково было это положение. Я находилась за тридевять земель от родины и не имела никакой возможности вернуться туда. Жилось мне очень хорошо, но душевное состояние было невыносимое. Если бы я открылась матери, было бы, пожалуй, трудновато убедить ее в подробностях, я не могла привести никаких доказательств. С другой стороны, если бы она стала меня расспрашивать или мои слова заронили бы в ней подозрения, я погибла, ибо простой намек немедленно разлучил бы меня с мужем, не расположив в мою пользу ни моей матери, ни его, который не был бы мне тогда ни мужем, ни братом; таким образом, и изумление их, и неизвестность одинаково означали для меня верную гибель.
Так или иначе, я была твердо уверена в правильности своей догадки и, следовательно, под видом честной жены предавалась явному кровосмешению и распутству; и хотя меня мало трогала преступность таковых отношений, однако в них было нечто противоестественное, так что муж стал даже гадок мне. Тем не менее по зрелом размышлении я решила ни в коем случае не открываться и не делать никаких признаний ни матери, ни мужу; так прожила я в состоянии невообразимой подавленности еще три года, но детей больше не имела.
В продолжение этого времени моя мать часто рассказывала мне о своих прежних приключениях, что не доставляло мне никакого удовольствия, ибо, хотя она не называла вещи своими именами, все же, сопоставляя ее слова со слышанными мною от первых моих опекунов, я могла заключить, что в дни своей молодости она была проституткой и воровкой; но я убедилась, что она искренне раскаялась и стала потом женщиной очень набожной, скромной и религиозной.
Однако какова бы ни была жизнь моей матери, моя собственная жизнь стала мне в тягость, потому что, как я уже сказала, мне приходилось заниматься самым худшим видом проституции; я не могла ожидать ничего хорошего от такого образа жизни, и действительно ничего хорошего из него и не вышло; все мое кажущееся благополучие пошло прахом и кончилось нищетой и разорением. Понадобилось, однако, некоторое время, прежде чем дошло до этого; дела наши пошатнулись, и, что еще хуже, с мужем моим произошла странная перемена: он стал капризен, ревнив, нелюбезен, и меня тем больше раздражало его поведение, чем более око было безрассудно и несправедливо. В конце концов отношения наши настолько испортились, что я потребовала у мужа исполнения обещания, которое он мне добровольно дал, когда я согласилась уехать с ним из Англии, именно: если мне здесь не понравится, я могу вернуться в Англию, когда мне вздумается, предупредив его за год, чтобы он успел привести в порядок дела.
Итак, я потребовала, чтобы муж исполнил это обещание, и, должна сознаться, не в очень любезной форме: я жаловалась на то, что он очень дурно со мной обращается, что я нахожусь вдали от друзей и некому за меня вступиться, говорила, что он беспричинно ревнив, так как мое поведение безупречно и он не может ни к чему придраться, и что наш отъезд в Англию отнимет у него всякий повод для подозрений.
Я так решительно настаивала, что мужу осталось только или сдержать свое слово, или нарушить его; несмотря на то, что он пустил в ход всю свою ловкость и пытался при помощи матери и других посредников убедить меня переменить свое решение, все его старания оказались бесплодными, потому что не лежало больше к нему мое сердце. Я с отвращением думала о брачном ложе, изобретала тысячу предлогов, ссылалась на нездоровье и дурное расположение, лишь бы он ко мне не прикасался, ничего так не опасаясь, как новой беременности, которая неизбежно помешала бы моему отъезду в Англию или, во всяком случае, задержала бы меня.
В конце концов муж был до такой степени выведен из себя, что принял поспешное и роковое решение не пускать меня в Англию; хотя он и обещал, однако заявил, что отъезд этот безрассуден, разорит его, уничтожит семью и может привести его к гибели, поэтому я не должна обращаться к нему с подобной просьбой, недопустимой для жены, которой дорого благополучие семьи и мужа.
Эти доводы обезоружили меня; спокойно все обдумав, вспомнив, что муж мой в сущности старательный, терпеливый человек, озабоченный тем, чтобы нажить состояние для своих детей, и что ему к тому же ничего не известно о моих ужасных обстоятельствах, я не могла не признать, что моя просьба крайне безрассудна и что ни одна жена, принимающая близко к сердцу интересы семьи, не обратилась бы с ней к мужу.
Но мое недовольство было иного рода: я видела в нем теперь не мужа, но близкого родственника, сына моей родной матери, и решила тем или иным способом отделаться от него, но как это выполнить, не знала.
Злые языки говорят о нашей сестре, что если мы что-нибудь забрали в голову, то уж своего добьемся; и правда, я непрестанно размышляла о том, как осуществить мое путешествие, и дошла наконец до того, что предложила мужу отпустить меня одну. Это предложение возмутило его до последней степени; он назвал меня не только нелюбезной женой, но и бесчувственной матерью и спросил, как могу я без ужаса думать о том, чтобы навсегда лишить матери двух детей (третий ребенок умер). Конечно, если бы все шло хорошо, я бы этого не сделала, но теперь моим заветным желанием было никогда больше не видеть ни детей, ни мужа; а что касается обвинения в противоестественности моих чувств, то я бы легко могла оправдаться ссылкой на крайнюю противоестественность всей нашей связи.
Однако не было никакой возможности добиться от мужа согласия; он не хотел ни ехать со мной, ни отпустить меня одну, а о том, чтобы тронуться в путь без его согласия, нечего было и думать, это хорошо понимает всякий, кому известны порядки той страны.
У нас часто бывали семейные ссоры по этому поводу, и они начинали становиться опасными, ибо, совершенно к нему охладев, я мало заботилась о том, чтобы выбирать выражения, и подчас говорила с мужем вызывающе; словом, я изо всех сил старалась побудить его к разрыву: это было заветнейшим моим желанием.
Мой образ действий возмутил мужа, и он был совершенно прав, потому что в заключение я отказалась спать с ним; а так как я пользовалась каждым случаем, чтобы еще больше усилить размолвку, муж сказал мне однажды, что я, должно быть, сошла с ума и если не изменю своего поведения, то он обратится к врачам, то есть посадит меня в дом умалишенных. Я ему ответила, что я далеко не сумасшедшая, и в этом он скоро сам убедится, и что ни ему, ни другому негодяю не дано право убивать меня. Признаться, я была страшно напугана его намерением посадить меня в сумасшедший дом, так как это лишило бы меня возможности рассказать правду; ведь тогда никто бы не поверил ни одному моему слову.
Под влиянием этого разговора я решила во что бы о ни стало открыться во всем; но каким способом и кому открыться, я не могла придумать и ломала себе над этим голову несколько месяцев. Вот тут и случилась новая ссора с мужем, принявшая такой резкий характер, что я чуть было не выложила ему всю правду; хотя я удержалась от сообщения подробностей, все же сказала достаточно, чтобы повергнуть его в крайнее вмешательство; в конце концов пришлось признаться о всем.
Началось с того, что он спокойным тоном упрекнул меня в упрямстве, в нежелании отказаться от поездки в Англию. Я стала защищать свое решение, и, слово за слово, как это обыкновенно бывает в семейных стычках, осыпались резкости; он сказал, что я отношусь к нему, как к чужому, не как к мужу, и говорю о детях, точно не мать им, что поэтому я не заслуживаю доброго отношения, что он исчерпал все мягкие средства, что на его любезное и спокойное обращение, подобающее мужу и христианину, я ему отвечаю самым низким образом, обращаюсь с ним, как с собакой, как с презреннейшим чужаком, а не как с мужем, что ему вообще противно всякое насилие, но теперь он вынужден прибегнуть к нему и примет самые крутые меры, чтобы побудить меня к исполнению моих обязанностей.
Вся кровь во мне вскипела, я пришла в бешенство, хоть и понимала в душе, что он говорит сущую правду и что поведение мое кажется непростительным. Я сказала, что мне одинаково наплевать и на его мягкие и крутые меры, что ни за что на свете я не отступлюсь от своего решения вернуться в Англию, а что касается моего нежелания обращаться с ним, как с мужем, и объявлять материнские чувства к детям, то тут, может быть, кроется кое-что такое, чего ему сейчас не понять, я же покамест не считаю нужным распространяться об этом и лишь заявляю, что у меня и муж и дети незаконные и я имею достаточно оснований относиться к ним сдержанно.
Признаюсь, мне стало жаль его, когда я это сказала: он смертельно побледнел и застыл без движения, точно пораженный громом; мне показалось даже, что сейчас он упадет в обморок; словом, с ним случилось нечто вроде апоплексического удара: он дрожал всем телом, по лицу струился холодный пот, так что я принуждена была пойти поискать, чем бы привести его в чувство. Потом его стало тошнить и он слег, а на другой день утром был в горячке.
Понемногу, однако, он стал поправляться, впрочем, медленно; почувствовав себя лучше, он сказал мне, что своими словами я нанесла ему смертельную рану и прежде всяких объяснений он хочет задать мне только один вопрос. Я перебила его, сказав, что очень раскаиваюсь в своей несдержанности, раз она так на него подействовала, но просила не требовать у меня никаких объяснений, потому что от этого будет только хуже.
Мои слова увеличили его нетерпение и наполнили его беспокойством; он стал подозревать, что тут кроется какая-то тайна, но никак не мог разгадать ее; единственное, что ему приходило на ум, это — нет ли у меня другого мужа, но я стала уверять, что его опасения совершенно неосновательны; и правда, мой другой муж действительно умер для меня и просил считать его умершим, так что по этому поводу я не чувствовала ни малейшей тревоги.
Но теперь я решила, что события зашли слишком далеко и больше таиться невозможно, а тут, к великому моему удовлетворению, муж сам дал мне повод освободиться от мучившей меня тайны. Он попусту приставал ко мне целых три или четыре недели, чтобы добиться, сказала ли я те слова в сердцах, с целью позлить его, или же в них кроется какая-то правда. Но я была непреклонной и отказывалась от всяких объяснений, требуя, чтобы он предварительно пообещал отпустить меня в Англию, а он отвечал, что, покуда жив, не согласится на это; тогда я ему возражала, что могу в любую минуту добиться его согласия, могу даже сделать так, чтобы он умолял меня уехать. Эти слова только разожгли его любопытство, и он стал назойлив до последней степени.
В конце концов муж обо всем рассказывает матери и просит ее выведать у меня правду; старуха пустила в ход всю свою ловкость, но я мигом оборвала ее, сказав, что тайна в ней самой, что уважение к ней побуждает меня скрываться и что, в общем, я не скажу больше ни слова и заклинаю ее не расспрашивать меня.
Свекровь была совсем огорошена и не знала, что сказать и что подумать, однако пренебрегла моим заявлением, усмотрев в нем только уловку, и продолжала приставать ко мне по поводу сына, а также всячески старалась примирить нас. Я сказала, что намерение у нее прекрасное, но неосуществимое и что, если бы я открыла ей правду, которой она добивается, она бы согласилась со мной и оставила меня в покое. В конце концов ее навязчивость возымела действие, и я сказала, что решаюсь доверить ей тайну величайшей важности, в чем она скоро сама убедится, и согласна скрыть эту тайну в ее сердце, если она торжественно пообещает ничего не говорить сыну без моего согласия.
Старуха долго медлила с этим обещанием, но желание узнать наконец великую тайну превозмогло, и она пошла на мои условия; тогда я решилась и после долгих приготовлений все выложила. Сперва сказала, как сильно она сама содействовала несчастной размолвке между сыном и мною, рассказав о своей жизни и сообщав имя, под которым жила в Лондоне: изумление, замеченное ею на моем лице, было вызвано именно этим рассказом. Потом поведала ей историю собственной жизни, назвала свое имя и, приведя ряд других примет, которые она не могла оспаривать, убедила ее, что я не кто иная, как ее дочь, родившаяся в Ньюгетской тюрьме, та самая, что спасла ее от виселицы, находясь у нее в брюхе, та самая, которую она оставила в таких-то и таких-то руках, когда отправлялась в ссылку.
Невозможно выразить, в какое изумление повергли ее мои слова; она не была расположена верить рассказу или вспоминать подробности, потому что сразу сообразила, какие гибельные последствия будет иметь это для всей семьи, но у меня так все совпадало с ее собственными рассказами, которые она, наверное, рада была бы отрицать, что она не могла привести ни одного возражения, а только бросилась мне на шею и, ни слова не говоря, долго целовала меня и горько плакала над моей долей.
— Несчастное дитя, — воскликнула она наконец, — зачем злая судьба привела тебя сюда? Да еще в объятия моего сына! Ужас, ужас, все мы погибли! Выйти замуж за родного брата! Трое детей, и притом двое живых, кровь и плоть брата и сестры! Мой сын и моя дочь живут как муж и жена! Стыд и позор! Горемычная семья! Что с нами будет? Что сказать? Что предпринять?
Долго она причитала таким образом, а я не имела сил говорить, да если бы и имела, не знала, что сказать каждое слово ножом вонзалось мне в душу. В таком потрясении чувств расстались мы впервые, впрочем, моя мать была поражена сильнее меня, потому что ужасное известие было для нее большой неожиданностью. Во всяком случае, она снова пообещала, что ничего не скажет сыну, пока мы не обсудим сообща, как нам поступить.
Само собой разумеется, мы не стали надолго откладывать условленный разговор, и тут, сделав вид, будто она забыла, в каких словах рассказала мне повесть своей жизни, или предположив, что я забыла некоторые подробности, моя мать принялась излагать их с изменениями и пропусками; но я освежила в ее памяти ряд забытых ею, как мне показалось, обстоятельств и так удачно закончила начатое ею, что ей невозможно было отступиться: тогда она снова начала сетовать и причитать по поводу суровости свалившихся на нее несчастий. Когда она немного отошла, мы стали подробно обсуждать, как нам подготовить мужа к неприятному объяснению. Но какой мог быть толк от всех наших совещаний? Обе мы не видели никакого выхода, и не в силах были придумать, как ему открыть столь трагические обстоятельства. Невозможно было судить или предугадать, как встретит он известие и какие примет меры; если по недостатку самообладания он сделает нашу тайну достоянием гласности, то легко было предвидеть, что это разглашение приведет к гибели всей семьи; если же воспользуется своим законным правом, то с презрением разведется со мною и предоставит взыскивать судом скудное приданое, которое я принесла ему и которое, может быть, придется целиком истратить на ведение тяжбы и остаться нищей; дети тоже будут разорены, поскольку они по закону не имеют права на его имущество, а через несколько месяцев я, чего доброго, увижу его в объятиях другой жены, сама же стану несчастнейшей женщиной на свете.
Для матери все это было так же ясно, как и для меня; короче говоря, мы совершенно не знали, что делать. По прошествии некоторого времени мы пришли к более трезвым решениям, но, к несчастью, мнения наши совершенно разошлись и были несовместимы одно с другим. Она полагала, что я должна схоронить свою тайну и по-прежнему жить с ее сыном как с мужем, пока не представится более благоприятный случай открыться, а тем временем она постарается примирить нас, восстановить между нами мир и согласие; словом, я должна жить с ним и молчать как могила, «ибо, дитя мое, — сказала она, — если тайна откроется, мы обе погибли».
Чтобы склонить меня на свою сторону, она обещала отказать мне после смерти все, что можно, отдельно от доли, которая достанется моему мужу; так что, если впоследствии тайна откроется, я не буду нищей и смогу добиться от мужа того, что мне причитается.
Это предложение не согласовалось с моими собственными планами, хотя говорило о большой любезности и внимании ко мне матери; мысли мои пошли по совсем иному пути.
Хранить тайну в своем сердце и оставить все по-прежнему невозможно, сказала я ей и спросила, неужели, она думает, что я способна согласиться на супружеские отношения с родным братом. Далее я ей сказала, что, покуда она жива, я могу ссылаться на нее и что если она признает меня своей дочерью, чему есть неоспоримые доказательства, никто не усомнится в истинности моих слов; но если она умрет прежде, чем тайна откроется, меня сочтут бесстыдницей, выдумавшей небылицу, чтобы покинуть мужа, или объявят сумасшедшей и невменяемой. Я рассказала также, как муж грозил посадить меня в сумасшедший дом, как меня испугала эта угроза и побудила признаться ей во всем.
Наконец я сказала матери, что после самых серьезных размышлений, на какие только я способна, я пришла к решению, которое, надеюсь, ей понравится, как некая средняя мера, именно: пусть она постарается уговорить сына отпустить меня в Англию, как я его просила, и снабдить меня достаточной суммой денег либо в виде товаров, которые я увезла бы с собой, либо в виде банковых билетов, на которые я могла бы жить там, намекнув ему при этом, что когда-нибудь он, если пожелает, может ко мне приехать.
А когда я уеду, пусть она подготовит его и откроет ему все, действуя, конечно, осмотрительно, чтобы, он не был слишком поражен, не вышел из себя и не натворил глупостей, и пусть присмотрит также за детьми и удержит сына от новой женитьбы, разве только будет получено верное известие о моей смерти.
Таков был мой план, подсказанный самыми благоразумными соображениями; после моего открытия этот человек действительно стал мне чужим; я смертельно его возненавидела как мужа и была не в силах побороть свое крайнее отвращение к нему; к этому присоединилось еще сознание незаконности наших отношений, и наше кровосмесительное сожительство стало для меня тошнотворным. Честное слово, я дошла до такой черты, что мне приятнее было обнять собаку, чем терпеть малейшее прикосновение мужа, мне была невыносима самая мысль лечь с ним в постель. Я не говорю, что была права, зайдя так далеко в своих чувствах к мужу и в то же время не решаясь ему открыться, но я рассказываю о том, что было, а не о том, что должно или не должно было быть.
Мы с матерью долго оставались каждая при своем мнении, не находя никакой возможности примирить их между собой; много у нас было споров, но ни одна из нас не могла переубедить другую.
Я упорствовала в своем отвращении к сожительству с родным братом, а она утверждала, что немыслимо добиться от него согласия на мой отъезд в Англию; так мы и оставались в этой неопределенности, не доходя до ссоры или чего-нибудь похожего, но неспособные также решить, что нам предпринять, чтобы найти выход из этого ужасного положения.
Наконец я решилась на отчаянный шаг и сказала матери, что сама признаюсь во всем мужу. При одной только мысли об этом мать пришла в ужас, но я попросила ее успокоиться, сказала, что сделаю это исподволь и осторожно, со всей свойственной мне ловкостью и умением, выбрав благоприятную минуту, когда мой муж будет в хорошем расположении духа. Я сказала, что если мне удастся слицемерить и притвориться более любящей, чем я была на самом деле, то я не сомневаюсь в полном успехе своего замысла, и мы расстанемся с обоюдного согласия и с легким сердцем, ибо я искренно люблю его как брата, хотя и не могу любить как мужа.
Все это время муж выпытывал у матери, что означает то ужасное, по его словам, выражение, которое я употребила давеча, сказав, будто не могу считать себя его законной женой и мои дети не являются его законными детьми. Мать кое-как отделывалась от него, говоря, что до сих пор не могла от меня добиться никаких объяснений, но видит, что я чем-то сильно озабочена, и надеется со временем узнать правду, а пока пусть он обращается со мной ласково и попробует добротой и мягкостью вернуть мое расположение; она сказала ему также, что я совсем запугана его угрозами посадить меня в сумасшедший дом, и посоветовала никогда не доводить женщину до отчаяния, как бы она ни провинилась.
Он пообещал матери смягчить свои обращение и велел передать мне, что любит меня по-прежнему и не собирается сажать в сумасшедший дом, — нельзя же придавать значение каждому слову, сказанному в сердцах; наконец попросил мать повлиять и на меня, чтобы мы снова зажили в добром согласии.
Последствия этого уговора сказались немедленно. Поведение мужа резко изменилось, и он стал со мной совсем другим человеком: большей любезности и предупредительности нельзя было и представить; мне ничего не оставалось, как отвечать ему тем же, что я делала по мере сил, но это выходило у меня очень неуклюже, ибо его ласки были для меня страшнее всего на свете, а при мысли, что я могу снова от него забеременеть, меня положительно бросало в холод; все это привело меня к заключению, что нужно непременно открыться ему, не откладывая ни минуты; так я и поступила со всяческими предосторожностями и оговорками.
С тех пор как он переменил свое обращение со мной, прошло уже около месяца, и мы зажили новой жизнью друг с другом; если бы такое положение вещей могло меня удовлетворить, то я думаю, так бы у нас продолжалось до самой смерти. Однажды вечером мы сидели вдвоем в саду, в небольшой беседке возле дома; муж мой был в самом благодушном расположении, наговорил мне кучу милых вещей относительно приятности нашего теперешнего доброго согласия, положившего конец тягостной размолвке, и выразил надежду, что мы никогда больше не будем друг с другом ссориться.
Я глубоко вздохнула и сказала, что ни одна женщина на свете не способна больше меня радоваться доброму согласию, всегда царившему между нами, и огорчаться при виде его нарушения, но, к сожалению, есть одно несчастное обстоятельство, очень близкое моему сердцу, которое не знаю как и объяснить ему; оно причиняет мне страшные мучения и не дает наслаждаться теперешней спокойной жизнью.
Он стал требовать, чтобы я ему сказала, какое это обстоятельство. Я отвечала, что не могу этого сделать, что, пока тайна скрыта от него, я одна несчастна, но если он также ее узнает, то мы оба станем несчастны, и что, следовательно, держать его в неизвестности — лучшее, что я могу делать; в этом единственная причина, почему я не решаюсь открыть ему эту тайну, хотя моя скрытность, я убеждена, рано или поздно приведет меня к гибели.
Невозможно передать, как он был поражен моими словами и с какой настойчивостью стал добиваться от меня признания. Он сказал, что меня нельзя назвать любезной и даже верной женой, если я так от него таюсь. Я отвечала, что тоже так думаю и все же не могу решиться на признание. Тогда он вернулся к фразе, которая вырвалась у меня раньше, и выразил надежду, что эта тайна не имеет никакого отношения к тогдашним моим словам: он решил предать их забвению, как гневную вспышку. Я сказала, что тоже желала бы забыть свои слова, но не в силах этого сделать, так как они оставили во мне слишком глубокое впечатление.
Он мне сказал тогда, что решил не вступать ни в какие пререкания со мной, не будет больше докучать мне своими расспросами и готов примириться со всем, что я сделала и сказала; он только просит меня обещать, что моя тайна никогда не нарушит нашего покоя и не отразится на наших добрых отношениях.
Это было самое досадное, что он мог мне сказать, ибо, говоря по правде, я желала, чтобы он продолжал приставать ко мне и заставил наконец признаться в том, что камнем лежало у меня на сердце. Поэтому я чистосердечно заявила, что меня не очень обрадовало его обещание не приставать ко мне, хотя я и не знаю, как мне исполнить его просьбу.
— Но посмотрим, мой друг, — сказала я ему, — согласитесь ли вы принять условия, на которых я вам открою эту тайну.
— Соглашусь на все условия в мире, если они разумны.
— Хорошо, дайте мне подписку, что в случае, если вы не найдете за мной вины и убедитесь, что я являюсь лишь невольной причиной ожидающих нас несчастий, вы не станете меня порицать, подвергать оскорблениям или делать ответственной за вещи, происшедшие не по моей вине.
— Да ведь это разумнейшая просьба на свете: не порицать за то, в чем вы не виноваты! Принесите мне перо и чернила.
Я тотчас же побежала за пером, чернилами и бумагой, он написал условие, как мы договорились, и подписался под ним.
— Извольте, — говорит, — что еще прикажете сделать, дорогая моя?
— Вы не должны меня бранить, что я не открыла вам тайны до того, как сама узнала ее.
— Опять вы совершенно правы, обещаю вам от всего сердца. — И он подписался также и под этим условием.
— Теперь, мой друг, — говорю, — мне остается поставить вам только одно условие, именно: так как это дело не касается никого, кроме меня и вас, то вы не должны открывать его никому на свете, за исключением вашей матери; и поскольку я замешана в этом деле в такой же степени, как и вы, хотя так же, как и вы, невинна, вы не должны поддаваться гневу после моего признания, не должны предпринимать без моего ведома и согласия ничего такого, что пошло бы во вред мне или вашей матери.
Это немного удивило его, он четко записал произнесенные мной слова, но много раз их перечитывал перед тем, как подписать, колебался и повторял: «Во вред моей матери! Во вред вам! Что за чудеса!» — однако в конце концов подписался.
— Спасибо, мой друг, — говорю, — больше мне не нужно от вас письменных обещаний, но так как вам предстоит сейчас услышать о самом неожиданном и поразительном событии, которое когда-либо случалось в какой-нибудь семье, то прошу вас дать мне слово, что вы примете мои слова хладнокровно, сохранив присутствие духа, как подобает рассудительному человеку.
— Сделаю все возможное, — говорит, — при условии, что вы перестанете томить меня: я до смерти напуган всеми этими предисловиями.
— Слушайте же, — говорю, — помните, я вам когда-то сказала в сердцах, что не являюсь вашей законной женой и что наши дети незаконные; теперь же спокойно, но с большим огорчением должна вам сообщить, что я ваша родная сестра, а вы мой родной брат и что оба мы дети нашей доныне здравствующей матушки, которая находится в этом доме и знает, что я говорю чистую правду.
Увидя, что он бледнеет и взгляд его становится диким, я сказала:
— Вспомните о своем обещании и сохраните присутствие духа: ведь вы не можете меня упрекнуть, что я недостаточно подготовила вас.
Все же я позвала слугу и велела подать мужу рюмку рому (самое употребительное в тех местах подкрепляющее средство), потому что он терял сознание. Когда он немного оправился, я сказала:
— История эта, как вы сами понимаете, требует длинного объяснения; запаситесь же терпением и приготовьтесь выслушать ее до конца, я постараюсь быть краткой.
И я рассказала ему все, что сочла нужным, остановившись подробно на том, что узнала от матери.
— Теперь, друг мой, — закончила я, — вы понимаете, почему я поставила вам условия, видите, что я неповинна и не могла быть повинна в этом несчастье и что я ничего не знала о нем раньше.
— Вполне в этом уверен, — ответил он, — но ваше открытие поразило меня как громом. Однако я знаю средство, как поправить дело и положить конец всем вашим затруднениям, так что вам не придется уезжать в Англию.
— Ваше средство, должно быть, не менее удивительно, чем все остальное, — сказала я.
— Нет, нет, ничего не может быть проще. Я один всему помеха.
Он произнес эти слова с каким-то странным выражением, но я не придала им веры, будучи вполне согласна с распространенным мнением, что люди, совершающие подобные вещи, никогда о них не говорят, а кто говорит о них, никогда их не совершает.
Но горе его еще не достигло предела; я заметила, что он становится задумчивым и печальным, словом, как мне показа ось, мысли его начинают путаться. Я старалась успокоить его, посвящая в придуманный мной план действий, и иногда он держался мужественно и давал мне дельные ответы, но горе угнетало его, и он дошел до того, что дважды покушался на свою жизнь, причем раз чуть не удавился; если бы вовремя не вошла в комнату мать, все было бы кончено, но с помощью слуги-негра мать разрезала веревку и привела его в чувство.
Жизнь у нас в доме шла теперь очень печально. Жалость к мужу начала оживлять во мне чувство, которое я прежде питала к нему, и всеми доступными способами я искренно искала примирения; однако мое признание, видно, подействовало на его умственные способности, он заболел и стал чахнуть, хотя болезнь его, к счастью, оказалась не смертельной. В этом ужасном положении я не знала, что предпринять; казалось, что дни его сочтены, а значит, я могла бы снова очень выгодно выйти замуж, если бы осталась в тех местах, но душа моя тоже не знала покоя; мне страстно хотелось вернуться в Англию, без этого мне жизнь была не мила.
Наконец мой муж, которому становилось все хуже и хуже, уступил моим неустанным просьбам и дал согласие; теперь дорога была для меня открыта, и при содействии матери я запаслась к отъезду хорошими товарами.
Расставаясь с братом (так я должна теперь называть его), я с ним условилась, что по моем прибытии на родину он пустит здесь слух, будто получил известие о моей смерти, и сможет, таким образом, жениться, если пожелает. Он обещал относиться ко мне впредь по-братски и помогать мне до самой моей смерти, а если он умрет раньше, то оставит матери достаточно средств, чтоб ока могла оказывать мне поддержку как его сестре; и кое-что он сделал для меня, когда я его о том попросила, но это вышло так неловко, что доставило мне немало огорчений, как вы узнаете в свое время.
Я уехала в Англию в августе после восьмилетнего пребывания в той стране; теперь меня ожидали новые испытания, столь горькие, что немногим женщинам довелось испытать что-нибудь подобное.
Плавание наше было довольно счастливым до самых берегов Англии, которых мы достигли через тридцать два дня, но тут нас два или три раза потрепало бурями: одна из них пригнала наш корабль к берегам Ирландии, и мы пристали в Кинсейле. Там мы стояли тринадцать дней и, запасшись кой-каким провиантом, снова вышли в море и снова попали в бурю, которая сломала нашу грот-мачту, как говорят на морском языке. Но в конце концов мы бросили якорь в Милфорде[29], в Уэльсе. Хотя оттуда было далеко до места нашего назначения, однако, почувствовав под ногами твердую почву Британии, я решила больше не доверяться морю, оказавшему мне такой недружелюбный прием, поэтому, выгрузив на берег свои пожитки и взяв с собой деньги, накладные и другие бумаги, я отправилась в Лондон сухим путем, предоставив кораблю без меня продолжать свое плавание: местом его назначения был Бристоль[30], где жил главный контрагент моего брата.
Через три недели я приехала в Лондон, где скоро получила известие, что корабль прибыл в Бристоль, но в то же время, к своему прискорбию, узнала, что из-за жестокого шторма и потери грот-мачты он получил серьезные повреждения и значительная часть груза испорчена.
Я очутилась теперь в новой обстановке, которая казалась очень неприветливой. Я уехала, распрощавшись с семьей навсегда. Груз, который я привезла с собой, представлял бы, правда, крупную ценность, если бы был доставлен в исправности, и при помощи вырученных за него денег я могла бы прилично выйти замуж, но теперь все мое состояние сводилось к двум— или тремстам фунтам, и не было никакой надежды на его прирост. Я не имела ни одного друга, больше того, ни одного знакомого, так как считала совершенно невозможным возобновлять прежние знакомства; что же касается ловкой подруги, которая когда-то выдала меня за богатую невесту, то, как мне удалось выяснить, не называя себя, она умерла, и ее муж тоже.
Забота о привезенных мной товарах вскоре заставила меня предпринять поездку в Бристоль, и во время хлопот по этому делу я часто развлечения ради наезжала в Бат[31]: я была еще далеко не стара, и нрав у меня каким был веселым, таким и остался; лишившись средств и ставши в некотором роде искательницей приключений, я ожидала какого-нибудь счастливого случая, который поправил бы мои дела, как это бывало в прежнее время.
Бат — место элегантное, дорогое, где на каждом шагу ловушки. Я ездила туда, по правде говоря, с единственной целью поискать, не подвернется ли там что-нибудь, но заявляю чистосердечно, что намерения у меня были самые честные, и мысли мои в первое время вовсе не были обращены на путь, по которому я позволила направить себя впоследствии.
В Бате я оставалась весь сезон[32], как там принято говорить, и завязала несколько неудачных знакомств, которые скорее толкнули меня на безрассудства, позднее совершенные мной, чем удержали от них. Я жила в свое удовольствие, принимала хорошее общество, то есть веселое и изысканное; но с прискорбием обнаружила, что этот образ жизни грозит мне разорением и что при отсутствии твердого дохода трата основного капитала является опасным кровопусканием. Впрочем, я старалась прогнать эти грустные мысли и ласкала себя надеждой, что еще подвернется благоприятный случай.
Но я избрала для этого очень неудачное место. Я была теперь не в Редриффе, где стоило мне прилично обосноваться, и какой-нибудь солидный капитан или другой мужчина с положением мог бы попросить моей руки; я была в Бате, где мужчины находят иногда любовницу, но очень редко ищут жену; потому все частные знакомства, на которые женщина может там рассчитывать, всегда бывают такого рода.
Начало сезона я провела недурно: хотя и завела знакомство с одним господином, приехавшим в Бат развлекаться, но не соглашалась ни на какие низкие сделки. Я отклонила несколько случайных предложений и действовала довольно ловко. Я не была настолько развращена, чтобы вступить на путь порока из одной любви к нему, а с другой стороны, ни одно из сделанных мне предложений не соблазняло меня, так как не отвечало главной моей цели.
В течение этого времени я сблизилась также с женщиной, у которой поселилась; нельзя сказать, чтобы она держала публичный дом, однако была чужда каких-либо нравственных правил. Я вела себя у нее так хорошо, что на мое доброе имя не легло ни пятнышка, и все мужчины, с которыми я водилась, были настолько безупречны, что я не навлекла на себя ни малейшего нарекания; никто из них, по-видимому, не думал, что ко мне можно обратиться с легкомысленным предложением. Правда, упомянутый мной господин постоянно дарил меня своим вниманием и развлекался в моем обществе, которое, он говорил, было ему очень приятно, но дальше этого у нас в то время не заходило.
Я провела много тоскливых часов в Бате, после того как все общество разъехалось; правда, мне приходилось бывать иногда в Бристоле по делам и для получения денег, однако я каждый раз возвращалась в Бат, предпочитая оставаться там, так как благодаря моей дружбе с хозяйкой, у которой я жила летом, мне представилась возможность устроиться у нее на зиму дешевле, чем где-либо в другом месте. Там, повторяю, я провела зиму так же скучно, как весело провела осень. Но, сойдясь ближе со своей хозяйкой, я не могла не поделиться с ней удручавшими меня заботами и сообщила ей, как туго у меня с деньгами. Я сказала ей также, что у меня есть мать и брат в Виргинии, люди с достатком, и так как я действительно написала матери, в какое попала положение и какие понесла убытки вследствие несчастья с кораблем, то не преминула сообщить своей новой приятельнице, что ожидаю от родных помощи, как это было на самом деле; а так как рейс из Бристоля в реку Йорк в Виргинии и обратно требовал обыкновенно меньше времени, чем рейс из Лондона, и мой брат вел дела преимущественно с Бристолем, то я предпочитала ожидать ответа здесь, не уезжая в Лондон.
Моя новая приятельница отнеслась ко мне очень участливо и была настолько добра, что сильно сбавила мне плату за стол на зиму, сказав, что не хочет брать с меня больше, чем сама тратит; за помещение же зимой я вовсе не платила.
Наступление весеннего сезона нисколько не отразилось на ее любезном отношении ко мне, и я жила у нее некоторое время, пока обстоятельства мои не изменились. В ее доме обыкновенно останавливались несколько важных особ, в частности тот господин, которому так понравилось мое общество осенью; он приехал теперь с другим господином и двумя слугами и поселился в том же доме. Я подозреваю, что моя хозяйка пригласила его, дав ему знать, что я все еще живу у нее, но она отрицала это, и он тоже.
Словом, этот господин снова приехал в Бат и по-прежнему отличал меня своим вниманием. Он был настоящий барин, и его общество, должна сознаться, было столь же приятно мне, как мое общество ему, если верить его словам. Он обращался со мной необыкновенно почтительно и был такого высокого мнения о моей добродетели, что ему казалось, как он часто заявлял мне, я с презрением отвергла бы всякие его домогательства. Он скоро узнал от меня, что я вдова, что я приехала в Бристоль из Виргинии на последнем корабле и ожидаю в Бате прихода ближайшего каравана судов из Виргинии, с которым рассчитываю получить крупный груз. Я, в свою очередь, узнала от него, что он женат, но что его супруга сошла с ума и находится под надзором своих родных, на который он дал согласие, чтобы избегнуть всяких упреков (вполне обычных в таких случаях) в том, что не старался ее лечить; теперь он приехал в Бат отдохнуть от этой невеселой домашней обстановки.
Моя хозяйка, по собственному почину всячески поощрявшая наше знакомство, дала мне самый лестный отзыв об этом господине, сказав, что он человек благородный, доброжелательный, с большим состоянием. У меня были все основания верить этому: несмотря на то, что мы жили бок о бок и он часто заходил в мою комнату даже когда я была в постели, а равным образом и я заходила к нему, никогда он не отваживался больше чем на поцелуй и ничего иного не просил у меня, по крайней мере, до поры до времени, о чем я расскажу после.
Я часто обращала внимание моей хозяйки на необычайную скромность моего поклонника, и она мне отвечала, что это ее нисколько не удивляет, так как господин этот всегда отличался скромным поведением, с тех пор как она его знает; все же ей кажется, что я должна ожидать от него какой-нибудь вещественной благодарности за то, что он постоянно проводит время со мной, — а он действительно ходил за мной по пятам. Я на это сказала, что не давала ему ни малейшего повода думать, будто я в этом нуждаюсь или хочу принять от него подарок. Тогда она обещала взять это дело на себя и так ловко все устроила, что в первый же раз, как мы остались наедине после разговора с ним моей хозяйки, он стал меня расспрашивать о моих делах, на какие средства я живу с тех пор как приехала сюда и не нуждаюсь ли в деньгах. Я приняла очень независимый вид, сказала, что хотя мой груз табаку попорчен, однако он не погиб целиком, что купец, которому я сдала свой товар, обошелся со мной честно, так что я не испытываю нужды в деньгах и надеюсь при экономном образе жизни продержаться до получения новых товаров, которых ожидаю с ближайшим кораблем, а до тех пор урезала свои расходы; в прошлом сезоне я держала прислугу, теперь же обхожусь одна; тогда у меня была столовая и спальня во втором этаже, теперь же только одна комната в верхнем этаже, и так далее. «Но я ничуть не жалуюсь», — сказала я, прибавив, что благодаря его обществу мне гораздо веселее, чем раньше, за что я очень ему признательна; таким образом, я дала понять, что в настоящее время не нуждаюсь в помощи.
Однако вскорости он снова взялся за меня, сказав, что я, видно, не доверяю ему и не хочу посвятить в свои дела, чем он очень огорчен, так как, по его словам, расспрашивает меня не из любопытства, а чтобы помочь мне, если представится случай. Но раз я не хочу признаться, что нуждаюсь в помощи, он просит меня только об одном: обещать ему, что если я попаду в стесненное положение, то откровенно ему признаюсь в этом и так же непринужденно обращусь к нему за помощью, как он мне предлагает ее; и он закончил свою речь уверением, что я всегда найду в нем преданного друга, хоть, может быть, и боюсь довериться ему.
Со всей учтивостью, подобающей человеку бесконечно обязанному, я ему сказала, что глубоко тронута его любезностью, и действительно, с этого времени я перестала чиниться, как раньше, хотя мы и не переступали границ самой строгой добродетели; но, несмотря на непринужденность наших отношений, я все не могла набраться храбрости и сказать, что нуждаюсь в деньгах, хотя втайне была очень рада его предложению.
Прошло еще несколько недель, а я ни разу не попросила у него денег; тут моя хозяйка, хитрая женщина, часто подбивавшая меня на этот шаг, но видевшая, что я на него неспособна, сочиняет небылицу и, когда мы были вдвоем, врывается ко мне с криком:
— Ох, вдовушка! Дурные у меня для вас вести!
— Что такое? Уж не захвачены ли французами корабли из Виргинии?
Этого я больше всего боялась.
— Нет, нет, — говорит она, — но человек, которого вы послали вчера в Бристоль за деньгами, вернулся и сказал, что ничего не привез.
Мне очень не понравилась ее выдумка: по-моему, она сильно смахивала на вымогательство, в котором не было никакой нужды, и я смекнула, что ничего не потеряю, отказавшись участвовать в этой игре, поэтому я резко ее оборвала:
— Не могу понять, с чего он несет такой вздор! Уверяю вас, он принес мне все деньги, за которыми я его посылала; вот они, — проговорила я, вынимая кошелек, в котором было около двенадцати гиней. — К тому же, — добавила я, — я собираюсь вскоре отдать вам большую часть этих денег.
Мой поклонник был, по-видимому, подобно мне, недоволен ее вмешательством, найдя, как мне кажется, что она слишком много себе позволяет; однако, услышав мой ответ, тотчас успокоился. На следующее утро мы возобновили разговор на эту тему, и он остался вполне удовлетворен. Он с улыбкой выразил надежду, что я ему непременно скажу, как обещала, когда буду нуждаться в деньгах. Я ответила, что мне была очень неприятна вчерашняя выходка моей хозяйки, позволившей себе так грубо вмешаться в дела, которые ее не касаются но должно быть, сказала я, она хотела получить с меня долг, что-то около восьми гиней, который я решила отдать ей и действительно отдала в тот же вечер.
Он страшно обрадовался, узнав, что я расплатилась с хозяйкой, затем мы стали говорить о чем-то другом; но на следующее утро, услышав, что я встала раньше его он позвал меня, и я откликнулась. Он попросил меня войти к нему в комнату; когда я вошла, он был еще в постели[33] и пригласил меня подойти ближе и сесть к нему на кровать, так как ему нужно со мной поговорить. После нескольких любезностей он спросил, согласна ли я честно и искренне ответить на один только вопрос, который он хочет задать мне. Поспорив немного насчет слова «искренне» и спросив, давала ли я ему когда неискренние ответы, я выразила свое согласие. После этого он попросил меня показать мой кошелек. Я тотчас же сунула руку в карман и со смехом вынула оттуда кошелек, в котором было три с половиной гинеи. Тогда он спросил, все ли это мои деньги. Снова рассмеявшись, я ответила ему: «Нет, далеко не все».
В таком случае он просит принести ему все мои деньги до последнего фартинга. Я согласилась, пошла в свою комнату, принесла ему потайной ящик, где у меня было еще шесть гиней и немного серебра, высыпала все эти деньги на постель и сказала, что это все мое богатство, больше нет ни шиллинга. Он взглянул на деньги, но не стал их считать, а бросил опять в ящик; потом вынул из кармана ключ и велел мне открыть шкатулку из орехового дерева, стоявшую у него на столе, взять оттуда ящичек и принести ему, что я и сделала. В этом ящичке было много золотых монет — я думаю, около двухсот гиней, но сколько в точности, не могу сказать. Поставив ящичек на кровать, он взял мою руку, вложил в ящичек и зачерпнул полную горсть золота; я противилась, но он крепко держал мою руку в своей и заставил взять столько гиней, сколько в ней поместилось.
Когда я это сделала, он велел мне высыпать все это золото в подол, а потом сам переложил в мой ящик, перемешав с теми деньгами, которые там были; после этого велел мне поскорее уходить и унести ящик в свою комнату.
Я передаю эту сцену так подробно потому, что она была исполнена веселья, а также, чтобы наглядно изобразить характер наших отношений. Вскоре после этого он стал каждый день находить изъяны в моих платьях, моих кружевах, моих чепцах и побуждал меня покупать лучшие, что, впрочем, вполне отвечало моим желаниям, хотя я и не показывала вида. Больше всего на свете я любила красивые платья; но я возразила, что мне нужно экономно расходовать деньги, полученные от него в долг, иначе я не смогу с ним расплатиться. Тогда он ответил в нескольких словах, что, так как он меня искренне уважает и знает мое стесненное положение, то смотрит на эти деньги как на подарок, который, по его мнению, вполне мной заслужен, так как я отдаю ему все свое время. После этого он уговорил меня взять служанку и вести хозяйство, а когда его друг уехал, предложил столовать его, на что я охотно согласилась, в полной уверенности, что ничего от этого не потеряю, да и хозяйка дома, в котором мы жили, тоже не осталась внакладе.
Так прожили мы около трех месяцев, и когда общество стало разъезжаться из Бата, мой поклонник тоже заговорил об отъезде, очень желая увезти меня в Лондон. Я была немного обеспокоена этим предложением, не зная, в каком положении я там окажусь и как он будет со мной обращаться. Но пока я над этим раздумывала, он сильно занемог; отправившись в одно местечко под названием Шептон, в Сомерсетшире, он так расхворался там, что не мог вернуться и прислал ко мне в Бат лакея с просьбой нанять карету и приехать к нему. Нужно сказать, что перед своим отъездом он поручил мне свои деньги и другие ценные вещи, и я не знала, что с ними делать; но я их припрятала, заперла квартиру на ключ, поехала к нему и действительно нашла его очень больным; я стала его убеждать, чтобы он позволил перенести себя на носилках в Бат, где легче было получить помощь и хорошего врача.
Он согласился, и я доставила его в Бат, до которого, насколько мне помнится, было пятнадцать миль. Так он пролежал в сильной горячке целых пять недель, и все это время я так заботливо за ним ухаживала, словно была его женой; в самом деле, если бы я была его женой, я бы не смогла сделать больше. Я так часто и подолгу сидела возле него, что в конце концов он мне это запретил; тогда я велела принести койку и ложилась на ней в ногах его кровати.
Я и в самом деле сильно тревожилась о его здоровье, очень боясь потерять такого друга, каким он был для меня и, несомненно, остался бы и впредь, и по целым часам плакала. Наконец ему стало лучше, появилась надежда на выздоровление, и действительно он стал поправляться, однако очень медленно.
Если бы дело обстояло иначе, а не так, как я собираюсь рассказывать, я не побоялась бы открыть правду, как делала это в других случаях; но я утверждаю, что в течение всего этого времени мы не позволили себе ни одного неприличного слова или поступка, если не считать, что я заходила к нему в комнату, когда он лежал в постели, и исполняла ночью и днем все обязанности сиделки, когда он был болен. О, если бы так продолжалось до самого конца!
Через несколько времени он окреп и стал быстро поправляться; я хотела было убрать свою койку, но он просил меня подождать, пока сможет обходиться без посторонней помощи, после чего я перебралась в свою комнату.
Он пользовался каждым случаем, чтобы выразить признательность за мое внимание, а когда поправился, преподнес мне в подарок пятьдесят гиней за мои заботы и за то, что ради его спасения я, как он выражался, рисковала своей жизнью.
И тут он торжественно заявил об искренней и ненарушимой любви ко мне, добавив, что превыше всего печется о моей добродетели и своей собственной. Я ему выразила за это глубокую благодарность. Тогда он стал уверять меня, что если бы даже он лежал со мной голый в постели, то и тогда столь же свято охранял бы мою добродетель, как стал бы защищать ее в случае посягательства на меня какого-нибудь насильника. Я нисколько в этом не сомневалась, о чем и сказала ему; но ему было еще мало; он сказал, что будет ждать случая, который позволил бы дать самое несомненное доказательство его искренности.
Много времени спустя мне понадобилось съездить по делам в Бристоль; мой поклонник нанял карету и пожелал сопровождать меня, тут наша близость действительно возросла. Из Бристоля он повез меня в Глостер[34], просто чтобы прокатиться и подышать воздухом; в тамошней гостинице нашлось только одно свободное помещение — большая комната с двумя кроватями. Хозяин гостиницы, показывавший нам комнаты, сказал напрямик моему спутнику:
— Сударь, не мое дело спрашивать, супруга ли вам эта дама или нет; если нет, вы можете так же прилично спать на этих двух кроватях, как если бы вы помещались в двух комнатах. И с этими словами он задернул большой занавес, разделив таким образом комнату на две отдельные спальни.
— Отлично, — поспешно проговорил мой друг, — кровати подходят. Что же касается остального, то мы слишком близкие родственники, чтобы спать вместе, хотя нам будет удобно поместиться рядом.
Таким образом, внешне все было благопристойно. Когда пришло время ложиться спать, мой спутник предупредительно вышел из комнаты и подождал, пока я разденусь, потом лег на другой кровати и долго разговаривал со мной.
Наконец, повторяя свое прежнее уверение, что он способен лежать со мной голый, не причиняя мне ни малейшей обиды, соскакивает с кровати со словами:
— Теперь, милая, вы убедитесь, как я буду с вами благороден и как умею держать свое слово, — и подходит к моей постели.
Я оказала небольшое сопротивление, но, должна признаться, не стала бы сильно сопротивляться ему, даже если бы он не давал никаких обещаний; итак, после небольшой борьбы я затихла и пустила его к себе в постель. Расположившись рядышком, он заключил меня в объятия и так пролежал со мной всю ночь, но он ничего мне не сделал и не пытался сделать, кроме того что обнял меня, как я уже сказала, так и прошла вся ночь; а наутро он встал и оделся, оставив меня такой же невинной по отношению к нему, как в тот день, когда я родилась на свет.
Я была очень поражена этим, как, наверное, поражены и другие, кто знает, как могущественны законы природы, ибо он был мужчина здоровый и пылкий. Поступил он так не из религиозных соображений, а единственно из любви ко мне, уверяя, что хотя я для него самая милая женщина на свете, однако он так меня любит, что неспособен меня обидеть.
Конечно, это был благородный поступок, но так как ничего подобного мне еще не случалось видеть, то я была совершенно озадачена. Остальную часть путешествия мы совершили таким же образом и вернулись в Бат, где, пользуясь правом заходить ко мне когда угодно, он часто проявлял ту же умеренность, и я не раз спала с ним; и хотя мы привыкли держаться друг с другом непринужденно, как муж и жена, однако он ни разу не покусился на что-нибудь большее и очень этим тщеславился. Не скажу, чтобы мне это слишком нравилось, потому что, признаться, я была гораздо более порочна, чем он.
Мы прожили так около двух лет, и за это время он лишь три раза отлучался в Лондон, где пробыл один раз четыре месяца, но, нужно отдать ему справедливость, исправно присылал мне деньги, так что я могла жить весьма прилично.
Если бы у нас так и продолжалось, то, несомненно, нам было бы чем похвастать; но правду говорят мудрые люди — не следует слишком близко подходить к краю пропасти. Мы в этом убедились на опыте; и тут я снова должна отдать ему справедливость — не он нарушил данное им слово. Однажды ночью мы лежали в постели, разгоряченные и навеселе, выпив, мне кажется, немножко больше обычного, хотя вовсе не столько, чтобы не помнить себя, и вот после нескольких дурачеств, которых я не могу назвать, я сказала, лежа в его объятиях (мне стыдно и противно писать об этом), что не прочь была бы освободить его от принятого им на себя зарока на одну только ночь, не больше.
Он тотчас же поймал меня на слове, и после этого мне было уже не до сопротивления, да, по правде говоря, я не испытывала большого желания сопротивляться.
Так совершилось наше грехопадение, и я променяла роль друга на негармоничное и неблагозвучное звание любовницы. Наутро мы оба стали каяться; я горько рыдала, он бранил себя за слабость, но это было все, что мы могли сделать; когда путь был расчищен и преграды добродетели и совести опрокинуты, нам почти не с чем было бороться.
Весь остаток этой недели мы провели в большом унынии, я не могла без краски на лице смотреть на него и то и дело сокрушалась: «Что, если я забеременею? Что будет со мной тогда?» Он меня ободрял, говоря, что, покуда я ему верна, он тоже останется мне верен; и раз у нас дошло до этого (к чему он, собственно, никогда не стремился), то, если я забеременею, он позаботится и обо мне, и о ребенке. После этого мы успокоились. Я ему поклялась, что если я забеременею, то скорее умру, не обратившись за помощью к повивальной бабке, чем выдам, кто отец ребенка; но он меня уверил, что я ни в чем не буду терпеть недостатка, если забеременею. Эти взаимные уверения заглушили в нас упреки совести, и мы стали предаваться греху, когда нам хотелось, пока наконец мои опасения не оправдались и я действительно не забеременела.
Убедившись в этом, я поделилась открытием со своим любовником, и мы стали обсуждать, какие нам принять меры по этому случаю; я предложила доверить тайну нашей хозяйке и спросить у нее совета, на что он дал согласие. Хозяйка, женщина (как я убедилась), привыкшая к подобным вещам, не придала большого значения событию, сказав, что давно его предвидела, и стала весело подшучивать над нами. Как я сказала, это была женщина весьма опытная в таких делах; она взяла на себя все хлопоты, обещала достать повитуху и мамку, замять дело и спасти нашу репутацию, что и исполнила с большой ловкостью.
Когда подошло время родов, она попросила моего любезного уехать в Лондон или для виду изобразить, будто уезжает. После этого она известила приходские власти, что в ее доме находится дама, у которой скоро начнутся роды, но она хорошо знает ее мужа и даже сообщила властям его имя — он будто бы звался сэр Уолтер Клив, — сказав, что это почтенный джентльмен, что она готова ответить на все расспросы, и тому подобное. Приходские власти вполне удовлетворились этими сведениями, и я преспокойно родила, как если бы была самой настоящей миледи Клив, при содействии трех или четырех именитых гражданок Бата, что, однако, потребовало некоторых дополнительных расходов от моего любовника. Я часто выражала ему свое огорчение по этому поводу, но он просил меня не беспокоиться.
Получив достаточно денег на экстренные расходы по случаю родов, я имела в избытке все необходимое, хотя не позволяла себе никакой роскоши и сумасбродств; кроме того, зная свет и зная, что подобное положение редко бывает прочным, я предусмотрительно отложила побольше денег про черный день, уверив своего покровителя, что все ушло на непредвиденные расходы во время родов.
Благодаря этому, встав с постели, я имела в своем распоряжении вместе с деньгами, которые он подарил мне раньше, двести гиней, включая сюда и остаток собственных сбережений. Я родила прелестного ребенка, красивого мальчика, и когда любовник мой узнал об этом, он написал мне очень любезное и обязательное письмо, а потом сказал что, по его мнению, мне лучше будет переехать в Лондон, как скоро я встану с постели и поправлюсь, что он приготовил для меня квартиру в Хаммерсмите[35], как будто я переезжаю туда из Лондона, и что через некоторое время я могу вернуться в Бат, и он поедет со мной. Его предложение мне очень понравилось, я наняла карету и, захватив с собой ребенка и кормилицу, а также горничную, отправилась в Лондон.
Он встретил меня в Рединге[36], в собственной коляске, куда пригласил меня перейти, оставив служанок и ребенка в наемной карете, и так я приехала в свою новую квартиру в Хаммерсмите, которой осталась как нельзя более довольна, потому что она действительно была прекрасно обставлена.
Теперь я достигла, можно сказать, вершины благополучия и ничего больше не желала, как стать законной женой, что, однако, было неосуществимо в нашем положении; поэтому я при всяком удобном случае старалась приберечь, что можно, на более суровые времена, прекрасно зная, что такое блаженство не вечно и что мужчины, которые обзаводятся любовницами, часто меняют их от пресыщения, ревности и по иным причинам; иногда сами дамы, попавшие в столь хорошие условия, мало заботятся о том, чтобы скромным поведением сохранить к себе уважение, а также блюсти верность своим покровителям, отчего те с заслуженным презрением их бросают.
Но мне эта опасность не грозила, потому что я не имела никакой склонности к переменам; у меня вовсе не было знакомств, а значит, и искушения искать чего-нибудь новенького. Я водилась только с семьей, у которой жила, и с женой одного священника из соседнего дома; таким образом, в отсутствие моего любовника я никуда не ходила в гости, и когда бы он ни пришел ко мне, сидела у себя в спальне или гостиной, а если выходила прогуляться, то всегда вместе с ним.
Этот образ жизни и наши отношения установились как-то сами собой; он часто заявлял, что вплоть до той ночи, когда мы впервые нарушили наш уговор, у него никогда и в мыслях не было вступать со мной в связь, что он всегда питал искреннюю привязанность ко мне, но не чувствовал ни малейшего желания делать то, что он сделал. Я стала уверять, что никогда не подозревала его в этом, и если бы у меня были такие подозрения, я бы не пошла так далеко на вольности, кончившиеся нашим грехопадением; оно совершилось неожиданно и объясняется тем, что мы слишком поддались в ту ночь взаимному влечению. И действительно, я часто замечала с тех пор — и пусть это служит предостережением читателям этой повести, — что мы не должны потворствовать распутным и порочным наклонностям, иначе все наши благие решения пойдут прахом как раз тогда, когда нам больше всего необходима их поддержка.
Правда, с первой же нашей встречи я решила позволить ему вступить в связь со мной, если бы он пожелал, но объяснялось это тем, что я нуждалась в его помощи и не знала другого способа удержать его. Однако в ту ночь, когда у нас зашло так далеко, я обнаружила слабость и неспособность противиться влечению: я пошла на все уступки прежде даже, чем он попросил меня.
Впрочем, мой любовник был настолько благороден, что никогда не укорял меня за это и вообще никогда не выражал ни малейшего недовольства моим поведением, а, напротив, заявлял, что он в таком же восхищении от моего общества, как и в первый час нашего знакомства.
Правда, у него не было жены, или, вернее, его жена перестала быть женой, но угрызения совести часто вырывают мужчину, особенно мужчину благоразумного, из объятий любовницы, что в конце концов случилось и с моим любовником, хотя много позднее.
С другой стороны, хотя и у меня бывали тайные угрызения совести по поводу моего образа жизни, даже когда я находилась на вершине благополучия, однако грозная картина нищеты и голода стояла передо мной страшным призраком, не позволяя оглядываться назад; но если бедность привела меня на этот путь, то ужас перед бедностью удерживал на нем, и я часто решала бросить все, как только мне удастся накопить достаточно денег, чтобы содержать себя самостоятельно. Все это были, однако, пустые мечтания, исчезавшие при первой встрече с любовником; общество его было так приятно, что в его присутствии я не могла оставаться печальной, грустные размышления овладевали мной лишь в те часы, когда я бывала одна.
Я прожила шесть лет в этом счастливом и несчастном положении, родив ему за это время троих детей, из которых только первый мальчик остался жив; за эти шесть лет я дважды переезжала, но на шестой год вернулась на свою первую квартиру в Хаммерсмите. Там я однажды утром неожиданно получила от своего друга нежное, но печальное письмо, в котором он извещал меня, что тяжело захворал и боится осложнения болезни, и так как с ним живут родные его жены, то мне невозможно будет приходить к нему; он выражал свое крайнее огорчение по этому поводу, так как ему хотелось, чтобы я ухаживала и присматривала за ним, как во время первой болезни.
Я очень встревожилась и горела нетерпением узнать, что с ним. Прошло две недели, а я все не получала никаких известий, чем была очень поражена, и тревога моя возросла еще больше. Право, мне кажется, что в течение следующих двух недель я была близка к сумасшествию. Больше всего меня смущало то, что я не знала в точности его местопребывания; сперва я поняла, что он находится у своей тещи; однако, приехав в Лондон и справившись по адресу, по которому отправляла ему письма, я скоро выяснила, что он со своей семьей переехал в Блумсбери[37] и что в том же доме живут его жена и теща, хотя от жены скрывают, что она находится под одной кровлей со своим мужем.
Там я скоро узнала также, что он в крайне тяжелом положении, и решила во что бы то ни стало добиться правды. Однажды вечером я придумала перерядиться горничной, надела круглый чепчик и соломенную шляпку и направилась к его дому как бы от одной дамы, жившей с ним по соседству; засвидетельствовав почтение хозяевам, я сказала, что послана узнать, как здоровье господина и как он почивал сегодня ночью. Передавая это поручение, я разузнала все, что мне было нужно; разговорилась с одной служанкой, которая подробно рассказала мне про болезнь своего барина; у него был плеврит с кашлем и лихорадкой. Она мне сообщила также, кто живет в этом доме и как здоровье барыни, которой, по словам горничной, теперь лучше и есть надежда, что к ней вернется рассудок; но что касается самого барина, то доктора признали его положение почти безнадежным; утром все думали, что он при смерти, и с тех пор не заметно почти никакого улучшения; вряд ли он доживет до утра.
Тяжелые это были для меня вести; я видела, что приближается конец моего благополучия; хорошо, что я так экономно тратила деньги и припасла кое-что, пока он был жив и здоров, ибо теперь я положительно не представляла, откуда мне дальше добывать средства к существованию.
Тяжелым бременем лежал у меня на сердце мой сын, красивый милый мальчик пяти лет, ничем не обеспеченный, насколько мне было известно. С этими грустными мыслями вернулась я домой и стала прикидывать, что мне делать и как теперь доживать свою жизнь.
Само собой разумеется, я не могла успокоиться, не разузнав, что сталось с моим любовником; не решаясь пойти к нему вторично, я посылала других осведомляться о его здоровье и недели через две узнала, что появилась надежда на выздоровление, хотя был он еще очень плох; тогда я перестала посылать за известиями и через некоторое время услышала от соседей, что он уже встает с постели, а вскоре после этого — что он выходит из дома.
Тогда я исполнилась уверенности, что вот-вот получу от него весточку, и начала бодрее смотреть на свое положение, думая, что он поправится. Ждала я неделю, две; прождала, к своему великому удивлению, почти два месяца, но услышала лишь, что, поправившись, он уехал в деревню подышать после болезни свежим воздухом. Прошло еще два месяца, и я узнала, что он вернулся в город, но по-прежнему не получала от него никаких известий.
Я написала ему несколько писем, адресовав их, как обычно, но узнала, что только два или три были востребованы, а за остальными никто не приходил. Я написала снова, в более резких словах, предупреждая, что вынуждена буду явиться к нему сама; я изобразила свое положение в самых мрачных красках: нужно платить за квартиру, ребенок не обеспечен, да и я лишена всякой поддержки после его торжественного обещания заботиться обо мне и содержать меня. Я сняла копию с этого письма и, узнав, что уже целый месяц никто за ним не является, устроила так, чтобы ему вручили эту копию в одной кофейне, где, как я выяснила, он часто бывал.
Это письмо вынудило у него ответ, из которого я поняла, что буду брошена, но узнала также, что он послал мне несколько времени тому назад письмо с просьбой вернуться в Бат. Содержание этого письма я изложу ниже.
Нужно сказать, что на одре болезни такие отношения, как те, что установились между нами, расцениваются иначе; мы смотрим на них другими глазами, чем раньте.
Мой любовник стоял на пороге смерти, на самом краю вечности, и, по-видимому, в нем заговорила совесть, зашевелились мрачные мысли по поводу прошлой, беспутной и ветреной жизни; в частности, преступная связь со мной, которая была не чем иным, как тянувшимся долгие годы прелюбодеянием, представилась ему в истинном свете, а не так, как рисовалась прежде, и он смотрел теперь на нее со справедливым и набожным отвращением.
Не могу здесь не заметить в назидание моему полу, что искреннее раскаяние в таком преступлении всегда сопровождается ненавистью к соучастнице, и эта ненависть тем сильнее, чем более пылкой была любовь. Так всегда будет; иначе и быть не может; искреннее отвращение к преступлению не может совмещаться с любовью к той, кто была его причиной.
Так случилось и на этот раз, хотя благовоспитанность и благородство этого господина удержали его от крайностей. Вот краткий рассказ о том, как он поступил в этом деле. Поняв из последнего письма, что я не уехала в Бат и что его первое письмо не дошло до меня, он написал мне следующее:
«Сударыня!
Я удивлен, что мое письмо от 8-го числа прошлого месяца не попало в Ваши руки; клянусь Вам, что оно было вручено Вашей горничной.
Не буду Вам рассказывать, в каком состоянии я находился несколько времени тому назад и как, ступив уже на самый край могилы, я благодаря неожиданной и незаслуженной милости Неба снова вернулся к жизни. Вас не должно поражать, что в моем тогдашнем состоянии наша несчастная связь тяжелее всего угнетала мою совесть. Больше я не скажу об этом ни слова; поведение, в котором следует раскаяться, следует также изменить.
Я желал бы, чтобы Вы подумали о возвращении в Бат. Прилагаю к этому письму билет в пятьдесят фунтов, чтобы Вы могли рассчитаться за квартиру и оплатить свою поездку. Надеюсь, Вы не будете удивлены, если я прибавлю, что лишь по этой причине, а вовсе не вследствие какой-либо Вашей вины я не могу больше Вас видеть. Беру на себя все заботы о ребенке, оставите ли Вы его здесь или возьмете с собой, — как Вам будет угодно. Желаю, чтобы и Вы задумались над всем случившимся и чтобы Ваши размышления пошли Вам на пользу.
Остаюсь и т.д.».
Письмо это пронзило меня, как тысяча ножей; не могу передать, какие на меня нахлынули угрызения совести, потому что я не была слепа к своему преступлению; мне казалось, что меньшим грехом было продолжать связь с родным братом, так как, по крайней мере, наш брак не был преступлением, поскольку мы не знали о своем родстве.
Но мне ни разу не пришло в голову, что я была замужней женщиной, женой мистера***, торговца полотном, который хотя и покинул меня в силу несчастных обстоятельств, однако не мог расторгнуть заключенный нами брачный договор или дать мне законное право вновь выйти замуж, так что все это время я была не более чем шлюхой и прелюбодейкой. И я корила себя за допущенные вольности и за то, что послужила ловушкой для этого господина и была главной виновницей совершенного нами преступления; теперь, милостью Божией, он был вырван из пропасти, совесть в нем заговорила, я же, точно забытая Богом и покинутая Небом, попрежнему оставалась на пути беззакония.
Целый месяц меня угнетали эти печальные размышления, и я не вернулась в Бат; я не чувствовала охоты встретиться с женщиной, у которой жила перед этим, боясь, как бы она снова не толкнула меня на путь порока; кроме того, мне очень не хотелось признаваться ей, что я брошена.
Я была в большом недоумении, как поступить со своим мальчиком. Расстаться с ним казалось мне смертью, и все же, когда прежде у меня возникали опасения, что рано или поздно я буду покинута и лишена возможности его содержать, я подумывала о том, чтобы бросить его; но в конце концов пришла к решению оставаться возле него, чтобы любоваться им, не неся, однако, никаких расходов по его содержанию.
Поэтому я послала покинувшему меня любовнику коротенькое письмо, в котором соглашалась повиноваться ему во всем, кроме возвращения в Бат, чего не могу сделать по многим причинам; хотя разлука с ним, писала я, является для меня ударом, от которого я никогда не смогу оправиться, но я вполне убеждена в справедливости его решения и нисколько не желаю служить помехой его исправлению и раскаянию.
Потом я в самых мрачных красках изобразила ему собственное положение. Я выразила надежду, что мои бедствия, побудившие его когда-то предложить мне великодушную и благородную дружбу, и теперь вызовут в нем некоторое участие, тем более что с преступной стороной наших отношений, о которой, мне кажется, никто из нас не помышлял вначале, у нас покончено; сказала, что желаю раскаяться так же искренне, как и он, но умоляю его обеспечить меня, иначе мне трудно будет устоять против соблазна, который дьявол всегда ставит на пути тех, кому грозят горе и нищета, а если он боится, что я его стесню, то пусть даст мне возможность вернуться к матери в Виргинию, откуда, как ему известно, я приехала, и, таким образом, будет положен конец всем его страхам на этом счет. В заключение я просила его прислать еще пятьдесят фунтов на расходы по отъезду, обещая дать ему взамен письменный отказ от всяких претензий и ничем больше его не беспокоить, кроме как вопросами о здоровье нашего сына, за которым я тотчас же пришлю, если застану в живых свою мать и сколько-нибудь сносно устроюсь, и, таким образом, сниму с него и эту обузу.
Все это я, конечно, выдумала — относительно своего намерения уехать в Виргинию; безрассудность этой поездки ясна каждому после моего рассказа о том, что у меня там случилось; но мне нужно было как-нибудь вытянуть у своего любовника эти пятьдесят фунтов, ибо я хорошо знала, что они будут последним грошом, на какой я могу рассчитывать.
Тем не менее средство, которое я пустила в ход, обещав дать ему письменный отказ и ничем больше его нс беспокоить, оказало должное действие, и мой бывший любовник прислал мне чек на эту сумму с доверенным человеком, который принес мне также для подписи бумагу с отказом от всех претензий, и я охотно ее подписала. Так был положен конец нашим отношениям, хотя и совершенно против моей воли.
Не могу не высказать здесь своего суждения относительно несчастных последствий слишком большой свободы в отношениях между мужчиной и женщиной под предлогом невинных намерений, дружбы и т.п., ибо плоть играет обыкновенно такую большую роль в подобного рода дружбе, что естественное влечение всегда возьмет верх над любыми зароками, и грех торжествует там, где пробита брешь в приличиях, которые истинно невинная дружба должна соблюдать с величайшей строгостью. Однако пусть читатели сами поразмыслят над этими вещами, что им больше пристало, чем мне, ибо я скоро позабыла все эти мудрые соображения, а следовательно, читать мораль мне не к лицу.
Теперь я снова была вольной птицей, как вправе себя назвать; была свободна от всех обязательств и замужней женщины и любовницы, если не считать мужа — торговца полотном, о котором я ничего не слышала уже почти пятнадцать лет, так что никто не мог бы меня упрекнуть в пренебрежении к моим обязанностям; особенно принимая во внимание слова, сказанные им перед отъездом, что в случае, если я перестану получать от него известия, я могу считать его мертвым и вправе буду выйти замуж за кого угодно.
Теперь я занялась своими денежными делами. При помощи многочисленных и настойчивых писем, а также благодаря посредничеству матери я за это время добилась от своего брата, как я теперь называю его, присылки второй партии разных товаров из Виргинии для возмещения убытков от порчи первой, которую я привезла с собой; он согласился на это тоже при условии, если я откажусь от всяких претензий к нему и пришлю ему такой отказ через его контрагента в Бристоле; как это ни тяжело было для меня, пришлось пообещать. Однако я действовала так ловко, что товары были получены раньше, чем я успела дать требуемую подписку, а потом я постоянно находила то один, то другой предлог, чтобы уклоняться от этой подписки, и наконец заявила нашему посреднику, что предварительно мне еще нужно списаться с братом.
Вместе с этим доходом мое состояние достигло почти четырехсот фунтов, не считая последних пятидесяти фунтов, полученных от моего любовника, так что всего я имела четыреста пятьдесят фунтов. Я сберегла бы еще сто фунтов, если бы меня не постигло несчастье: ювелир, которому я их доверила, обанкротился, и я потеряла целых семьдесят фунтов, так как кредиторам этого ювелира пришлось только по тридцать фунтов за сто. Было у меня также немного серебра и порядочный запас белья и платьев.
С этим капиталом мне предстояло начинать жизнь сызнова; но нужно принять во внимание, что я теперь была уж не той женщиной, как в годы, когда жила в Роттерхайте; прежде всего, была почти на двадцать лет старше, и гады, а также путешествие в Виргинию и обратно ничего не прибавили к моей красе; и хотя я не пренебрегала никакими средствами, чтобы выглядеть как можно лучше, только никогда не красилась, тщеславно полагая, что это мне и не нужно, все же всегда будет некоторая разница между двадцатипятилетней женщиной и сорокадвухлетней.
Я строила несчетное множество планов относительно своей будущей жизни и начала серьезно раздумывать, что мне теперь делать, но ничего подходящего не представлялось. Я позаботилась, чтобы меня считали не тем, чем я была, и пустила слух, будто у меня есть состояние и будто все это состояние в моих руках: последнее было совершенно правильно, первое же известно читателю. Главная моя беда была в том, что я не имела знакомых, а также не имела советчика, во всяком случае, такого, который мог бы и посоветовать и помочь; главное же, некому было доверить тайну моего теперешнего положения с уверенностью, что тайна эта будет сохранена, и я познала на опыте, что остаться без друзей — самое горшее, после нищеты, несчастье, какое может постигнуть женщину; я говорю — женщину, так как мужчины, ясное дело, могут быть сами себе советчиками и руководителями и умеют выпутаться из затруднительного положения лучше, чем женщины; но если у женщины нет друга, с которым она бы делилась своими невзгодами, у которого спрашивала бы совета и помощи, тогда десять против одного, что она погибла, — да, погибла, и чем больше у нее денег, тем больше опасности, что ее обидят и обманут; так было и со мной, когда я оставила сто фунтов в руках ювелира, кредит которого был, по-видимому, уже и раньше подорван; но так как мне не с кем было посоветоваться, то я ничего об этом не знала и потеряла свои деньги.
Когда женщина остается, таким образом, в одиночестве, лишенная советов, она как две капли воды похожа на кошелек с деньгами или драгоценный камень, оброненный на большой дороге и попадающий в руки любого прохожего; если его найдет человек порядочный и честный, он объявит о своей находке через глашатая, и может статься, что отыщется владелец; но гораздо чаще подобные вещи попадают в такие руки, которые без стеснения подбирают их и присваивают.
Именно таково было мое положение — положение свободной, предоставленной себе женщины, которая не имеет ни помощи, ни поддержки, ни руководства; я знала, что мне нужно, но не знала, как достигнуть своей цели честным путем. Я нуждалась в прочном положении, и если бы мне посчастливилось встретить хорошего, скромного мужа, я была бы ему самой примерной женой, воплощенной добродетелью. Случилось, правда, иначе, но пороку всегда прокладывала ко мне путь необходимость, а не чувственное влечение, и я слишком хорошо сознавала цену твердого положения в жизни, хоть и не имела его, чтобы совершать вещи, способные навсегда лишить меня этого счастья; да, благодаря моим невзгодам из меня вышла бы прекрасная жена, и ни в одно из своих замужеств я не причиняла мужьям ни малейшего беспокойства своим поведением.
Но все это были одни мечты; я не видела впереди никакого просвета. Я ждала, жила умеренно и скромно, как мне и подобало в моем положении, но ничего не попадалось, ничего не представлялось, и капиталы мои быстро таяли. Что делать, я не знала; страх надвигающейся нищеты угнетал меня. У меня было немного денег, но я не знала, куда их поместить, и на проценты с них я не могла бы существовать, по крайней мере, в Лондоне.
Наконец открылись новые возможности. В доме, где я снимала квартиру, жила одна женщина из северных графств, выдававшая себя за благородную, которая то и дело превозносила дешевизну и привольное житье у себя на родине; какое там изобилие всего и как все дешево, какое приятное там общество и т.п.; в конце концов я ей сказала, что она почти соблазнила меня переехать в ее благословенные края; хотя я и располагаю достаточными средствами, однако, будучи вдовой, не могу рассчитывать на увеличение своих доходов, а между тем Лондон — очень дорогое место; я нашла, что в Лондоне нельзя жить меньше чем на сто фунтов в год, если принимать гостей, держать горничную, появляться в обществе; а если отказаться от всего этого, люди сразу подумают, что я нуждаюсь.
Должна заметить, что моя соседка, так же как и другие мои знакомые, была в полной уверенности, что я богатая женщина, у которой, по крайней мере, три или четыре тысячи фунтов, если не больше; она стала необыкновенно ласкова со мной, как только увидела, что я обнаруживаю склонность поехать в ее края. Она сказала, что под Ливерпулем живет ее сестра, что ее брат — важная персона в тех местах и ему принадлежит также обширное поместье в Ирландии, что месяца через два она сама собирается ехать туда, и если я пожелаю составить ей компанию, то мне будет оказан там такой же радушный прием, как ей самой, и я могу погостить у них месяц и больше; может быть, те места понравятся мне, и я захочу там поселиться; в таком случае она берется рекомендовать меня — так как сами они не держат постояльцев — какой-нибудь милой семье, где мне будет удобно и приятно.
Если бы эта Женщина знала мое действительное положение, она не стала бы пускаться на такие ухищрения и прибегать к таким уловкам, чтобы залучить бедное, покинутое создание, на котором много не поживишься; я-то была в таком отчаянии, что не очень беспокоилась о своей судьбе, лишь бы только надо мной не надругались; поэтому после долгих упрашиваний и торжественных заверений в искренней дружбе и доброжелательстве я согласилась наконец поехать с этой дамой и стала укладывать свои вещи и готовиться к путешествию, хотя решительно не знала, куда мне предстоит ехать.
Я находилась в крайне затруднительном положении: все мое скромное достояние было в деньгах, за исключением уже упомянутого небольшого количества серебра, белья и платьев; мебели и домашней утвари у меня почти вовсе не было, потому что я всегда жила в меблированных квартирах; но я не имела ни одного друга на свете, которому решилась бы доверить свой небольшой капитал или который научил бы меня, как им распорядиться. Подумала я о банке и о других лондонских компаниях, но у меня не было друга, которому я могла бы поручить хлопоты по помещению денег; держать же у себя или носить с собой банковые билеты, векселя и тому подобные вещи я считала небезопасным, так как, потеряй я их, мои деньги пропали бы и я бы погибла; а с другой стороны, проведав о моих деньгах, меня могли ограбить или даже убить где-нибудь в глухом месте; и я не знала, что делать.
Однажды утром мне пришло в голову отправиться самой в банк, куда я часто ходила получать проценты по некоторым своим бумагам и где всегда обращалась к одному очень любезному клерку; это был человек настолько добросовестный, что раз, когда я, неверно сосчитав деньги, взяла меньше, чем мне следовало, и уже собралась уходить, он мне указал ошибку и отдал разницу, которую свободно мог положить в карман. Я пошла к нему и спросила, не будет ли он любезен помочь советом бедной вдове, не имеющей друзей и не знающей, как поступить. Он мне ответил, что если я прошу у него совета по делам, в которых он сведущ, то он всячески постарается не дать меня в обиду, но может также порекомендовать меня одному своему хорошему знакомому, дельному малому, тоже клерку, но из другого банка, на честность которого я могу положиться, «ибо, — прибавил он, — я буду отвечать за него и за каждый его шаг. Если он вас обманет, сударыня, хоть на один фартинг, пусть вина падет на меня. Он с удовольствием помогает людям в вашем положении, просто из человеколюбия».
Слова эти привели меня в некоторое смущение, но, помолчав, я сказала, что предпочла бы довериться ему, потому что убеждена в его честности, но если сам он не может мне помочь, то я, конечно, воспользуюсь его рекомендацией.
— Смею вас уверить, сударыня, — сказал клерк, — что вы останетесь вполне довольны моим другом, он сможет оказать вам гораздо большую помощь, чем я.
Клерк этот был по горло завален работой в банке и не хотел брать на себя никаких посторонних дел; но об этом я узнала позже, а тогда не поняла причины его отказа; он прибавил, что его друг ничего не возьмет с меня за совет или помощь, и эти слова ободрили меня.
Он условился свести меня со своим другом в тот же вечер, когда закроется банк. При первом же взгляде на этого друга и с первых же слов о моем деле я почувствовала, что это весьма честный человек; его лицо ясно говорило об этом, и, как я узнала впоследствии, о нем повсюду шла такая добрая слава, что у меня не осталось больше никаких сомнений.
После первой встречи, во время которой я сказала лишь то, о чем говорила раньше, он назначил мне свидание на следующий день, сказав, что я могу тем временем расспросить о нем, что было, однако, неосуществимо для меня, так как я не имела знакомых.
Согласно уговору я встретилась с ним на следующий день и на этот раз более обстоятельно посвятила его в свои дела. Я подробно описала ему свое положение; сказала, что я вдова, приехавшая из Америки, совершенно одна и без друзей; что у меня есть немного денег, и я безумно боюсь потерять их, так как мне некому их доверить; что я собираюсь на север Англии, где жить дешевле, так что мне не придется тратить свой капитал; поэтому я охотно бы поместила деньги в банк, но не решаюсь носить при себе банковые чеки, как все это устроить и с чьею помощью, вот чего я не знаю.
Он мне объяснил, что я могу положить деньги в банк[38] на текущий счет и внесение их в книги даст мне право востребовать их в любое время, и если я буду на севере, то могу, взяв в банке перевод, получить эти деньги когда угодно; но в таком случае деньги будут считаться вне оборота и банк не будет платить мне процентов; я могу также купить на свои деньги процентные бумаги, которые будут храниться в банке; но тогда, если я захочу распорядиться ими, то должна буду приехать в Лондон, причем я встречусь с некоторыми затруднениями при получении полугодового дивиденда, — если не буду являться за ним лично или если у меня нет друга, которому я могла бы довериться и на чье имя были бы процентные бумаги, чтобы он мог действовать вместо меня; но тогда опять-таки возникает то же затруднение, что и раньше. Тут мой клерк пристально посмотрел на меня и слегка улыбнулся.
— Почему бы вам, сударыня, не обзавестись управляющим, который взял бы вместе и вас, и ваши деньги, и таким образом вы бы избавились от всяких хлопот? — проговорил он.
— Да, сударь, но может быть, также и от денег, — ответила я, — ибо, право, мне кажется, что риск при этом не меньший, — но, помню, мысленно прибавила: «Я не прочь услышать от вас прямое предложение и едва ли ответила бы нет».
Он довольно долго разговаривал со мной в таком же роде, и раз или два я подумала, что у него серьезные намерения, но, к моему искреннему огорчению, оказалось, что он женат; однако, признавшись мне, что у него есть жена, он покачал головой и сказал с некоторой грустью, что хотя у него и есть жена, но в то же время ее как бы и нет. Я подумала, что, может быть, он находится в положении моего последнего любовника и жена его сумасшедшая или что-нибудь в этом роде. На этом и кончился наш разговор, так как он заявил мне, что очень занят, но что, если я пожелаю прийти к нему домой по окончании его работы, он подумает над тем, как найти надежное помещение для моих денег. Я пообещала прийти и спросила его, где он живет. Он написал на бумажке адрес и, вручая его мне, сказал:
— Извольте, сударыня, если вам угодно довериться мне.
— Да, сударь, — ответила я, — мне кажется, я могу вам довериться, ведь вы говорите, у вас есть жена, а я не ищу мужа; кроме того, я решаюсь вам доверить свои деньги, в которых заключено все мое состояние, и если я их потеряю, тогда мне терять больше нечего.
Он в шутку сказал мне несколько любезностей, которые мне бы очень понравились, будь они сказаны серьезно; но, как бы там ни было, я взяла адрес и сказала, что приду к нему сегодня же в семь часов вечера.
Когда я пришла к нему, он предложил мне несколько способов помещения денег в банк под проценты, но каждый из этих способов находил недостаточно надежным; во всем этом я усмотрела такую бескорыстную честность, что стала думать, уж не встретила ли я как раз того человека, какой мне был нужен; в лучшие руки невозможно было бы попасть. И я сказала ему откровенно, что ни разу еще не встречала ни мужчины, ни женщины, которым могла бы довериться и на которых могла бы положиться, но что я вижу в нем такое бескорыстное участие ко мне, что охотно доверю ему мое небольшое состояние, если он согласится быть управляющим бедной вдовы, которая не в состоянии заплатить ему за труды.
Клерк улыбнулся, встал и почтительно мне поклонился. Он сказал, что необычайно польщен таким добрым мнением о нем; обещал, что не обманет меня и сделает все возможное для ограждения моих интересов, не ожидая за это никакой платы, но что ни в каком случае он не возьмет от меня доверенности, так как это может возбудить подозрение в корыстных его намерениях, и если я умру, его, чего доброго, заставят вступить в спор с моими душеприказчиками, к чему он не чувствует ни малейшей охоты.
Я ему ответила, что если это все его возражения, то я тотчас их опровергну и покажу всю неосновательность его опасений, ибо, во-первых, если уж подозревать его, то нужно подозревать сейчас и не выдавать ему доверенности; и если я стану подозревать его, пусть бросит мои дела и откажется вести их. Что же касается душеприказчиков, то у меня нет в Англии ни наследников, ни родственников и, кроме него самого, не будет никаких душеприказчиков, разве только переменится мое положение, что прекратило бы действие его довереннности и положило бы конец его хлопотам; однако я не предвижу никаких перемен. Наконец, я заявила, что если я умру в своем теперешнем положении, то все мое имущество перейдет к нему и он вполне это заслужил своей добросовестностью, в которой я ни минуты не сомневаюсь.
После этой речи он переменил тон и спросил, почему я так благожелательна к нему; потом с растроганным видом сказал, что ему от всей души хотелось бы быть неженатым. Я с улыбкой ответила, что так как он женат, то мое предложение не заключает в себе никаких видов на него, а желать непозволительного преступно по отношению к его жене.
Он заявил, что я не права, «потому что, — говорит, — как я уже вам сказал, у меня есть жена и нет жены, и ничуть не грешно пожелать ей веревку на шею».
— Я не знаю ваших семейных дел, сударь, — сказала я, — но все же нехорошо желать смерти своей жене.
— Повторяю вам, она мне и жена и не жена. Вы не знаете ни меня, ни ее.
— Да, это правда, я вас не знаю, но убеждена, что вы честный человек, и этим объясняется мое доверие к вам.
— Да, да, вы правы. Но у меня есть еще и другие качества, сударыня. Я, позвольте признаться вам откровенно, рогоносец, а она — потаскуха.
Клерк произнес эти слова шутливым тоном, но с такой кривой усмешкой, что видно было, сколь больного места он касается, и вид у него при этом был мрачный.
— Это действительно меняет положение, сударь, — сказала я, — в той части, которую вы затронули. Но ведь рогоносец может быть вполне честным человеком, так что в этом отношении дело не меняется. Кроме того, раз ваша жена так бесчестна, то вы, по-моему, слишком честны по отношению к ней, продолжая признавать ее вашей женой; впрочем, это совершенно не мое дело.
— Вы ошибаетесь, я давно думаю с ней развязаться, ибо, говоря откровенно, сударыня, я недоволен своей участью; уверяю вас, это раздражает меня до последней степени, но я ничего не могу поделать; женщина, которая хочет быть потаскушкой, будет ею.
Я переменила тему и стала говорить о своем деле, но увидела, что он не склонен им заниматься, и потому не стала ему мешать; тогда он пустился в подробное описание своего положения, которое было бы слишком долго пересказывать здесь; в частности, сообщил, что когда его не было в Англии, еще до того, как он поступил в банк, жена его прижила двух детей от какого-то армейского офицера, а когда он вернулся в Англию, явилась к нему с повинной; он ее простил, и все же она сбежала от него с приказчиком одного торговца полотном, основательно его обобрав, и до сих пор продолжает жить где-то вне дома. «Таким образом, сударыня, — заключил он свой рассказ, — она потаскушка не из нужды, что часто случается, а по естественному влечению и из любви к пороку».
Ну, я ему посочувствовала и пожелала избавиться от жены, а потом снова хотела вернуться к своему делу, но не тут-то было. Он пристально посмотрел на меня.
— Послушайте, сударыня, вы пришли ко мне за советом, и я со всей охотой готов услужить вам, как родной сестре. Но позвольте мне поменяться с вами ролями, раз вы так добры ко мне, и, в свою очередь, попросить у вас совета. Скажите, как бедному обманутому мужу поступить с потаскушкой? Как мне расправиться с ней?
— Увы, сударь, очень это деликатное дело, чтобы мне давать вам советы. Мне кажется, однако, раз она сбежала от вас, вы с ней окончательно развязались. Чего же вам еще?
— Да, она действительно ушла, но, несмотря на это, я с ней не развязался.
— Ваша правда, ведь она может наделать вам долгов; однако закон позволяет вам принять меры предосторожности. Вы можете, как говорится, объявить ее неправоспособной.
— Нет, нет, не в этом дело. Насчет этого я принял меры, не об этом речь: мне хотелось бы развязаться с ней, чтобы вновь жениться.
— В таком случае сударь, вам надо развестись. Если вы можете доказать то, о чем говорите, вам, несомненно, удастся получить развод, и тогда вы свободны.
— Это очень скучная и дорогая история.
— Что ж, если вы найдете женщину себе по вкусу, которая бы разделяла ваши взгляды, то, я думаю, ваша жена не станет оспаривать у вас свободы, которой сама пользуется. — Конечно, но не так-то легко склонить к этому честную женщину; а что касается женщин другого рода то я довольно натерпелся с одной потаскухой, чтобы заводить дело с другой.
Тут мне подумалось: «Я охотно пошла бы тебе навстречу, если бы ты попросил меня об этом», — но я это сказала про себя, а вслух ответила:
— Но ведь вы закрываете дверь всякой честной женщине, склонной принять ваше предложение, так как заранее осуждаете тех, кто готов решиться на такой шаг, заявляя, что женщина, которая пошла бы теперь к вам, не может быть честной.
— Мне очень хочется верить вам и думать, что честная женщина согласилась бы на мое предложение. Право, я тогда рискнул бы. — И внезапно обращается ко мне: — А вы бы согласились, сударыня?
— Разве можно задавать такие вопросы после того, что было сказано вам? — ответила я. — Однако, чтобы вы не подумали, будто я жду только случая отпереться, скажу вам напрямик: нет, не согласилась бы. У меня другие дела с вами, и я не ожидала, что вы обратите в комедию серьезное дело, с которым я пришла к вам, будучи в таком трудном положении.
— Да ведь, сударыня, мое положение столь же трудное, и я ничуть не меньше вас нуждаюсь в совете. Если я нигде не найду сочувствия, то, мне кажется, сойду с ума. Положительно не знаю, куда мне обратиться, уверяю вас.
— А между тем, сударь, в вашем деле гораздо легче помочь советом, чем в моем.
— Умоляю вас, дайте мне этот совет. Право, вы меня приободрили.
— Извольте: если все обстоит так, как вы мне рассказали, то вы можете добиться законного развода и тогда найдете достаточно честных женщин, которым могли бы предложить руку. Женщины не такая уж редкость, чтобы вы не могли отыскать себе среди них жену по вкусу.
— Отлично. Я принимаю ваш совет, говорю без шуток, но сначала разрешите мне задать вам один серьезный вопрос.
— Любой, — отвечала я, — только не тот, что вы мне сейчас задавали.
— Нет, нет, не говорите этого, потому что я хочу задать именно этот вопрос.
— Можете задавать какие угодно вопросы, мой ответ вам уже известен. Кроме того, сударь, неужели вы такого дурного мнения обо мне, что думаете, будто я стану отвечать вам на подобный вопрос? Разве хоть одна женщина поверит, что вы говорите серьезно, что у вас нет намерения посмеяться над ней?
— Право, я совсем не смеюсь над вами, мне не до шуток, помилуйте.
— Послушайте, сударь, — сказала я довольно резко, — я пришла к вам по делу. Угодно вам будет дать совет, как мне поступить?
— Я подготовлюсь и скажу вам в следующий раз, как вы ко мне придете. — Больше я к вам никогда не приду. — Почему же? — спросил он и удивленно посмотрел на меня.
— Потому что не желаю больше слушать такие речи. — Все же обещайте мне прийти, и я больше не заикнусь об этом, пока не получу развода; но мне хотелось бы, чтобы после этого вы были приветливее, потому что вы будете моей женой, или я вообще не стану разводиться — вот так меня тронуло ваше дружеское участие, не говоря о прочем.
Слова его ужасно мне понравились; однако я знала, что лучший способ удержать его — это находиться от него подальше, пока развод представляется делом довольно отдаленного будущего, и решила, что еще успею принять предложение, когда у него будут развязаны руки. Поэтому я очень почтительно ответила, что у меня достаточно времени подумать над этими вещами, ведь развод им еще не получен. Тем временем, сказала я ему, я уеду далеко отсюда, а он встретит довольно женщин, которые больше придутся ему по вкусу. На этом мы расстались, и он взял с меня обещание прийти к нему на следующий день для переговоров о деле, на что я после долгих упрашиваний согласилась; хотя если бы он глубже заглянул мне в душу, то увидел бы, что в этих упрашиваниях нет большой надобности.
Я исполнила обещание и пришла к нему на следующий вечер в сопровождении горничной, чтобы показать, что у меня есть прислуга, а войдя в дом, тотчас ее отпустила. Мой клерк хотел, чтобы я велела горничной подождать, но я громко приказала ей прийти за мной в девять часов. Он воспротивился и сказал, что сам проводит меня домой; мне это не очень понравилось, так как я подумала, что под его любезностью кроется желание разузнать, где я живу, какая обо мне ходит слава и каковы мои средства. Все же я выразила согласие, полагаясь на то, что в доме, где я жила, обо мне сложилось самое благоприятное мнение и все его справки лишь подтвердят, что я женщина состоятельная, поведения самого скромного и благонравного. Правильно ли это было или нет, это другой вопрос, но отсюда вы видите, насколько необходимо всем женщинам, мечтающим о приличной партии, составить выгодное мнение о своей добродетели, как бы они в действительности ни жертвовали ею.
Я была приятно поражена, увидев, что он приготовил для меня ужин; при этом я убедилась, что мой клерк живет на широкую ногу, в комфортной квартире; мне это доставило большое удовольствие, ибо я уже смотрела на все это как на свою собственность.
Мы стали вторично беседовать на ту же тему, что и прошлый раз. Он сразу приступил к делу, признался в самом искреннем расположении ко мне; впрочем, у меня не было никаких оснований сомневаться; объявил, что расположение это возникло при первом же моем посещении, еще задолго до того, как я выразила желание завещать ему свое имущество. «Не важно, когда оно возникло, — подумала я, — лишь бы оно было прочным, а там все устроится». Потом он сказал, как сильно его тронула моя готовность доверить ему свое состояние. «На это у меня и был расчет, — подумала я, — но я полагала тогда, что ты холостяк». Когда мы поужинали, он стал упрашивать меня выпить два или три бокала вина, но я отказалась, выпив всего один или два. После этого он сказал, что хочет сделать мне одно предложение, но просил не обижаться, если оно мне не понравится. Я выразила уверенность, что он не сделает бесчестного предложения, особенно в своем доме, в противном случае я прошу его промолчать, чтобы у меня не возникло чувство, несовместимое с уважением и доверием к нему, которые я достаточно засвидетельствовала этими визитами; тут я попросила разрешения уйти и стала надевать перчатки, как бы готовясь покинуть его, хотя в действительности вовсе не собиралась уходить, равно как и он не собирался отпустить меня.
Понятно, он пристал ко мне, чтобы я не заикалась об уходе, уверяя, что не собирается предлагать ничего бесчестного, а если я так думаю, то он не будет больше говорить об этом.
Такой поворот мне совсем не понравился. Я ответила, что готова выслушать все, что бы он ни сказал, будучи убеждена, что он не скажет ничего такого, что ему не пристало говорить, а мне неприлично слышать. Тогда он сказал, что у него вот какое предложение: он просит меня быть его женой, хотя он еще не добился развода со своей потаскушкой, и, чтобы убедить меня в честности своих намерений, пообещал до получения развода не заводить речи о совместной жизни и супружеском сожительстве. Сердце мое с первого же слова ответило да на это предложение, но необходимо было немного полицемерить, поэтому я с притворным негодованием отвергла его предложение как недостойное, заявив, что оно неуместно и только вовлечет нас в большие неприятности, так как если в конечном счете он не добьется развода, то нам нельзя будет ни расторгнуть наш брак, ни продолжать его, и мы окажемся в весьма двусмысленном положении.
Словом, я привела столько доводов против этого предложения, что убедила клерка в полной его нелепости; тогда он предложил мне подписать и скрепить печатью договор с обязательством выйти за него замуж, как только он добьется развода; но если он его не получит, то договор будет считаться недействительным.
Я ответила, что это предложение разумнее первого; но так как мне показалось, что клерк, в порыве искреннего чувства, впервые заговорил серьезно, то я не сразу согласилась, а сказала, что подумаю. Я играла с ним, как рыболов с форелью; я видела, что он уже клюнул, поэтому стала подшучивать над его новым предложением и медлила с ответом; сказала, что он мало меня знает, и предложила ему собрать обо мне сведения. Я позволила ему также проводить меня домой, но не попросила зайти, сказав, что это будет неудобно.
В общем, я пока уклонялась от подписания договора; побудило меня к этому то, что дама, пригласившая меня поехать в Ланкашир, так настойчиво меня упрашивала и сулила такие блага и такие прелести, что я соблазнилась и решила попытать счастья. «Может быть, — подумала я, — мне удастся поправить там свои дела», и тогда я без зазрения совести покинула бы своего честного клерка, в которого была не настолько влюблена, чтобы отказаться ради него от более выгодной партии.
Словом, я уклонилась от договора, но сказала клерку, что еду на север, куда и попросила написать о порученном ему деле; сказала, что даю достаточное доказательство своего уважения к нему, оставляя в его руках почти все свое состояние, и обещаю, как только он выхлопочет развод и известит меня об этом, немедленно приехать в Лондон, и тогда мы серьезно поговорим о нашем деле.
Должна сознаться, что уезжала я с низкими намерениями, хотя была приглашена с намерениями еще более низкими, как покажет продолжение этого рассказа. Так или иначе, я уехала со своей приятельницей, как называла ее, в Ланкашир. Всю дорогу она ухаживала за мной с видом самой искренней и непритворной нежности; она взяла на себя все дорожные расходы, за исключением оплаты проезда, а ее брат выслал навстречу нам в Воррингтон барскую карету, и мы приехали в Ливерпуль с такой помпой, что лучшего я и желать не могла.
В Ливерпуле мы не менее роскошно прожили три или четыре дня у одного купца, имя которого я не буду называть по причине разыгравшихся в дальнейшем событий. Потом моя спутница сказала, что хочет свезти меня к своему дяде, где нам будет оказан пышный прием, и этот дядя, как она называла его, прислал за нами карету четверней, которая отвезла нас за сорок миль, не знаю куда.
Приехали мы в помещичью усадьбу, где оказалась многочисленная семья, обширный парк, самое изысканное общество и где все называли мою подругу «кузиной». Я ей сказала, что, приглашая меня в такое общество, она должна была предупредить меня, и тогда я захватила бы лучшие свои платья. Услышав это, дамы очень любезно сказали мне, что у них не придают такого значения одежде, как в Лондоне; что кузина подробно осведомила их обо мне и я не нуждаюсь ни в каких платьях, чтобы мне оказывали здесь уважение; словом, все меня приняли там за знатную вдову с большим состоянием, не подозревая о том, кем я была в действительности.
Я скоро обнаружила, что все в семье, в том числе и кузина, были католиками; тем не менее нельзя представить себе лучшего обращения; все держались со мной так учтиво, как если бы я была одного с ними вероисповедания. По правде говоря, у меня не было твердых религиозных убеждений, которые я могла бы оттаивать и я скоро научилась отзываться благоприятно о римской церкви; в частности, я им сказала, что, на мой взгляд все религиозные разногласия между христианами порождены воспитанием и что если бы мой отец был католиком, то их религия, несомненно, нравилась бы мне не меньше, чем моя.
Это очень расположило ко мне, и две или три старые дамы принялись за меня по части религии. Моя податливость была так велика, что я не посовестилась ходить с ними к обедне и подражать всем их движениям; но все же мне не хотелось идти на уступки без всякой для себя выгоды; поэтому я лишь поддерживала в них надежду, что обращусь в католичество, если меня приобщат к католическим догматам, как они выражались, но этим дело и ограничилось. Я пробыла там около шести недель, после чего моя спутница отвезла меня в деревню в шести милях от Ливерпуля куда ее брат, как она называла его, приехал меня навестить в собственной карете, с двумя лакеями в богатой ливрее, и с места в карьер принялся ухаживать за мной. Поле всего, что я перевидала, казалось бы меня нелегко будет провести; так я и сама думала, тем более что имела в Лондоне верную карту, которую решила не упускать, если только не найду чего-нибудь лучшего. Однако по всем внешним признаем брат этот был партией, стоящей внимания; его состояние приносило ему по меньшей мере тысячу фунтов годового дохода, но сестра говорила, что он имеет полторы тысячи в год и большая часть его поместий находится в Ирландии.
Ну, а я сама слыла здесь такой богачкой, что меня никто не решался даже спрашивать о величине моего состояния; и моя лжеприятельница, поверив глупым слухам, подняла мои средства с пятисот фунтов до пяти тысяч, а когда мы приехали в Ливерпуль, они уже выросли до пятнадцати тысяч. Ирландец — я принимала нового поклонника за ирландца — с остервенением бросился на приманку; короче говоря, ухаживал за мной, делал мне подарки и влез в сумасшедшие долги, чтобы не уронить себя в моих глазах. По внешности был он, нужно отдать ему справедливость, элегантнейшим джентльменом: высокий, стройный и на редкость обходительный; говорил он так непринужденно о своем парке, своих конюшнях, лошадях, доезжачих, лесах, фермерах и слугах, точно находился в своем замке и я все это видела своими глазами.
Ни разу не спросил он меня о моем состоянии или средствах, но пообещал по приезде в Дублин записать на меня прекрасное поместье, приносящее шестьсот фунтов годового дохода, причем брался уже здесь составить по всем правилам дарственную запись, чтобы я сразу могла вступить во владение.
Речи эти были для меня настолько непривычны, что я утратила всякое чувство реальности; дьявол в образе женщины постоянно находился возле меня и твердил, как широко живет ее брат. Моя приятельница то спрашивала у меня распоряжений, как я хочу покрасить и обить свою карету, то узнавала, какого цвета ливрею будет носить мой паж. Словом, я была ослеплена, потеряла способность говорить нет и согласилась выйти замуж; но, чтобы справить свадьбу поскромнее, мы уехали подальше от города и были обвенчаны католическим священником, который, как меня уверили, совершит обряд так же законно, как пастор англиканской церкви.
Не могу сказать, чтобы я при этом не чувствовала некоторых угрызений совести по случаю бесчестного нарушения уговора с моим верным клерком, который искренне меня любил, прилагал столько усилий, чтобы развязаться с потаскухой, так варварски с ним обращавшейся, и надеялся быть бесконечно счастливым со своей новой избранницей; а эта избранница отдавалась теперь другому почти так же бесстыдно, как и женщина, которую он хотел покинуть.
Но радужный блеск богатства и роскоши, которым обманутый поклонник, обманывавший теперь меня, ежеминутно ослеплял мое воображение, настолько увлек меня, что мне некогда было думать о Лондоне и его обитателях, а тем более о своем обязательстве к человеку, гораздо более достойному, чем тот, ради которого я его покинула.
Но дело было сделано; я находилась теперь в объятиях своего нового супруга, который все еще казался таким, как прежде: нельзя было и вообразить, что такое сказочное великолепие обходится ему менее чем в тысячу фунтов в год.
Месяца через полтора после свадьбы мой муж стал поговаривать о поездке в Честер[39], откуда мы должны были морем переправиться в Ирландию. Однако он меня не торопил, и мы провели здесь еще недели три; потом послал в Честер за каретой, которая должна была выехать нам навстречу к так называемой Черной скале, возвышающейся против Ливерпуля. Мы прибыли туда в красивой шестивесельной лодке, так называемой пинассе; слуги, багаж и лошади мужа были переправлены на пароме. Он извинился, что у него нет знакомых в Честере, но заявил, что поедет вперед и достанет для меня хорошее помещение в каком-нибудь частном доме.
Я спросила, сколько времени мы пробудем в Честере. Он ответил, что совсем недолго, лишь ночь или две, и тотчас же наймем карету и поедем в Холихед. Тогда я сказала, чтобы он ни в коем случае не утруждал себя поисками частной квартиры на одну или две ночи; Честер большой город, и я не сомневаюсь, что там есть гостиницы с достаточными удобствами; так оно и оказалось, и мы остановились в гостинице недалеко от собора; название ее я забыла.
Тут мой супруг, заговорив о моей поездке в Ирландию, спросил, не нужно ли мне перед отъездом привести в порядок дела в Лондоне. Я ответила, что никаких дел там у меня нет, по крайней мере важных, и что я могу прекрасно их устроить при помощи письма из Дублина.
— Сударыня, — почтительно сказал он, — по словам моей сестры, большая часть вашего имущества заключается в деньгах, вложенных в Английский банк; я полагаю, что это надежное место; но если потребуется произвести перевод или переписать деньги на другое имя, то, пожалуй, необходимо будет побывать Лондоне и устроить все это до отъезда в Ирландию.
Я сделала удивленное лицо и заявила, что не понимаю, что он хочет сказать; у меня нет никаких вкладов в Английском банке, и я надеюсь, он не станет утверждать, будто я когда-нибудь ему говорила об этом. Нет, сказал он, я ему об этом не говорила, но сестра сказала ему, что большая часть моего состояния вложена банк.
— И если я упомянул об этом, дорогая, — продолжал он, — то лишь для того, чтобы вы могли, воспользовавшись случаем, привести в порядок свои дела вам не пришлось еще раз подвергаться опасностям невзгодам морского путешествия,
Меня удивили эти слова, и я задумалась над тем что бы они могли означать; скоро мне пришло на мысль, что моя приятельница, называвшая его братом, представила ему меня в ложном свете, и я решила дознаться, в чем тут дело, прежде чем покину Англию и окажусь неизвестно в чьих руках, на чужой стороне.
Приняв это решение, я на следующее утро позвала к себе в комнату золовку и, сообщив ей вчерашний разговор с ее братом, умоляла ее повторить мне, что она ему сказала и чем руководствовалась, устраивая этот брак. Она призналась, что уверила брата, будто у меня крупное состояние, заявив, что так ей сказали в Лондоне.
— Сказали? — с жаром перебила я. — Разве я вам когда-нибудь об этом говорила?
Нет, сказала она, я действительно никогда не говорила ей этого, но я неоднократно ей говорила, что все мое имущество находится в полном моем распоряжении.
— Да, говорила, — с живостью ответила я, — но никогда я вам не говорила, что у меня есть то, что называют состоянием; не говорила даже, что у меня есть сто фунтов или ценностей на эту сумму. И разве совместим с положением состоятельной женщины мой переезд сюда, на север Англии, с единственной целью проживать меньше денег?
На мой крик, так как я пришла в сильное возбуждение, в комнату вошел муж; я попросила его присесть, потому что собиралась сказать в присутствии их обоих очень важную вещь, которую ему необходимо было выслушать.
Он был несколько смущен моим уверенным тоном, подошел и сел возле меня, затворив сначала дверь; тогда я в сильном раздражении сказала ему:
— Боюсь, мой друг (я всегда была с ним любезна), что вы попались впросак и совершили непоправимую ошибку, женившись на мне. Но так как я тут совершенно ни при чем, то прошу меня не винить и обратить свое негодование против истинного виновника, и никого больше, потому что я тут умываю руки.
— Какую же ошибку я совершил, моя милая, женившись на вас? Мне кажется, брак этот послужил только к моей чести и выгоде.
— Сейчас я вам объясню, — отвечала я, — и боюсь, что у вас едва ли есть основания считать, что с вами поступили хорошо; но я вам докажу, мой друг, что я тут совершенно ни при чем. — После этого я умолкла.
В глазах мужа выразился тогда испуг и смятение, так как он, видимо, стал догадываться, что под всем этим кроется; однако, взглянув на меня, сказал лишь: «Продолжайте», — как бы выражая желание послушать, что я еще скажу, и я, обратившись к нему, продолжала:
— Вчера я вас спросила, хвасталась ли я когда-нибудь перед вами своим богатством или говорила, что у меня есть капитал в Английском банке или где-нибудь в другом месте, и вы совершенно справедливо признали, что никогда этого не было. Теперь прошу вас сказать в присутствии вашей сестры, давала ли я вам когда-нибудь повод думать так и происходил ли у нас когда-нибудь разговор об этом, — и он снова признал, что ничего такого не было, но заметил, что я ему всегда казалась женщиной состоятельной и у него не возникало на этот счет никаких сомнений. «Надеюсь, — закончил он, — что я не был обманут».
— Я не спрашиваю, были ли вы обмануты, — отвечала я, — боюсь, что были, и я вместе с вами; но я хочу отстраниться от всякого участия в этом обмане. Я только что спрашивала вашу сестру, говорила ли я ей когда-нибудь, что у меня есть состояние или капитал, и сообщала ли ей какие-либо подробности на этот счет, и она признала, что никогда этого не было. Прошу вас, сударыня, — обратилась я к ней, — сделайте мне одолжение, скажите: выдавала я вам себя когда-нибудь за богатую женщину? Зачем же в таком случае поехала бы я с вами в эти места с целью сберечь свои маленькие средства и жить скромно и дешево?
Она не могла отрицать ни одного моего слова, но заявила, что ее уверили в Лондоне, будто у меня есть очень крупное состояние и оно вложено в Английский банк.
— А теперь, дорогой мой, — обратилась я к своему новому супругу, — сделайте милость, скажите, кто же так ловко провел нас обоих, уверив вас, что я богата, и побудив добиваться моей руки?
Он не мог выговорить ни слова и только показал на сестру, но через минуту разразился неистовейшим гневом, проклиная мою спутницу на чем свет стоит и награждая ее самыми крепкими ругательствами, какие только мог придумать; кричал, что она разорила его: сказала, будто у меня пятнадцать тысяч фунтов и теперь должна получить с него пятьсот фунтов за то что сосватала ему такую богачку. Потом прибавил обращаясь ко мне, что она вовсе не сестра его, но бывшая любовница, что она уже получила от него сто фунтов в счет этой сделки и что он пропащий человек, если дело обстоит так, как я сказала; в порыве бешенства он поклялся, что убьет ее на месте, страшно перепугав и ее и меня. Она с плачем закричала, что так ей сказали в том доме, где я жила. Но он еще пуще разъярился от того, что она посмела завести его так далеко, основываясь на одних лишь слухах; потом, снова обратившись ко мне, чистосердечно заявил, что, по его мнению мы оба пропали, «так как, признаться откровенно, дорогая моя, — сказал он, — у меня нет ни гроша, за душой; то немногое, что было, я из-за этой чертовки растратил, ухаживая за вами, на наряды и выезды». Воспользовавшись тем, что он заговорил со мной, наша сводня выскользнула из комнаты, и я больше никогда ее не видела.
Тут я пришла в такое же замешательство, как и мой муж, и не знала, что сказать. Я ожидала услышать самые неприятные для себя вещи, но когда он заявил, что мы пропали и что у него тоже нет никакого состояния, я чуть не лишилась рассудка.
— Какое дьявольское мошенничество! — воскликнула я. — Обоих нас привели к венцу обманом; вы, по-видимому, испытываете жестокое разочарование, и, будь у меня деньги, я бы тоже чувствовала себя одураченной, так как, по вашим словам, у вас нет ни гроша.
— Вы действительно были бы одурачены, моя милая, — отвечал он, — но вы бы не погибли, потому что на пятнадцать тысяч фунтов мы бы отлично зажили в этих краях; я уже совсем решил предоставить эти деньги в полное ваше распоряжение; я бы не нанес вам ущерба ни на один шиллинг, а свое богатство возместил бы любовью и нежностью по гроб жизни.
Речь эта дышала благородством, и я думаю, что она выражала его искреннее намерение и что как по своему нраву, так и по поведению этот человек был самым подходящим для меня мужем: но его бедность и долги, которые он наделал по столь нелепому поводу, сильно омрачили наши виды на будущее, и я не знала, что сказать и что подумать. Я выразила сожаление, что за горячую любовь и доброту, которые я в нем обнаружила, он награжден такими несчастьями, что я вижу впереди одно лишь разорение, ибо что касается меня, то тех небольших средств, какие у меня есть, нам не хватит, увы, и на неделю, — и с этими словами я вынула чек на двадцать фунтов и одиннадцать гиней, сказав, что это весь остаток от моих небольших доходов, на которые я рассчитывала прожить здесь три или четыре года, поверив рассказу этой твари о здешней дешевизне; если у меня отнимут эти деньги, я останусь совсем нищей, а известно, каково положение одинокой женщины с пустым карманом; однако, сказала я мужу, если он хочет, пусть берет эти деньги.
Он ответил мне, сильно растроганный, чуть ли не со слезами на глазах, что не прикоснется к моим деньгам, считая недопустимым ограбить меня и ввергнуть в нищету; напротив, у него осталось еще пятьдесят гиней, все его богатство, заявил он, бросая деньги на стол, и он просит меня взять их, хотя самой без них умрет с голоду.
Я возразила, в такой же степени растроганная его словами, что и слышать об этом не хочу; что, напротив, если он может предложить какой-нибудь сносный способ существования, я охотно пойду на любые жертвы, каких только он пожелает.
Он попросил меня замолчать, ибо такие речи слишком расстраивают его; сказал, что получил хорошее воспитание, хотя теперь впал в бедность, и что у него остается только один выход, к которому он прибегнет лишь в том случае, если я соглашусь ответить ему на один вопрос, к чему он, впрочем, нисколько меня не принуждает. Я сказала, что отвечу ему по совести; не знаю только, удовлетворит его мой ответ или нет.
— Вот что, моя милая, скажите мне откровенно, можно ли будет нам прожить прилично или хотя бы сносно на ваши скромные средства или же нет?
Счастье мое, что я никому здесь не открыла ни состояния своих дел, ни даже своего имени; видя, что мне нечего ждать от своего мужа, несмотря на его прекрасный характер и честность, и что все мои денежки быстро вылетят в трубу, я решила утаить все, за исключением чека и одиннадцати гиней, которыми с удовольствием пожертвовала бы, лишь бы только вернуться к тому положению, в котором я находилась до всей этой истории. В действительности у меня был еще переводной чек на тридцать фунтов, и эти деньги составляли все, что я захватила с собой на житье здесь и на всякий непредвиденный случай; дело в том, что паршивая сводня, которая подвела нас обоих, наговорила мне много небылиц относительно выгодных браков, и мне не хотелось быть без денег, если подвернется что-нибудь подходящее. Чек этот я припрятала и, таким образом, могла щедро распорядиться остальной суммой и помочь мужу, которого мне было жаль от всего сердца.
Но возвращаюсь к его вопросу. Я сказала, что никогда умышленно не обманывала его и не стану обманывать. К моему великому сожалению, моих небольших средств нам будет недостаточно; их не хватало даже мне одной, когда я жила на юге, почему я и отдала себя в распоряжение этой женщины, называвшей его братом и уверившей меня, будто за шесть фунтов в год я могу очень прилично прокормиться в Манчестере, где я никогда не бывала; и так как мой годовой доход не превышает пятнадцати фунтов, то я подумала, что легко проживу на эти деньги в ожидании лучших дней.
Он только молча покачал головой, и мы провели очень грустный вечер; все же вместе поужинали и вместе переночевали; к концу ужина муж мой немного повеселел и потребовал бутылку вина.
— Знаете, моя милая, — сказал он, — хотя дела наши плохи, не следует приходить в уныние. Не тревожьтесь, я постараюсь как-нибудь просуществовать; если ваших средств вам одной хватит, это лучше, чем ничего. А я снова попытаю счастья; мужчина должен быть мужчиной, опускать руки — значит признавать себя побежденным.
С этими словами он наполнил бокал и выпил за мое здоровье, все время держа меня за руку и уверяя, что больше всего озабочен моей судьбой.
Это был действительно славный, обходительный кавалер, что причиняло мне тем большее огорчение. Даже погибнуть от руки честного человека как-то утешительнее, чем от руки негодяя; но в данном случае больше поводов для огорчения было у моего мужа, потому что он действительно потратил кучу денег и проявил большое легковерие. Но следует отметить всю низость поведения той твари. Чтобы получить сто фунтов, она заставила его истратить в три или четыре раза больше, хотя это, может быть, были его последние деньги, больше того: деньги, взятые в долг; между тем единственным основанием для ее поступка были сплетни, будто у меня крупное состояние, будто я богатая невеста и т.п. Намерение обольстить состоятельную женщину, окажись я таковой, было, конечно, низменным; рядить бедность в богатые одежды тоже мошенничество; но к чести моего мужа надо сказать, что дело обстояло не совсем так: он не был распутником, для которого обольщение женщин стало профессией и который присваивает одно за другим шесть или семь приданых, чтобы тут же дать тягу; нет, это был джентльмен, неудачливый и опустившийся, но знававший лучшие времена; и хотя, будь у меня деньги, я была бы взбешена поведением шлюхи, которая так подвела меня, однако) что касается ее мнимого брата, то состояние неплохо пристало бы к нему, потому что мужчина он был обаятельный, благородных убеждений, здравомыслящий и неистощимой веселости.
Мы долго разговаривали по душам в ту ночь, потому что оба спали мало; он так сокрушался, что послужил причиной стольких моих злоключений, как если бы совершил тяжкое преступление и шел на казнь; снова предложил мне свои деньги до последнего шиллинга, заявив, что поступит в армию и попытается разбогатеть.
Я спросила, почему у него появилось такое жестокое желание увезти меня в Ирландию, если он заведомо не мог содержать меня там.
— Милая моя, — ответил он, обнимая меня, — я никогда не собирался ехать в Ирландию, а тем более увозить вас туда, но прибыл в эти места, чтобы скрыться от людей, прослышавших о моих замыслах, и чтобы никто не стал требовать у меня денег, прежде чем я раздобуду их и получу возможность расплатиться.
— Куда же в таком случае мы должны были екать потом? — спросила я.
— Извольте, милая, открою вам весь свой план: я предполагал расспросить вас здесь о ваших делах, что, как видите, я и сделал; и если бы вы дали мне, как я надеялся, более или менее подробный отчет, я сочинил бы какой-нибудь предлог, чтобы отложить на некоторое время нашу поездку в Ирландию, и мы бы отправились в Лондон. Далее, дорогая моя, я думал признаться вам в истинном положении моих дел и сказать, что я пошел на хитрость, чтобы добиться вашего согласия на брак со мной, но теперь мне остается только просить у вас прощения и заявить, что я буду усердно стараться загладить все это преданнейшей любовью к вам. — Прекрасный план, — сказала я, — и я думаю, вы быстро бы снискали мое расположение; мне крайне прискорбно прискорбно, что я сейчас не в состоянии доказать вам, как легко я пошла бы на примирение с вами и простила бы вам все ваши проделки за ваш веселый нрав. Однако, друг мой, что нам теперь делать? Мы оба в незавидном положении, и от того, что мы примирились, нам не легче, раз у нас нет никаких средств к существованию.
Мы строили много планов, но не могли придумать ничего дельного, потому что нам не с чем было начинать. В заключение муж попросил меня не говорить больше об этом, иначе, сказал он, я разобью ему сердце; после этого мы побеседовали еще немного о других предметах, пока наконец муж не простился со мной и не уснул.
Он встал поутру раньше меня, так как я, не смыкавшая глаз почти всю ночь, очень крепко уснула и проспала до одиннадцати часов. Воспользовавшись этим, он забрал лошадей, троих слуг, все свое белье и гардероб и уехал, оставив у меня на столе следующее коротенькое, но трогательное письмо:
«Милая!
Я — подлец; я Вас обманул, но меня увлекла на этот путь низкая тварь, вопреки моим правилам и обыкновениям. Простите меня, дорогая! От всего сердца прошу у Вас прощения; обманув Вас, я поступил, как отъявленный негодяй. Я был так счастлив обладать Вами, а теперь, увы, с прискорбием вынужден бежать от Вас. Простите меня, дорогая! Еще раз прошу, простите меня! Я не в силах видеть Вас загубленной мной, и я не в силах оказать Вам поддержку. Наш брак не действителен; я никогда больше не увижусь с Вами вновь; освобождаю Вас от всяких обязательств; если Вам представится выгодная партия, не отказывайтесь из-за меня. Клянусь Вам всем святым и даю Вам слово честного человека, никогда я не потревожу Вашего покоя, если узнаю об этом, что, однако, мало вероятно. С другой стороны, если Вы не выйдете замуж и если судьба мне улыбнется, все мое будущее состояние в Вашем распоряжении, где бы Вы ни находились.
Часть оставшихся у меня денег я положил Вам в карман; садитесь со своей горничной в дилижанс и поезжайте в Лондон. Надеюсь, моих денег Вам хватит на дорожные расходы и не придется прибегать к собственному кошельку. Еще раз от всего сердца прошу у Вас прощения и буду просить каждый раз, как о Вас подумаю.
Прощайте, милая, навсегда.
Искренне Вас любящий
Дж. Э.»
Ни одно событие в моей жизни не западало так глубоко мне в сердце, как это прощание. Я мысленно посылала мужу тысячи упреков за то, что он покинул меня, так как я пошла бы за ним на край света хоть и с сумой в руке. Пошарив в кармане, я нашла десять гиней, золотые часы и два колечка: бриллиантовое, стоившее не больше шести фунтов, и обыкновенное золотое.
Я смотрела на эти вещи не отрываясь два часа подряд, не произнеся почти ни слова, пока служанка не вошла в комнату сказать, что обед готов. Я едва прикоснулась к еде и после обеда неудержимо разрыдалась, то и дело окликая мужа по имени — его звали Джеймсом.
— О, Джемми, — причитала я, — вернись, вернись! Я отдам тебе все, что имею, буду просить милостыню, буду голодать вместе с тобой! И вне себя бегала взад и вперед по комнате, временами присаживаясь, потом снова срывалась с места, умоляя его вернуться, и снова разражалась рыданиями. Так провела я весь день, почти до семи вечера, — когда стало уже смеркаться, был август, как вдруг, к моему несказанному удивлению, в гостиницу возвращается муж и идет прямо в мою комнату.
Я пришла в неимоверное замешательство и он тоже. Я никак не могла вообразить, что заставило вернуться, и недоумевала, радоваться мне или сокрушаться; однако любовь поборола все другие чувства, и я не в силах была скрыть свою радость, которая была слишком бурной, чтобы выразиться в улыбках, и прорвалась слезами. Войдя в комнату, муж мой тотчас подбежал ко мне, крепко обнял и чуть не задушил поцелуями, но не произнес ни одного слова. Тогда я спросила:
— Милый мой, как мог ты покинуть меня?
Он ничего мне не ответил на это, точно лишился дара речи. Когда наши восторга немного остыли, он мне сказал, что отъехал больше чем на пятнадцать миль, еще раз и еще раз со мной не попрощавшись.
Я рассказала ему, как провела время и как звала его. Он ответил, что совершенно ясно слышал меня Деламерском лесу, на расстоянии почти двенадцати миль отсюда. Я улыбнулась:
— Не думай, что я шучу, — сказал он, — право же я отчетливо слышал, как ты звала меня, и по временам даже видел, как ты бежишь за мной.
— А что же я говорила? — спросила я, потому что не сообщила Джеймсу, с какими словами к нему обращалась.
— Ты громко звала меня, восклицая: «О Джемми, о Джемми! Вернись, вернись!» Я рассмеялась.
— Не смейся, дорогая, — сказал он, — даю тебе слово, я слышал твой голос так же явственно, как ты слышишь сейчас мой. Если тебе угодно, я готов подтвердить это присягой.
Тогда я крайне изумилась, даже испугалась и рассказала, что я делала и как его звала. Мы оба подивились столь необыкновенному явлению, и я сказала мужу:
— Ну, теперь ты больше не уйдешь от меня. Лучше я пойду с тобой хоть на край света.
Он ответил, что ему будет очень трудно покинуть меня, но так как это необходимо, то он надеется, что я постараюсь по возможности облегчить ему прощание; что же касается его, то он предвидит, что идет на погибель.
Однако тут же заметил, что вот он отпускает меня а Лондон одну, в такой далекий путь, а между тем ничто не мешает и ему поехать в ту же сторону, так что он решил проводить меня до столицы, взяв с меня слово, что я не буду на него сердиться, если он потом скроется, не попрощавшись со мной.
Он рассказал мне, что отпустил своих трех слуг, продал их лошадей, а самих отправил на все четыре стороны, успев сделать все это в самое короткое время в каком-то городе по пути. «И я даже заплакал, — сказал он, — при мысли, насколько они счастливее своего барина, потому что могут предложить свои услуги в ближайшем господском доме, тогда как я не знаю, куда мне идти и что с собой делать».
Я ответила, что после его отъезда я чувствовала себя несчастной, как никогда в жизни, и что теперь, когда он вернулся, я с ним больше не расстанусь, если он согласен взять меня с собой, куда бы он ни поехал. А пока что мы сговорились ехать вместе в Лондон; однако я ни за что не хотела, чтобы он по приезде скрылся, не попрощавшись со мной, но сказала в шутку, что, если он уйдет, я снова буду громко звать его, как сегодня. Потом я вынула его часы, два кольца и десять гиней и отдала ему, но он отказался взять и тем еще больше укрепил мое подозрение, что хочет скрыться по дороге и покинуть меня.
По правде говоря, его бедственное положение, пылкое письмо, благородное поведение во всем этом деле, его заботливость и щедрый подарок, который он мне уделил из своих скудных средств, все это произвело на меня такое глубокое впечатление, что я нежно его полюбила и не могла допустить мысли о разлуке.
Два дня спустя мы покинули Честер; я в дилижансе, он верхом. Свою горничную я отпустила в Честере. Он сильно противился тому, чтобы я осталась без служанки, но так как девушка была из деревни и я не собиралась держать прислугу в Лондоне, то я возразила, что было бы жестоко брать бедняжку с собой, чтобы тотчас же по приезде в столицу отказать ей; притом ее поездка вовлекла бы меня в ненужный расход; словом, я его убедила, и он успокоился.
Муж доехал со мной до Данстебла[40], в тридцати милях от Лондона, и тут сказал, что злой рок и его собственные несчастья заставляют его покинуть меня и что ему неудобно появляться в Лондоне по причинам, которые он не может мне сообщить; и я увидела, что он готовится уехать. Дилижанс обычно не останавливался в Данстебле, но я попросила кучера подождать четверть часа, и тот согласился постоять у ворот гостиницы, в которую мы зашли.
Расположившись в гостинице, я сказала мужу, что хочу просить его только об одном одолжении, именно: раз он не может ехать, то пусть позволит мне остаться с ним в этом городе на неделю или на две, и мы, может быть, придумаем, как нам предотвратить столь тягостную для нас обоих разлуку; кроме того, сказала я, у меня есть одно важное предложение, которое он, возможно, найдет небезвыгодным.
Не было никаких оснований отвергать такой разумный план, поэтому муж позвал хозяйку гостиницы и сказал, что жена его расхворалась и не хочет и слышать о дальнейшей поездке в дилижансе, утомившем ее до смерти. Он спросил, нельзя ли нам достать на два-три дня помещение в частном доме, где бы я могла немного отдохнуть, так как меня слишком измучила дорога. Хозяйка, славная, благовоспитанная и услужливая женщина, тотчас же пришла ко мне и сказала, что у нее есть две-три прекрасные, совершенно отдельные комнаты, куда не доходит шум, и она не сомневается, что эти комнаты мне понравятся, когда я взгляну на них; кроме того, в моем полном распоряжении будет одна из ее служанок. Предложение хозяйки было настолько любезным, что мне оставалось только поблагодарить и принять его; комнаты действительно мне понравились, так как были уютны и превосходно меблированы. Мы расплатились с кучером дилижанса, взяли свой багаж и решили на некоторое время остановиться здесь.
Тут я сказала мужу, что пробуду с ним, пока не выйдут все мои деньги, и не позволю ему истратить ни шиллинга. У нас произошла маленькая ссора по этому поводу, но я заявила, что так как мне, вероятно, в последний раз суждено наслаждаться его милым обществом, то я прошу его позволить мне быть полной хозяйкой в этом деле, а всем остальным пусть распоряжается он сам; он согласился.
Однажды вечером, гуляя с мужем за городом, я сказала, что хочу теперь сделать ему то предложение, о котором упомянула; и я рассказала, что жила в Виргинии, что у меня есть там мать, которая, вероятно, и до сих пор жива, хотя муж мой умер уже несколько лет тому назад. Я сказала, что если бы мое имущество не погибло во время кораблекрушения (размер его я сильно преувеличила), то я была бы теперь богата и нам не грозила бы разлука. Потом я рассказала, как люди устраиваются в тех краях, как поселенцам отводят по тамошней конституции земельные участки, а если кто и не получает их, то легко может купить землю по такой дешевой цене, что о ней не стоит и говорить.
Потом я подробно объяснила мужу, как работают на плантациях, как трудолюбивый человек, привезя с собой английских товаров на двести или триста фунтов, может с помощью нескольких слуг и земледельческих орудий очень скоро устроить свою семью, а через несколько лет сколотить себе состояние.
Я рассказала ему, что там сажают, как обрабатывают и удобряют почву и каковы урожаи в той стране. Начав с тем, что у нас есть, доказывала я, мы через несколько лет разбогатеем, и это так же верно, как то, что сейчас мы бедны.
Муж был поражен моим рассказом; целую неделю мы беседовали на эту тему, и за это время я, как говорится, черным по белому выложила, что нам просто невозможно не разбогатеть там при сколько-нибудь толковом и умелом ведении дела.
Потом я рассказала, каким образом рассчитываю собрать фунтов триста, и стала доказывать, какой бы это был превосходный способ положить конец нашим невзгодам и восстановить наше положение в свете, к чему мы оба так стремились; лет через семь, прибавила я, мы были бы в состоянии оставить нашу плантацию в надежных руках, вернуться на родину, получать доходы и жить в свое удовольствие; и я назвала в качестве примера несколько человек, которые поступили таким образом и отлично живут теперь в Лондоне.
Словом, я так красноречиво убеждала, что муж почти уже готов был согласиться, но все мешало то одно, то другое, пока наконец мы не поменялись ролями и он стал говорить мне почти то же самое об Ирландии.
По его словам, человек, способный посвятить себя деревенской жизни, может арендовать там за пятьдесят фунтов в год ферму, которая сдается в Англии за двести фунтов; земля же там так плодородна и урожаи так велики, что если мы и не сможем много скопить, то жить сможем на наши доходы так же роскошно, как английский помещик на три тысячи фунтов в год; и вот у него возник план оставить меня в Лондоне, а самому поехать в Ирландию и попытать счастья; и если ему удастся, сказал он, прилично устроиться и обзавестись достойным меня хозяйством, в чем он не сомневается, он приедет за мной в Лондон.
Я страшно испугалась, как бы после такого предложения он не поймал меня на слове, то есть мне не пришлось бы обратить свой небольшой капитал в наличные деньги и отдать их мужу для его ирландского опыта; но он был слишком совестлив, чтобы попросить меня об этом или принять деньги, если бы я их предложила; как бы угадав мою мысль, он прибавил, что поедет попытать счастья и если сколотит себе таким образом состояние, то мы сможем, присоединив еще и мои средства, зажить прилично; но что он не рискнет ни одним шиллингом из моих денег, пока не проделает опыта с собственными скромными средствами; впрочем, он мне обещал, если потерпит неудачу в Ирландии, вернуться в Лондон и поехать со мной в Виргинию.
Он с таким жаром настаивал на том, чтобы сначала испытать его план, что я не в силах была противиться. Так или иначе, он обещал известить меня, как только прибудет на место, и дать мне знать, можно ли рассчитывать на успех его предприятия. А на случай, что дело у него не пойдет, я могу пока готовиться к другому путешествию, в Америку, в котором он тогда охотно примет участие.
Большего я не могла от него добиться; на обсуждение этих планов у нас ушел целый месяц, и все это время я наслаждалась обществом моего мужа, а более милого и приятного общества я еще не знала. Тут он рассказал мне историю своей жизни, действительно замечательной и полной разнообразных приключений, из которых могла бы получиться книга, более занимательная, чем все, какие я читала; но я еще буду иметь случай вернуться к нему впоследствии.
Наконец мы расстались, хотя и с неохотой; достаточно веские причины заставили мужа воздержаться от поездки в Лондон, и позднее я убедилась, насколько он был прав.
Я оставила ему адрес, по которому он мог писать мне, но по-прежнему держала от него в тайне свое настоящее имя, общественное положение и местопребывание; он тоже сообщил, куда направлять письма, чтобы они наверняка доходили до него.
На другой день после нашей разлуки я приехала в Лондон, но по некоторым соображениям не остановилась на своей старой квартире, а сняла помещение на Сент-Джон-стрит[41], или, как говорится в просторечии, Сент-Джон в Кларкенвеле. Там, оставшись в полном одиночестве, я на досуге много размышляла о своих скитаниях за последние семь месяцев, ибо мое отсутствие продолжалось не меньше. С бесконечным наслаждением вспоминала я очаровательные часы, проведенные мной с последним мужем; но это наслаждение сильно уменьшилось, когда через некоторое время я почувствовала себя беременной.
Открытие очень досадное, так как мне трудно было найти место, где бы я могла родить; ведь в то время для одинокой женщины, не имеющей друзей, было крайне щекотливым делом получить помощь в таких обстоятельствах, если у нее не было поручителей, а у меня их не было и неоткуда было достать.
Все это время я заботилась о поддержании переписки с моим другом из банка, или, вернее, он заботился об этом, так как писал мне аккуратно каждую неделю; хотя я еще не истратила своих денег и мне поэтому не нужно было обращаться к нему, однако я тоже часто писала ему, с целью показать, что я жива. Я оставила адрес в Ланкашире, так что все его письма были мне пересланы; а во время моего уединения на Сент-Джонстрит я получила от него очень обязательное письмо, в котором он сообщал, что бракоразводный процесс подвигается успешно, хотя и встретились некоторые неожиданные затруднения.
Меня не огорчило известие, что процесс оказался более сложным, чем он ожидал; ибо, хотя мое положение еще не позволяло мне выйти за клерка замуж, я была не так глупа, чтобы выйти за одного, будучи беременной от другого, на что некоторые женщины, я знаю, решаются, однако я ничуть не желала потерять его; словом, решила стать его женой, если он не изменит своих намерений, как только поправлюсь после родов; мне ясно было, что я больше не услышу о своем другом муже; и так как он много раз уговаривал меня выйти замуж, уверял, что примет это как должное и никогда не заявит своих прав на меня, то я без колебания решила так поступить, если буду иметь возможность и мой друг из банка останется верен уговору; а у меня было очень много оснований быть в этом уверенной благодаря его письмам, как нельзя более ласковым и обязательным.
Талия моя стала все больше округляться, и квартирные хозяева, заметив это, учтиво мне намекнули, что я должна подумать о переезде. Я пришла в крайнее замешательство и очень опечалилась, так как положительно не знала, что мне предпринять; у меня были деньги, но не было друзей, и теперь предстояло остаться с ребенком на руках положение, в котором я еще никогда не бывала, как видно из предшествующего рассказа.
Во время этой истории я тяжело захворала, и мое удрученное состояние еще обострило болезнь. В конце концов она оказалась всего лишь лихорадкой, но я сильно опасалась выкидыша. Впрочем, «опасалась» неподходящее выражение: я была бы рада выкинуть, но не предпринимала никаких мер, чтобы вызвать выкидыш; самая мысль об этом была мне противна.
Однако дама, у которой я жила, заведя об этом речь, предложила послать за повивальной бабкой. После некоторых колебаний я согласилась, но сказала, что не знаю ни одной женщины, занимающейся этим делом, и предоставила хлопоты ей самой.
По-видимому, моя хозяйка не была таким новичком в подобного рода делах, как я сначала подумала: это сразу же обнаружилось, когда она послала за самой подходящей повитухой, то есть как раз такой, какая мне была нужна.
Эта женщина, по-видимому, была опытна в своем ремесле, то есть ремесле повивальной бабки, но была у нее еще и другая профессия, в которой она не уступала большинству женщин, если только не превосходила их. Пригласив ее ко мне, моя хозяйка сказала ей, что я очень печальна и что, по ее мнению, это дурно отразилось на моем здоровье; а затем продолжала:
— Миссис Б., мне кажется, недомогание этой дамы принадлежит к числу тех, в которых вы так сведущи; поэтому, если вы можете чем-нибудь ей помочь, пожалуйста, помогите; она очень достойная женщина.
И с этими словами вышла из комнаты.
Я положительно ее не понимала, но как только она ушла, добрая бабушка принялась обстоятельно объяснять мне, что она хотела сказать.
— Сударыня, вы, по-видимому, не понимаете, что имеет в виду ваша хозяйка, и, когда поймете, вам не нужно показывать ей это. Она полагает, что по тем или иным обстоятельствам роды являются стеснительными для вас и что вы не желаете предавать это дело огласке. Больше я про это ничего не скажу, но если вы соблаговолите приоткрыть мне свою тайну в той мере, в какой это нужно (ибо у меня нет ни малейшего желания совать нос в чужие дела), то я, может быть, смогу оказать вам помощь, вернуть вам спокойствие и прогнать ваши мрачные мысли.
Каждое слово этой женщины было для меня бальзамом, оживляло меня и придавало мужества; кровь быстрее потекла по моим жилам, и вся я точно переродилась; у меня появился аппетит, и вскоре после этого я поправилась. Повитуха долго еще говорила на эту тему; потом, убедив меня быть с ней откровенной и торжественно пообещав сохранить тайну, она немного помолчала, как бы выжидая, какое впечатление произвели на меня ее слова и что я скажу.
Я слишком нуждалась в такой женщине, чтобы не принять ее предложения; я ей ответила, что она отчасти угадала мое положение, отчасти нет, так как я замужняя женщина и у меня есть муж, но в настоящее время он находится так далеко, что не может явиться сюда.
Повитуха прервала меня, сказав, что ей нет до этого дела; все дамы, обращающиеся к ней за помощью, для нее замужние. У каждого ребенка есть отец, сказала она, а является ли этот отец мужем или нет, это не ее дело; ее дело помочь мне в моем теперешнем положении, есть у меня муж или нет; — так как, сударыня, — заявила она, иметь мужа, который не может явиться, все равно, что не иметь его, и поэтому жена вы или любовница, для меня безразлично.
Я сразу смекнула, что кем бы я ни была, содержанкой или замужней женщиной, здесь приходилось сойти за содержанку, и потому не стала спорить. Я ответила повитухе, что она права, но если уж она спрашивает о моем положении, то я должна сказать ей правду. И я вкратце рассказала ей все как было, заключив свой рассказ следующими словами:
— Я вас утруждаю этими подробностями, сударыня, не потому, что они касаются вас; я лишь хочу сказать, что меня мало беспокоит, буду ли я на виду или же скрыта от чужих взоров, это мне совершенно безразлично; затруднение мое в том, что у меня нет знакомых в этих местах.
— Понимаю вас, сударыня, говорит, вы не можете представить поручителя, чтобы избежать обычных в таких случаях расспросов приходских властей, и, может быть, не знаете, как поступить с будущим ребенком.
— Последнее, говорю, меньше меня беспокоит, чем первое.
— Что же, сударыня, решаетесь вы довериться мне? — спросила повитуха. Я живу там-то; хотя я не справляюсь о вас, вы можете справиться обо мне; имя мое Б., я живу на такой-то улице, она назвала, — под вывеской Колыбель. По профессии я повивальная бабка, и многие дамы приходят рожать в мое заведение. Я раз и навсегда договорилась с приходом, что беру на себя заботу о тех, кто появится на свет под моей крышей. У меня к вам только один вопрос по этому делу, сударыня; если вы дадите мне на него ответ, то насчет всего остального можете быть совершенно спокойны.
Я сразу поняла, на что она намекает, и ответила:
— Сударыня, мне кажется, я вас понимаю. Пусть у меня недостает друзей в этой части страны, но зато, слава богу, я не имею недостатка в деньгах, по крайней мере, на необходимые расходы, хотя и не могу назвать себя богатой, прибавила я, не желая внушать ей чрезмерных надежд.
— Совершенно верно, сударыня, сказала повитуха, без денег ничего нельзя сделать в таких случаях; и все же вы сейчас увидите, что я вовсе не собираюсь вас грабить или ставить в затруднительное положение, а хочу предупредить обо всем заранее, чтобы вы могли прикинуть и быть щедрой или экономной, как будет для вас удобнее.
Я ответила, что она, по-видимому, отлично поняла мое положение и мне остается просить у нее одного: так как денег у меня достаточно, но сорить ими я все же не могу, то пусть она устроит таким образом, чтобы мне пришлось нести поменьше лишних расходов.
Она сказала, что принесет мне подсчет расходов в двух или трех видах; я выберу тот, который мне больше понравится; я согласилась.
На другой день она принесла мне три счета, и вот как они выглядели:
Фунтов — Шилл. — Пенсов
1. За квартиру и стол в течение трех месяцев, по десяти шиллингов в неделю — 6 — 0 — 0
2. За труды кормилице в течение месяца и за пеленки — 1 — 10 — 0
3. Священнику за крещение ребенка, восприемникам и причетнику — 1 — 10 — 0
4. За ужин на крестинах на пять персон — 1 — 0 — 0
5. За труды повивальной бабке и соглашение с приходскими властями — 3 — 3 — 0
6 Услужающей девушке — 0 — 10 — 0
Итого: 13 — 13 — 0
Такова была первая форма; вторая была составлена по более высокой расценке:
1. За квартиру и стол в течение трех месяцев по двадцати шиллингов в неделю — 13 — 0 — 0
2. За труды кормилице в течение месяца, белье и кружева — 2 — 10 — 0
3. Священнику за крещение ребенка и т.д., как выше — 2 — 0 — 0
4. За ужин, конфеты и сласти — 3 — 3 — 0
За ее собственные труды, как выше — 5 — 5
Служанке — 1 — 0 — 0
Итого: 26 — 8 — 0
Такова была вторая форма; третья, по самому высокому тарифу, предполагала, по ее словам, тот случай, когда появлялись отец ребенка или друзья родильницы:
1. За квартиру и стол в течение трех месяцев, две комнаты и чердак для служанки — 30 — 0 — 0
2. За труды кормилице в течение месяца и за пеленки из самого тонкого полотна — 4 — 4 — 0
3. Священнику за крещение ребенка и т.д. — 1 — 10 — 0
4. За ужин, без вина, его приносят гости — 6 — 0 — 0
За мои труды и т.д. — 10 — 10 — 0
Горничной, кроме постоянной служанки, только — 0 — 10 — 0
Итого: 53 — 14 — 0
Просмотрев эти три счета, я улыбнулась и сказала повитухе, что в общем нахожу ее требования умеренными и не сомневаюсь, что клиентки окружены у нее всеми удобствами.
Она предложила мне сначала посмотреть, а потом уже высказывать свое мнение. В ответ я сказала, что, к сожалению, принуждена буду принять ее услуги по самой дешевой расценке.
— И поэтому вы, наверно, будете ухаживать за мной хуже, чем за другими клиентками, сударыня? сказала я.
— Нисколько, — возразила она, — так как на одну даму по высшей расценке у меня лежат две дамы по средней и четыре по низшей, таким образом я получаю с одних столько же, сколько и с других; но если у вас есть сомнения, пришлите ко мне кого-нибудь из друзей посмотреть, хорошо ли будут за вами ухаживать.
Потом она разъяснила некоторые частности своего счета.
— Прежде всего обращаю ваше внимание, сударыня, на то, что за трехмесячное содержание вы платите мне всего по десяти шиллингов в неделю; ручаюсь, что вы не пожалуетесь на мой стол. Едва ли жизнь у ваших теперешних хозяев обходится вам дешевле.
— О нет, не дешевле. Здесь я плачу шесть шиллингов в неделю только за одну комнату, а стол у меня свой, и обходится гораздо дороже.
— Кроме того, сударыня, продолжала повитуха, если ребенок не выживет или родится мертвым, как это иногда случается, то расходы на священника отпадают; то же самое можно сказать и относительно расходов на ужин, если вам некого пригласить; так что за вычетом этих статей, сударыня, роды обойдутся вам всего лишь на пять фунтов и три шиллинга больше теперешних ваших расходов на жизнь.
Более рассудительной речи мне никогда не приходилось слышать, и я с улыбкой сказала повитухе, что приду к ней и буду ее клиенткой; но так как мне осталось до родов еще два с половиной месяца, то, возможно, мне придется пробыть у нее больше трех месяцев, и я желала бы знать, не попросит ли она меня удалиться раньше положенного срока. Нет, сказала она, дом поместителен; кроме того, она никогда не предлагает своим клиентам выехать, пока они сами не изъявят на то желания; а если у нее бывает слишком много предложений, то выручают соседи: они ее любят и предоставят места хоть на двадцать человек, когда понадобится.
Я нашла, что это выдающаяся женщина в своем роде, и согласилась отдать себя в ее руки. Тогда она заговорила о другом; осмотрела помещение, в котором я жила, нашла его неудобным, а обслуживание никуда не годным и заявила, что у нее мне будет гораздо лучше. Я ей призналась, что не решаюсь жаловаться, потому что с тех пор, как я заболела и моя хозяйка поняла, что я беременна, она как-то странно смотрит на меня, или, по крайней мере, мне так кажется, и я боюсь, как бы она чего не выкинула со мной, пользуясь тем, что я могу дать только самые скудные сведения о себе.
Полно, сказала повитуха, эта барыня сама не чужда таких вещей; она тоже пробовала пользовать дам, находящихся в вашем положении, но ей не удалось сговориться с приходом; и не такая уж она барыня, как кажется. Однако раз вы съезжаете, не ссорьтесь с ней, а я уж позабочусь, чтобы за вами получше ухаживали, пока вы еще здесь, и это не потребует от вас дополнительных расходов.
Я ее не поняла, однако поблагодарила, и мы расстались. На следующее утро она мне прислала жареного горячего цыпленка и бутылку хереса и велела девушке передать, что будет заботиться обо мне каждый день, пока я нахожусь здесь.
Это было верхом доброжелательности и любезности, и я охотно приняла ее услуги. Вечером она снова прислала ко мне узнать, не нужно ли мне чего, и передала служанке, чтобы та пришла к ней утром за обедом. До ухода служанке было велено приготовить мне шоколада, что она и сделала, а в полдень принесла мне на обед телячью грудинку и миску супу; таким способом она ухаживала за мной издали; я была страшно довольна и мигом поправилась, ибо главной причиной моей болезни были, разумеется, черные мысли.
Я боялась, что служанка, которую повитуха присылала ко мне, окажется, как это обыкновенно бывает у таких женщин, бесстыдной наглой тварью с Друри-Лейн[42], и относилась к ней очень подозрительно; в первый вечер я не разрешила ей ночевать у меня и не спускала с нее глаз, точно она была заправской воровкой.
Повитуха мигом сообразила в чем дело и прислала ее ко мне обратно с записочкой, что я могу положиться на честность служанки, что она отвечает за нее и никогда не берет слуг без самых солидных рекомендаций. Тогда я совершенно успокоилась; и действительно, поведение служанки само говорило за себя, так как нельзя было себе представить более скромную, спокойную и благонравную девушку, и такой она оставалась все время. Поправившись настолько, чтобы выходить из дому, я первым делом пошла со служанкой осмотреть дом и помещение, куда мне предстояло переселиться; все оказалось там так удобно и так опрятно, что я не могла ни к чему придраться, но, напротив, была приятно поражена, ибо не рассчитывала на такую роскошь в своем печальном положении.
Читатель, может быть, ожидает подробного описания темных делишек женщины, в руки которой я попала; но думаю, что если бы я открыла, как легко было женщине избавиться там от бремени тайно прижитого ребенка, мой рассказ послужил бы лишь к поощрению порока. Заботы почтенной матроны были весьма разнообразны, между прочим, когда рождался ребенок, хотя бы и не у нее в доме (ее нередко приглашали на частные квартиры), то в ее распоряжении всегда были люди, готовые за скромную плату освободить от ребенка мать, а также приход; и об этих детях, по ее словам, хорошо заботились. Какая судьба постигала их всех, а было их, по ее собственному свидетельству, немало, я из ее рассказов не могла понять.
Я много раз разговаривала с ней на эту тему; но она постоянно оправдывалась тем, что спасает жизнь многих невинных агнцев, как она выражалась, которые в противном случае были бы умерщвлены, а также многих женщин, которые, будучи доведены до отчаяния, покушались бы уничтожить своих детей, за что и отправлялись бы на виселицу. Я согласилась, что она права и что это дело похвальное, лишь бы только бедные дети попадали потом в хорошие руки и няни не обижали их, не морили голодом и не оставляли без присмотра. Она отвечала, что всегда уделяет этому много забот и все няни у нее женщины испытанной честности, на которых можно вполне положиться.
Я ничего не могла возразить и только сказала:
— Сударыня, я нисколько не сомневаюсь, что вы поступаете добросовестно; но что делают ваши люди, вот в чем вопрос.
Однако повитуха снова меня успокоила, сказав, что это составляет предмет самых тщательных забот.
Единственное, что не особенно мне понравилось во всех ее разговорах, было то, что однажды, заведя речь о моей беременности, она сказала несколько слов, из которых я поняла, что она берется ускорить мои роды, если я пожелаю, или, выражаясь без обиняков, может устроить мне выкидыш, если я хочу таким способом положить конец моим затруднениям; но я тотчас же дала ей понять, что даже думать об этом не могу без отвращения; и, нужно отдать ей справедливость, она так искусно повела разговор, что не могу сказать, действительно ли она предлагала мне эту вещь или только упомянула о ней, как о чем-то ужасном; ибо она так ловко построила свою фразу и так быстро схватила мою мысль, что успела отпереться, прежде чем я объяснилась до конца.
Чтобы по возможности сократить эту часть моего рассказа, скажу только, что я покинула свою квартиру на Сент-Джон-стрит и переехала к новой пестунье, как все называли ее в заведении; действительно, я встретила у нее такое вежливое обращение, такой заботливый уход и все мне так понравилось, что я была сильно поражена и не могла сначала понять, какую выгоду получает от этого моя пестунья; но впоследствии поняла, что она и не пытается извлекать барыши из содержания своих клиенток (много ей все равно было не извлечь), а получает доходы от других-статей, притом, могу вас уверить, доходы внушительные, ибо практика у нее была обширная как на дому, так и в городе, и все по очень деликатной части, или, попросту говоря, по части разврата.
За время моего четырехмесячного пребывания у нее в доме она подала помощь не меньше чем двенадцати дамам легкого поведения у себя на дому, и, сколько помнится, еще тридцать две состояли на ее попечении в городе; из них одна жила у моей бывшей хозяйки на Сент-Джон-стрит, той самой, которая со мной держалась так надменно.
Это было разительным свидетельством растущей порочности века, и, несмотря на все свое дурное поведение, я была потрясена до глубины души; я прониклась самым живым отвращением к месту, где находилась, и особенно к клиентуре моей пестуньи; однако должна признать, что за все время моего пребывания в этом доме никогда не видела там, да думаю, что и невозможно было увидеть, ни малейшей непристойности.
Ни один мужчина не поднимался к нам, разве только мужья к женам, да и то в сопровождении пестуньи, которая строжайше наблюдала, чтобы у нее в заведении ни один мужчина не прикасался к женщине, даже к собственной жене, и ни под каким видом не позволяла мужчинам ночевать у себя, хотя бы со своими женами. «Меня мало заботит, — говорила она, — сколько детей рождается в моем доме, лишь бы только их здесь не зачинали». Может быть, она проявляла даже излишнюю строгость. Впрочем, лучше ошибаться в эту сторону, если можно тут говорить об ошибке, чем в противоположную. Репутация ее дома, а даже в подобных заведениях дорожат ею! только выигрывала от этого. Пусть она и оказывала помощь падшим женщинам, никто не мог обвинить ее в том, что она способствовала их падению. А все-таки дурным промыслом она занималась!
Во время пребывания у этой матроны, еще до родов, я получила от моего банкового поверенного письмо, полное всяких любезностей, в котором он настойчиво упрашивал меня вернуться в Лондон; письмо это дошло до меня почти через две недели, так как было послано в Ланкашир, а оттуда уже вернулось ко мне. Мой друг заканчивал его сообщением, что ему удалось добиться судебного постановления против жены и что он готов исполнить свои обещания, если только я согласна, и прибавлял несчетное число уверений в любви и преданности, от которых, наверное, воздержался бы, если бы знал, в каком я нахожусь положении и как мало этого заслуживаю.
Я написала ответ, пометив его Ливерпулем, но отправила с посыльным, под видом, будто он пришел в конверте, адресованном одной лондонской приятельнице. Я поздравляла своего поверенного со свободой, но выражала некоторое сомнение насчет законности нового брака и советовала хорошенько подумать, прежде чем принимать решение, ибо этот шаг влечет столь серьезные последствия, что такому рассудительному человеку, как он, не следует совершать его поспешно. Я заключала письмо пожеланием ему всяких благ, какое бы решение он ни принял, не раскрывая, однако, своих намерений и не давая никакого ответа на его приглашение вернуться в Лондон, кроме смутного намека на возможность приезда к концу года, а был в то время апрель.
Роды случились у меня в середине мая, и я произвела на свет еще одного славного мальчика, чувствуя себя отлично, как и всегда в подобных случаях. Моя пестунья приняла ребенка с величайшим искусством и поразительной ловкостью, куда лучше всех бабок, с которыми я имела дело.
Ее заботы обо мне во время и после родов были таковы, что, будь она моей родной матерью, и тогда не могла бы ухаживать за мной заботливее. Но пусть профессия этой ловкой дамы никому не послужит поощрением в грехе, потому что она уже на том свете и, смею утверждать, не оставила после себя ничего, что могло бы сравниться с ее заведением.
Дней через двадцать после родов я получила еще одно письмо от моего друга из банка с неожиданным известием, что ему удалось добиться окончательного развода, о котором он уже объявил своей жене, и что он даст мне такой ответ на все мои сомнения по поводу нового брака, какого я, наверно, не ожидала, а он совсем не желал; ибо, как только его жена, которая уже и раньше начала раскаиваться в своем поведении, узнала, что он добился развода, она в тот же вечер самым прискорбным образом покончила самоубийством.
Он чистосердечно признавался, что это несчастье очень его расстроило, но утверждал, что поступил лишь по справедливости, обратившись в суд в ответ на явное оскорбление и обман. Однако он был крайне опечален этой смертью и говорил, что утешает себя лишь надеждой на мое возвращение и встречу со мной; а в самом конце письма умолял меня хотя бы обещать, что я приеду в Лондон и повидаюсь с ним, и тогда мы могли бы поговорить на эту тему.
Я была крайне поражена полученным известием и серьезно призадумалась над тем, какое для меня несчастье остаться с ребенком на руках; я положительно не знала, что делать. Наконец я смутно намекнула на свое положение пестунье; несколько дней я казалась сильно опечаленной, и она беспрестанно осаждала меня расспросами, что со мной. Ни за что на свете не могла я ей сказать, что получила предложение выйти замуж, после того как постоянно твердила, что у меня есть муж, и просто не знала, как быть. Я только призналась, что меня страшно мучит она вещь, но в то же время заявила, что не могу открыться никому на свете.
Она продолжала пытать меня несколько дней, но я сказала, что никому не могу доверить свою тайну. Вместо того чтобы удовлетвориться таким ответом пестунья стала приставать ко мне еще назойливее; говорила, что ей доверяли величайшие тайны этого рода и что в ее собственных интересах не разглашать их, так как как разглашение было бы для нее гибельным. Она спросила: разве я когда слышала, чтобы она болтала о чужих делах, и как я могу подозревать ее? Довериться ей, сказала она, все равно что могиле; она будет молчать как мертвая; нужен очень уж необыкновенный случай, чтобы она не могла мне помочь; а хранить тайну — значит лишать себя всякой надежды на помощь и ее лишать возможности услужить мне. Словом, красноречие ее было так неотразимо и сила убеждения так велика, что не было никакой возможности таиться от нее.
И вот решила я открыть ей свою душу. Я рассказала историю своего ланкаширского брака и какое разочарование постигло нас обоих; как мы обвенчались и как расстались; как муж освободил меня от всяких обязательств, насколько это было в его власти, и предоставил мне полную свободу вновь выйти замуж, поклявшись никогда не привлекать меня к ответственности, не тревожить и не изобличать, если ему станет об этом известно. Я сказала, что считаю себя свободной, но все же опасаюсь последствий, которые может повлечь за собой огласка.
Потом я сказала пестунье, какое хорошее предложение я получила; показала ей письма моего друга, с такой настойчивостью приглашавшего меня в Лондон, но утаила его имя, а также историю самоубийства его жены, сказав лишь, что она умерла.
Пестунья посмеялась над моими сомнениями насчет нового замужества, сказав, что то был не брак, а сплошной обман и что раз мы расстались по взаимному соглашению, то договор между нами уничтожен и мы свободны от всяких обязательств друг перед другом. Доводы так и сыпались у нее один за другим; в конце концов она совсем убедила меня, чему немало помогло соответствие ее доводов с моими тайными желаниями.
Но главным и важнейшим препятствием к их осуществлению был ребенок. Надо, сказала мне пестунья, от него отделаться, и притом так, чтобы никто на свете не мог разыскать его. Я понимала, что не может быть и речи о браке, если я не скрою, что у меня есть ребенок, ибо мой муж вскоре понял бы по возрасту младенца, что он родился больше того, был зачат после моих переговоров с ним, и все дело было бы погублено.
Но мысль, что я расстаюсь со своим дитятей навсегда, что его, может быть, умертвят или что, лишенный заботливого ухода, он захиреет и умрет (признаться, большой разницы я тут не вижу), мысль эта заставляла сжиматься мое сердце и наполняла меня ужасом. Пусть все женщины знают, что, «пристраивая», как это принято называть, своих детей, они совершают предумышленное убийство, что это просто-напросто способ безнаказанно убивать своих детей.
Для всякого, кто сколько-нибудь смыслит в детях, ясно, что мы рождаемся на свет беспомощными и не только не способными удовлетворять свои потребности, но даже заявлять о них, и что, лишенные помощи, мы неизбежно погибли бы; необходима помощь, будь то помощь матери или чья-либо иная, но главное, чтобы она была оказана заботливо и искусно; без этого половина новорожденных будет умирать, хотя бы им и не отказывали в пище, а половина выживших будет расти калеками или идиотами, безрукими и безногими, а иногда умалишенными. Для того, я думаю, природа и вложила в сердце матери любовь к детям; ведь одно это чувство и заставляет мать так беззаветно отдавать всю себя неусыпным трудам и попечениям, без которых нельзя вырастить ребенка.
А раз дети не могут жить без ухода, то, лишая их наших забот, мы все равно что убиваем их. В самом деле, отдать ребенка в руки тех, кому природа не вложила в сердце этого необходимейшего чувства любви, значит оставить его на произвол судьбы. Да что там, иная ведь и бросает-то ребенка в надежде на то, что он умрет! И все равно, даже если ребенок остается жив, его мать убийца, потому что она хотела его смерти.
Все это предстало моему воображению в самом мрачном и ужасном свете; а так как я была очень откровенна со своей пестуньей, которую привыкла уже называть матушкой, то и выложила ей все эти опасения, не дававшие мне покоя, и рассказала о своем отчаянии. Это мое признание, по-видимому, смутило ее гораздо больше, чем прежнее; но если сердце ее настолько очерствело от подобных вещей, что ни соображения религии, ни убийстве уже не способны были вызвать в ней угрызений совести, то она была столь же глуха ко всяким проявлениям чувства. Она спросила: разве не заботилась она и не ухаживала за мной во время родов, как за родной дочерью. Я сказала, что это верно.
А когда вы уйдете от меня, голубушка, сказала она, что мне за дело будет до вас? Какая мне печаль, если вас повесят? Неужели вы думаете, что нет на свете женщин, которые ухаживают за детьми не хуже родной матери, даже искуснее, хоть и зарабатывают этим на пропитание? Полно, дитя, не бойтесь! А как нянчили нас самих? Разве вы уверены, что вас вынянчила ваша матушка? Между тем вы пухленькая и пригоженькая, деточка, говорила старая ведьма, поглаживая меня по щеке. Успокойтесь, деточка, продолжала она в том же шутливом тоне, я не держу наемных убийц; у меня служат лучшие няни на свете, у которых гибнет не больше детей, чем если бы их нянчили матери; нет, дети здесь не страдают от недостатка забот и ухода.
Она задела меня за живое, спросив, уверена ли я, что меня вынянчила мать; я была уверена как раз в обратном и вздрогнула и побледнела при этих словах. Уж не колдунья ли эта старуха, подумала я, и не сносится ли она с чертом, который ей открыл, кем я была, еще прежде чем я сама стала сознавать это. И я с ужасом на нее посмотрела. Но, рассудив, что она никаким образом не могла получить обо мне сведений, успокоилась и мало-помалу овладела собой.
Старуха заметила мое смущение, но не поняла его причины и пустилась в длинные рассуждения о вздорности моих страхов, будто дети гибнут, если их не вынянчивают матери; она всячески мне доказывала, что дети, которых она отдает на сторону, окружены такими же заботами, как если бы каждого из них нянчила родная мать.
— Возможно, что это правда, матушка, — сказала я, — но все же у меня есть причины сомневаться.
— Хорошо, выкладывайте мне ваши причины.
— Вот вам первое, — говорю. — Вы платите вашим людям за то, что они берут ребенка у родителей и ухаживают за ним, покуда он жив. А мы ведь знаем, что это бедняки и им выгодно развязаться со своей обузой как можно скорее. Если для них выгодно, чтобы ребенок умер, то можно ли сомневаться, что они не станут слишком заботиться о нем?
— Бредни и выдумки! — отвечала старуха. — Говорю вам, что все доверие к этим людям зависит от того, в каком состоянии дети, и они за ними ухаживают, как ни одна мать.
— Ах, матушка, — воскликнула я, — если бы только я была уверена, что за моим ребеночком будут заботливо и добросовестно присматривать, я была бы счастлива. Но поверю я в это, только если увижу собственными глазами; а навещать моего ребенка значило бы в моем теперешнем положении погубить себя; и вот я не знаю, как мне быть.
— Милое дело! — сказала пестунья. — Вы хотели бы и видеть ребенка, и не видеть его; хотели бы и скрываться, и выдать себя, все вместе. Это невозможно, голубушка, и вам придется поступить по примеру других совестливых матерей и удовольствоваться тем, что всегда делается в таких случаях, хотя это вам и не нравится.
Я поняла, кого она разумела под «совестливыми матерями»: старуха хотела сказать «совестливые потаскухи», но не решилась обидеть меня, а я, право, в этом случае была не потаскухой, а законной женой, если только считать законным мой последний брак.
Но кем бы я ни была, я еще не очерствела, как то свойственно женщинам этого рода, то есть не стала безразличной к участи моего ребенка; мое материнское чувство было настолько сильно, что я готова была пожертвовать своим другом из банка, который так настойчиво упрашивал меня вернуться и выйти за него замуж, что почти невозможно было отказать ему.
Наконец моя старая пестунья пришла ко мне и с присущей ей уверенностью сказала:
— Ну вот, голубушка, я придумала способ, который позволит вам быть спокойной насчет хорошего ухода за вашим ребенком, и в то же время люди, приставленные к нему, никогда не узнают, что вы его мать.
— Ах, матушка, если вы это устроите, я буду вам обязана по гроб жизни.
— Ладно, — говорит. — Согласны вы пойти на маленький ежегодный расход сверх той суммы, которую мы обыкновенно платим по таким уговорам?
— Ну, разумеется, от всего сердца, только бы никто не знал об этом.
— Насчет этого, — говорит, — можете быть спокойны. Няня никогда не посмеет расспрашивать о вас, и раз или два в год вы будете навещать со мной вашего ребенка и сами увидите, как за ним ухаживают; таким образом, вы убедитесь, что он в хороших руках, и никто не узнает, кто вы такая.
— И вы думаете, что, навещая своего ребенка, я сумею скрыть, что я его мать? Думаете, что это возможно?
— Даже если вы откроетесь, няня никогда не подаст виду; ей запрещено будет о вас расспрашивать и обращать на вас внимание, и если она не послушается, то лишится денег, которые идут ей от вас, и у нее отнимут ребенка.
Я была в восторге от этого предложения. И вот через неделю к нам привели крестьянку из Хартфорда[43] или окрестных мест, которая согласилась взять ребенка на полное свое попечение за десять фунтов. При условии же, что я буду ей давать еще пять фунтов в год, она обязывалась по каждому нашему требованию приносить ребенка к моей пестунье или же разрешать нам самим навещать его и смотреть, хорошо ли она за ним ухаживает.
С виду это была здоровая и привлекательная женщина, жена простого землепашца, но хорошо одетая, в чистом белье и очень опрятная; с тяжелым сердцем и горькими слезами позволила я ей взять ребенка. Я сама съездила в Хартфорд посмотреть, как она живет, и все мне очень понравилось; я ей посулила много подарков, если она будет ласкова с ребенком, и, таким образом, она с первого же слова поняла, что я его мать. Но она жила в такой глуши и так скромно воздержалась от расспросов, что я сочла себя в полной безопасности. Словом, я согласилась оставить ей ребенка и дала ей десять фунтов, вернее, не ей, а моей пестунье, которая и вручила деньги бедной женщине в моем присутствии, и та обязалась никогда не возвращать мне ребенка и не требовать прибавки за его содержание и воспитание; я лишь обещала, если она будет очень заботлива, дарить ей еще кое-что во время моих посещений; таким образом, я не связала себя условием платить ей еще по пяти фунтов, а только пообещала это моей пестунье. Так избавилась я от своей тяжелой заботы, и хотя на душе у меня было по-прежнему неспокойно, однако ничего более удобного я при тогдашнем положении моих дел не могла бы придумать.
После этого я стала писать моему другу из банка в более ласковом тоне и, между прочим, в начале июля известила его, что собираюсь быть в Лондоне в середине августа. Он ответил мне в самых пылких выражениях, умоляя дать ему знать об этом своевременно, и он выедет мне навстречу на двухдневный перегон. Это привело меня в жестокое замешательство, и я не знала, какой мне дать ответ. И вот я решила поехать в почтовой карете в Честер с единственной целью иметь удовольствие вернуться обратно, чтобы он мог видеть, что я действительно еду с севера, ибо у меня, правда без всяких оснований, возникла тревожная мысль, как бы он не усомнился в моем пребывании на севере Англии. Вы скоро увидите, что это было не так уж глупо.
Я пробовала прогнать эту мысль, но все было напрасно; она так завладела мною, что невозможно было с нею бороться. Наконец, в подкрепление моему новому намерению уехать из Лондона, мне пришло на ум, что эта поездка великолепно скроет от моей старой пестуньи все мои другие дела, ибо она не имела ни малейшего представления, где живет мой новый возлюбленный, в Лондоне или в Ланкашире, и когда я сообщила ей о своем решении, она прониклась полной уверенностью, что он в Ланкашире.
Подготовившись к этой поездке, я дала знать старухе и послала девушку, прислуживавшую мне с самого начала, взять для меня место в почтовой карете. Моя пестунья выразила желание, чтобы служанка сопровождала меня до последней станции и вернулась в Лондон в той же карете, но я убедила ее, что это будет неудобно. Когда я уезжала, она сказала, что не будет пытаться поддерживать со мною связь, так как убеждена, что любовь к ребенку побудит меня самое писать ей и даже навещать по возвращении в Лондон. Я уверила ее, что она не ошибается, и распростилась, страшно довольная, что покидаю наконец это заведение, несмотря на весь его комфорт.
Я не доехала до той станции, куда у меня был взят билет, а сошла в местечке Сгон, кажется, в Чешире, где у меня не только не было никакого дела, но не было также ни одной знакомой души. Но я знала, что с деньгами мы везде дома; я провела там два или три дня, пока не получила места в другой карете, и поехала обратно в Лондон, уведомив моего любезного письмом, что в такой-то день буду в Стони Стретфорде[44], где кучер должен был остановиться.
Карета, в которой я ехала, оказалась в этих местах случайно; она была нанята до Честера какими-то господами, направлявшимися в Ирландию, и теперь, на обратном пути, не была в такой степени связана расписанием, как почтовые кареты; так мы простояли на месте все воскресенье, и поэтому мой поверенный успел приготовиться к поездке, что в противном случае ему бы не удалось.
В его распоряжении было, однако, так мало времени, что он не успел доехать до Стони Стретфорда, чтобы встретиться там со мной к ночи, но встретил меня на следующее утро в местечке Брикхилл, как раз когда мы въезжали туда.
Признаюсь, я была очень рада видеть его, потому что накануне вечером чувствовала себя немного разочарованной, тем более что так далеко заехала ради этой встречи. Еще больше порадовал он меня блеском своего появления: он ехал в прекрасной барской карете четверней, с лакеем на запятках.
Мой друг тотчас же предложил мне выйти из кареты, которая остановилась перед гостиницей; заехав в эту же гостиницу, он велел отпрягать и заказал обед. Я спросила, зачем это, ведь я собираюсь продолжать путешествие. Он сказал: нет, мне нужно немного отдохнуть, а это прекрасная гостиница, даром что городок маленький; словом, мы не поедем дальше сегодня, что бы там ни случилось.
Я не очень настаивала; ведь раз он выехал так далеко мне навстречу, пошел на такие издержки, было бы неучтиво с моей стороны не сделать и ему маленького одолжения; и я не стала долго противиться.
После обеда мы пошли осматривать город и церковь и прогуляться по окрестностям, как обыкновенно делают приезжие, и хозяин гостиницы взялся быть нашим проводником при осмотре церкви. Я заметила, что мой любезный подробно осведомляется о священнике, и тотчас смекнула, что он, наверное, хочет предложить мне обвенчаться; и, конечно, я бы не отказала, потому что, говоря откровенно, положение мое было не таково, чтобы я могла сказать нет; у меня теперь не было оснований идти на подобный риск.
Но в то время, как эти мысли мелькали в моей голове, что было делом нескольких мгновений, я заметила, что хозяин отводит моего друга в сторону и шепчет ему, впрочем, не очень тихо: Сударь, если вам понадобится…? Остального я не расслышала, но, по-видимому, это было что-нибудь в таком роде: Сударь, если вам понадобится священник, то у меня есть поблизости друг, который всегда к вашим услугам и, если вы пожелаете, будет нем как рыба. Мой спутник ответил довольно громко: Отлично, я думаю, что понадобится.
Едва мы вернулись в гостиницу, как он накинулся на меня со словами, что раз ему посчастливилось встретиться со мной и все сложилось так благоприятно, то он молит меня ускорить его счастье, сразу покончив со всеми церемониями.
— Что вы хотите сказать? спросила я, слегка краснея. Слыхано ли? В гостинице, на большой дороге! Боже милостивый, как вы можете говорить подобные вещи?
— Очень даже могу, говорит, с этой целью я и приехал сюда; сейчас я вам это докажу, — и с этими словами вынимает большую связку бумаг.
— Вы меня пугаете, — сказала я, что это такое?
— Не бойтесь, дорогая, — проговорил он в ответ и поцеловал меня. В первый раз он позволил себе такую вольность. Потом, повторяя: — Не бойтесь, сейчас все увидите, — разложил передо мной все эти бумаги.
Там был, во-первых, акт, или постановление, о разводе с женой и при нем ряд свидетельских показаний о ее распутном поведении; потом свидетельство о ее похоронах, выданное священником и церковным старостой того прихода, где она жила, с указанием, какой смертью она умерла; копия распоряжения следователя о созыве суда присяжных для разбора ее дела и приговор присяжных, выраженный словами: non compos mentis[45]. Все это, несомненно, относилось к делу и должно было меня порадовать, хотя, замечу мимоходом, я не была настолько щепетильна, чтобы отказаться выйти за него и без этих документов. Однако я внимательно их пересмотрела и сказала, что все это, конечно, совершенно бесспорно, но что не было надобности привозить сюда эти бумаги, так как у нас еще довольно времени. — Нет, — сказал он, — может быть довольно времени для меня, но совсем не довольно для него, так как он не хочет знать никакого времени, кроме настоящего.
Была у него еще свернутая бумага, и я спросила, что это такое.
— Вот-вот, — сказал он, — я больше всего желал, чтобы вы мне задали этот вопрос.
И с этими словами он достает шкатулочку из шагреневой кожи, раскрывает ее и преподносит мне красивое кольцо с бриллиантом. Я не могла бы отказаться от него, даже если бы хотела, потому что он надел мне кольцо на палец; оставалось только сделать реверанс и поблагодарить. Потом он вынимает другое кольцо. А это, говорит, для другого случая. И кладет кольцо в карман.
— Все же покажите мне его, — говорю я и улыбаюсь, — я догадываюсь, что это такое: вы с ума сошли!
— Я был бы сумасшедшим, если бы не сделал этого, — сказал он и все не показывал мне кольца, а мне страшно хотелось увидеть его, и я говорю:
— Дайте же мне посмотреть!
— Постойте, — говорит, — посмотрите сначала вот это. Тут он снова берет свиток, читает его, и оказывается, что это разрешение на брак.
— Да вы и правда не в своем уме! Вы, значит, были уверены, что я соглашусь с первого же слова, или решили не принимать отказа?
— Последнее ваше предположение правильно, — ответил он.
— Но, может быть, вы ошибаетесь, — говорю.
— Нет, нет, — говорит, — не должно быть отказа, не может быть отказа. И с этими словами он принялся так страстно целовать меня, что я не могла от него вырваться.
В комнате была кровать, и мы расхаживали взад и вперед, увлекшись разговором. Вдруг он неожиданно схватил меня в объятия, бросил на кровать и сам упал со мной; крепко обняв меня, но не, позволяя себе никакой нескромности, он стал выпрашивать у меня согласия, пустив в ход мольбы и доводы, признаваясь в любви и клянясь, что не выпустит меня, пока я ему не пообещаю, так что наконец я сказала:,
— Да вы и впрямь решили не принимать отказа.
— Нет, нет, — говорит, — не должно быть отказа, не хочу отказа, не может быть отказа!
— Ладно, ладно, — сказала я, — поцеловав его, в таком случае, вам не откажут, а теперь пустите меня.
Он был так восхищен моим согласием и нежностью, что я подумала, уж не хочет ли он этим ограничиться и не собирается ли вступить в брак, не дожидаясь церемоний. Но я была несправедлива к нему, ибо он перестал меня целовать, поднял с кровати и, поцеловав еще несколько раз, поблагодарил за уступчивость; он был так преисполнен благодарности, что слезы выступили у него на глазах.
Я отвернулась, потому что мои глаза тоже наполнились слезами, и попросила позволения удалиться на время в свою комнату. Если я чувствовала когда-нибудь крупицу искреннего раскаяния в гнусной жизни последних двадцати четырех лет, то именно — в ту минуту. О, как счастливы люди, говорила я себе, что они не могут читать в чужих сердцах! Какое было бы счастье, если бы я с самого начала стала женой такого честного и любящего человека.
Потом в голову пришли другие мысли. Какая я мерзкая тварь! И как этот простодушный господин будет обманут мною! Как далек он от мысли, что, разведясь с одной потаскухой, бросается теперь в объятия другой! Собирается жениться на особе, которая была в связи с двумя братьями и имела троих детей от родного брата! Которая родилась в Ньюгете и мать которой была уличной девкой, а теперь ссыльная воровка! Особе, которая спала с тринадцатью мужчинами и прижила дитя уже после знакомства с ним. Бедный, бедный, на что он идет!
Покончив с угрызениями совести, я сказала себе так: Но если мне суждено стать его женой, если Богу угодно даровать мне такую милость, я буду ему верна и буду любить его так же страстно, как он полюбил меня. Своими поступками, которые он будет видеть, я постараюсь загладить свои грехи перед ним, которых он не видит?;
Он с нетерпением ожидал, когда я выйду к нему, но, не дождавшись, спустился вниз и заговорил с хозяином о священнике. Хозяин, человек угодливый, хотя и исполненный добрых намерений, уже успел послать за священником, так что, когда мой поклонник стал просить его об этом, он сказал:
— Сударь, мой друг здесь, в нашем доме, — и без лишних слов свел своего гостя со священником.
Мой поклонник сразу же спросил священника, берется ли он обвенчать приезжих мужчину и женщину, которые оба согласны сочетаться браком. Тот ответил, что мистер*** уже говорил ему об этом; он надеется, что это не какой-нибудь тайный брак, так как ему кажется, что он имеет дело с почтенным джентльменом и что дама, вероятно, не юная девица, которой требовалось бы согласие родителей.
— Чтобы рассеять все ваши сомнения на этот счет, — говорит мой друг, — прочтите эту бумагу. И вынимает разрешение.
— Мне больше ничего не нужно, — отвечает священник. — Где же дама?
— Вы сейчас ее увидите.
Сказав это, мой друг поднимается наверх, а я как раз в эту минуту выхожу из комнаты; вот он и говорит, что священник внизу, видел разрешение и вполне согласен обвенчать нас, но хочет видеть меня, так разрешу ли я ему подняться.
— Времени еще довольно, — говорю, — завтра утром, — не правда ли?
— Но знаете, милая, он, по-видимому, беспокоится, не юная ли вы девица, похищенная у родителей, хотя я уверял его, что мы оба в таком возрасте, когда не требуется согласия старших; вот почему он хочет вас видеть.
— Ну так делайте, как вам угодно, — сказала я.
И вот священника приглашают наверх, и оказывается он общительным, веселым человеком. Ему, по-видимому, было рассказано, что мы встретились здесь случайно; что я приехала в честерской почтовой карете, а мой любезный в собственной карете ехал мне навстречу; что мы должны были встретиться вчера вечером в Стони Стретфорде, но он не успел туда доехать.
Во всякой неудаче, сударь, — говорит священник, — есть всегда что-нибудь хорошее. Для вас это неудача, обращается он к моему другу, а для меня удача; ведь если бы вы встретились в Стони Стретфорде, я не имел бы чести венчать вас. Хозяин, есть у вас требник?
Я так и привскочила, точно от испуга.
— Сударь, вскрикнула я, — что вы хотите сказать? Как! Венчаться в гостинице, на ночь глядя!
— Сударыня, — ответил священник, — если вы желаете венчаться в церкви, сделайте милость, но уверяю вас, что брак ваш от этого не будет крепче. Каноны не требуют совершать венчание непременно в церкви, а что касается времени дня, то оно в данном случае не имеет никакого значения. Наши принцы венчаются у себя дома и в восемь и в десять часов вечера.
Меня пришлось долго упрашивать, и я все твердила, что хочу венчаться непременно в церкви. Но все это было только кривлянье, так что в конце концов я заявила, что уступаю, и к нам приглашены были хозяин с женой и дочерью. Наш хозяин был и посаженым отцом, и причетником; мы обвенчались и были очень веселы, хотя, признаюсь, угрызения совести угнетали меня, и время от времени из труди моей вырывался глубокий вздох; заметив это, муж мой постарался меня ободрить, думая в простоте душевной, что у меня еще остались колебания по поводу столь поспешного шага.
Мы веселились этот вечер вовсю, и, однако, все осталось в таком секрете, что даже слуги в гостинице ничего не знали, ибо мне прислуживала сама хозяйка с дочерью, не позволив ни одной служанке подняться наверх. Дочь хозяйки была у меня подружкой, и поутру, послав за лавочником, я подарила ей красивые ленты; узнав же, что в этом городе выделывают кружева, подарила ее матери плетеных кружев на чепец.
Одной из причин скрытности хозяина было нежелание, чтобы весть о нашей свадьбе дошла до приходского священника; но, несмотря на все его предосторожности, кто-то пронюхал об этом, так что рано утром нас угостили колокольным звоном и музыкой под окошком, какая нашлась в городе. Но хозяин наврал, будто мы обвенчались еще до приезда сюда и только (на правах его давних постояльцев) пожелали устроить свадебный ужин в его доме.
На другой день у нас не было никакого расположения трогаться в путь, так как, будучи потревожены утренними колоколами и не выспавшись перед этим как следует, мы пролежали в постели почти до полудня.
Я попросила хозяйку позаботиться о том, чтобы нас больше не угощали музыкой и колокольным звоном, она это устроила, и нас уже не беспокоили. Но одно неожиданное событие надолго прогнало мою веселость. Зала в гостинице выходила окнами на улицу; прогуливаясь по ней, когда муж спустился зачем-то вниз, я подошла к окну и, так как день был погожий и теплый, распахнула его, чтобы подышать свежим воздухом, как вдруг вижу, что в гостиницу напротив заехали трое всадников.
От меня не укрылось, что вторым из этих всадников был, без всякого сомнения, мой ланкаширский муж. Я до смерти перепугалась; никогда в жизни не испытывала я такого ужаса; мне хотелось провалиться сквозь землю; кровь застыла у меня в жилах, и я затряслась, как в самой жестокой лихорадке. Не оставалось, повторяю, никаких сомнений; я узнала его платье, узнала его лошадь, узнала его лицо.
Первое, о чем я подумала, было как хорошо, что моего мужа нет возле меня и что он, значит, не видел моего замешательства. Войдя в гостиницу, приехавшие господа подошли к окну своей комнаты, как-то обыкновенно бывает, то мое окно, разумеется, было уже закрыто. Все же я не могла удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на них, и снова его увидела, услышала, как он подозвал зачем-то слугу, и с ужасом еще раз убедилась, что это не кто иной, как он.
Следующей моей заботой было узнать, зачем они сюда приехали; но это было невозможно. Мое воображение рисовало мне ужасы, один страшнее другого; мне казалось, что он заметил меня и сейчас придет упрекать в неблагодарности и нарушении слова; я воображала, что он уже поднимается по лестнице, чтобы оскорбить меня, и тысячи домыслов приходили мне в голову о том, чего он никогда не думал и не мог думать, если только его не просветил сам дьявол.
Я пребывала в таком страхе целых два часа и почти не спускала глаз с окна и дверей гостиницы, в которой они остановились. Наконец, услышав громкий шум под воротами той гостиницы, подбежала к окну и, к своему великому удовольствию, увидела, что все трое уехали по направлению на запад. Если бы они повернули к Лондону, я по-прежнему была бы в, страхе, что снова его встречу и он меня узнает; но он поехал в противоположную сторону, и у меня отлегло от сердца.
Мы решили тронуться в путь на другой день, но около шести часов вечера были перепуганы страшным смятением на улице. Какие-то всадники скакали как угорелые; оказалось, что это погоня за тремя разбойниками, ограбившими две кареты и еще несколько путешественников возле Данстебл-хилла, и распространился слух, что их видели в Брик-хилле, в таком-то доме, то есть в гостинице, — где останавливались эти господа.
Дом был немедленно оцеплен и обыскан, но нашлось много свидетелей тому, что всадники уже больше трех часов как уехали. Собралась толпа, нам быстро сообщили все подробности, и тогда в меня закралась тревога совсем иного рода. Я поспешила сказать обитателям нашего дома, что могу поручиться за честь тех всадников; по крайней мере, мне известно, что один из них почтенный джентльмен, владелец прекрасного поместья в Ланкашире.
Об этом тотчас сообщили прибывшему на шум констеблю, который сам явился ко мне, чтобы услышать показание из моих собственных уст; я показала, что видела троих всадников из своего окна, а потом через окна комнаты, в которой они обедали; видела, как они садились на коней, и готова присягнуть в том, что знаю одного из них, что это джентльмен с крупным состоянием, пользующийся самой доброй славой в Ланкашире, откуда я только что приехала.
Уверенность, с которой я все это показала, охладила страсти собравшихся горожан, и до такой степени удовлетворила констебля, что он тотчас же забил отбой, заявив во всеуслышание, что это совсем не разбойники, а, как он сейчас узнал, честные джентльмены, после чего все разошлись по домам. Как было на самом деле, не знаю; верно лишь то, что кареты действительно были ограблены у Данстебл-хилла и у проезжих отнято пятьсот шестьдесят фунтов; кроме того, были обобраны несколько торговцев кружевами, которые всегда ездят по этой дороге. Что касается трех джентльменов, то рассказ о них я покамест откладываю.
Вся эта тревога задержала нас еще на день, хотя мой супруг уверял, что всего безопаснее путешествовать после грабежей, так как воры, всполошив окрестное население, спешат скрыться куда-нибудь подальше, но я беспокоилась, опасаясь главным образом, как бы мой старый знакомый не встретился случайно со мной на большой дороге и не узнал меня.
Никогда еще за всю жизнь не знала я четырех таких счастливых дней сряду. Я чувствовала себя новобрачной, и мой супруг изо всех сил старался угождать мне. О, если бы это счастье продлилось! Тогда были бы забыты все мои прошлые горести и предотвращены мои будущие невзгоды. Но меня ждала расплата за мою недостойную жизнь как на том свете, так и на этом.
Мы выехали на пятый день, и наш хозяин, видя, что я встревожена, вооружился ружьем, сел на коня, взял с собой сына и трех дюжих крестьянских парней и, ни слова не говоря, проводил нашу карету до Данстебла. Нам, понятно, оставалось только хорошо угостить своих провожатых в Данстебле, что обошлось моему супругу в десять или двенадцать шиллингов, да кое-что он дал еще людям за потерю времени, но хозяин отказался взять деньги.
Обстоятельства сложились для меня как нельзя более, благоприятно; ведь если бы я приехала в Лондон необвенчанной, то мне бы пришлось либо идти к мужу в первую же ночь, либо признаться, что во всем Лондоне у меня нет ни одного знакомого, который бы принял на ночь бедную новобрачную с супругом. Теперь же я без всяких колебаний поехала прямо к нему и сразу получила в свое распоряжение хорошо обставленный дом и солидного мужа, так что передо мной открылась самая счастливая жизнь и я могла на досуге познать настоящую ее цену. Как она была не похожа на то распутное существование, которое я вела до сих пор, и насколько жизнь добродетельная и скромная счастливее той, которую мы называем беседой.
Ах, если бы я могла дольше удержаться на этой стезе; если бы я успела вкусить сладость добродетельной жизни и не впала так скоро в нищету, эту могилу добродетели! Ведь я могла бы прожить счастливо на этом свете и познать вечное блаженство на том. Пока длилась моя добродетельная жизнь, я искренне раскаивалась в своих грехах. С отвращением озиралась я на свое прошлое, с неподдельной ненавистью на себя. Часто размышляла я о том, как мой любовник из Бата, поверженный десницей Божьей, раскаялся и покинул меня, отказавшись встречаться со мной, хотя и любил меня до безумия. Я же, подстрекаемая злейшим дьяволом — бедностью, — вернулась на стезю греха и для облегчения своей тяжелой участи пустила в ход выгоды того, что называют смазливым личиком, сделав красоту сводней порока.
Сейчас, однако, после бурного плавания по житейскому морю, я достигла тихой гавани и испытывала благодарность за свое избавление. Часами просиживала я в одиночестве, горько плача над прошлыми безумствами, и мне начинало казаться, что раскаянье мое было полным и искренним.
Но есть соблазны, которым человеческая природа не в силах противостоять, да и кто скажет, как бы он себя повел, окажись он в моих обстоятельствах! Пусть жадность корень зла, но бедность, на мой взгляд, сущая ловушка. Впрочем, я отложу свои рассуждения и перейду к печальному опыту, который их вызвал.
Я вела с этим мужем самую спокойную и размеренную жизнь; это был тихий, отзывчивый, скромный человек, честный, простой, искренний и в делах прилежный и добросовестный. Дела он вел не очень крупные, но доходов хватало, чтобы жить прилично и в достатке, конечно, не для того чтобы наряжаться, держать лакеев и выезд и, как это называют, блистать в свете, да я на это и не рассчитывала и к этому не стремилась, ибо, проникшись отвращением к легкомыслию и сумасбродству своей прежней жизни, я решила теперь жить уединенно, скромно. Я никого не принимала и сама не бывала нигде, заботилась о семье и ублажала мужа, и такой образ жизни пришелся мне по сердцу.
Пять лет прожили мы в мире и довольстве, как вдруг внезапный удар почти невидимой руки сокрушил все мое счастье и от моего благополучия не осталось и следа.
Муж мой доверил как-то одному своему товарищу, тоже клерку, сумму денег, слишком крупную для того, чтобы наше состояние могло выдержать ее потерю; клерк обанкротился, и крах лег тяжелым бременем на моего мужа. Однако потери были не настолько велики, чтобы отчаиваться; если бы он имел мужество посмотреть опасности в лицо, то при доверии, которым он пользовался, он мог бы легко покрыть убытки. Уныние лишь усугубляет тяжесть постигшего нас несчастья; и кто хочет погибнуть, погибнет.
Тщетны были все мои попытки утешить его; рана была слишком глубока: удар в самое сердце; он стал угрюм и безутешен, погрузился в апатию и умер. Я предвидела удар и была крайне удручена, ибо для меня ясно было, что, если он умрет, я погибла.
Я имела от него только двоих детей, потому что наступило для меня время, когда я уже не могла рожать; мне исполнилось сорок восемь лет, и я думаю, что останься даже муж мой жив, все равно детей бы у нас больше не было.
Наступили для меня мрачные и беспросветные дни, в некотором смысле самые страшные в моей жизни. Во-первых, прошла моя пора, когда я могла надеяться стать чьей-либо любовницей; красота моя поблекла, от нее осталось одно воспоминание, а хуже всего было то, что я находилась в самом безутешном горе. Недавно еще я ободряла своего мужа и старалась поддержать в нем веру в свои силы, а теперь потеряла всякую веру в себя; мне не хватало той бодрости духа, которая, по моим же словам, так необходима в горе, чтобы вынести его бремя.
Однако положение мое было действительно плачевное, потому что я осталась без друзей и без помощи, а потери, понесенные моим мужем, так подорвали его средства, что хотя я не вошла в долги, но легко мог; предвидеть, что долго не протяну на то, что у меня осталось; с каждым днем деньги таяли и скоро должны были совсем, иссякнуть, после чего я видела впереди только самую крайнюю нужду, которая так живо рисовалась моему воображению, что мне казалось, будто она уже наступила, прежде чем это случилось на самом деле. Так страхи еще более отягчали мое горе; мне все казалось, что каждый шестипенсовик, истраченный на покупку хлеба, — последний и что завтра мне предстоит поститься и умереть с голоду.
В этом бедственном положении у меня не было ни помощника, ни друга, который бы утешил меня или подал совет; ночи и дни сидела я, плача и терзаясь, ломая руки и подчас бредя как сумасшедшая; и, право, я часто дивилась, как не повредился мой рассудок, ибо припадки отчаяния достигали у меня такой силы, что я вся была во власти больного воображения.
Два года прожила я в таком ужасном состоянии, проедая свои скудные средства, вечно в слезах над своей бедственной участью и, можно сказать, исходя кровью, без малейшей надежды на помощь от людей или Бога. Я плакала так часто и так долго, что слезы иссякли и мной стало овладевать отчаяние, потому что быстрыми шагами приближалась я к нищете.
Чтобы несколько уменьшить расходы, я покинула свой дом и сняла квартиру; устроившись скромнее, я продала большую часть своих вещей и на вырученные деньги жила еще окало года, соблюдая крайнюю экономию и растягивая деньги до последней возможности; но все же, когда я заглядывала в будущее, сердце мое замирало перед картиной неумолимо надвигающейся нищеты. О, пусть те, кто читает эту часть моей повести, серьезно задумаются над беспросветным горем, над тем, каково нам приходится, когда мы остаемся без друзей и без куска хлеба! Такое размышление, наверно, заставит не только подумать о бережливости, но и воззвать о помощи к небу и научит мудрой молитве: Не дай мне нищеты, чтобы я не воровал.
Пусть вспомнит читатель, что пора нужды пора страшных искушений, а всякая сила сопротивления у нас отнята; бедность погоняет, душа доведена до отчаяния нуждой, что тут можно сделать? Однажды вечером я дошла, можно Сказать, до последнего предела, была поистине сумасшедшей и бредила наяву, как вдруг, подстрекаемая не знаю каким бесом и не соображая, что и зачем делаю, я оделась (у меня еще сохранялись довольно хорошие платья) и вышла на улицу. Я вполне уверена, что, когда я вышла из дому, у меня не было никаких планов; я не знала и не соображала, куда идти и зачем, но так как меня выгнал на улицу дьявол, приготовив свою приманку, то уж, разумеется, он привел меня куда следовало, потому что я не сознавала, ни куда я иду, ни что делаю.
Блуждая таким образом не знаю по каким улицам, я поравнялась с лавкой аптекаря на Леденхолл-стрит[46], где увидела на табуретке, у самого прилавка, небольшой белый узелок; рядом, спиной к нему, стояла служанка, задрав голову и глядя на аптекарского ученика, который взобрался на прилавок, тоже спиной к двери, и со свечкой в руке искал что-то на верхней полке; таким образом, внимание обоих было занято, а кроме них, никого в лавке не было.
Это и была приманка дьявола, расставившего мне ловушку и подстрекнувшего меня, как бы шепнув на ухо слова искушения, ибо я помню и никогда не забуду, точно чей-то голос за спиной у меня сказал: «Возьми узелок! Живо! Сию минуту!» Едва только я услышала эти слова, как тотчас вошла в лавку и, повернувшись спиной к девушке, словно бы я пятилась от проезжавшей по улице телеги, протянула руку назад, схватила узелок и вышла из лавки, причем ни Служанка, ни приказчик, ни прохожие меня не заметили.
Невозможно передать словами ужас, овладевший мной, когда я все это делала. Выйдя из лавки, я не решилась бежать или хотя бы ускорить шаг. Я перешла улицу и повернула за первый же угол; кажется, то была улица, пересекающая Фенчерч-стрит; потом я стала так кружить, что положительно не знала, где я и куда иду; я совсем потеряла голову и чем больше удалялась от опасности, тем быстрее шла, пока не выбилась из сил, так что принуждена была присесть на скамеечку у чьей-то двери; тут только я сообразила, что зашла на Темз-стрит[47], возле Биллингсгета[48]. Отдохнув немного, я продолжала свой путь; кровь во мне кипела; сердце стучало, точно от внезапного испуга. Словом, я была так поражена своим поступком, что не знала, куда мне идти и что делать.
Утомленная этими долгими и бесцельными скитаниями, я понемногу стала приходить в себя и направила свои шаги к дому, куда вернулась около девяти часов вечера.
Для чего предназначался узелок и почему он был положен там, где я его нашла, я не знала, но, развязав его, нашла там отличное, почти новое приданое новорожденного, с тонкой работы кружевом; там была также серебряная миска вместимостью в пинту, небольшая серебряная кружка и шесть ложек, еще кое-какое белье, хорошая женская рубашка, три шелковых носовых платка, а в кружке восемнадцать шиллингов и шесть пенсов, завернутые в бумажку.
Вынимая из узелка эти вещи, я все время испытывала невыразимый страх, несмотря на то, что находилась в полной безопасности.
— Боже, воскликнула я, заливаясь слезами, — кто я теперь такая? Воровка! При следующей краже меня схватят, посадят в Ньюгет и мне будет грозить смертная казнь!
Долго еще я плакала и, право, несмотря на свою бедность, отнесла бы вещи обратно, если бы только у меня хватило смелости; но через некоторое время это желание остыло. И вот легла я в постель, но спала мало; мрачные мысли не покидали меня, и я не соображала, что говорю и что делаю, всю ночь и весь следующий день. Потом мне страшно захотелось что-нибудь услышать о пропаже, узнать, что это за узелок, кому он принадлежал: бедняку или богатому человеку. Может быть, говорила я, такая же бедная вдова, как я, завернула свои пожитки, чтобы продать их и купить кусок хлеба для себя и несчастного ребенка, и теперь они умирают с голоду и горюют о пропаже. И мысль эта мучила меня больше, чем все остальное, в течение трех или четырех дней.
Но мои собственные бедствия заглушили все эти мысли, и угроза голода, которая с каждым днем пугала меня все больше, постепенно ожесточила мое сердце. Особенно сильно угнетало тогда мой ум то, что перед этим я исправилась и, как я надеялась, раскаялась во всех прошлых грехах; что в течение нескольких лет я вела скромную, правильную и замкнутую жизнь, а теперь жестокая нужда толкала меня к гибели телесной и духовной; два или три раза я падала на колени и, как умела, молила Бога об избавлении: но должна сказать, что мои молитвы не приносили мне отрады. Я не знала, что делать; все кругом страшило меня, а внутри царил мрак; и я думала, что раскаяние мое было неискреннее, что небо начало карать меня еще в этой жизни и готовит мне страдания по моим грехам.
Продолжай я размышлять в таком роде, я, может быть, искренне раскаялась бы, но во мне сидел дурной советчик, непрестанно подстрекавший меня облегчить свое положение какими угодно средствами. И вот однажды вечером, прибегнув к тому же коварному внушению, как тот раз, когда шепнул мне: «Возьми этот узелок», — он опять соблазнил меня пойти попытать счастья.
Я вышла теперь, среди бела дня и бродила не знаю где в поисках неизвестно чего, как вдруг дьявол расставил на моем пути ужасную западню, какой я никогда не встречала ни раньше, ни после. Проходя по Олдерсгет-стрит[49], встретила я хорошенькую девочку, которая возвращалась домой из танцевальной школы совсем одна, и мой соблазнитель, как истинный дьявол, натравил меня на это невинное создание. Я заговорила с девочкой, и она в ответ стала по-детски что-то болтать; тогда я взяла ее за руку и свернула в один мощеный переулок, выходящий к церкви святого Варфоломея[50]. Девочка сказала, что домой нужно идти не этой дорогой.
— Нет, деточка, этой. Я покажу тебе, как пройти домой, — сказала я.
На девочке были золотые бусы, с которых я не спускала глаз; в темном переулке я нагнулась к ней, как бы желая поправить расстегнувшийся воротничок, и сняла бусы, так что она и не заметила, а потом снова повела ее. Тут, признаюсь, дьявол подстрекал меня убить ребенка в темном переулке, чтобы он не заплакал, но одна мысль об этом так меня напугала, что я чуть не лишилась чувств. Я велела девочке идти назад, потому что, сказала я, этой дорогой ей не вернуться домой; девочка послушалась, а я прошла через двор церкви св. Варфоломея, потом повернула в другой переулок, выходящий на Лонг-лейн[51], оттуда направилась к Чартерхаус-ярду[52] и вышла на Сент-Джон-стрит; потом, пересекши площадь Смитфилд[53], спустилась по Чик-лейн и Филд-лейн к Холборнскому мосту[54], где смешалась с толпой, обычно заполняющей его, и замела таким образом следы. Так совершился мой второй выход в свет.
Мысли об этой добыче мгновенно рассеяли всякие сокрушения о первой; бедность, повторяю, ожесточила мое сердце, и собственная нужда делала меня равнодушной ко всему на свете. Последняя кража не оставила во мне большого беспокойства, ибо, не причинив никакого вреда бедному ребенку, я считала, что лишь проучила родителей за их небрежность, и в другой раз не будут оставлять бедную овечку без присмотра.
Похищенная мною нитка золотых бус стоила двенадцать или четырнадцать фунтов. Я полагаю, что бусы принадлежали раньше матери, так как для ребенка они были слишком крупны, но тщеславие матери, желавшей, чтобы дочка была нарядной в танцевальной школе, побудило ее надеть их на ребенка; и, наверно, с девочкой была послана служанка, но нерадивая шельма развлекалась, должно быть, с каким-нибудь парнем, с которым сговорилась встретиться, и бедная малютка шла одна, пока не попала в мои руки.
Во всяком случае, я не причинила девочке никакого вреда; я даже не напугала ее, потому что во мне было много нежности, и ограничилась, можно сказать, на что толкала меня нужда.
С тех пор у меня было очень много приключений, но я была новичком в этом ремесле и действовала лишь по внушению дьявола, а, сказать правду, он редко мешкал. Одно такое приключение окончилось очень счастливое меня. Однажды в сумерках я шла по Ломберди[55] только поравнялась с угловым домом, как вдруг меня проносится какой-то незнакомец и бросает к ногам узел. На бегу незнакомец крикнул:
— Спаси вас Господь, сударыня, пусть это полежит здесь, — и убежал.
Потом появляются еще двое, и сейчас же вслед за ними молодой человек, без шляпы, с криком: «Держи вора!» — а с ним еще двое или трое. Они так ретиво следовали двоих беглецов, что тем пришлось все, что они держали в руках, и один из них вдобавок был схвачен, другому же удалось скрыться.
Все это время я стояла как вкопанная, пока преследователи не вернулись, таща пойманного беднягу и отобранные вещи, очень довольные, что удалось вернуть украденное и поймать вора; так все прошли мимо, не обратив внимания, потому что я имела вид женщины, посторонившейся, чтобы пропустить толпу.
Раза два я спросила, что случилось, но никто мне не ответил, а я не особенно настаивала; но когда толпа рассеялась, я улучила минуту, подобрала лежавший позади меня узел и ушла. Все это я проделала гораздо спокойнее, чем делала раньше, потому что эти вещи не были мной украдены, а лишь попали мне в руки. Я благополучно вернулась домой со своей ношей; это был кусок прекрасного черного шелка и кусок бархата; последний представлял собой отрез длиною всего в одиннадцать ярдов;, шелка же была целая штука, ярдов в пятьдесят. По-видимому, воры ограбили торговца шелком и бархатом. Я говорю «ограбили», но они не могли даже унести весь захваченный товар и часть его обронили; кажется, удалось подобрать шесть или семь кусков разного шелка. Как они умудрились взять с собой столько, я не понимаю; но так как я лишь обокрала вора, то со спокойной совестью присвоила эти товары и была очень рада поживе.
До сих пор мне все время везло, и я имела еще несколько приключений, правда не особенно прибыльных, но удачных; однако каждый день я ходила в страхе, что когда-нибудь попадусь и рано или поздно наверняка угожу на виселицу. Впечатление от этих мыслей было слишком сильное и удерживало меня от многих попыток, которые, судя по всему, могли бы сойти вполне благополучно; но я не в состоянии умолчать об одной вещи, которая была для меня приманкой в течение многих дней. Я часто совершала прогулки в окрестные деревни посмотреть, не попадется ли мне там что под руку; и вот, проходя раз мимо одного дома возле Степни[56], я увидела на подоконнике два кольца: одно маленькое, с бриллиантом, другое гладкое золотое; наверное, их забыла здесь какая-нибудь беззаботная барыня, у которой больше денег, чем мозгов, а может быть, она их только оставила ненадолго, пока помоет руки.
Я прошла мимо окна несколько раз, чтобы убедиться, нет ли кого в комнате, и хотя никого не заметила, но не была вполне уверена, что комната пуста. Вдруг мне пришло в голову стукнуть в окошко, словно бы я хотела вызвать кого-нибудь, и если кто-нибудь там есть, то, наверное, к окну подбегут, и я попрошу убрать эти кольца, так как я, дескать, видела двух подозрительных мужчин, которые засматривались на них. Задумано сделано. Я стукнула раза два, но никто не отозвался, тогда я сильно нажала на стекло, оно сломалось без большого шума, я взяла кольца и ушла; кольцо с бриллиантом стоило около трех фунтов, другое шиллингов девять.
Но я была в затруднении, как найти покупателей для своих товаров, особенно для двух штук шелка. Мне очень не хотелось сбыть их за бесценок, как обыкновенно делают несчастные воровки, которые, часто рискуя жизнью из-за какой-нибудь ценной вещи, принуждены бывают потом продать ее за гроши. Я решила пуститься на всякие уловки, лишь бы не подражать им, однако не знала хорошенько, что, собственно, предпринять. В конце концов решила я пойти к своей старой пестунье и возобновить с ней знакомство. Я аккуратно посылала ей обещанные пять фунтов в год на содержание своего мальчика до тех пор, пока в состоянии была это делать, но в последнее время мне пришлось отказаться от посылки денег. Однако я написала ей письмо, в котором сообщала о своих стесненных обстоятельствах, о том, что я потеряла мужа и не могу больше позволить себе такой расход, и просила старуху позаботиться о том, чтобы бедный ребенок не очень пострадал от невзгод своей матери.
Теперь я ее навестила, и оказалось, что она еще занимается прежним ремеслом, но дела ее далеко не блестящи, как раньше; она была привлечена к суду одним господином, у которого похитили дочь, по-видимому не без ее содействия, и едва-едва избежала виселицы. Судебные издержки сильно подорвали ее благосостояние, так что дом ее был теперь обставлен очень скромно и она уже не пользовалась былой славой, однако все еще стояла, как говорится, на своих ногах и, как женщина сметливая, у которой еще оставались кой-какие средства, стала давать деньги под заклад вещей и жила неплохо.
Она приняла меня очень радушно и со своей обычной любезностью сказала, что мои стесненные обстоятельства нисколько не уменьшили ее уважения ко мне; она позаботилась о хорошем уходе за моим мальчиком, несмотря на то, что я не могу платить за него; женщина, присматривающая за ним, живет в достатке, так что мне нечего беспокоиться о сыне, пока я не смогу опять помогать ему деньгами.
Я ответила, что у меня теперь мало денег, но зато остались кое-какие вещи, за которые можно выручить большие деньги, если она меня научит, как это сделать. Она спросила, что же у меня есть. Тогда я вынула нитку золотых бус, сказав, что это подарок мужа; потом показала две штуки, шелку, объяснив, что привезла их с собой из Ирландии; показала также колечко с бриллиантом. Что касается узелка с серебром и ложками, то я уже нашла способ сбыть его, а детское приданое старуха изъявила желание взять сама, думая, что это моя собственность. Она сказала, что стала процентщицей и берется продать для меня эти вещи под видом просроченных закладов; и тут же послала за скупщиками, занимавшимися этим делом, которые, нимало не смущаясь, купили краденое, да еще по хорошей цене.
Тогда у меня явилась мысль, что эта незаменимая женщина может, пожалуй, оказать мне некоторую помощь в моем теперешнем бедственном положении, ибо я с радостью занялась бы каким-нибудь честным трудом, если бы могла достать его; но в этом она не могла мне помочь, честные занятия были не по ее части. Будь я помоложе, может быть, она могла бы свести меня с каким-нибудь повесой; но я и не помышляла о такого рода заработке, совершенно исключенном для женщины, которой перевалило за пятьдесят, как это было со мной, о чем я и сказала старухе.
В конце концов она предложила мне переселиться к ней и жить с ней, пока не подвернется какое-нибудь занятие, сказав, что жизнь у нее будет стоить мне очень дешево, и я с радостью приняла ее предложение. Теперь, устроившись получше, я стала хлопотать о том, чтобы сбыть с рук моего сына от последнего мужа; и тут она мне пришла на помощь, спросив за его содержание всего пять фунтов в год, если такой расход не обременит меня. Это настолько облегчило мою жизнь, что на некоторое время я бросила постыдное ремесло, которым так недавно начала заниматься; я охотно стала бы зарабатывать на хлеб рукоделием, если бы нашла работу, но ее очень трудно получить женщине, не имеющей никаких знакомств.
Все же мне в конце концов удалось достать работу: я стала стегать одеяла, юбки и т.п.; работа мне очень понравилась, я принялась за нее усердно и зарабатывала ею на жизнь. Но недремлющий дьявол, видно, решил, что я и впредь должна служить ему, и непрестанно подстрекал меня выйти прогуляться, то есть посмотреть, не подвернется ли что-нибудь под руку.
Однажды вечером, слепо повинуясь его приказаниям, я долго бродила по улицам, но все бесцельно, и вернулась домой очень усталая и с пустыми руками. Однако, не удовольствовавшись этим, я вышла и на следующий вечер, и вдруг, проходя мимо какой-то пивной, я увидела, что дверь одного из отделений открыта прямо на улицу и на столе стоит серебряный кубок, какие были тогда в ходу в питейных заведениях. Должно быть, за столом пьянствовала какая-нибудь компания и нерадивые слуги забыли убрать посуду.
Я смело вошла и, поставив серебряный кубок на край скамейки, села за стол и постучала ногой; тотчас появился мальчик, и я велела ему принести пинту горячего пива, так как на улице холодно; мальчик побежал исполнять приказание, и я слышала, как он спустился в погреб накачать пива. Когда он ушел, появился другой мальчик и крикнул:
— Вы звали?
Я с грустным видом ответила:
— Нет, мальчик уже пошел мне за пивом. Ожидая возвращения мальчика, я услышала, как женщина за стойкой говорит:
— Из пятого все ушли? — подразумевая то отделение, где я сидела, и мальчик ответил: «Да».
— Кто убрал кубок? — спросила женщина.
— Я, — отозвался другой мальчик, — вот он, — И указал на другой кубок, который убрал по ошибке из другого отделения; а может быть, бездельник забыл, что он его не убрал.
Весь этот разговор доставил мне большое удовольствие, ибо я поняла, что хозяева не замечают недостачи кубка, считая, что его убрали. И вот я спокойно выпила пиво и крикнула мальчика, чтобы заплатить; уходя, я сказала: «Смотри, мальчик, не забудь убрать серебро», указывая на серебряную кружку, в которой он принес мне пиво. Мальчик ответил:
— Хорошо, сударыня, счастливого пути. — И я ушла.
Я вернулась домой к своей пестунье и решила, что настало время попытать ее, не может ли она оказать мне помощь в случае, если я буду поставлена в необходимость открыться. Посидев некоторое время, я вступила с ней в разговор и сказала, что хочу открыть ей тайну величайшей важности, если, конечно, она настолько меня уважает, что не разгласит ее. Она мне ответила, что уже сохранила нерушимо одну мою тайну, почему же я сомневаюсь, что она сохранит другую? Я ей сказала, что со мной приключилась необыкновенно странная вещь, без всякого моего умысла, и рассказала всю историю с кубком.
— И вы его принесли с собой, голубушка? — спросила она.
— Ну да, принесла, — говорю и показываю ей кубок. — Но что мне теперь делать? Не отнести ли обратно?
— Отнести обратно! Отнесите, если вам хочется угодить в Ньюгет.
— Помилуйте, — говорю, — мыслима ли такая низость, чтобы меня задержали люди, которым я верну их вещь?
— Вы не знаете, что это за люди, дитя мое, — сказала старуха, — они пошлют вас не только в Ньюгет, но и на виселицу, невзирая на все благородство вашего поступка, или же предъявят вам к оплате счет за все другие кубки, которые у них пропали.
— Что же тогда делать? — спрашиваю.
— Что делать? Раз вы так ловко разыграли комедию и стянули кубок, то вам нужно оставить его у себя, теперь идти на попятный поздно. К тому же, дитя мое, разве не нуждаетесь вы в нем больше, чем они? Желаю вам каждую недельку приходить с такой поживой.
Слова эти пролили новый свет на мою пестунью, и я поняла, что, сделавшись процентщицей, она общается с людьми сомнительной честности, мало похожими на тех, кого я встречала у нее прежде.
Вскоре я убедилась в этом с еще большей несомненностью, ибо время от времени видела, как к ней приносили не в заклад, а прямо на продажу такие вещи, как эфесы шпаг, ложки, вилки, кубки, и старуха покупала все, не задавая никаких вопросов, и, как я вывела из ее слов, здорово на этом наживалась.
Я заметила также, что она всегда расплавляла купленную серебряную посуду, чтобы ее не могли опознать. Однажды утром она сказала мне, что идет плавить, и если я согласна, то она возьмет и мой кубок, чтобы его никто не увидел. Я поспешила ответить согласием. Тогда она его взвесила и дала мне полную цену серебром; но я заметила, что с остальными своими клиентами она не так добросовестна.
Несколько времени спустя, когда я сидела печальная за работой, она начала меня расспрашивать, что со мной. Я сказала, что у меня очень тяжело на сердце; у меня Мало работы и не на что жить, и я не знаю, что мне предпринять. Она рассмеялась, сказав, что мне нужно снова попытать счастья; может быть, снова подвернется какая-нибудь серебряная вещь.
— Ах, матушка, — говорю, — в этом деле я не мастерица, и если меня поймают, я погибла.
— Правда, дитя мое, но я могу указать вам наставницу, которая сделает вас такой же искусной, как она сама.
От этого предложения меня бросило в дрожь, так как до сих пор я не имела сообщников и не водила знакомства с такого рода людьми. Не старуха преодолела все мои колебания и страхи; и в скором времени с помощью этой сообщницы я стала такой же смелой и ловкой воровкой, как была когда-то Молль Карманщица[57], хотя, если молва не прикрашивает ее, сильно уступала ей по части красоты.
Товарка, с которой свела меня пестунья, была мастерицей в трех видах работы; краже товаров из лавок, краже бумажников и вытаскивании золотых часов у дам из-за пояса; это последнее она проделывала с такой ловкостью, что с ней не могла сравниться ни одна женщина. Мне очень понравилось первое и последнее из названных занятий, и я прислуживала ей некоторое время в работе, как помощница прислуживает повивальной бабке, совершенно безвозмездно.
Наконец она пустила меня на испытание. Она показала мне свое искусство, и я не раз с величайшей ловкостью таскала часы у нее самой из-за пояса. После нескольких уроков она указала мне добычу — молодую беременную даму, у которой были прелестные часики. Кражу нужно было произвести, когда дама выходила из церкви. Моя наставница пошла рядом с ней, и дойдя до ступенек, притворилась, что падает, и так сильно при этом толкнула даму, что та страшно перепугалась, и обе не своим голосом завизжали. Когда она толкнула ее, я схватила часы, и от резкого движения, сделанного дамой, они отстегнулись, так что та и не почувствовала. Я тотчас дала тягу, предоставив своей наставнице постепенно оправляться от испуга, а вместе с ней и даме; и тут бедняжка хватилась часов.
— Ну, конечно, — говорит моя товарка, — ручаюсь, что это сделали негодяи, сбившие меня с ног; жаль, что вы так поздно хватились: мы бы, наверное, успели изловить их.
Она так ловко разыграла комедию, что ни в ком не заронила подозрений, и я вернулась домой задолго до нее. Это было первое дело, которое мы обделали вдвоем. Украденные часы оказались действительно прекрасными, со множеством брелоков, и моя пестунья дала нам за них двадцать фунтов, из которых я получила половину. Так стала я законченной воровкой, Совершенно бесчувственной к укорам совести; никогда бы я не предположила, что дойду до этого.
Так дьявол, сперва толкнувший меня на этот путь под страхом беспросветной нищеты, возвел меня на незаурядную высоту, когда моя нужда вовсе не была такой устрашающей; ибо теперь мне давали гораздо больше работы, и так как я умела действовать иголкой, то, весьма вероятно, могла бы зарабатывать на хлеб честным путем.
Должна сказать, что если бы возможность трудовой жизни открылась мне с самого начала, когда я почувствовала приближение бедности, — если бы, говорю, такая возможность представилась мне тогда, нипочем бы я не занялась этим постыдным ремеслом и не пристала к презренной шайке, с которой теперь связалась; но привычка притупила мою чувствительность, и я стала дерзкой до последней степени? особенно оттого, что, промышляя так долго похищением чужого добра, я ни разу не попалась; одним словом, моя товарка и я действовали так долго и так удачно, ни разу не будучи накрыты, что обе мы стали не только смелыми, но и богатыми и имели на руках сразу два десятка золотых часов.
Однажды, будучи в немного менее легкомысленном расположении духа и вспомнив, что уже накопила порядочный капитал — на мою долю приходилось около двухсот фунтов деньгами, — я пришла к мысли, несомненно под влиянием какого-то доброго духа, если такие существуют, — почему бы мне теперь не остановиться, раз я достигла благополучия. Ведь если сначала бедность подстрекнула меня и невзгоды толкнули на это ужасное дело, то теперь невзгоды миновали и я могла также кое-что зарабатывать честным трудом, да еще имела в виде подспорья такой капитал. Нелепо же было рассчитывать, что я вечно буду на свободе; а если меня сцапают, я погибла.
То была, несомненно, счастливая минута, и если бы я послушалась благого внушения, откуда бы оно ни исходило, то могла бы еще надеяться на спокойную жизнь. Но мне была уготована иная судьба; неугомонный дьявол, увлекший меня на пагубный путь, слишком крепко держал меня, чтобы отпустить; и если нищета привела меня на путь порока, то корыстолюбие удержало на нем, пока наконец возможность возвращения не была отрезана. Что же касается доводов, при помощи которых разум убеждал меня отказаться от воровства, то корыстолюбие выступило с такой речью: «Продолжай! Тебе везет; продолжай, пока не накопишь четыреста или пятьсот фунтов, а тогда бросишь и сможешь жить в достатке, не нуждаясь ни в какой работе».
Так дьявол, к которому я однажды угодила в лапы, держал меня точно каким-то колдовством, и я не имела сил вырваться из заколдованного круга, пока не запуталась в таком лабиринте, откуда уже не было выхода.
Однако мысли эти оставили во мне некоторый след и побудили меня действовать с несколько большей осторожностью, чем прежде, более осмотрительно, чем действовали сами мои наставницы. Моя товарка, как я называла ее (мне следовало бы называть ее учительницей), первая попала в беду вместе с другой своей ученицей: охотясь раз за поживой, они попробовали обокрасть одного торговца полотном на Чипсайде, но были замечены зорким приказчиком и схвачены с двумя кусками батиста, найденного при них.
Этого было достаточно, чтобы посадить обеих в Ньюгет, где, на их несчастье, им припомнили кое-какие старые грехи. Им предъявили еще два обвинения и, когда правильность этих обвинений, была доказана, обеих приговорили к смерти. Обе сослались на живот, и обеих нашли беременными, хотя моя наставница была ничуть не больше беременна, чем я.
Я часто ходила навещать их и горевала с ними, ожидая, что и меня скоро постигнет та же участь; но это место внушало мне такой ужас, когда я вспоминала, что здесь родилась на свет и здесь мучилась моя мать, что я не могла больше выносить его и перестала навешать товарок.
Ах, если бы мне послужили уроком их бедствия, я бы еще могла быть счастливой, потому что до сих пор находилась на свободе и мне еще не предъявили ни одного обвинения; но урок пропал для меня даром, мера моя еще не исполнилась.
Моя товарка, как закоренелая преступница, была казнена; младшую воровку пощадили, отсрочив приведение приговора в исполнение, но долго еще она терпела голод и холод в тюрьме, пока наконец не добилась внесения своего имени в списки помилованных, и ее выпустили.
Страшный пример моей товарки наполнил меня ужасом, и долгое время я не выходила на промысел. Но однажды ночью по соседству с домом моей пестуньи раздались крики: «Пожар!» Пестунья выглянула в окна — все мы уже были на ногах — и сейчас же закричала, что весь дом госпожи такой-то в огне; так и оказалось в действительности. Тут старуха толкает меня в бок.
— Живо, деточка, — говорит, — пользуйся редким случаем. Пожар так близко, что вы успеете прибежать туда прежде, чем соберется толпа.
И она мигом объяснила мне мою роль:
— Ступайте туда, деточка, бегите в дом и скажите барыне или первому встречному, что вы пришли на помощь от госпожи такой-то, — это была знакомая пострадавшей, жившая на той же улице. Назвала она мне и и хозяйку еще одного дома, на которую я тоже могла сослаться.
Я выбежала на улицу и, войдя в дом, нашла, разумеется, всех обитателей в смятении. Встретив одну из служанок, говорю:
— Беда, голубушка! Как это случилось такое несчастье? Где ваша барыня? В безопасности ли она? А где дети? Я пришла от госпожи***, помочь вам.
Девушка тотчас срывается с места.
— Барыня, барыня! — вопит она не своим голосом. — Тут пришла одна дама от госпожи*** помочь нам.
Бедная полу обезумевшая женщина подбежала ко мне с узлом под мышкой и двумя маленькими детьми.
— Сударыня, — говорю, — позвольте мне отвести бедных деток к госпоже***, она просит вас прислать их к ней, она позаботится о малютках. — И с этими словами я беру за руку одного ребенка, а другого она передает мне на руки.
— Да, да, ради Бога унесите их, — говорит. — Поблагодарите ее хорошенько за доброту.
— Нет ли у вас, сударыня, еще чего-нибудь, что я могла бы снести? — спрашиваю. — Она прибережет ваши вещи.
— Вот спасибо ей! Пошли ей, Господи, всякого добра! Возьмите этот узел с серебром и тоже снесите ей. Ах, какая добрая женщина! Мы совсем разорены, погибли!
И вне себя она бежит прочь, служанки за ней, а я пускаюсь в путь с двумя детьми и узлом.
Только что я вышла на улицу, как вижу, подходит ко мне другая женщина.
— Барыня, барыня! — участливо обращается она ко мне. — Вы уроните ребенка. Ужас-то какой! Позвольте, я вам помогу. — И протягивает руку к узлу с намерением взять его.
— Нет, — говорю, — если вы хотите помочь мне, возьмите ребенка за руку и проводите его до конца улицы. Я пойду с вами и заплачу вам за труды.
Ей ничего не оставалось, как исполнить мою просьбу; ( женщина эта явно занималась тем же ремеслом, что и я, и ее интересовал только узел. Как бы там ни было, она подошла со мной до двери, уклониться от этого ей было невозможно. Когда мы пришли, я шепнула ей:
— Ступай, детка, я знаю твое ремесло. Ты найдешь еще, чем поживиться.
Она меня поняла и смылась. Я изо всех сил стала колотить в дверь, дети тоже, и так как из-за пожара все были на ногах, то меня тотчас впустили, и я спросила:
— Барыня проснулась? Пожалуйста, передайте ей, что госпожа*** очень просит ее взять к себе детей. Бедняжка совсем разорена, дом-то весь в огне.
Детей любезно приняли, пожалели несчастную семью, и я ушла вместе с узлом. Одна из служанок спросила, не велено ли мне оставить также и узел.
— Нет, голубушка, — отвечала я, — это мне нужно снести в другое место, не сюда.
Я выбралась из толпы и теперь пошла спокойно и понесла весьма увесистый узел с серебром прямо домой, к моей старой пестунье. Та отказалась развязывать его и велела мне вернуться на пожар и поискать чего-нибудь еще.
Она предложила мне разыграть ту же комедию с хозяйкой дома, смежного с горевшим, и я изо всех сил старалась пробраться туда, но была такая кутерьма, съехалось столько пожарных бочек и улица до такой степени была запружена народом, что я не могла подойти к тому дому, несмотря на все свои усилия; волей-неволей пришлось вернуться домой. Принеся узел к себе в комнату, я стала его исследовать. Ужас берет, когда я вспоминаю, что я там нашла; достаточно сказать, что, кроме серебра, а его оказалось немало, там была золотая цепь старинной работы, со сломанным замочком, так что она, вероятно, не была в употреблении много лет, но золото от этого не стало хуже; далее шкатулочка с траурными кольцами, дамское обручальное кольцо и несколько обломков старых золотых медальонов, золотые часы, кошелек, и в нем старинных золотых монет почти на двадцать четыре фунта, и разные другие ценные вещи.
Это была самая крупная и самая неприятная добыча, какая мне когда-либо доставалась; несмотря на то, что я, как уже говорилось, стала теперь совершенно бесчувственной, вид этого сокровища взволновал меня до глубины души; я отчетливо представляла себе бедную безутешную даму, которая и без того так много потеряла и, наверное, думает, что спасла хоть серебро и драгоценности; как она будет поражена, узнав, что ее обманули, что женщина, забравшая детей и вещи, приходила вовсе не по поручению Дамы с соседней улицы и дети были приведены к той даме без всякого приглашения.
Итак, должна признаться, бесчеловечность этого поступка меня сильно взволновала и глубоко потрясла, так что даже слезы выступили из глаз, но, несмотря на сознание всей его жестокости и бесчеловечности, я не могла найти в себе решимости вернуть похищенное. Угрызения совести затихли и скоро изгладились из памяти.
Это было не все; хотя благодаря похищенному узлу я стала гораздо богаче прежнего, однако недавно принятое решение оставить свое постыдное ремесло, когда мне удастся еще немного поживиться, поколебалось, мне захотелось еще и еще; корыстолюбие росло с каждой удачей, и я уже не думала отказываться от прежнего образа жизни, хотя без этого нельзя было безопасно и спокойно располагать награбленным; еще чуточку, еще чуточку — вот какая мысль продолжала владеть мною.
В конце концов, уступив преступным моим наклонностям, я отбросила всякие сомнения, и все мои помыслы сводились к одному: может быть, мне посчастливится еще раз, самый последний раз. Но хотя этот последний счастливый случай довольно скоро подвернулся, однако каждая удача только подливала масла в огонь и поощряла меня продолжать свой промысел, так что я не чувствовала никакого желания бросить его.
В таком-то состоянии, когда непрерывные удачи и твердая решимость продолжать заставили меня забыть об осторожности, я и попала в западню, где мне суждено было получить последнее воздаяние за эту постыдную жизнь. Но это потом, а покамест мне выпало еще несколько удачных приключений.
Моя пестунья некоторое время была сильно озабочена несчастьем, постигшим нашу повешенную товарку, ибо та столько знала о старухе, что и ее могли послать на виселицу.
Правда, когда воровка погибла, не выдав того, что, знала, пестунья успокоилась и, может быть, даже была рада, что ее товарку повесили, потому что та могла добиться прощения ценой выдачи своих друзей; однако гибель этой женщины, а также то обстоятельство, что она никого не выдала, тронули мою пестунью, и она искренне оплакивала погибшую. Я утешала ее как могла, и в благодарность она сильно помогла мне заслужить ту же участь.
Как бы там ни было, судьба товарки, как я уже сказала, побудила меня быть более осторожной, и, в частности, я всячески избегала воровать в лавках, особенно мануфактурных, так как мануфактурщики народ дошлый и глаза у них зоркие. Я постреляла раза два у кружевниц и модисток, выбрав лавку, недавно открытую двумя молодыми женщинами, непривычными к торговле. Я утащила у них кусок плетеного кружева, стоивший шесть или семь фунтов, и моток ниток. Но это было лишь раз; вторая попытка могла бы кончиться неудачей.
Мы всегда рассчитывали на верную поживу, прослышав о новой лавке, особенно если владельцы были люди неопытные. Такие торговцы могут не сомневаться, что на первых порах к ним раза два-три наведаются. Чтобы избежать этого, требуется совсем уж исключительная зоркость.
Была у меня еще парочка приключений, но самых пустяковых. Долгое время ничего крупного не подвертывалось, я стала даже серьезно подумывать о том, чтобы бросить ремесло; но моя пестунья, не желавшая меня терять и возлагавшая на меня большие надежды, свела меня однажды с молодой женщиной и парнем, выдававшим себя за ее мужа, хотя, как оказалось впоследствии, то не были муж и жена, а только товарищи по ремеслу, которым промышляли, и сообщники кой в чем еще. Словом, они вместе воровали, вместе спали, вместе были схвачены и вместе повешены.
При содействии моей пестуньи я вошла с ними в соглашение, и они вовлекли меня в два или три дела, из которых я убедилась, что это грубые и неловкие воры, преуспевавшие лишь благодаря своей наглости и крайней беспечности Жертв. Поэтому я решила работать с ними впредь с большой осторожностью; и действительно, раза три, когда они предлагали неудачные планы, я отклоняла предложение и их отговаривала. Однажды они предложили украсть у часовщика трое золотых часов, подглядев еще днем, где он их прячет. У этого вора было столько всякого рода ключей, что он с уверенностью брался открыть то место, куда часовщик положил их. Таков был наш план действий; но когда я расспросила их подробнее, то убедилась, что они предлагают совершить кражу со взломом, и не пожелала впутываться в такое дело, так что они пошли без меня. Проникнув в дом, они взломали замки в той комнате, где были спрятаны часы, однако нашли только одни золотые часы и одни серебряные, забрали их и благополучно вышли из дома. Но всполошившаяся семья подняла крик: «Воры!» за мужчиной была послана погоня и его поймали; молодая женщина успела отбежать на некоторое расстояние, но, на свое несчастье, тоже была задержана, и часы нашли при ней. Так я вторично избежала опасности ибо оба вора были осуждены и оба повешены, как уже имевшие приводы, даром что были молоды; как я сказала, воровали они вместе, и спали вместе, и теперь вместе были повешены; так кончилась моя новая попытка работать с сообщниками.
Поскольку я так легко могла попасться и имела перед собой такой пример, я стала проявлять гораздо большую осторожность. Но у меня появилась новая соблазнительница, подстрекавшая меня каждый день, — я разумею мою пестунью; и однажды представилось дело, которое она сама подготовила и потому рассчитывала на большую долю в добыче. Старуха прослышала, что в одном частном доме устроен склад фламандских кружев; а так как ввоз таких кружев был запрещен, то это была хорошая пожива для любого таможенного чиновника, который сумел бы до них добраться. Я имела подробные сведения от моей пестуньи как о количестве кружев, так и о месте, где они были спрятаны. И вот я отправилась к одному таможенному чиновнику и сказала, что готова сообщить ему важные сведения, если он пообещает мне справедливую долю вознаграждения. Предложение мое было настолько для него приемлемым, что он тотчас согласился, взял констебля, и мы втроем отправились к тому дому. Так как я сказала таможеннику, что могу пройти прямо к тайнику, то он предоставил мне действовать; дыра была очень темная, и я с трудом протиснулась в нее со свечой в руке, потом стала передавать ему куски кружев, позаботившись при этом припрятать сколько можно на себе. Всего там было кружев фунтов на триста, и я припрятала фунтов на пятьдесят. Кружева эти принадлежали не хозяевам дома, а одному купцу, который им доверил товар, поэтому они отнеслись к конфискации спокойнее, чем я ожидала.
Таможенник был в восторге от этой находки и вполне доволен тем, что я ему передала; он указал мне дом, где я, должна была с ним встретиться, и я явилась туда, после, того как пристроила находившийся на мне груз, о котором он даже не подозревал. Думая, что я не знаю, какая доля премии причитается мне, он стал со мной торговаться, в надежде, что я удовлетворюсь и двадцатью фунтами; но я дала ему понять, что не так невежественна, как ему кажется, и все же была рада, предложил мне уточнить сумму. Я запросила сто фунтов, он поднял до сорока; наконец он предложил пятьдесят и я согласилась, попросив лишь кусок кружева, стоивший, вероятно, фунтов восемь-девять, как бы для личного употребления, и таможенник, в свою очередь, согласился. Пятьдесят фунтов были мне выплачены в тот же вечер, этим и кончилась наша сделка; чиновник так и не узнал, кто я и где можно обо мне справиться, так что, если бы обнаружилось, что часть товара была похищена, он не мог бы привлечь меня к ответственности.
Я добросовестно поделилась добычей со своей пестуньей, и она стала считать меня с этих пор большой искусницей по части деликатных дел. Я нашла, что последний вид работы был самым спокойным и прибыльным из тех, которыми я промышляла, и стала заниматься исключительно розыском контрабанды; обыкновенно, купив немного такого товара, я выдавала продавцов; но все это было мелочью, ни разу не наклюнулось дело, похожее на то, о котором я только что рассказала; однако я остерегалась подвергаться большому риску, как делали другие, потому что уж очень часто они попадались.
Следующим случаем, о котором стоит рассказать, было покушение на кражу золотых часов у одной дамы. Произошло это в давке, у входа в молитвенный дом, и я подверглась большой опасности быть схваченной. Я уже держала часы в руке, но, навалившись на эту даму как будто от чьего-то толчка и дернув в это время за часы, я обнаружила, что они держатся крепко; я тотчас же их выпустила и не своим голосом закричала, что мне наступили на ногу и что, наверное, тут есть карманные воры, так как сейчас кто-то потянул мои часы; ибо нужно вам сказать, что на такую работу мы всегда выходили прекрасно одетые; на мне было отличное платье и часы за поясом, и смотрелась я такой же барыней, как и всякая другая.
Не успела я это сказать, как и моя дама тоже крикнула: «Держи вора!» так как кто-то, сказала она, только что пытался отцепить у нее часы.
Когда я схватила часы, я была совсем близко возле нее, но, закричав от мнимой боли, круто остановилась и когда она тоже подняла шум, то находилась уже на некотором расстоянии от меня, так как толпа отнесла ее немного вперед, почему у нее и не возникло ни малейших подозрений на мой счет; но на ее крик: «Держи вора!» — кто-то из стоявших рядом со мной отозвался: «Да, да, эту даму тоже пытались обокрасть».
На мое счастье, в это самое мгновение немного подальше в толпе раздался еще крик: «Держи вора!» и же на месте преступления был схвачен какой-то паренек. Неудача бедняги пришлась мне на руку, так как положение мое было очень опасным, несмотря на всю мою находчивость. Теперь толпа больше не сомневалась, все бросились туда, и паренек был отдан на растерзание улицы. Мне нет надобности описывать, какое это зверство, хотя воры всегда предпочитают его отправке в Ньюгет, где они сидят часто подолгу и часто кончают виселицей и где самое лучшее, на что они могут надеяться, это ссылка в каторгу.
Так мне едва-едва удалось вывернуться, и я настолько была напугана, что долго не решалась охотиться за золотыми часами. В тот раз многие обстоятельства помогли мне спастись, главным же образом глупость дамы, у которой я пыталась вытащить часы: покушение оказалось для нее неожиданностью, а между тем хватило же у ума закрепить часы таким образом, чтобы их нельзя было вытащить! Просто-напросто она растерялась от страха. Почувствовав, что кто-то дергает ее за пояс, она закричала и ринулась вперед, создав кругом себя суматоху. Однако заикнуться о часах и о воре она догадалась лишь две минуты спустя срок для меня более чем достаточный. Ведь когда я закричала, я находилась позади нее, да еще попятилась, в то время как она подалась вперед. Толпа все еще продолжала двигаться вперед и нас с ней уже разделяло, по крайней мере, семь или восемь человек. К тому же я закричала: «Держи вора!» одновременно с ней, а то и раньше, так что было столько же оснований заподозрить ее, сколько меня. Публика не знала, на кого подумать. Если бы дама сохранила необходимое в таких случаях присутствие духа и, вместо того чтобы кричать, тотчас же обернулась и схватила первого, кто попался бы ей под руку она бы наверняка меня поймала.
Конечно, давать такие советы не совсем красиво по отношению к моим товарищам, зато это верный ключ к повадкам карманного вора. Воспользуйтесь им, и вор в ваших руках, зазевайтесь и вы его упустили.
Было у меня еще одно приключение, которое окончательно подтверждает справедливость моих слов. Его следовало бы рассказать в назидание потомству, чтобы люди поняли, что за народ эти воры. Расскажу вкратце историю моей доброй старой пестуньи. Воровство было, можно сказать, ее призванием, хотя впоследствии ей и пришлось отказаться от этого ремесла. Как она сама мне потом рассказывала, она успела пройти все ступени этого искусства и всего один-единственный раз попалась, но зато уж так явно, что ее тут же признали виновной и приговорили к ссылке. Однако она была мастерица заговаривать зубы, притом у нее еще были при себе кое-какие денежки: ей удалось сойти на берег, пока корабль пополнял свои запасы провианта в Ирландии. Там она жила, промышляя своим прежним ремеслом, в течение нескольких лет. Там же она попала в дурное общество несколько иного толка, чем то, в каком она привыкла, вращаться, и сделалась повитухой и сводней. Когда мы с ней сблизились, она мне много чего порассказала. Какие только штуки она не выкидывала! Этой-то старой греховоднице я и обязана своим мастерством и ловкостью; мало кто превзошел меня в этом искусстве, и мало кому удалось так долго и безнаказанно упражняться в нем.
Уже после всех своих ирландских похождений и после того, как она снискала себе известность в тех краях, она покинула Дублин и возвратилась в Англию. Срок ссылки ее еще не кончился; ей пришлось отказаться от своего старого ремесла ведь попадись она вновь, она погибла бы бесповоротно. Она стала промышлять здесь тем же, чем промышляла в Ирландии. Благодаря своей оборотистости и красноречию она вскоре достигла той вершины благополучия, на какой я ее застала, и начала было даже богатеть, но потом (я уже упоминала об этом) дела ее пошли хуже.
Я уделила столько места истории этой женщины затем, чтобы объяснить, какую роль она играла в той неправедной жизни, которую я в ту пору вела. Она-то, собственно, и вовлекла меня в эту жизнь, была моей руководительницей и наставницей. А я столь ревностно следовала ее наставлениям, что сделалась величайшей искусницей своего времени. Обычно моим товарищам достаточно было проработать в нашем деле каких-нибудь шесть месяцев, чтобы угодить в Ньюгет. Я же, в какой бы переплет ни попадала, всякий раз умудрялась выкрутиться, да так ловко, что пять лет с лишком проработала, прежде чем познакомилась с обитателями этого заведения; слышать-то обо мне там слышали и не раз да же ждали меня к себе, но я благополучно выпутывалась из самых опасных передряг. мы увидели на прилавке, или конторке, стоявшей у самого окна, пять кусков шелка вместе с другими материями; и хотя уже совсем стемнело, однако приказчики, занятые в лавке, не успели закрыть окна ставнями или позабыли о них.
Заметив эту оплошность, парень чуть не запрыгал от радости. До шелка рукой подать, говорил он, и побожился всеми святыми, что заберет материю, если бы даже ему пришлось совершить взлом. Я попыталась отговорить его, но увидела, что это бесполезно. И вот, недолго думая, подбежал парень к окну, высадил довольно ловко стекло из рамы, достал четыре куска шелку и вернулся с ними ко мне, но тотчас же раздался страшный шум и крики. Мы стояли рядом, но я ничего не взяла у него из рук и лишь поспешно шепнула:
— Ты пропал, беги!
Парень помчался стрелой, я тоже, но так как похищенные товары были у него, то за ним больше и гнались. Он выронил два куска шелка, что немного задержало преследователей, но толпа росла и устремилась за нами обоими. Скоро его поймали с двумя другими кусками, и тогда остальные погнались за мной. Я мчалась во весь опор и скрылась в доме моей пестуньи, но наиболее рьяные из толпы не отставали от меня ни на шаг и обложили дом. Постучались они не сразу, так что я успела скинуть мужской костюм и надеть свое обыкновенное платье; к тому же, когда раздался стук, пестунья моя, женщина находчивая, не открыла дверей, закричав, что сюда не входил ни один мужчина. Толпа утверждала, что все видели, как мужчина вошел, и грозила высадить двери.
Моя пестунья, ничуть не смутившись, спокойно ответила, что они могут войти и обыскать ее дом, но пусть пригласят констебля, и тот возьмет с собой нескольких человек, ибо безрассудно пускать в дом целую ораву. Несмотря на свое возбуждение, толпа не могла не признать справедливость этих слов. Немедленно позвали констебля, и старуха охотно открыла дверь; констебль охранял вход, а выбранные им люди обыскали дом под руководством моей пестуньи, которая водила их из комнаты в комнату. Подойдя к моей двери, она громко крикнула:
— Кузина, откройте, пожалуйста; тут пришли какие-то господа, которым нужно обыскать вашу комнату.
Со мной была девочка, внучка пестуньи, как она ее называла; я велела ей открыть дверь, сама же сидела за работой, обложившись разным рукоделием; со стороны казалось, будто я работаю с утра, неубранная, в ночном чепчике и капоте. Моя пестунья извинилась за беспокойство, объяснив вкратце повод к нему и сказав, что у нее не было другого выхода, как впустить этих людей и дать им самим удостовериться, потому что одних ее слов для них недостаточно. Продолжая спокойно сидеть, я предложила им заняться обыском; ибо, сказала я, если в доме есть мужчина, то я уверена, что он не у меня, а что касается остальных комнат, то я ничего не могу сказать, так как не знаю, чего они ищут.
Все вокруг меня выглядело так невинно и честно, что сыщики обошлись со мной любезнее, чем я ожидала, правда, после того, как тщательно обыскали всю комнату, пошарили под кроватью и в кровати и везде, где можно было что-нибудь спрятать. Кончив обыск и ничего не найдя, они попросили у меня извинения и ушли.
Когда они обыскали таким образом весь дом снизу доверху и сверху донизу и ничего не обнаружили, то вышли к толпе и успокоили ее; однако же вызвали мою пестунью к судье. Два человека показали под присягой, видели, как мужчина, которого они преследовали, вошел в дом. Моя пестунья разбушевалась, крича, что позорят ее дом и обижают ее безвинно; если мужчина вошел к ней, то, очевидно, тотчас же и вышел, ибо она готова присягнуть, что ни один мужчина не показывался у нее в доме весь день (что было совершенной правдой); возможно, конечно, что, когда она была наверху, какой-нибудь перепуганный парень, найдя дверь открытой, забежал к ней в дом, спасаясь от преследователей, но она его не знает; если так, то он, наверное, удрал, может через другую дверь — в ее доме есть другая дверь, выходящая в переулок, — и в таком случае он скрылся.
Все это было правдоподобно, и судья удовлетворился клятвой старухи в том, что она не принимала и не пускала к себе в дом ни одного мужчины с целью его спрятать, защитить или утаить от правосудия. Клятву она могла дать с чистым сердцем, что и сделала, и была отпущена.
Легко себе представить, как этот случай перепугал меня; моя пестунья никогда больше не могла убедить меня снова облачиться в мужской наряд; я ей говорила, наверное тогда попадусь.
Судьба моего бедного соучастника в этом неудачном предприятии была незавидная: его привели к лорду-мэру[58], и его милость отправил парня в Ньюгет, причем поймавшие его лавочники до такой степени горели желанием покрепче засудить беднягу, что вызвались явиться в суд и поддержать обвинение против него. Однако он добился отсрочки приговора, пообещав выдать соучастников, в частности мужчину, с которым совершил эту кражу; и он приложил к этому все старания, сообщив суду мое имя, то есть назвав меня Габриелем Спенсером — под таким именем он меня знал. Тут и обнаружилось, как мудро я поступила, утаившись него, ибо, не сделай я этого, я бы погибла. Парень приложил все усилия, чтобы обнаружить Габриеля Спенсера: описал мою наружность, сообщил место, по его словам, я жила; рассказал все, какие только мог, подробности о моем жилище. Однако, утаив от него главное — свой пол, я получила большой козырь, и он и не мог до меня добраться. Усердно стараясь разыскать меня, он потревожил две или три семьи, но те ничего обо мне не знали, кроме того только, что у него был товарищ, которого они видели, но о котором им ничего не было известно. А что касается моей пестуньи, то, хотя наше знакомство было устроено ею, однако через третье лицо, и он ничего о ней не мог сказать.
Все это послужило ему во вред, ибо, пообещав суду сделать разоблачения, он не смог сдержать обещание и ему была вменена в вину попытка одурачить судей, и лавочники стали его преследовать еще более ретиво,
Все это время я была, однако, в страшном беспокойстве и, чтобы избежать всякой опасности, временно покинула свою пестунью. Не зная, куда направиться, я взял с собой служанку, села в почтовую карету и поехала Данстебл, к старикам, державшим гостиницу, в которой я так приятно провела время со своим ланкаширским мужем. Там я сочинила небылицу, будто со дня на день жду мужа из Ирландии, будто я писала ему, что встречу его в Данстебле, в этой самой гостинице, и он, наверно приедет через несколько дней, если будет попутный ветер; поэтому я хочу провести у них эти несколько дней до его приезда, он же приедет или на почтовых, или честерском дилижансе, не знаю наверное; как бы там было, он непременно заедет в эту гостиницу, чтобы встретиться со мной.
Хозяйка страшно мне обрадовалась, а хозяин суетился вокруг меня, что, будь я принцессой, и тогда не могла бы быть принята лучше; при желании я мог; бы провести здесь и месяц и два.
Но у меня была совсем другая забота. Я очень беспокоилась (несмотря на то, что была так хорошо переряжена, что едва ли меня могли узнать), как бы тот парень не разыскал меня; и хотя он не мог обвинить меня в последней краже, поскольку я его отговаривала и не принимала в ней никакого участия, а только спасалась погони, зато легко мог выдать другие дела и купить свою жизнь ценою моей.
Я не знала ни минуты покоя. Кроме старой пестуньи у меня не было ни поддержки, ни друга, ни наперсник! и я не видела другого выхода, как отдать свою жизнь ее руки; так я и сделала: сообщила ей свой адрес и получила от нее в Данстебле несколько писем. Некоторые из этих писем перепугали меня до смерти, но наконец она прислала мне радостную весть, что парень повешен, — давно я не получала такого приятного известия.
Я провела в Данстебле пять недель, и жизнь была во всех отношениях приятна, если бы не эта постоянная тревога. Но, получив последнее письмо, я повеселела, сказала хозяйке, что пришло письмо из Ирландии от моего мужа; он сообщает, что, слава богу, здоров, но, к сожалению, дела не позволили ему выехать в назначенное время, и поэтому мне придется, должно быть, вернуться без него.
Хозяйка поздравила меня с доброй вестью о здоровье мужа.
— Ведь я заметила, сударыня, — сказала она, — что вы все время были печальны. Вы казались такой рассеянной, наверное, оттого, что были поглощены мыслями о муже, — продолжала добрая женщина, — зато теперь вид у вас прекрасный.
— Очень жаль, что ваш почтенный супруг не мог приехать, — проговорил хозяин, — я был бы сердечно рад повидать его. Когда вы получите точные сведения о его приезде, милости просим опять к нам, сударыня; вы всегда будете у нас желанной гостьей.
С этими любезными пожеланиями мы расстались; я приехала в Лондон очень довольная и застала свою пестунью тоже повеселевшей.
Она мне сказала, что никогда больше не посоветует брать сообщника, ибо заметила, что мне всегда больше везет, когда я промышляю одна. Так оно и было, потому что одна я редко подвергала себя опасности, а если мне и случалось попасть в беду, я выпутывалась из нее ловчее, чем в тех случаях, когда меня связывали нелепые действия моих сообщников, менее предусмотрительных и более нетерпеливых; ибо хотя я никому не уступала в смелости, но всегда действовала с большими предосторожностями и выворачивалась с большей находчивостью.
Часто я даже дивилась своей упорной приверженности воровству; несмотря на то, что все мои товарищи кончали неудачей и быстро попадали в руки правосудия, я все не могла решиться оставить это ремесло, хотя была теперь далеко не бедной. Искушения, связанные с нуждой, этой главной подстрекательницей к воровству, для меня теперь не существовали; теперь я имела около пятисот фунтов наличных денег, на которые могла бы отлично жить, если бы бросила свое грязное ремесло; но, повторяю, у меня не было ни малейшего расположения бросать его; мне легче было это сделать, когда я располагала всего двумястами фунтов и не имела перед глазами таких устрашающих примеров. Отсюда очевидно, что, когда мы ожесточились в преступлении, никакой вниманием. Прежде всего он выразил желание взять на мое счастье лотерейный билет; выиграв какой-то пустячок — кажется, муфту с перьями, — он преподнес ее мне; потом продолжал разговаривать с подчеркнутой почтительностью.
Он так заговорился, что увлек меня к выходу, а потом стал гулять со мной по рядам, не переставая болтать о тысяче пустяков. В конце концов он сказал, что очарован моим обществом, и спросил, не соглашусь ли я прокатиться с ним в карете, заявив, что он человек чести и не позволит себе ничего непристойного. Я немного поломалась, заставив его себя упрашивать, потом согласилась.
Сначала я была в недоумении, чего этот господин от меня хочет, но потом заметила, что он подвыпил и не прочь выпить еще. Он повез меня в Спринг-гарден, на Найтсбридж[59], где мы гуляли в садах, и был со мной очень мил; но я нашла, что он слишком много пьет. Он и мне предлагал выпить, но я отказалась.
До сих пор мой спутник держал свое слово и не позволял себе никаких вольностей. Мы снова сели в карету, и он повез меня по Лондону; было уже десять часов вечера, когда он велел карете остановиться у одного дома, где, по-видимому, его знали и проводили прямо наверх, в комнату с кроватью. Сначала я не хотела подниматься, но после нескольких просьб снова уступила, любопытствуя узнать, чем все это кончится, так как надеялась напоследок чем-нибудь поживиться. Что касается кровати и т.д., то на этот счет я мало беспокоилась.
Тут мой спутник, вопреки обещанию, начал позволять себе кое-какие вольности; я мало-помалу уступала, позволив ему в конце концов делать с собой все, что он хотел; нет нужды пускаться в подробности. При этом кавалер мой все время усердно пил, и около часу ночи мы снова сели в карету. От свежего воздуха и покачивания кареты вино еще больше ударило ему в голову, он заерзал и хотел было возобновить то, что делал в комнате, но так как я убедилась, что игра теперь у меня верная, то воспротивилась и немного его утихомирила; не прошло и пяти минут, как он крепко уснул.
Я воспользовалась этим, чтобы хорошенько его обобрать: взяла золотые часы, шелковый кошелек, набитый золотом, изящный парадный парик, перчатки с серебряной бахромой, шпагу и драгоценную табакерку и, тихонько открыв дверцу кареты, приготовилась выскочить на ходу; но так как в узенькой улице возле Темпл-Бара[60] карета остановилась, чтобы пропустить другую карету, то я спокойно сошла, захлопнула дверцу и ускользнула и от своего кавалера, и от кареты.
Это было поистине неожиданное приключение, свалившееся как снег на голову, хотя я не так уж далеко ушла от веселой поры моей жизни и еще не позабыла, как следует себя вести, когда какой-нибудь слепленный похотью хлыщ не в состоянии отличить старухи от молодой женщины. Правда, я казалась на десять или двенадцать лет моложе, однако не была семнадцатилетней девчонкой, и не так уж трудно было заметить это. Нет ничего нелепее, гаже и смешнее нализавшегося мужчины, разгоряченного винными парами и похотливыми желаниями; им владеют два дьявола сразу, и он так же неспособен управлять собой при помощи разума, как мельница не может молоть без воды; порок топчет в грязь все, что в нем было доброго, даже сознание его помрачено похотью, и он творит одну глупость за другой; продолжает пить, когда уже совсем пьян, подхватывает первую встречную женщину, не заботясь о том, кто она и что она, здоровая или прогнившая, опрятная или замарашка, дурнушка или красавица, старая или молодая; в своем ослеплении он ничего не разбирает. Такой человек хуже сумасшедшего; мозг его затуманен, он совершенно не помнит, что делает, как ничего помнил и мой жалкий кавалер, когда я очищала его карманы от часов и кошелька с золотом.
О таких мужчинах Соломон говорит: «Идут, как вол идет на убой, доколе стрела не пронзит печени его».[61] Великолепное описание дурной болезни, являющейся ядовитой, смертельной заразой, проникающей в кровь, начало или источник которой есть печень; вследствие быстрого обращения всей массы крови эта ужасная, отвратительная язва немедленно поражает печень, отравляет ум и пронзает внутренности, как стрела.
Правда, жалкий беззащитный сластолюбец не подвергался с моей стороны опасности, тогда как я сначала очень и очень подумывала об опасности, которой подвергалась с его стороны; но он поистине достоин был жалости, потому что был, по-видимому, хорошим человеком, чуждым каких-либо дурных намерений, рассудительным, отменного поведения мужчиной, милым и обходительным, сдержанного и твердого нрава, привлекательной и красивой наружности; словом, он был бы приятен во всех отношениях, если бы, к несчастью, не подвыпил накануне, не провел прошлой ночи без сна, как признавался мне, когда мы были вместе, если бы кровь его не была разгорячена вином и в этом состоянии разум, как бы уснув, не покинул его.
Что же касается меня, то я интересовалась только его деньгами и тем, какая мне может быть от него пожива; а после этого, если бы мне представилась какая-нибудь возможность, я бы его отправила целым и невредимым домой, к семье, ибо я не сомневалась, что у него есть честная, добродетельная жена и невинные дети, которые очень о нем беспокоятся и были бы рады поскорее его увидеть и ухаживать за ним, пока он не придет в себя. И с каким сокрушением и стыдом будет он вспоминать о своем поведении! Как будет упрекать себя за то, что связался с уличной девкой, которую подцепил в самой худшей трущобе, на ярмарке, среди грязи и подонков города! Как будет он дрожать от страха, не схватил ли сифилиса, от страха, что стрела пронзит его печень; как будет мерзок себе при воспоминании о своем диком и скотском распутстве! И если только есть у него какое-нибудь понятие о чести, то как ужасна для него будет мысль, не заразил ли он дурной болезнью — разве уверен он, что не схватил чего-нибудь? — свою скромную и добродетельную жену и не отравил ли таким образом кровь своего потомства!
Если бы такие господа знали, какое презрение питают к ним женщины, с которыми они имеют дело в подобных случаях, это отбило бы у них охоту к таким похождениям. Как я сказала выше, эти женщины не ценят удовольствия, не одушевлены никаким влечением к мужчине; бесчувственная шлюха думает только о деньгах, и когда мужчина опьянен порочными своими восторгами, руки этой твари обшаривают его карманы в поисках поживы, а простак в своем упоении не замечает этого, как не предвидел такой возможности заранее.
Я знала женщину, которая обошлась так ловко с одним мужчиной, правда не заслуживавшим лучшего обращения, что, покуда он был с ней занят, ухитрилась вытащить у него кошелек с двадцатью гинеями из кармашка для часов, куда он из предосторожности спрятал его, и положила на его место другой кошелек, с золочеными бляшками. Кончив, он спросил:
— Признайся, ты не очистила мой карман?
Она стала над ним подтрунивать, говоря, что едва ли у него есть что терять. Он сунул пальцы в кармашек и, нащупав кошелек, успокоился, а она так и ушла с его деньгами. Это было специальностью моей знакомой; для таких случаев у нее всегда были наготове поддельные золотые часы из позолоченного серебра и кошелек с бляшками, и я не сомневаюсь, что действовала она с успехом.
Я вернулась со своей добычей к пестунье, и, когда рассказала ей о приключении, у старухи даже слезы на глазах выступили при мысли, что такой большой барин ежедневно подвергается опасности быть ограбленным из-за несчастной своей слабости к вину.
Но что касается моей наживы и ловкости, с какой я его обчистила, тут пестунья была в полном восторге.
— Да, детка, — сказала она, — эта неприятность, наверное, подействует на него сильнее, чем все проповеди, которые он когда-либо слышал.
Продолжение этой истории показало, что она была права.
На другой день старуха стала подробнейшим образом расспрашивать о моем вчерашнем знакомом. Мое описание платья, фигуры, наружности этого человека напомнило ей одного господина, которого она знавала. Старуха сосредоточенно думала во время моего рассказа, потом заявила:
— Ставлю сто фунтов, что я знаю этого человека.
— Досадно, — заметила я, — потому что ни за что на свете мне не хотелось бы разоблачать его. Он уже довольно пострадал из-за меня, и мне не хотелось бы причинить ему еще большие неприятности.
— Нет, нет, — успокоила меня пестунья, — я не собираюсь делать ему зло, но прошу тебя, удовлетвори еще немножко мое любопытство, потому что, если это он, я об этом все равно дознаюсь.
Меня это немного встревожило, и, выразив на лице беспокойство, я сказала старухе, что в таком случае и он может обо мне дознаться, и тогда я пропала. Пестунья поспешно возразила!
— Неужели ты думаешь, что я способна выдать тебя, детка? Нет, нет ни за какие богатства! Я хранила твои тайны в делах и похуже. Можешь вполне положиться на меня.
Тогда я не стала больше прекословить.
Пестунья составила себе иной план, не посвятив меня в него, но твердо решив все разведать. С этой целью она направилась к одной своей приятельнице, которая была вхожа в интересовавшую ее семью, и сказала, что у нее есть важное дело к господину такому-то (который, кстати сказать, был не более не менее как баронет и очень знатного рода) и она не знает, как до него добраться, не имея знакомых, которые ввели бы ее к нему. Приятельница тотчас же пообещала помочь ей и пошла справиться, в городе ли баронет.
На следующий день она приходит к моей пестунье и говорит, что сэр*** у себя дома, но его постигло несчастье, он сильно болен и никого не принимает.
— Какое несчастье? — поспешно спрашивает моя пестунья с выражением крайнего изумления.
— Представьте, — отвечает приятельница, — ездил в Хемпстед[62], к одному приятелю, и на обратном пути подвергся нападению и был ограблен. А так как он, по-видимому, хватил лишнего, то негодяи еще и разукрасили его, и сейчас он очень нездоров.
— Ограблен! — воскликнула пестунья. — Что же у него взяли?
— Взяли золотые часы и золотую табакерку, парадный парик и все деньги, какие при нем были, наверное, немало, потому что сэр*** никогда не выходит из дому кошелька, туго набитого гинеями.
— Полноте! — насмешливо заметила моя старуха. — бьюсь об заклад, что он наклюкался, взял девку, и та обчистила; и вот, вернувшись домой, он рассказывает жене небылицу, будто его ограбили. Старая штука! Тысячи таких небылиц преподносят ежедневно бедным женам.
— Фу! Как можно говорить подобные вещи! — обиделась приятельница. — Вижу, что вы совсем не знаете сэра***. Это благороднейший джентльмен, в целом городе вы не сыщете такого скромного, почтенного, достойного человека. Он питает отвращение к таким гадостям, никто из его знакомых не возвел бы на него такой напраслины.
— Ладно, ладно, — говорит пестунья, — это меня касается, иначе, уверяю вас, я докопалась бы до правды. Все эти скромники подчас не лучше прославленных шутников, только искуснее притворяются, или, если хотите, лучше лицемерят.
— Нет, нет, бог с вами, — перебила приятельница. — Могу вас уверить, сэр*** не лицемер; он, право во всех отношениях порядочный джентльмен, и, без всякого сомнения, его ограбили.
— Ладно, пусть себе будет порядочный. Повторяю, нет до этого дела, я хочу только поговорить с ним, совсем по другому поводу.
— По тому ли или по другому, а видеть его вам сейчас нельзя, он никого не принимает, лежит в постели! его сильно избили.
— Вот как? — удивилась пестунья. — Побывал, значит, в переделке! Что же ему повредили? — осведомила она.
— Голову, — отвечает приятельница, — одну руку и лицо. Негодяи обошлись с ним просто варварски.
— Бедный баронет, — сокрушенно проговорила пестунья. — Придется мне, значит, подождать, пока поправится. Надеюсь, долго ждать не придется, — прибавила она, — мне с ним очень нужно поговорить.
И старуха тотчас же идет ко мне и передает весь рассказ.
— Разыскала твоего красавчика, — говорит, — правда, красавец, только в очень уж плачевном виде, моги ему боже. Какого черта ты его так разукрасила? Ведь ты чуть дух из него не вышибла.
Я так и уставилась на нее.
— Дух вышибла? — говорю. — Напрасно вы меня вините. Право, я его пальцем не тронула. Он был в добром здравии, когда я его покинула, только что пьян и спал как убитый.
— Я уж там не знаю, — говорит, — только теперь он в очень плачевном виде. — И передает мне все, сказала ей приятельница.
— Ну, тогда, — говорю, — он попал в переделку уже после того, как я его покинула, потому что я оставила его целым и невредимым.
Дней через десять моя пестунья снова идет к приятельнице, чтобы та провела ее к нашему барину; тем временем она навела справки другим путем и узнала, что еще не выезжает из дому, но встал с постели, так что ей позволили поговорить с ним.
Эта женщина прекрасно умела держать себя в обществе и не нуждалась, чтобы ее представляли баронету; я не в состоянии передать точно ее речи, потому что она, как я уже сказала, за словом в карман не лезла. Она заявила баронету, что пришла к нему, не будучи знакомой, с единственным намерением оказать ему услугу, он сам убедится, что никаких иных целей у нее нет; так как ею руководят чисто дружеские побуждения, он просит дать ей слово, что если он и откажется от ее услуг, то не будет на нее в обиде, что она суется не в свое дело. Со своей стороны, она обещала ему, что так как то, чем она собирается рассказать, есть тайна, касающаяся только его, то, примет ли он ее услуги или нет, все это останется между ними, если только он сам не даст делу огласки; отказ же от предлагаемой услуги ничуть не уменьшит ее уважения к нему, и она ни капельки не будет на него в обиде, так что ему предоставляется полная свобода действовать так, как он найдет удобным.
Сначала он ответил очень уклончиво, заявив, что совершенно не знает за собой таких вещей, которые требовали бы большой секретности, что он никому не сделал никакого зла и мало озабочен тем, что про него говорят, что не в его привычках быть к кому-либо несправедливым и он не представляет себе, какая ему может быть оказана услуга, но что если дело обстоит так, как она сказала, то он не станет обижаться за желание услужить ему; таким образом, он всецело предоставляет на ее усмотрение говорить или не говорить.
Пестунья встретила у него такое глубокое равнодушие, что стала сомневаться, можно ли затевать с ним это дело, однако, после нескольких отступлений, сказала, что благодаря одной странной и непостижимой случайности ей стало известно о недавнем несчастном приключении с ним, и притом с такими подробностями, каких не знает ни одна душа на свете, кроме них двоих, даже та особа, которая была с ним.
Сначала он, видимо, рассердился.
— Какое такое приключение?
— Я говорю, сэр, о том, как вас ограбили на пути из Найтсбр… виновата; — Хемпстеда, — поправилась она. — Не удивляйтесь, сэр, что я могу рассказать вам каждый ваш шаг в тот день, от ярмарки на Смитфилде до Спринггардена на Найтсбридже, и оттуда до*** на Стрэнде[63], и как вы потом уснули в карете. Пусть это вас не удивляет, сэр, потому что я пришла не с тем, чтобы заниматься вымогательством. Я ничего у вас не прошу и уверяю вас, что женщина, которая была с вами, совершенно не знает, кто вы такой, и никогда не узнает. Все же, мне кажется, я могу оказать вам еще кое-какие услуги. Я не только для того пришла, чтобы поставить вас в известность о своей осведомленности, в надежде, что вы меня вознаградите за мое молчание. Смею вас уверить, сэр, все, что вы сочтете нужным сделать или сказать мне, останется тайной, как если бы я лежала в могиле.
Он был поражен речью старухи и сказал ей торжественно:
— Сударыня, я вас не знаю, и очень прискорбно, что вы посвящены в тайну самого гнусного и постыдного поступка в моей жизни. Единственным моим утешением было то, что я считал его известным только Богу и моей совести.
— Пожалуйста, сударь, — сказала старуха, — не считайте для себя несчастьем, что я посвящена в вашу тайну. Я уверена, что это случилось неожиданно для вас; да, вероятно, и ваша спутница тут немало виновата. Во всяком случае, у вас нет никаких оснований сожалеть, что мне стало об этом известно. Вы сами не будете более безгласным насчет этого дела, чем была и всегда будет женщина, которую вы видите перед собой.
— Прекрасно, — ответил он, — но позвольте мне, однако, отдать справедливость моей спутнице. Кто бы она ни была, уверяю вас, она меня ни к чему не подстрекала, скорее отговаривала. Всему причиной мое собственное безрассудство и сумасбродство; оно и ее вовлекло в эту историю: я не хочу понапрасну обвинять ее. Что же касается того, что она меня обобрала, то лучшего я и ожидать не мог в своем тогдашнем состоянии; я не знаю даже, она ли меня обокрала или же кучер; если она, я ей прощаю. Мне кажется, так следует поступать со всеми мужчинами, позволившими себе до такой степени забыться. Но я гораздо больше озабочен другими вещами, а вовсе не тем, что она взяла у меня.
Моя пестунья начала тогда входить во все подробности дела, и он ей откровенно во всем признался. Прежде всего она сказала ему в ответ на его слова обо мне:
— Я рада, сэр, что вы так справедливы к сопровождавшей вас особе. Уверяю вас, это благородная дама, а не публичная женщина, и чего бы вы от нее ни добились, я убеждена, что это не в ее привычках. Вы подвергались большому риску, сэр. Если эта сторона дела тревожит вас, вы можете быть совершенно спокойны, так как, уверяю вас, ни один мужчина не прикасался к ней, кроме ее мужа, а он умер уже лет восемь назад.
По-видимому, как раз это его и беспокоило, так что он пребывал в великом страхе. Во всяком случае, услышав слова моей пестуньи, он очень обрадовался и сказал:
— Откровенно говоря, сударыня, если бы я был уверен в этом, я совсем бы не горевал о пропаже. Ведь искушение было велико, а она, может быть, бедная и нуждалась в деньгах.
— Не будь она бедная, сэр, — отвечала старуха, — клянусь вам, она никогда бы вам не уступила. И если бедность побудила ее сначала позволить вам то, что вы сделали, то бедность же побудила ее напоследок вознаградить себя, когда она увидела вас в таком состоянии, что, не, сделай она этого, любой кучер или носильщик портшеза обобрал бы вас еще чище.
— Ну что ж, — сказал он. — Желаю, чтобы это пошло ей впрок! Повторяю, со всеми мужчинами, которые до такой степени забываются, следует поступать точно так же, это приучило бы их к большей осмотрительности. Меня тревожит в этом деле лишь то, на что я вам уже намекал. — Тут он пустился с ней в некоторые откровенности насчет того, что произошло между нами и о чем женщине писать неудобно; признался, в каком он страхе за свою жену, потому что мог получить от меня что-нибудь и передать ей, и в заключение попросил старуху, не может ли она устроить ему свидание со мной. Моя пестунья опять заверила его, что ничего такого у меня нет и что он может быть совершенно спокоен в этом отношении, все равно как с собственной женой. Что же касается свидания со мной, то оно, по ее словам, могло бы иметь опасные последствия, во всяком случае, она поговорит со мной и даст ему знать, но в то же время она всячески старалась отговорить его, сказав, что ему не будет от этого никакого проку, поскольку он, надо надеяться, не намерен продолжать со мной прежнее, мне же пойти на свидание — все равно что доверить ему свою жизнь. Он ответил, что чувствует большое желание видеть меня, что он даст ей все, какие в его власти, гарантии в том, что не воспользуется этим свиданием с дурными целями и что первым делом даст мне обязательство отказаться от каких-либо притязаний ко мне. Старуха продолжала доказывать, что это послужит лишь к разглашению его тайны и может сильно повредить ему, она умоляла его не настаивать, так что в конце концов он отступился.
Разговор коснулся также похищенных вещей, и он выразил большое желание получить свои золотые часы, сказав, что, если она принесет их, он охотно заплатит за них полную цену. Старуха сказала, что постарается, предоставив ему самому назначить цену.
Действительно, на другой день она принесла часы, и он дал за них тридцать гиней — больше того, что я могла бы за них выручить, хотя они, по-видимому, стоили гораздо дороже. Он завел тогда речь о парике, который стоил ему шестьдесят гиней, и о табакерке; через несколько дней старуха принесла ему и эти вещи, очень его обязав, и он дал ей еще тридцать гиней. На следующий день я прислала ему его красивую шпагу и трость бесплатно, ничего от него не потребовав. Однако на свидание я соглашалась при том лишь условии, что он откроет мне свое настоящее имя; он же на это не шел.
Тогда он вступил в длинный разговор с моей пестуньей о том, каким образом она разузнала обо всем этом деле. Та сочинила длинную историю, будто бы ей все рассказала одна особа, которую я посвятила в дело, так как она должна была помочь мне в сбыте вещей, а эта особа принесла вещи ей в заклад, зная, что она занимается этим делом; и вот, услышав о несчастье, постигшем его милость, старуха сразу смекнула, что произошло; получив вещи в свои руки, она решила прийти попытать его, что и сделала. Потом она снова стала заверять его, что никому не проронит об этом ни слова, и хотя хорошо знает ту женщину, — она подразумевала меня, — однако ничего ей не сообщила о том, кто он такой, что, кстати сказать, было неправдой; но для него не произошло от этого никаких неприятностей, потому что я никому не обмолвилась ни одним словом.
Я часто думала о том, как бы снова с ним увидеться, и жалела что отказалась от встречи. Я была убеждена, что если бы я его увидела и дала ему понять, что знаю, кто он такой, то могла бы чем-нибудь от него поживиться и даже поступить к нему на содержание. Хотя это был дурной образ жизни, однако не столь опасный, как тот, что я себе избрала. Мысли эти, однако, стали все реже посещать меня, и я пока что отклонила его просьбу о свидании. Зато моя пестунья часто его видела, он был с ней очень любезен и почти при каждой встрече делал ей какой-нибудь подарок. Однажды она застала баронета очень, веселым и, как ей показалось, немного подвыпившим, и он снова стал упрашивать ее устроить свидание с женщиной, которая, по его словам, так его обворожила в ту ночь. Моя пестунья, которая с самого начала хотела, чтобы я с ним увиделась, сказала, что готова уступить его желанию и попробует уговорить меня, а после его многократных обещаний забыть все прошлое прибавила, что, если ему угодно будет пожаловать к ней сегодня вечером, она постарается исполнить его просьбу.
После этого она явилась ко мне и передала весь разговор, а поскольку я уже начинала жалеть о своем прежнем отказе, скоро добилась от меня согласия. И вот я приготовилась к встрече: нарядилась, разумеется, как можно тщательнее и первый раз в жизни прибегла к помощи искусства; говорю — в первый раз, ибо никогда еще я не опускалась до того, чтобы румяниться, думая, в своем тщеславии, что я в этом не нуждаюсь.
В назначенный час он явился; было ясно, как пестунья заметила это уже днем, что баронет подвыпил, хотя далеко еще не был пьян. Он чрезвычайно обрадовался, увидя меня, и начал длинный разговор по поводу случившегося. Я несколько раз попросила у него прощения, заявив, что у меня вовсе не было такого намерения, когда с ним встретилась, что я бы не пошла с ним, если бы не приняла его за мужчину воспитанного и если бы он не надавал мне столько обещаний, что не позволит себе никакой нескромности.
Он стал извиняться, сославшись на выпитое вино и на то, что он едва помнил себя; не будь этого, он никогда бы не позволил себе таких вольностей со мной. Он заявил, что после женитьбы не прикасался ни к одной женщине, кроме меня, и что все случилось нечаянно для него, наговорил мне комплиментов, что я ему страшно понравилась и так далее, словом, до того разошелся, что не прочь был повторить все сначала. Но я оборвала его, заявив, что после смерти мужа, то есть уже восемь лет, не позволяла ни одному мужчине прикасаться к себе. Он ответил, что верит мне, прибавив, что старуха уже говорила ему об этом, и как раз высокое мнение обо мне возбудило в нем желание увидеться со мной вновь, и если он уже раз нарушил со мной добродетель, без всяких дурных последствий для себя, то может безопасно повторить все снова, словом, он кончил тем, чего я ожидала и о чем здесь неприлично рассказывать.
Моя старая пестунья предвидела все это не хуже меня, поэтому она провела его в комнату, где не было кровати, но зато эта комната сообщалась с другой, в которой стояла кровать. Туда мы и перешли на остаток ночи; в общем, побыв со мной несколько времени, он уснул и оставался там всю ночь. Я на время удалилась, но еще до рассвета вернулась раздетая и лежала с ним до утра.
Так что, как видите, согрешив однажды, мы тем самым открываем ворота дальнейшему греху, и все наши покаянные мысли разлетаются при первом же новом соблазне. Если бы я не уступила его желанию повидаться со мной еще раз, его порочное вожделение постепенно бы угасло и, кто знает, может он больше ни с кем не стал бы так грешить! Ведь до встречи со мной он и в самом деле как будто не занимался этим.
Когда он уходил, я выразила надежду, что теперь он не боится, что его снова обокрали. Он ответил, что совершенно спокоен на этот счет, и, сунув руку в карман, дал мне пять гиней — первые деньги, заработанные мной таким способом после многолетнего перерыва.
Он нанес мне несколько таких визитов, но ни разу не предложил постоянного содержания, что меня бы устраивало больше всего. Раз, правда, он спросил меня, чем я живу. Я поспешно ответила, что ни с кем не позволяю себе таких вещей, как с ним, но зарабатываю рукоделием и этого для меня достаточно, хотя порой приходится туго.
Он винил себя в том, что толкнул меня на грех, между тем как сам он и в мыслях не имел предаваться ему (так, по крайней мере, он меня уверял). Ему было тяжело, говорил он, чувствовать себя виновником не только своего, но и моего падения. Он часто пускался в справедливые рассуждения о грехе вообще и о тех обстоятельствах, которые сопровождали его собственную провинность: вино, говорил он, разожгло в нем желание, дьявол завел его на ярмарку, где его ждала приманка; мораль он всякий раз выводил сам.
Когда его одолевали подобные мысли, он обычно покидал меня и по месяцу, а то и дольше, не являлся. Но по мере того как глубокомыслие выветривалось, на смену ему приходило легкомыслие, и тогда он являлся ко мне в полной готовности снова грешить. Так прожили мы какое-то время; хотя я не была в полном смысле слова его содержанкой, однако он не скупился на подарки, позволявшие мне жить не работая и, главное, не возвращаться к своему старому ремеслу.
Но и этому приключению наступил конец. Через год я заметила, что он уже не приходит так часто, как раньше, и наконец он совсем прекратил свои посещения без какой-либо размолвки и не попрощавшись со мной. Так кончился этот краткий эпизод, который мало что мне принес, дав только лишний повод для угрызений совести.
В течение всего этого времени я по большей части сидела дома; во всяком случае, имея достаточно денег, не пускалась ни в какие приключения еще целых три месяца, но потом, увидя, что мои фонды иссякли, и не желая тратить основной капитал, я стала подумывать о своем старом ремесле и поглядывать на улицу. И первый же мой шаг был довольно счастлив.
Я оделась очень бедно; нужно сказать, что появлялась я на улице в различных видах, и теперь было на мне платье из простой материи, синий передник и соломенная шляпа; в таком наряде явилась я к воротам гостиницы Трех Кубков на Сент-Джон-стрит. В этой гостинице останавливалось много извозчиков, и вечером на улице всегда стояло несколько почтовых карет, готовых к отправлению в Барнет, Тоттеридж[64] и другие города; и вот я поджидала, не подвернется ли что-нибудь. А расчет у меня был такой: к этим гостиницам часто подходят пассажиры с узлами и пакетами и спрашивают нужных им извозчиков или карету, чтобы ехать в провинцию; поэтому у дверей обыкновенно стоят женщины — жены и дочери носильщиков — в ожидании, не предложит ли им кто из пассажиров погрузить кладь.
И вот, пока я стояла у ворот гостиницы, одна женщина, которая была там уже до моего прихода — жена носильщика, обслуживавшего барнетскую почтовую карету, — спросила меня, не поджидаю ли и какого-нибудь пассажира. Я ответила: да, ожидаю свою госпожу, которая едет в Барнет и должна сейчас прибыть сюда. Женщина спросила, кто моя госпожа, и я ей назвала первую пришедшую мне в голову фамилию, которая случайно оказалась фамилией одной семьи, живущей в Хедли возле Барнета. Потом довольно долго ни я к ней не обращалась, ни она ко мне; тут кто-то позвал ее из двери соседнего дома, по-видимому из пивной, и она попросила меня вызвать ее, если кто-нибудь будет спрашивать карету в Барнет. Я ответила: «Охотно», и она ушла. Не успела она скрыться, как подходит горничная с девочкой, запыхавшаяся и вспотевшая, и спрашивает эту самую карету, Я тотчас ответила:
— Здесь.
— Вы обслуживаете эту карету? — спрашивает.
— Да, голубушка, — отвечаю. — Что вам угодно?
— Мне нужно место для двух пассажиров.
— Где же они, голубушка?
— Вот девочка, посадите ее, пожалуйста, в карету? — говорит, — а я побегу за госпожой.
— Торопитесь, голубушка, — говорю, — а то все будет переполнено.
У горничной был большой узел под мышкой; когда она посадила ребенка в карету, я сказала:
— Узел вам бы тоже лучше оставить в карете.
— Нет, боюсь, его утащат у ребенка.
— Так давайте его мне, — говорю.
— Возьмите, — говорит, — и, пожалуйста, хоршенько присмотрите за ним.
— Отвечаю вам за него, даже если бы он стою двадцать фунтов.
— Тогда берите, — говорит она и убегает. Взяв узел и подождав, пока горничная скрылась из виду, я иду к пивной, где была жена носильщика, с таки расчетом, что если я ее встречу, то отдам ей узел и скажу, что ее зовут, а мне нужно уходить и ждать больше некогда; но я ее не встретила, поэтому спокойно ушла и, повернув на Чартерхаус-лейн[65], пересекла Чартерхаус-ярд, направилась по Лонг-лейн, через двор церкви св. Варфоломея, оттуда вышла на Литтл-Бритен[66] и, через Блукоут Хоспитал[67], на Ньюгет-стрит.
Чтобы меня не узнали, я сняла синий передник и завернула в него узел, который был завязан в кусок цветного коленкора, очень приметного. Я также сунула туда мою соломенную шляпу и понесла узел на голове; и хорошо, что я так сделала, ибо, проходя через двор больницы, кого же я встретила: ту самую горничную, которая дала мне подержать узел! По-видимому, она шла со своей госпожой, за которой побежала, оставив вещи на моем попечении.
Я видела, что она торопится, и не имела никакого, желания останавливать ее; так она прошла мимо, а я благополучно принесла узел своей пестунье. В нем не оказалось денег, серебра или драгоценностей, зато было отличное платье из индийской камчатной материи[68], рубашка и юбка, чепчик и рукавчики из великолепного фламандского кружева[69] и кое-какие другие вещи, цена которых была мне отлично известна.
До этой проделки я не сама додумалась, ей научила меня одна воровка, с успехом промышлявшая таким способом; моя пестунья осталась от него в восторге; я еще несколько раз применяла его, но все в разных местах; в Уайтчепеле[70], на углу Петтикоут-лейн[71], где останавливаются кареты, идущие в Стретфорд, Боу[72] и вообще в ту часть Англии; у Летучей Лошади, за Бишопсгет[73], где останавливались тогда честонские кареты; и каждый раз мне удавалось возвращаться домой с какой-нибудь добычей. А раз выбрала я место у пакгауза, на берегу Темзы, где пристают корабли с севера, из таких городов, как Ньюкасл-на-Тайне, Сандерленд и другие. И приходит туда паренек с письмом: ему нужно было получить ящик и корзину, прибывшие из Ныокасла-на-Тайне, а пакгауз был закрыт. Я спросила, есть ли у него накладная с отличительными знаками; тогда он показывает мне письмо, по предъявлении которого он должен был получить посылку и которое содержало опись товаров: в ящике было полотно, в корзине — стеклянная посуда. Я прочла письмо и постаралась запомнить имена и отличительные знаки, имя отправителя товара и имя получателя; потом велела посланному прийти на другой день утром, так как сегодня клерк сюда не вернется.
После этого я отправилась в харчевню, спросила перо и бумагу и написала письмо от мистера Джона Ричардсона из Ньюкасла к его дорогому кузену Джемми Колю, в Лондон, в котором он сообщал, что посылает на таком-то корабле (а я запомнила все до последней мелочи) ящик, в котором столько-то кусков грубого камчатного полотна и столько-то ярдов голландского полотна и т.д., и корзину хрустальных стаканов от торгового дома мистера Гензилла, и что ящик помечен I. С э 1, а к корзине прикреплен ярлык с адресом.
Через час я явилась в пакгауз, застала там клерка, предъявила ему письмо, и товары беспрекословно были мне выданы; полотно стоило приблизительно два фунта. Я могла бы дополнить этот перечень еще многими приключениями, в которых я действовала с необыкновенной ловкостью и неизменным успехом.
Наконец — повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить — вышли у меня кое-какие заминки, которые мне, правда, удалось уладить, но они создали мне широкую известность, а это было для меня почти так же плохо, как быть пойманной на месте преступления.
В последнее время, выходя на улицу, я надевала вдовье платье; никаких определенных планов у меня при этом не было, я лишь поджидала, не подвернется ли чего под руку, как часто уже делала. И вот, проходя однажды по Ковент-Гардену[74], услышала я громкий крик: «Держи вора! Держи вора!» По-видимому, шайка воров позабавилась над каким-то лавочником, и, когда за ними бросились в погоню, одни метнулись в одну сторону, другие — в другую; так как одна из воровок, как говорили, была во вдовьем платье, то вокруг меня собралась толпа, и одни утверждали, что я и есть та самая, кого ищут, другие отрицали. Явился приказчик лавочника и громко побожился, что я и есть воровка, и схватил меня. Однако, когда толпа притащила меня в лавку, хозяин чистосердечно признал, что он меня не видел, и хотел тотчас же отпустить, но другой приказчик остановил его «Подождите, пожалуйста, до возвращения мистера*** (другого приказчика), он ее знает»; и меня задержали на добрых полчаса.
Позвали констебля и поручили ему сторожить меня. Разговорившись с ним, я спросила, где он живет и чем занимается; не подозревая, чем все это кончится, констебль назвал мне свое имя и сказал, где живет, прибавив в шутку, что я, наверное, услышу его имя, когда меня приведут в Олд Бейли. Слуги тоже обращались со мной дерзко, и стоило большого труда удержать их от рукоприкладства; хозяин, правда, был со мной учтивее остальных, но он не хотел отпускать меня, хотя и признавал, что я не заходила в его лавку.
Я начала терять терпение и довольно резко заявила ему, что, надеюсь, он на меня не посетует, если я привлеку его к ответственности за эти оскорбления, и попросила послать за моими друзьями, чтобы те были свидетелями, как со мной обращаются. Но он отказал мне, предложив обратиться с такой просьбой к мировому судье, когда меня приведут к нему; а за то, что я ему угрожаю, он будет смотреть за мной в оба и позаботится, чтобы я не избежала Ньюгета. Я ответила, что теперь его очередь издеваться, но скоро придет и моя, однако всячески старалась быть сдержанной. Я обратилась к констеблю с просьбой позвать мне посыльного, тот позвал, и тогда я потребовала перо, чернила и бумагу, но мне отказали. Я спросила у посыльного его имя и адрес, и бедняк весьма охотно мне их сообщил. Я велела ему заметить и запомнить, как со мной здесь обращаются; пусть он убедится, что меня задерживают здесь силой. Я сказала, что он мне понадобится как свидетель и я его поблагодарю, если он расскажет всю правду. Он заявил, что готов услужить мне всей душой.
— Однако, сударыня, — сказал он, — я должен услышать собственными ушами, что они отказываются отпустить вас, тогда мои показания будут более вразумительными.
После этого я громко обратилась к хозяину лавки:
— Сударь, вы отлично знаете, что я не та, кого вы ищете, и что сегодня я не заходила в вашу лавку. Поэтому я требую, чтобы вы меня отпустили или же объяснили, почему вы меня задерживаете.
В ответ на это хозяин заявил еще более грубым тоном, что он не исполнит ни первого, ни второго моего требования, пока не сочтет нужным.
— Отлично, — сказала я констеблю и рассыльному, — вы меня очень обяжете, господа, если припомните эти слова где следует.
Рассыльный ответил: «Да, сударыня», констебль же стал выражать недовольство и пытался убедить лавочника, чтобы тот отпустил его и позволил мне уйти, раз он сам признает, что я не была у него в лавке.
— Скажите мне, любезнейший, — насмешливо ответил лавочник, — кто вы такой: мировой судья или полицейский? Я поручил вам эту женщину, попрошу вас исполнять свои обязанности.
Немного задетый, констебль вежливо сказал:
— Я знаю, кто я такой и каковы мои обязанности, сударь. А вот вы, сдается мне, сами не понимаете, что делаете.
Они обменялись еще несколькими колкостями, а тем временем приказчики, парни наглые и бессовестные до последней степени, обращались со мной самым грубым образом; один из них — тот, что первый схватил меня, — заявил, что хочет подвергнуть меня обыску, и уже протянул ко мне руку. Я плюнула ему в лицо, подозвала констебля и велела хорошенько заметить, как со мной здесь обращаются. «И попрошу вас, господин констебль, спросить имя этого негодяя», — сказала я, указывая на приказчика. Констебль в вежливых выражениях пожурил парня, сказав, что он не соображает, что делает: ведь ему известно, что его хозяин не признал во мне воровки.
— И боюсь, — сказал констебль, — как бы ваш хозяин, а заодно с ним и я не попали в неприятное положение, если этой даме удастся доказать, кто она такая и где была, так как, по-видимому, она не то лицо, за которое вы ее принимаете.
— Черт бы ее побрал, — нагло ответил парень, — будьте уверены, это она и есть. Побожусь, что это та самая, которая была в лавке, и что я дал ей в руки пропавший кусок атласа. Вы получите более подробные показания, когда вернутся мистер Уильям и мистер Антони (другие приказчики); они опознают ее не хуже меня.
В ту самую минуту, когда наглец обратился с этими словами к констеблю, возвращаются господа Уильям и Антони, как он называл их, в сопровождении целой толпы, и тащат настоящую вдову, за которую меня принимали; вся орава, отдуваясь и вытирая пот, вваливается в лавку, бедную женщину с торжеством волокут к хозяину, в заднюю комнату, и все кричат:
— Вот вдова, сударь! Поймали-таки стерву!
— Что вы хотите сказать? — говорит хозяин. — Ведь она уже здесь. Глядите, вон там сидит, и мистер*** готов поклясться, что это она.
Другой приказчик, которого называли мистером Антони, возразил:
— Мистер*** может говорить, что ему угодно, и клясться, чем угодно, но вот настоящая воровка, и вот кусок атласа, который она украла. Я его собственной рукой вытащил у нее из-под юбки.
Теперь у меня отлегло от сердца, но я только улыбнулась, не сказав ни слова. Хозяин побледнел; констебль обернулся и посмотрел на меня.
— Пусть их, господин констебль, — сказала я, — посмотрим, что дальше будет.
Дело было ясное и не допускало никаких сомнений, поэтому констеблю поручили настоящую воровку, а передо мной лавочник рассыпался в извинениях, сказав, что сожалеет о допущенной ошибке и просит на него не гневаться; в лавку чуть ли не каждый день забираются воры, так что нельзя его слишком винить за крутую расправу.
— Не гневаться, сударь? — возразила я. — Что же, прикажете улыбаться? Если бы вы отпустили меня, когда ваш наглец приказчик схватил меня на улице и привел к вам и когда вы сами признали, что я не та женщина, я бы проглотила обиду и не рассердилась, приняв во внимание, что, как вы говорите, у вас каждый день такие неприятности. Но ваше последующее обращение со мной и особенно поведение вашего слуги совершенно нетерпимы; я должна привлечь вас за это к ответу, и привлеку.
Тогда лавочник вступил со мной в переговоры, сказав, что даст какое угодно разумное удовлетворение и просит меня сообщить мои требования. Я ответила, что не хочу быть своим собственным судьей, закон решит за меня; и так как меня должны были вести к судье, то там он и услышит, что я собираюсь сказать. Он сказал, что теперь нет никакой надобности идти к судье, я свободна, и, обратившись к констеблю, сказал, что он может меня отпустить, так как я оправдана. Констебль спокойно ответил ему:
— Сударь, вы только что спрашивали меня, знаю ли я, кто я такой: полицейский или судья. Вы велели мне исполнять мои обязанности и поручили сторожить эту даму как арестантку. Теперь, сударь, я вижу, что вы не понимаете, в чем заключаются мои обязанности, так как на самом деле хотите превратить меня в судью. Но должен заявить вам, что я не имею на это права; мое дело стеречь порученного мне арестанта, и лишь закон и судья могут оправдать его. Таким образом, вы ошибаетесь, сударь, я должен теперь вести ее к судье, нравится вам это или не нравится.
Лавочник сначала держал себя с констеблем очень высокомерно; но так как этот констебль оказался не наемным чиновником, а добросовестным, солидным человеком (кажется, он торговал зерном), и притом очень здравомыслящим, то он твердо стоял на своем и не пожелал отпустить меня без приказа мирового судьи; я тоже на этом настаивала.
— Ладно, — говорит лавочник, увидя это, — ведите ее, куда вам угодно: мне с ней не о чем разговаривать.
— Позвольте, сударь, — возражает констебль, — надеюсь, вы пойдете с нами, ведь вы мне поручили ее.
— Нет, не поручал, — говорит лавочник, — повторяю, мне не о чем с ней разговаривать.
— Извините меня, сударь, — настаивает констебль, — но вам надо пойти; прошу вас об этом в ваших собственных интересах, ибо судья ничего не может сделать без вас.
— Пожалуйста, дружище, — говорит лавочник, — делайте свое дело. Еще раз повторяю, мне нечего сказать этой даме. Именем короля приказываю вам отпустить ее.
— Сударь, — говорит констебль, я вижу, вы не знаете обязанностей полицейского. Прошу вас, не заставляйте меня быть грубым с вами.
— Думаю, что в этом нет надобности, вы и без того достаточно грубы.
— Нет, сударь, — возражает констебль, — я ничуть не груб. Вы нарушили общественное спокойствие, схватив женщину на улице, где она не совершала ничего противозаконного, заперев ее в своей лавке и позволив своим слугам грубо обращаться с ней, и теперь говорите, что я груб с вами! Мне кажется, напротив, я слишком учтив с вами, потому что не приказываю вам именем короля следовать за мной, не приказываю первому прохожему помочь мне силой отвести вас к судье. Вы знаете, что я вправе сделать это и все же воздерживаюсь и еще раз покорнейше прошу вас пойти со мной. Но, несмотря на эти убеждения, лавочник отказался и наговорил констеблю дерзостей. Последний, однако, остался невозмутимым. Тогда вмешалась я.
— Бог с ним, господин констебль, оставьте его в покое. Не бойтесь, я сумею привести его к судье. Но вот этот парень, — говорю, — схватил меня, когда я мирно шла по улице, и вы свидетель его насильственных действий по отношению ко мне, уже когда я была здесь. Разрешите мне поручить его вам и отвести к судье.
— Слушаю, сударыня, — говорит констебль и обращается к приказчику: — Что ж, молодой человек, придется вам пойти вместе с нами. Надеюсь, вы подлежите власти констебля, не то что ваш хозяин.
У парня был вид пойманного вора, он попятился назад, потом взглянул на хозяина, словно бы тот мог помочь ему; хозяин, как дурак, стал поощрять приказчика к неповиновению, и тот действительно оказал сопротивление, изо всех сил оттолкнув констебля, когда тот подошел его взять; в ответ на это констебль сшиб его с ног и позвал на помощь. Лавка мгновенно наполнилась народом, и констебль арестовал хозяина, приказчика и всех подручных.
Первым худым следствием этой суматохи было то, что настоящая воровка скрылась, замешавшись в толпе; ее примеру последовали две другие женщины, которые были задержаны приказчиками; были ли эти последние виновны или нет, не могу сказать.
Тем временем в лавку зашли соседи и, увидя, какой оборот приняло дело, пытались образумить хозяина, и тот начал сознавать, что совершил оплошность. Поэтому в конце концов все мы спокойно отправились к судье, окруженные толпой человек в пятьсот; и всю дорогу я слышала, как в толпе одни спрашивали, в чем дело, а другие отвечали: лавочник задержал какую-то даму вместо воровки, а потом поймали настоящую воровку, и вот дама велела задержать лавочника и ведет его к судье. Толпа в восторге, народу все прибывало, и то и дело раздавались голоса: «Где он, мерзавец, где лавочник?» Особенно неистовствовали женщины. Когда им удавалось увидеть его, они кричали: «Вот он, вот он, глядите» — и поминутно угощали беднягу комьями грязи. Так шли мы довольно долго, пока наконец лавочник не взмолился к констеблю, чтобы тот позвал карету, в которой он мог бы укрыться от ярости черни; поэтому остаток пути мы сделали в карете: констебль, я, лавочник и его приказчик.
Когда мы явились к судье, старому джентльмену из Блумсбери, констебль вкратце изложил, как было дело, после чего судья предложил мне высказаться, но сначала спросил мое имя, которое мне очень не хотелось называть. Однако выхода не было, и я сказала, что мое имя Мэри Флендерс, что я вдова и мой муж, капитан корабля, умер на пути в Виргинию; сообщила и другие обстоятельства, которые он никак не мог проверить, а также то, что я живу теперь в Лондоне, с такой-то женщиной, назвав свою пестунью; сказала далее, что собираюсь в Америку, где находится имущество покойного мужа, и вышла сегодня купить полутраурное платье, но не успела еще побывать ни в одной лавке, как вдруг этот парень — я указала на приказчика — набросился на меня с такой яростью, что до смерти напугал меня, и потащил в лавку своего хозяина, где этот последний, хоть и признал, что я не та женщина, за которой гнались, не пожелал отпустить меня и приставил ко мне констебля.
Потом я рассказала, как грубо обращались со мной приказчики, как они не разрешили мне послать за кем-нибудь из моих друзей, как потом они поймали настоящую воровку, у которой нашли похищенные товары, и другие изложенные выше подробности.
Потом взял слово констебль. Он изложил свой разговор с лавочником насчет моего освобождения, сообщил об отказе приказчика сопровождать его, когда я поручила ему взять парня под стражу, и о том, как хозяин поощрял приказчика к сопротивлению, как парень ударил его, и так далее, как уже было мной изложено.
Потом судья выслушал лавочника и приказчика. Лавочник произнес пространную речь о больших убытках, которые торговцы несут ежедневно от мазуриков и воров; сказал, что им легко ошибиться, и когда он обнаружил свою ошибку, то хотел выпустить меня и т.д., как выше изложено. Что касается приказчика, то он мало что мог сказать и заявил лишь, что другие слуги сказали ему, будто я и есть настоящая воровка.
Выслушав все эти показания, судья первым делом очень любезно сказал мне, что я свободна; он очень сожалеет, что приказчик в пылу преследования принял ни в чем не повинную особу за преступницу; он убежден, что я простила бы эту обиду, если бы после этого лавочник противозаконно не задержал меня, однако все удовлетворение, какое в его власти дать мне, это подвергнуть моих преследователей публичному порицанию, что он и сделает, но он полагает, что я сама прибегну к тем средствам, какие указывает закон, а тем временем он возьмет с моего обидчика обязательство явиться в суд.
Что же касается нарушения общественного спокойствия, учиненного приказчиком, то судья сказал, что он доставит мне удовлетворение, посадив парня в Ньюгет за нападение на констебля, а также и на меня.
Итак, он отправил парня в Ньюгет за самоуправство, но хозяин взял его на поруки, и на этом суд кончился; я с удовольствием увидела, как поджидавшая толпа встретила лавочника и его приказчика улюлюканьем и забросала карету, в которую они сели, камнями и грязью.
Вернувшись домой после всей этой передряги, я рассказала все по порядку моей пестунье. Та весело расхохоталась.
— Что это вам так весело? — спрашиваю. — Мне было совсем не до смеху; могу вас уверить. Я немало переволновалась и натерпелась страху с этой бандой негодяев.
— Почему я смеюсь? — отвечала пестунья. — Я смеюсь, деточка, что тебе так везет. Да ведь это дело принесет барыш, какого ты во всю жизнь не получала, нужно только умело взяться. Ручаюсь, что ты заставишь лавочника заплатить пятьсот фунтов за бесчестье, не считая того, что ты вытянешь с приказчика.
Я смотрела на вещи иначе, чем пестунья, главным образом потому, что назвала мировому судье свое имя; я знала, что мое имя так хорошо известно среди господ, заседающих в Хикс-Холле[75], Олд Бейли и других подобных местах, что, если дойдет до публичного разбирательства и обо мне наведут справки, ни один суд не присудит большего возмещения за бесчестье женщине, стяжавшей себе такую славу, как я. Все же мне пришлось предъявить иск, и моя пестунья разыскала мне весьма почтенного стряпчего, делавшего прекрасные дела и пользовавшегося хорошей репутацией, и поступила совершенно правильно, потому что, возьми она мелкого кляузника или человека неопытного, я выиграла бы какие-нибудь пустяки.
Встретившись с этим стряпчим, я подробно изложила ему вышеописанное происшествие, и он мне сказал, что присяжные, несомненно, поставят взыскать с купца крупное возмещение за мое бесчестье. Получив необходимые сведения, стряпчий подал жалобу, и во избежание ареста купцу пришлось внести обеспечение. Через несколько дней после этого он является со своим поверенным к моему поверенному, чтобы заявить, что желает кончить дело полюбовным соглашением, что все это прискорбное происшествие объясняется его вспыльчивым характером, что у клиентки моего поверенного, то есть у меня, слишком острый язычок, что я была с ними дерзкой, издевалась и глумилась над ними, вела себя вызывающе и тому подобное.
Мой поверенный искусно отстаивал мои интересы; убедил купца, что я богатая вдова, что я способна добиться удовлетворения и имею могущественных друзей, что друзья эти взяли с меня слово не оставлять моего обидчика безнаказанным, хотя бы процесс обошелся мне в тысячу фунтов, так как подобные оскорбления простить невозможно.
В конце концов ответчику удалось добиться от моего поверенного обещания, что он не будет подливать масла в огонь, что если я проявлю склонность к полюбовному соглашению, он не станет удерживать меня и будет побуждать меня скорее к миру, чем к войне, от чего, как ему было сказано, он не окажется в проигрыше. Весь этот разговор он добросовестно передал мне, прибавив, что, если они предложат ему взятку, я тотчас об этом узнаю, и честно заявил мне, что если мне угодно выслушать его мнение, то он советует мне помириться с ответчиком, ибо тот сейчас очень напуган и больше всего на свете желает кончить дело полюбовно, зная, что, какой бы оборот оно не приняло, все равно ему придется платить; поэтому мой поверенный думает, что купец даст мне добровольно больше, чем может взыскать с него суд. Я спросила поверенного, сколько жег по его мнению, купец согласится заплатить; тот ответил, что он этого не может сказать, но при следующем нашем свидании сообщит более точные сведения.
Через некоторое время купец снова пришел к нему со своим поверенным узнать, говорил ли он со мной. Тот ответил утвердительно, сказав, что сама я пошла бы на примирение, если бы этому не противились мои друзья, принявшие очень близко к сердцу бесчестье, которому я подверглась, и требующие, чтобы я не оставляла этого дела: они подстрекают меня, настаивая, чтобы я отомстила, или, как они выражаются, постояла за себя; таким образом, он не может сказать ничего определенного, обещает только по мере своих сил повлиять на меня, но для этого ему нужно знать, что мне предлагает мой обидчик. Купец и его поверенный стали говорить, что они не могут сделать никакого предложения, так как оно ведь пойдет им во вред; на это мой поверенный заявил, что по той же самой причине и он не может предъявить им никаких требований, так как они могут оказаться ниже той суммы, которую суд будет склонен взыскать в мою пользу с ответчика. Однако после долгого обсуждения и взаимных обещаний, что ни одна сторона не использует во вред другой того, о чем они договорятся на этом или последующих совещаниях, они пришли к некоторому соглашению, но настолько неопределенному ввиду несоответствия между предложениями сторон, что невозможно было ожидать от него большой пользы, а именно: мой поверенный требовал пятьсот фунтов и покрытия издержек, ответчик же предлагал всего пятьдесят фунтов и отказывался платить издержки; на этом они расстались. Купец изъявил желание встретиться со мной лично, и мой поверенный с большой готовностью пообещал содействовать этой встрече. Мой поверенный посоветовал мне одеться понаряднее и явиться на свидание с некоторой помпой, чтобы купец сразу увидел, что я совсем не та, за кого он меня принял во время нашей первой встречи. Поэтому я пришла в новеньком полутраурном платье, соответственно моим показаниям у судьи. Надела я также украшения, какие допускал мой вдовий наряд: моя пестунья дала мне хорошее жемчужное колье с бриллиантовым фермуаром, которое находилось у нее в закладе; на поясе у меня висели прекрасные золотые часы; словом, казалась я важной барыней. И я заставила подождать себя, чтобы купец видел, как я приехала в карете с горничной. Когда я вошла в комнату, купец был весьма удивлен. Он встал и почтительно поклонился, а я, едва ответив ему, прошла мимо и села на указанное моим поверенным кресло, так как мы находились в его доме. Немного погодя купец сказал, что он меня не признал, и стал рассыпаться в комплиментах. Я ответила, что он, видно, с самого начала не признал меня, иначе не стал бы обращаться со мной так невежливо.
Он заявил, что очень жалеет о случившемся и что назначил это свидание, желая засвидетельствовать свою готовность дать мне всяческое удовлетворение; он выразил надежду, что я не стану доводить дела до суда, так как это не только причинит ему большие убытки, но может погубить все его предприятие и совсем разорить его, а в таком случае я отвечу на его несправедливость в десять раз большей несправедливостью и вдобавок ничего не добьюсь, тогда как он готов дать мне какое угодно посильное для него удовлетворение, не подвергая ни себя, ни меня неприятностям и судебным издержкам.
Я сказала, что очень рада слышать из его уст такие речи, гораздо более рассудительные, чем раньше, что хотя признание вины в большинстве случаев считается достаточным, но выданном случае его мало, так как дело зашло слишком далеко, что я не мстительна и не ищу его разорения, но что все мои друзья в один голос требуют, чтобы я защищала свое доброе имя и непременно добилась удовлетворения, что порочить честную женщину, как воровку, есть оскорбление, которое снести невозможно, что мое доброе имя вне всяких подозрений для людей, которые меня знают, и он мог принять меня за воровку только потому, что, будучи вдовой, я мало заботилась о своей внешности, но его дальнейшее поведение со мной — и я пересказала всю происшедшую между нами сцену — было настолько вызывающим, что я не могу без негодования вспомнить об этом.
Он признал всю свою вину и почтительно просил прощения; изъявил согласие заплатить сто фунтов и все судебные издержки и поднести мне в подарок хорошее платье. Я сбавила свои требования до трехсот фунтов, оставляя за собой право напечатать в газетах подробный отчет обо всем случившемся.
С этой оговоркой купец ни за что не желал согласиться. Однако благодаря ловкости моего поверенного согласился на сто пятьдесят фунтов и черное шелковое платье. Тогда, как бы по настоянию своего поверенного, я уступила, но с условием, чтобы он оплатил счет моего поверенного и судебные издержки, да в придачу угостил нас хорошим ужином.
Когда я явилась за деньгами, со мной была моя пестунья, разряженная, как герцогиня и хорошо одетый господин, будто бы ухаживающий за мной; хотя я называла его кузеном, однако стряпчий тонко намекнул купцу, что этот господин ухаживает за вдовой.
Купец принял нас с большим почетом и аккуратно; заплатил деньги; вся эта история обошлась ему в двести фунтов, если не больше. На нашем последнем свидании, когда все было улажено; возник вопрос о приказчике, и купец стал очень меня просить за него; сказал, что у бедняги была раньше своя лавка, что у него жена и несколько детей, что он очень беден и не в состоянии чем-нибудь вознаградить меня, но будет на коленях умолять о прощении. Я не питала злобы к наглецу, и его извинения мало интересовали меня, раз нечего было, рассчитывать на какое-нибудь возмещение с его стороны, поэтому я решила, что лучше всего будет благородно отказаться от всяких требований. Я сказала купцу, что не желаю пускать его приказчика по миру и прощаю его, по просьбе хозяина, считая месть ниже своего достоинства.
За ужином купец привел беднягу, чтобы тот принес мне извинения; подобострастие приказчика равнялось при этом его прежней заносчивости — живой пример душевной низости: будучи господами положения, такие люди высокомерны, жестоки и безжалостны, а в роли подчиненных пресмыкаются и раболепствуют. Я резко его оборвала, сказав, что прощаю, и попросила уйти, точно мне был противен самый его вид, хоть я его и простила.
Я могла теперь считать себя вполне обеспеченной, и пора было мне бросить свое ремесло: моя пестунья часто говорила, что я самая богатая воровка в Англии, — я думаю, что так оно и было, ибо я имела семьсот фунтов наличными, не считая платьев, колец, серебряной посуды и двух золотых часов — все краденое, так как я совершила не одно дельце, помимо описанных. Ах, если бы я тогда раскаялась и еще могла бы поразмышлять на досуге над своими безумствами и немного загладить их; но мой час еще не пробил; я в такой же мере не могла удержаться от своих похождений, как и в тот день, когда нужда гнала меня на улицу за куском хлеба.
Вскоре после окончания дела с лавочником я облачилась в наряд, совсем непохожий на те, в каких я щеголяла до сих пор. Я оделась, как нищая, в самые грубые и грязные лохмотья, какие только могла достать, и побрела по улицам, заглядывая в каждую дверь и каждое окно, мимо которых проходила. Но в таком виде я положительно не умела шагу ступить. Я чувствовала непобедимое отвращение к грязи и лохмотьям; с детства я привыкла к опрятности и чистоте и сохраняла эту привычку во всех положениях, в какие мне случалось попадать, так что наряд нищенки был для меня самым стеснительным из всех. Я скоро пришла к убеждению, что ничем не поживлюсь в таком виде, ибо все будут сторониться меня; все будут бояться, как бы я не подошла и чего-нибудь не стибрила или как бы от меня не получить какого-нибудь гостинца. Пробродив весь вечер без всякого толку, я вернулась домой, промокшая, грязная и усталая. Однако на следующий вечер вышла вновь, и на этот раз у меня было маленькое приключение, которое чуть не обошлось мне очень дорого. Когда я стояла у дверей какого-то трактира, подъезжает верхом джентльмен, соскакивает с лошади и подзывает полового подержать лошадь. Сидел он в трактире довольно долго, и вдруг половой слышит, что его зове хозяин. Боясь, как бы тот не рассердился, парень осмотрелся по сторонам, заметил меня и крикнул:
— Добрая женщина, подержите минуточку лошадь, пока я сбегаю к хозяину. Если барин выйдет, он даст вам на чай.
— Хорошо, — говорю я, беру лошадь и преспокойно привожу ее к моей пестунье.
Эта добыча хороша была для того, кто умел распорядиться ею; но ни один воришка, думаю, не бывал в большем недоумении, как поступить с украденным, ибо когда я вернулась домой, моя пестунья пришла в полное замешательство, и мы обе не знали, что делать с этой скотиной. Ставить ее в какую-нибудь конюшню было бессмысленно, потому что, наверное, в газете поместили бы объявление с описанием лошади, и мы бы не посмели прийти за ней.
Единственный выход, какой мы нашли из этого неудачного приключения, это привести лошадь на постоялый двор и послать в тот трактир с рассыльным записку, что господская лошадь, пропавшая в такое-то время, находится на таком-то постоялом дворе и что ее можно там получить; что бедная женщина, которой она была поручена, проведя лошадь по улице, была не в силах отвести ее обратно и оставила на первом попавшемся постоялом дворе. Мы могли бы подождать, пока владелец сделает публикацию и предложит вознаграждение, но у нас все равно не хватило бы смелости пойти его получить.
Таким образом, это было и воровство и не воровство, потому что мы потерпели кое-какой убыток и ничего не выиграли. Мне было до тошноты противно ходить в наряде нищенки; никакого проку я от него не получила, и к тому же он показался мне зловещим предзнаменованием.
Разгуливая в этом одеянии, я столкнулась с худшими отщепенцами и немного присмотрелась к их повадкам. Среди них были фальшивомонетчики, и они делали мне очень выгодные предложения, но работа, в какую они хотели вовлечь меня, — я подразумеваю чеканку фальшивой монеты, — была крайне опасной, так, как в случае поимки мне бы грозила верная смерть, смерть у столба, то есть меня бы сожгли, привязав к столбу[76]; таким образом, хотя с виду я была только нищенкой и они обещали мне горы золота и серебра, чтобы заманить в свою шайку, однако дело не вышло. Правда, если бы я была настоящей нищенкой или находилась в таком отчаянном положении, как вначале, я, может быть, пристала бы к ним: разве люди беспокоятся о смерти, когда им не на что жить? Но у меня не было такой крайности, во всяком случае, я не хотела подвергать себя такому страшному риску; к тому же при одной? мысли быть сожженной у столба ужас охватывал мою душу, кровь стыла в жилах, и я вся трепетала.
Это предложение заставило меня сбросить лохмотья, ибо хотя оно пришлось мне не по душе, однако я не посмела признаться им в этом, сделала вид, будто очень польщена, и обещала еще раз с ними поговорить. На это, у меня не хватило решимости; ведь если бы я ответила им отказом, то, несмотря на все мои уверения свято хранить тайну, они, безопасности и спокойствия ради, все равно убили бы меня. Судите сами, какое может быть спокойствие у людей, которые не останавливаются перед убийством, чтобы избежать опасности.
С фальшивомонетчиками и конокрадами мне было не по пути, и я без колебаний решила держаться от них подальше; мое призвание было иного рода. Конечно, и в моем деле был риск, и немалый, да дело-то само приходилось мне по душе: тут требовалось больше искусства, опасность, что тебя поймают, была меньше, а если даже и случится такое несчастье, выкрутиться все же легче.
Примерно в это же время я получила несколько предложений примкнуть к шайке взломщиков. Но это занятие показалось мне столь же малопривлекательным, как чеканка фальшивой монеты. Я было нашла себе компанию — двух мужчин и одну женщину; они занимались тем, что проникали в дома с помощью всяких уловок, без взлома; на такое дело я бы пошла. Но их и так было трое, разделиться они не пожелали, я же не хотела работать в большой шайке. Мы не смогли договориться; я отказалась с ними работать, а их, кстати сказать, постигла неудача в следующей же попытке, и они дорого за нее поплатились.
Наконец я встретилась с одной женщиной, которая часто хвалилась мне, как удачно она промышляет у пристаней; я стала с ней работать, и дела наши шли недурно. Как-то мы замешались в толпе голландцев у больницы святой Екатерины[77], под предлогом, будто собираемся купить выгруженные тайком товары. Два или три раза я побывала в одном доме, где мы видели большое количество контрабанды; моей товарке удалось унести три куска черного голландского шелка, который был продан по выгодной цене, и я получила свою долю, но самой мне ничего не попадалось под руку, и я бросила это дело, потому что появлялась там слишком часто и на меня начали коситься.
Это меня несколько смутило, и я решила толкнуться куда-нибудь еще, так как не привыкла возвращаться домой без поживы; и вот на следующий день я оделась понаряднее и отправилась в другой конец города. Я шла мимо Биржи[78] на Стрэнде, не рассчитывая что-нибудь найти там, как вдруг увидела большое оживление; лавочники и горожане повысыпали на улицу, и все смотрели в одну сторону; оказалось, в здание Биржи вошла какая-то герцогиня, и говорили, что едет королева. Я плотно прижалась спиной к прилавку, как бы желая пропустить толпу, но не спускала глаз с куска кружева, которые лавочница показывала стоявшим возле меня дамам; потом лавочница и ее приказчица засмотрелись на улицу, любопытствуя, кто это едет и в какую лавку зайдет, а я незаметно сунула кусок кружева в карман, и пошла прочь; так поплатилась лавочница за свое желание увидеть королеву.
Я поспешила прочь от лавки, как бы подхваченная общим потоком, и, замешавшись в толпе, вышла в другую дверь Биржи и скрылась прежде, чем в лавке хватились кружева; чтобы избежать преследования, я подозвала карету и села в нее. Не успела я захлопнуть дверцу, как вижу, бежит по улице приказчица, а с нею еще пятеро или шестеро и кричат во все горло. Правда, они не кричали: «Держи вора!» — потому что никто не убегал, но два или три раза до меня явственно донеслись слова «украли» и «кружева», и я видела, как девушка металась взад и вперед, ломая руки и растерянно озираясь по сторонам. Мой кучер только садился на козлы, и лошади еще не тронулись, так что я была в страшном беспокойстве, взяла кружево и приготовилась бросить его через окошко кареты, открывавшееся спереди, за спиной кучера, но, к моему великому удовольствию, меньше чем через минуту карета тронулась, то есть едва кучер уселся и погнал лошадей; так мы поехали, и я увезла свою добычу, стоившую около двадцати фунтов.
На следующий день я снова нарядилась, но в другое платье, и пошла прогуляться в ту же часть города; однако мне ничего не попадалось до самого Сент-Джеймского парка[79]. В парке я увидела множество изящных дам, прогуливавшихся по главной аллее, и среди них барышню-подростка лет двенадцати или тринадцати, вместе с сестрой, как мне показалось, девочкой лет девяти. Я заметила, что у старшей были красивые золотые часики и жемчужное ожерелье; сестер сопровождал ливрейный лакей; но так как не принято, чтобы лакеи ходили за дамами по главной аллее, то лакей остановился в начале аллеи и старшая сестра велела ему подождать их возвращения
Услышав, что она отпускает лакея, я подошла к нему и спросила, кто такая эта барышня; потом поболтала с ним о том, какая хорошенькая младшая девочка и какой красавицей, наверно, будет старшая, как она женственна и как солидна; и простак тотчас же сказал мне, что это старшая дочь сэра Томаса*** из Эссекса, что у нее большое приданое, что ее мать еще не приехала в город и она гостит у супруги сэра Уильяма*** в его доме на Саффок-стрит[80], и другие подробности; сообщил, что, кроме него, к услугам барышень две горничные, карета сэра Томаса и кучер и что эта барышня ведает всем хозяйством как здесь, так и дома; словом, наговорил мне кучу вещей, которыми я и воспользовалась.
Я была прекрасно одета, с золотыми часами не хуже, чем у самой барышни; поэтому, отойдя от лакея и выждав, когда молодая леди вернулась и снова пошла вперед по аллее, я поравнялась с ней и поздоровалась, назвав ее «леди Бетти»; спросила, есть ли у них известия от отца, когда приезжает в город ее матушка и как ее здоровье.
Я говорила так фамильярно о всей их семье, что леди Бетти приняла меня за их близкую знакомую. Я спросила ее, почему она не взяла на прогулку миссис Чайм (так звалась ее горничная), чтобы присматривать за мисс Джудит, то есть ее сестрой. Потом я долго болтала с ней о ее сестре; сказала, какая она хорошенькая, спросила, училась ли она по-французски, и тысячу подобных пустяков, — как вдруг показалась гвардия, и толпа бросилась поглазеть на короля, ехавшего в парламент[81].
Все дамы побежали к краю аллеи, и я помогла миледи стать на забор, чтобы лучше видеть, а младшую подняла на руки; в это время я позаботилась так чистенько снять у леди Бетти часы, что та и не заметила и не хватилась их, даже когда толпа схлынула и она вернулась на середину аллеи.
Я простилась с маленькой леди в самой давке и сказа та, как бы торопясь
— Милая леди Бетти, присматривайте за вашей сестричкой. — Потом толпа меня оттеснила, как будто против моей воли.
Суматоха в таких случаях быстро кончается, и, когда король скрылся, аллея тотчас опустела; но пока проезжал король, была страшная давка и толчея, так что, спокойно обобрав девочек, я протиснулась сквозь толпу, как бы желая взглянуть поближе на короля, и была вынесена, таким образом, на самый конец аллеи; король поехал по направлению к казармам Конной гвардии[82], а я свернула в переулок, выходивший тогда на самый конец Хеймаркета[83], там я взяла карету и скрылась. Должна признаться, что я до сих пор не сдержала своего слова, то есть не побывала в гостях у леди Бетти.
Была у меня одно время дерзкая мысль остаться с леди Бетти, пока она не хватится часов, а потом поднять вместе с ней крик, посадить ее в карету и увезти к себе домой; ибо она, по-видимому, была так очарована мной и так одурачена моей непринужденной болтовней о всех ее родных, что, мне кажется, легко было повести дело дальше и снять с нее еще хотя бы жемчужное ожерелье; однако, подумав, что могу заронить подозрения если не у девочки, то у окружающих и что если меня обыщут, мне несдобровать, я сочла за благо не искушать судьбу и скрыться с тем, что удалось забрать.
Впоследствии я случайно узнала, что, хватившись часов, леди Бетти подняла в парке страшный крик и послала лакея разыскать меня; когда она подробно описала мою наружность, лакей сразу признал во мне ту самую даму, что так долго с ним разговаривала и так подробно расспрашивала его о барышнях; но я скрылась прежде, чем она успела найти лакея и рассказать ему о своем несчастье.
После этого у меня было другое приключение, всем не похожее на все, что случалось со мной до сихпор; произошло оно в игорном доме возле Ковент-гардена.
В дверь входило и выходило много разного народу и, простояв довольно долго в коридоре с одной женщиной, я заметила поднимавшегося по лестнице господина и спросила его:
— Скажите, пожалуйста, сударь, пускают сюда женщин?
— Да, сударыня, — говорит, — и вы можете даже играть, если пожелаете.
— Да, я хочу попробовать, — сказала я.
Он предложил провести меня, и я последовала за ним; подойдя к двери, он заглянул в зал и говорит:
— Там идет игра, сударыня. Если желаете, попытайте счастья.
Я тоже заглянула и громко сказала своей спутнице:
— О, да здесь одни мужчины! Я не стану играть.
Кто-то из игроков крикнул тогда:
— Вам нечего опасаться, сударыня; здесь все люди честные, милости просим, войдите и ставьте, сколько пожелаете.
Тогда я подошла поближе и стала смотреть на игру; кто-то пододвинул мне стул, я села и видела, как стакан и кости быстро ходят по кругу; я сказала своей спутнице:
— Джентльмены играют слишком крупно для нас, пойдем отсюда.
Все игроки были очень вежливы, и один из них, желая ободрить меня, сказал:
— Сударыня, если вам угодно попытать счастья, можете положиться на меня: ручаюсь, что вас не обманут.
— Помилуйте, сударь, — отвечала я с улыбкой, — надеюсь, джентльмены не обманут женщину, — но все же отклонила предложение, хотя и вынула кошелек с целью показать, что у меня есть деньги.
Через некоторое время другой господин насмешливо мне говорит:
— Вижу, сударыня, вы боитесь рискнуть. Мне всегда везло с дамами, поставьте на мое счастье, если сами не хотите рисковать.
— Сударь, — отвечала я, — мне было бы очень неприятно проиграть ваши деньги. Впрочем, мне тоже всегда везет, — добавила я, — но джентльмены играют очень крупно, и я не решаюсь идти на такой риск.
— Так вот вам десять гиней, сударыня, поставьте их за меня.
Я взяла деньги и поставила, а он только наблюдал. Я проиграла его гинеи, ставя их по одной и по две, и, когда стакан с костями перешел к моему соседу, мой джентльмен дал мне еще десять гиней и велел поставить сразу пять; сосед стал бросать кости, и я отыграла пять гиней. Это раззадорило того господина, он предложил мне бросать, что было очень рискованно; однако я взяла стакан и бросала до тех пор, пока не отыграла ему все, что сначала потеряла, да еще выиграла целую пригоршню гиней, которые положила себе на колени; но лучше всего было то, что, когда я бросила неудачно, против меня было поставлено очень мало и, таким образом, я легко отделалась.
После этого я предложила господину, за которого играла, взять все золото, так как оно принадлежало ему, и пусть он теперь играет сам, потому что я-де плохо разбираюсь в игре. Он засмеялся и сказал, что лишь бы мне везло, а разбираюсь я в игре или нет, это неважно, и просил продолжать. Однако же взял пятнадцать гиней, поставленных им сначала, и велел мне играть на остальные деньги. Я хотела показать ему, сколько я выиграла.
— Нет, нет, не считайте, — перебил он меня, — я не сомневаюсь в вашей честности, но считать деньги — дурной знак. — И я продолжала играть.
Хоть я и делала вид, будто ничего не понимаю, однако довольно хорошо разбиралась в игре и играла осторожно, то есть держала большую часть выигрыша у себя на коленях, откуда то и дело перекладывала по золотому в карман, но, конечно, тайком от господина, который дал мне деньги.
Я играла за него довольно долго, и мне все время везло; когда же в последний раз пришла моя очередь бросать, мои партнеры поставили очень крупно, но я смело пошла на весь банк и, таким образом, выиграла что-то около восьмидесяти гиней, однако на самом последнем ударе потеряла около половины. После этого я встала, боясь проиграть все, и сказала тому господину:
— Теперь, сударь, возьмите, пожалуйста, ваши деньги и играйте сами. Кажется, я сыграла за вас неплохо.
Он хотел, чтобы я продолжала еще, но было уже поздно, и я попросила отпустить меня. Отдавая деньги, я сказала, что, надеюсь, теперь он разрешит сосчитать их, чтобы я знала, сколько он выиграл и сильно ли мне повезло; после подсчета оказалось шестьдесят три гинеи.
— Если бы не этот несчастный удар, — говорю, — я бы вам выиграла сто гиней.
И я отдала ему все деньги, но он не хотел брать, требуя, чтобы я оставила часть выигрыша себе. Я отказалась, решительно заявив, что ничего не возьму; если ему хочется дать мне что-нибудь, пусть сделает это сам.
Остальные игроки, услышав наши пререкания, стали кричать: «Отдайте ей все!» — но я наотрез отказалась. Тогда кто-то из них сказал:
— Черт побери, Джек, поделись с ней выигрышем! Разве ты не знаешь, что с дамами всегда нужно делиться?
В конце концов Джек так и сделал, и я унесла тридцать гиней, не считая сорока трех, которые потихоньку припрятала, в чем очень раскаиваюсь, поскольку господин этот оказался столь щедрым.
Так принесла я домой семьдесят три гинеи и выложила их перед своей старой пестуньей, чтобы показать, как я была счастлива в игре. Однако она посоветовала мне не рисковать больше, и я послушалась ее и никогда больше туда не ходила; я знала не хуже старухи, что если у меня появится зуд к игре, то я легко спущу и этот выигрыш, и все свои деньги.
Судьба все время улыбалась мне, и я так разбогатела, а вместе со мной и моя пестунья, которая всегда была со мной в доле, что старуха стала серьезно поговаривать о том, не пора ли бросить наше ремесло и удовольствоваться тем, что мы добыли; но, видно, мной руководил злой рок: я теперь так же противилась также, как она воспротивилась мне, когда я предлагала ей то же самое раньше, и, таким образом, в недобрый час мы решили отложить исполнение этого благого намерения, одним словом, я пристрастилась к своему ремеслу и осмелела как никогда, и успех окружил мое имя такой славой, какой дотоле не пользовалась ни одна подобная мне воровка.
Иногда я позволяла себе повторять одни и те же приемы, что у нас не в обычае, и все же не терпела неудачи; но чаще я изобретала что-нибудь новое и старалась выходить на улицу каждый раз в новом виде.
Наступила осень, большая часть знати разъехалась из города, и такие места, как Танбридж[84] и Эпсом[85], были переполнены. Зато Лондон обезлюдел, и, мне кажется, наш промысел немного страдал от этого, подобно всем прочим; поэтому в конце года я присоединилась к одной шайке, которая отправлялась каждый год на Сторбриджскую ярмарку[86], а оттуда в Бери, в Саффоке. Мы надеялись на большую поживу, но когда я увидела, как обстоят дела, то сейчас же разочаровалась; кроме работы для карманников, там не было почти ничего стоящего внимания; да если бы и удалось чем-нибудь разжиться, нелегко было увезти с собой добычу. Словом, там не открывалось такого простора для работы, как в Лондоне, но провинциальные лавочники еще попадаются на эту удочку.
Купила я в лавке у одного торговца — не на ярмарке, а в городе Кембридже — фунтов на семь тонкого голландского полотна и других материй и велела прислать покупку в такую-то гостиницу, где я остановилась утром, сказав, что буду там ночевать.
Я распорядилась, чтобы покупка была прислана мне к такому-то часу в гостиницу, где я и заплачу за нее. В назначенное время торговец присылает покупку, я же поставила у дверей свою товарку, и когда служанка привела посланного, молодого приказчика, моя караульная говорит ему, что барыня спит, но если он оставит вещи и зайдет через час, то я уже встану и тогда он получит деньги. Приказчик охотно оставил вещи и ушел, а через полчаса я со служанкой покинула гостиницу, в тот же вечер наняла лошадь и уехала в Ньюмаркет[87], а оттуда отправилась в почтовой карете, где нашлись свободные места, в Сент-Эдмондс-Бери[88]; там, как я вам уже сказала, мало чем могла поживиться, украла только в маленьком провинциальном театре золотые часы у одной чересчур веселой дамы, которая к тому же немного подвыпила, так что мне не стоило никакого труда снять их у нее.
С этой маленькой добычей я уехала в Ипсвич[89], а оттуда в Гарвич[90], где остановилась в гостинице под видом только что приехавшей из Голландии, не сомневаясь, что мне удастся там что-нибудь выудить у иностранцев, приезжающих в этот город; однако я обнаружила, что у них по большей части не было ценных вещей, за исключением тех, что находились в чемоданах и голландских корзинах и охранялись лакеями, тем не менее однажды вечером мне удалось похитить один из таких чемоданов из комнаты, где остановился голландец, я воспользовалась минутой, когда лакей крепко уснул на кровати и, по-видимому, был сильно пьян.
Комната, в которой я остановилась, была смежной с комнатой голландца, и, перетащив с большим трудом тяжелую вещь к себе, я вышла на улицу посмотреть, не представится ли какой-нибудь возможности увезти чемодан. Я долго бродила, но не нашла никакого способа вывезти чемодан или же унести часть вещей, которые в нем находились, так как Гарвич город маленький и я была там совсем чужая; поэтому я решила вернуться в гостиницу, чтобы перетащить чемодан обратно и оставить там, где я его взяла. Но в эту минуту я услышала, как какой-то мужчина торопит кучку людей, крича, что лодка сейчас отходит, так как прилив спадает. Я тотчас же обратилась к нему с вопросом:
— Что это за лодка?
— Ипсвичский ялик, сударыня, — говорит.
— Когда же он отходит? — спрашиваю.
— Сию минуту, сударыня, — говорит, — вы изволите ехать в Ипсвич?
— Да, — говорю, — если вы обождете, пока я вынесу свои вещи.
— А где ваши вещи, сударыня?
— В такой-то гостинице, — говорю.
— Ладно, я схожу с вами, сударыня, — любезно предлагает он, — и снесу их.
— Пойдемте, — говорю я и веду его с собой.
В гостинице была большая суматоха: только что прибыл пакетбот из Голландии, а также две кареты из Лондона, привезшие пассажиров на другой пакетбот, который отходил в Голландию; кареты эти на следующий день отправлялись обратно с только что высадившимися пассажирами. В этой суматохе я подошла к стойке рассчитаться с хозяйкой гостиницы, сказав, что уезжаю в Лондон на ялике.
Тамошние ялики — крупные суда, вполне приспособленные для перевозки пассажиров из Гарвича в Лондон; хотя на Темзе принято называть так легкие лодки с одним или двумя гребцами[91], однако гарвичские ялики могут перевозить двадцать пассажиров и десять или пятнадцать тонн груза, а также вполне пригодны для морских рейсов. Все это я узнала накануне, расспрашивая о разных путях, какими можно добраться отсюда в Лондон.
Хозяйка гостиницы была со мной очень любезна, приняла деньги по счету, но в этой суматохе ее тотчас же куда-то отозвали, поэтому я ее покинула, провела парня в свою комнату, дала ему чемодан, или сундук, — он больше походил на сундук, — прикрыв его старым передником, и мы пошли прямо к его лодке, причем никто не задал нам ни одного вопроса. Что же касается пьяного голландского лакея, то он еще спал, а его господин весело ужинал внизу с другими иностранцами. Я преспокойно уехала с чемоданом в Ипсвич, и так как дело было вечером, то все в гостинице считали, будто я уехала в Лондон, как я сказала хозяйке.
В Ипсвиче у меня произошла досадная встреча с таможенными чиновниками, задержавшими мой сундук, как я его называла, с целью вскрыть и осмотреть его. Я не возражала против осмотра, но сказала чиновникам, что ключ от сундука у мужа, который остался в Гарвиче; это было мной сказано на тот случай, чтобы чиновники не удивлялись, если при осмотре найдут одни мужские вещи. Так как они твердо решили открыть сундук, то я дала согласие на взлом, то есть чтобы они сорвали замок, и ото без труда было сделано.
Никакой контрабанды таможенники не нашли, потому что сундук уже был осмотрен раньше, зато там оказалось кое-что очень меня порадовавшее, например, горсть денег в французских пистолях и несколько голландских дукатов, или риксдалеров[92]; кроме того, там было два парика, носильное белье, бритвы, мыло, духи и другие принадлежности мужского туалета, которые я выдала за вещи моего мужа и таким образом разделалась с таможенниками.
Было очень рано, еще не рассвело, и я не знала хорошенько, что мне предпринять, я не сомневалась, что утром за мной пустятся в погоню и, чего доброго, поймают вместе с вещами, поэтому я решила принять меры предосторожности. Я на виду у всех отправилась с сундуком в гостиницу и, вынув оттуда все самое ценное, остальной хлам решила бросить; все же я поручила хозяйке поберечь сундук до моего возвращения, а сама вышла на улицу.
Отойдя довольно далеко от гостиницы, я встретила старуху, отпиравшую ворота своего дома, и разговорилась с ней; задала ей кучу вопросов, не имевших никакого отношения к моим целям и намерениям, но мне удалось таким образом выяснить расположение города; я узнала, что эта улица ведет по направлению к Хедли, другая — к реке, третья — к центру города, а вон та к Колчесгеру и, значит, выходит на лондонскую дорогу.
Скоро я распростилась со старухой, потому что желала только узнать от нее дорогу на Лондон, и пошла в ту сторону; у меня не было намерения идти пешком ни в Лондон, ни в Колчестер, хотелось только спокойно убраться из Ипсвича.
Прошла я две или три мили и повстречала крестьянина, занятого какой-то работой по хозяйству; сперва я засыпала его не относящимися к делу вопросами, но в заключение сказала, что иду в Лондон, так как почтовая карета переполнена и мне не досталось в ней места, и спросила, не может ли он сказать мне, где бы нанять верховую лошадь, которая отвезла бы меня с провожатым в Колчестер, чтобы я могла взять там место в карете. Простак посмотрел на меня, помолчал с полминуты и сказал, почесывая затылок.
— Лошадь, говорите… в Колчестер, свезти двоих? Отчего же, сударыня, лошадей сколько угодно, ежели за деньги.
— Само собой разумеется, любезнейший, — говорю, — я не собираюсь ехать даром.
— Сколько же, сударыня, вы дадите?
— Право, не знаю, любезный, какие у вас здесь цены, я не здешняя. Но если вы можете достать мне лошадь, достаньте подешевле, я заплачу за труды
— Приятно слушать честное предложение, — проговорил крестьянин.
«Не сказал бы так, — подумала я, — если бы знал все».
— У меня, сударыня, есть лошадь, которая свезет двоих, — продолжал он, — я сам могу с вами поехать.
— Вот это дело! — говорю. — Я уверена, что вы честный человек. Буду рада, если вы согласитесь, я заплачу вам по совести.
— Лишнего я с вас не возьму, сударыня, — говорит, — свезу вас в Колчестер за пять шиллингов: лошадь, да труды немалые, ведь едва ли к ночи успею вернуться.
Словом, я наняла этого крестьянина и его лошадь, но, когда мы приехали в ближайший город (не помню его названия, стоит он на реке), я притворилась больной и заявила, что не могу ехать дальше, однако если мой провожатый пожелает остаться со мной, так как я никого в этих местах не знаю, то я охотно заплачу ему за труды и за лошадь.
Сделала я так в предположении, что голландцы и их слуги отправились в этот день в дорогу либо в почтовой карете, либо верхом, и тот пьяный лакей или другие, видевшие меня в Гарвиче, могли бы узнать меня; если же я подожду денек, подумала я, они все успеют проехать.
Мы простояли в том городе всю ночь, а на следующее утро я встала довольно поздно, так что приехала в Колчестер только часам к десяти. Мне было очень отрадно посетить город, где я провела столько приятных дней, и я усердно расспрашивала о судьбе добрых старых друзей, которые у меня были здесь когда-то, но узнала не много; все они лежали в могиле или уехали из этих мест. Барышни повыходили замуж или переселились в Лондон; старый барин и его жена, мои благодетели, оба умерли; но еще больше меня взволновало то, что умер также мой первый любовник, ставший потом моим деверем. У него оставалось двое сыновей, теперь взрослых, но они тоже переселились в Лондон.
Я отпустила здесь своего старика и пробыла в Колчестере инкогнито три или четыре дня, а потом поехала в телеге, потому что боялась сесть в гарвичскую карету. Эта предосторожность была, впрочем, излишней, так как из гарвичских жителей я имела дело только с хозяйкой гостиницы, но и та вряд ли узнала бы меня: ведь в доме была тогда такая суматоха и она видела меня только раз, да и то при свечах.
Я вернулась в Лондон и хотя благодаря последнему случайному приключению поживилась порядочно, однако не чувствовала желания возобновлять поездки в провинцию; я не решилась бы больше выехать из Лондона, продолжай я свое ремесло хоть до конца жизни.
Я рассказала о своих приключениях пестунье; ей очень понравилось мое путешествие из Гарвича, и в разговоре по этому поводу она заметила, что вор живет оплошностями своих жертв — если он бдителен и искусен, то всегда найдет удобный случай чем-нибудь поживиться; поэтому такая мастерица своего дела, как я, нигде не останется без работы — ни в Лондоне, ни в провинции.
С другой стороны, каждый эпизод моей повести, если его рассмотреть должным образом, может принести пользу честным людям; во избежание таких неожиданностей они научатся держать ухо востро с незнакомцами, ибо почти всегда те готовят им ту или иную ловушку. Впрочем, представляю самим читателям извлекать нравоучение из моей повести, так как я мало подхожу для роли проповедника. Пусть жизненный опыт низко павшей и порочной женщины послужит им предостережением.
Я подхожу теперь к новой полосе в моей жизни. Пристрастившись к своему ремеслу, благодаря долголетней привычке и беспримерной удаче, я не чувствовала никакого желания расставаться с ним, хотя, если судить по примеру других преступников, такая жизнь не могла не кончиться несчастьем и позором.
Чтобы закончить длинный перечень преступлений, расскажу, что на Рождестве следующего года я вышла вечером на улицу посмотреть, не попадется ли чего-нибудь под руку, как вдруг, проходя по Фостер-Лейн[93] мимо мастерской серебряника, я увидела соблазнительную приманку: в мастерской никого не было, а на окне и возле табурета мастера, очевидно работавшего в этом углу, лежало много посуды и других серебряных вещей.
Я смело вошла и только что собиралась протянуть руку к серебряной тарелке, — а я могла бы спокойно взять и унести ее, потому что серебро лежало в лавке без всякого присмотра, — как вдруг какой-то услужливый паренек из дома напротив, увидев, что я вошла и в лавке никого нет, перебегает улицу и, не спрашивая, кто я и что я, хватает меня и зовет хозяев.
Я еще ни к чему не успела притронуться и, заметив, что сюда бегут, моментально нашлась, с силой стукнула ногой об пол и стала звать мастера, и тут этот парень схватил меня.
Однако я всегда обнаруживала большое присутствие духа в самых опасных положениях, поэтому, когда молодчик уже схватил меня, я высокомерно заявила, что пришла сюда купить полдюжины серебряных ложек; на мое счастье, этот серебряник не только изготовлял посуду для других лавок, но и сам продавал ее. Парень расхохотался; он так гордился услугой, оказанной соседу, что поклялся, будто я пришла не покупать, а воровать; стала собираться толпа, и я сказала хозяину лавки, которого тем временем разыскали где-то по соседству, что нам не к чему поднимать скандал и вступать в какие-либо пререкания; этот парень утверждает, будто я пришла сюда воровать, — пусть он это докажет; поэтому я без дальнейших разговоров требую, чтобы он пошел вместе со мной к судье. Все это я говорила с тем расчетом, что молодчику меня не переспорить.
Хозяева лавки отнеслись к случившемуся гораздо спокойнее, чем их сосед из дома напротив; хозяин сказал мне:
— Сударыня, вполне возможно, что вы зашли в мою лавку с самыми честными намерениями. Однако заходить в такие лавки, как моя, когда там никого нет, затея опасная, и я не могу не воздать должного своему услужливому соседу и не признать правоты его действий, хотя, с другой стороны, у меня нет никаких оснований подозревать вас в покушении на воровство, так что я затрудняюсь, как мне поступить.
Я настаивала, чтобы он пошел со мной к судье, и, если против меня могут быть предъявлены какие-либо улики, я охотно подчинюсь, но в противном случае сама привлеку его к ответу.
Как раз когда мы препирались таким образом и у двери собралась толпа, мимо проходит сэр Т. Б., городской старшина и мировой судья; узнав об этом, серебряник обратился к его милости с почтительной просьбой зайти в лавку и рассудить нас.
Нужно отдать серебрянику справедливость, он изложил дело с большим беспристрастием, между тем как парень, задержавший меня, сильно горячился и впадал в преувеличение, что пошло мне на пользу. Потом наступила моя очередь говорить, и я сказала его милости, что только недавно приехала в Лондон с севера, что живу я там-то и что, проходя по этой улице, зашла в лавку серебряника купить полдюжины ложек. На мое счастье, у меня была в кармане старая серебряная ложка, которую я вынула, сказав, что захватила эту ложку для образца, желаю купить полдюжины точно таких же новых, в добавление к тем, что остались у меня в деревне; увидя, что в лавке никого нет, я сильно стукнула ногой, чтобы вызвать хозяев, а также громко их звала; правда, в лавке были разбросаны серебряные вещи, но никто не может сказать, что я к чему-нибудь прикоснулась; этот мужчина вбежал в лавку с улицы и свирепо на меня набросился как раз в ту минуту, когда я звала хозяев; если он действительно намеревался оказать услугу своему соседу, ему следовало стать в сторонке и потихоньку наблюдать, возьму я что-нибудь или нет, и потом схватить меня на месте преступления.
— Вы правы, — сказал господин старшина и, обратившись к задержавшему меня мужчине, спросил, действительно ли я стучала ногой. Тот ответил: да, стучала, но, может быть, потому, что он вбежал в лавку.
— Постойте, — перебил его старшина, — вы противоречите самому себе: только что вы сказали, что она стояла в лавке спиной к вам и не заметила, как вы к ней подошли.
Я действительно стояла спиной к двери, но ремесло мое требовало, чтобы мои глаза смотрели одновременно во все стороны, поэтому я, как уже было сказано, увидела бежавшего через улицу человека, хотя он-то этого не знал.
Выслушав всех нас, старшина сказал, что, по его мнению, сосед мастера допустил оплошность и я невиновна; серебряник и его жена согласились с этим; таким образом, я была отпущена. Но когда я собралась уходить, господин старшина сказал:
— Погодите, сударыня: если вы желали купить ложки, то, надеюсь, мой друг не потеряет покупательницы из-за случившегося недоразумения.
Я поспешно ответила:
— Конечно, сударь, если только у него найдутся ложки по этому образцу.
Серебряник порылся и нашел точно такие же ложки. Он взвесил их и оценил в тридцать пять шиллингов; тогда я вынула кошелек, чтобы расплатиться; там было около двадцати гиней, ибо я никогда не выходила из дому без денег, на всякий случай, и мой кошелек выручил меня, как выручал уже не раз.
Увидя, что у меня есть деньги, господин старшина сказал:
— Теперь, сударыня, я убедился, что вас обвинили незаслуженно, поэтому-то я и предложил вам купить ложки и подождал, пока вы за них заплатите, так как, если бы у вас не оказалось денег, я усомнился бы в ваших честных намерениях. Ведь люди, которые приходят в лавки с теми намерениями, в каких вас обвинили, редко носят в кармане кошельки с золотом.
Я с улыбкой ответила его милости, что, выходит, я купила его благосклонность своими деньгами, но надеюсь, что и его прежний беспристрастный приговор вынесен не без оснований. Он ответил, что, конечно, не без оснований, но что теперь он окончательно убедился в своей правоте и с этой минуты не сомневается, что меня обидели понапрасну. Так одержала я полную победу, хотя была уже на волосок от гибели.
Не прошло и трех дней, как я, пренебрегши на этот раз грозным предостережением и продолжая долголетний промысел, к которому теперь так пристрастилась, отважилась проникнуть в дом, двери которого стояли открытыми, и, в полной уверенности, что меня никто не замечает, запаслась двумя кусками узорчатого шелка — он называется парчовым, — очень дорогого. То не была розничная лавка или склад товаров, а скорее частный дом, в котором жил человек, скупавший товар у ткачей и продававший его лавочникам в качестве маклера или агента.
Чтобы поскорее покончить с этой печальной историей, скажу только, что я подверглась нападению двух девок, набросившихся на меня как фурии в ту минуту, когда я переступила порог, причем одна из них потащила меня назад, а другая заперла в это время входную дверь. Я обратилась было к ним по-хорошему, но напрасно: драконы с огнедышащей пастью и те не могли бы быть более свирепыми; они изорвали мое платье, неистовствовали и орали на меня, точно собирались меня убить; вскоре пришла хозяйка дома, а вслед за ней хозяин, и оба стали осыпать меня оскорблениями.
Я стала просить прощения у хозяина, объяснила, что дверь стояла открытой и вещи явились для меня большим соблазном, так как я бедная и в большой нужде, а бедность переносить трудно, и со слезами умоляла его сжалиться надо мной. Хозяйка дома была тронута и склонялась к тому, чтобы отпустить меня; ей уже почти удалось уговорить мужа, но подлые девки, не дожидаясь приказаний, успели сбегать за констеблем; тогда хозяин заявил, что теперь ничего не поделаешь, я должна буду явиться к судье, и ответил жене, что у него могут выйти неприятности, если он меня отпустит.
Вид констебля привел меня в ужас, я думала, что сквозь землю провалюсь. Я упала в обморок, хозяева испугались, что я умираю, и жена снова выступила на мою защиту, прося мужа отпустить меня, тем более что они не потерпели никакого убытка. Я предложила хозяину заплатить за материю, сколько бы она ни стоила, хотя и не взяла ее, и доказывала, что так как шелк остался у него и он ничего не потерял, то было бы жестоко посылать меня на смерть и требовать моей крови за одно лишь покушение на воровство. Я также поставила на вид констеблю, что не взломала дверей и ничего не унесла, и когда явилась к судье, тоже ссылалась на то, что не взламывала замков, чтобы проникнуть в дом, и ничего не унесла, и судья уже готов был отпустить меня на свободу. Но одна из злобных негодяек, задержавших меня, показала, что я чуть было не ушла с материей, да только она остановила меня и потащила назад, и тогда судья не колеблясь приговорил меня к тюремному заключению, и меня отвели в Ньюгет. Страшное место! Кровь стынет в жилах при одном этом слове; место, где было заключено столько моих товарок и откуда они угодили на роковую перекладину; место, где так жестоко страдала моя мать, где я появилась на свет и откуда не рассчитывала освободиться иначе, как посредством позорной смерти; место, которое так долго ждало меня и которого я столь долго и успешно избегала!
Вот когда я попалась! И описать невозможно, как жутко мне стало[94], когда меня впервые ввели сюда, когда моему взору предстали все ужасы этой мрачной обители. Я чувствовала себя конченым человеком и уже ничего не ждала, кроме смерти, и какой позорной смерти! Шум, рев, вопли, проклятья, вонь и грязь — все мерзости, какие есть на земле, казалось, соединились тут, чтобы сделать тюрьму воплощением ада, как бы преддверием его.
Вот когда я начала себя упрекать! Зачем не вняла я в свое время голосу рассудка? Ведь я уже достигла какого-то благополучия, осталась цела после стольких опасностей! Что бы мне тогда остановиться? Но нет, я так ожесточилась, что и думать о чем-либо перестала, забыла всякий страх. Казалось, сама судьба меня торопила, невидимой своей рукой подталкивая к этому горестному для меня часу, и теперь мне оставалось искупить свои грехи на виселице, кровью заплатить свой долг правосудию, ибо пришел конец моей жизни, а с нею и всем моим беззакониям. Таковы были мысли, которые беспорядочной толпой теснились в моей голове, между тем как унылое отчаяние завладело всем моим существом. От души раскаивалась я во всей своей прошлой жизни, но раскаяние мое не приносило мне ни малейшего облегчения, ни минуты покоя. Грош цена, говорила я себе, раскаянию человека, который и так уже лишен возможности грешить. Ведь не о том я крушилась, что нарушила заповедь Господню, что вредила ближнему своему; не о преступлениях своих горевала я, а об ожидающем меня за них наказании; и то, что меня страшил не грех, а расплата за грех, отнимало у меня последнее утешение, отнимало даже надежду на искреннее покаяние.
Попав в этот проклятый Ньюгет, я несколько дней и ночей не могла уснуть и рада была бы умереть там, хотя и не относилась к смерти так, как бы следовало; ничто не могло быть ужаснее для меня, чем это самое место, ничто не было мне ненавистнее его обитателей. Ах, пусть бы меня отправили куда угодно, только не в Ньюгет, и я почла бы себя счастливой!
А как торжествовали надо мной закоснелые негодяи, попавшие туда раньше! Как, миссис Флендерс явилась наконец в Ньюгет? Как, миссис Мэри, миссис Молли, или попросту Молль Флендерс? Они думали, уж не помогает ли мне дьявол, что я так долго выходила сухая из воды; они ждали меня уже много лет и наконец-то дождались! И они обливали меня помоями, сердечно приветствовали, желали мне веселиться, быть мужественной, не падать духом; может быть, говорили они, все это не так плохо, как мне кажется, и тому подобное; потом послали за водкой и пили за мое здоровье, но поставили все на мой счет, ибо, говорили они, я только что прибыла в каталажку, как они выражались, и, наверное, у меня есть деньги, тогда как они сидят без гроша.
Я спросила одну из этой шайки, долго ли она сидит. Она ответила, что четыре месяца. Я спросила, каким показалось ей это место, когда она впервые вошла сюда. Она ответила, что точно таким, каким оно сейчас кажется мне: отвратительным и ужасным; она думала, что попала в ад. «Я и сейчас так думаю, — прибавила она, — но теперь я к этому привыкла и больше не беспокоюсь».
— Должно быть, — говорю, — вам не угрожает опасность.
— О нет, — говорит, — ошибаешься, приговор мне уже вынесен, да только я сослалась на брюхо, хотя так же беременна, как судья, который меня судил, и жду, что меня разжалуют на ближайшей сессии.
Это «разжалование» означает вхождение в силу первоначального приговора, когда женщина добилась отсрочка по случаю беременности, но оказалась не беременной или разрешилась от бремени.
— И вы, — говорю, — так беззаботны?
— Ничего не поделаешь, — говорит, — какой толк печалиться? Если меня повесят, придет мне конец, вот и все.
И она пошла прочь, приплясывая и напевая песенку, плод ньюгетского остроумия:
Я упоминаю об этом к сведению тех, кого постигнет в будущем такое же несчастье — попасть в этот ужасный Ньюгет; время, необходимость и общение с заключенными там жалкими существами постепенно делают вас равнодушным к окружающим мерзостям; мало-помалу вы примиряетесь с тем, что поначалу было для вас столь ужасно, и становитесь таким же беспечным и веселым, как были на воле.
Не стану утверждать, подобно некоторым, что черт не так страшен, как его малюют; ибо поистине никакие краски не могут передать мрачного ужаса этого места, и кто там не побывал, неспособен составить себе о нем правильное представление. Но каким образом этот ад может постепенно стать чем-то привычным и не только сносным, но даже приятным, это поймет лишь тот, кто, подобно мне, изведал тамошнюю жизнь на собственном опыте.
В тот же вечер, как меня доставили в Ньюгет, я известила об этом мою старую пестунью, которая, разумеется, была страшно поражена и провела ночь на воле почти так же плохо, как я в тюрьме.
На следующее утро старуха пришла навестить меня; она всячески старалась меня успокоить, но видела, что это бесполезно. Однако, как она говорила, сгибаться под тяжестью — значит только увеличивать ее; она немедленно приняла все меры, чтоб предотвратить последствия, которых мы опасались, и первым делом разыскала двух негодяек, поймавших меня. Она улещала их, уговаривала, сулила им деньги — словом, всеми способами пыталась помешать их выступлению на суде; она предложила одной из девок сто фунтов за то, чтобы та покинула свою хозяйку и не показывала против меня в суде, но эта простая служанка на жалованье три фунта в год проявила такое упрямство, что наотрез отказалась и, по мнению моей пестуньи, не польстилась бы и на пятьсот фунтов. Тогда она принялась за другую девушку; та оказалась податливей и как будто даже склонялась к некоторому милосердию, но первая удержала ее и не позволила старухе разговаривать с ней, пригрозив привлечь ее к ответственности за подкуп свидетелей.
Потом старуха обратилась к хозяину, то есть к человеку, у которого была украдена материя, и особенно к его жене, которая сначала была расположена пожалеть меня; добрая женщина и теперь относилась ко мне участливо, но муж заявил, что не может отказаться от судебного преследования, так как дал суду подписку.
Моя пестунья предложила найти друзей, которые изымут его подписку из дела, и он не пострадает, но этого человека никак нельзя было уговорить, чтобы он не выступал против меня; таким образом, мне предстояло встретиться на суде с тремя свидетелями моего преступления: хозяином и его двумя служанками; иными словами, я была настолько же уверена, что меня приговорят к смертной казни, насколько была уверена, что сейчас я жива, и мне ничего не оставалось, как только готовиться к смерти.
Я провела там много дней в невыразимом ужасе; смерть как бы стояла у меня перед глазами; и днем и ночью я думала только о виселицах и веревках, злых духах и дьяволах; невозможно передать, как я измучилась, то дрожа от страха смерти, то терзаясь укорами совести за свою греховную жизнь.
Посетил меня тюремный священник и немного поговорил со мной; но вся его речь клонилась к тому, чтобы я призналась в своем преступлении, как он выражался (хотя не знал, за что я сюда посажена), чистосердечно рассказав все, что сделала, и тому подобное, без чего, по его словам, Бог никогда не простит меня; его речи имели так мало общего с моим делом, что я не получила от него никакого утешения; кроме того, видеть, как этот жалкий человек утром проповедует мне чистосердечное признание и раскаяние, а в полдень хлещет водку и напивается пьян, было настолько неприятно, что я не могла выносить этого священника с его проповедями и попросила его больше меня не беспокоить.
Не знаю, как это вышло, но только благодаря неутомимым хлопотам моей заботливой пестуньи на ближайшей сессии против меня не поступило обвинения в заседание Большого жюри в Гилдхолле[96], на котором выносится постановление о предании суду; таким образом, у меня был впереди еще месяц или пять недель, и, конечно, мне следовало употребить это время на сетования о своем прошлом и приготовления к будущему; следовало воспользоваться этой отсрочкой для раскаяния, но никакого раскаяния я не чувствовала. Как и раньше, я тяготилась заключением в Ньюгете, но признаков раскаяния не подавала.
Напротив, как вода в расселинах скал превращает в камень все, на что она каплет, так же действовало на меня, да и на всех прочих, постоянное общение со здешним сбродом. Я превратилась в камень; сделалась сначала тупой и бесчувственной, потом грубой и беззаботной и, наконец, потеряла разум, как и все прочие обитательницы этого места; словом, стала чувствовать себя в Ньюгете так хорошо и непринужденно, точно провела там всю жизнь.
Трудно поверить, что наша натура может подвергнуться такому вырождению, когда нам становится приятна величайшая на свете мерзость. Худшего положения не выдумаешь; я опустилась так, как только может опуститься живой и здоровый человек, у которого к тому же есть деньги.
Тяжести преступления, лежавшего на мне, не могло бы выдержать ни одно существо, сохранившее малейшую способность к размышлению и понимание того, в чем заключается счастье настоящей жизни и бедствия будущей. Отчала у меня было если не раскаяние, то хоть некоторые угрызения совести; теперь я не чувствовала ни угрызений совести, ни раскаяния. Меня обвиняли в преступлении, которое каралось смертью; доказательства были так очевидны, что мне не было даже смысла не признавать себя виновной. Я была известна как закоренелая преступница, поэтому мне нечего было ожидать, кроме смерти; я не помышляла о бегстве, и тем не менее мной овладела какая-то странная летаргия. Я не испытывала ни беспокойства, ни страха, ни печали — первоначальное удивление прошло; поистине, была я точно не в себе; мои чувства, разум, совесть были погружены в какой-то сон; вся моя жизнь за последние сорок лет была страшной смесью порочности, распутства, прелюбодеяния, кровосмешения, лжи и воровства; словом, с восемнадцати лет и до шестидесяти я совершила все преступления, кроме убийства и измены, была ввергнута в мрачную пучину Ньюгета, и у порога стояла позорная смерть; и все же я не сознавала ужаса своего положения, не думала ни о небе, ни об аде, разве только мимолетно: эти мысли были подобны мгновенным уколам, приходили и тотчас исчезали. У меня не было потребности просить у Бога прощения, я не думала об этом. Вот краткое описание величайшего падения, какое можно испытать на земле.
Все устрашавшие меня мысли рассеялись; ужасы окружающего стали привычными; шум и крики тюрьмы беспокоили меня так же мало, как и их виновников; словом, стала я рядовой ньюгетской птицей, такой же злобной и жестокой, как и все прочие; у меня почти ничего не осталось от привычек и манер, привитых мне воспитанием, которых я так твердо держалась до сих пор; я подверглась такому полному перерождению, что стала совсем другим человеком; можно было подумать, что я всю жизнь была такой, как теперь.
В эту пору моей жизни меня постигла одна неожиданность, которая напомнила мне о том, что такое горе, а то я совсем было потеряла представление о нем. Однажды ночью мне сказали, что накануне в тюрьму были приведены три разбойника, ограбившие карету на Виндзорской дороге, где-то около Хонсло-Хита, если не ошибаюсь; местные жители снарядили погоню, и возле Оксбриджа[97] разбойников захватили после ожесточенного сопротивления, во время которого много крестьян было ранено и несколько убито.
Ничего нет удивительного, что все мы, заключенные, жаждали увидеть этих храбрых и ловких джентльменов, подобных которым, как говорили, в тюрьме еще не видывали; тем более что прошел слух, будто утром их переведут от нас, потому что они-де заплатили смотрителю тюрьмы, чтобы их содержали в лучшем помещении. И вот мы, женщины, расположились на дороге с целью поглядеть на этих молодчиков. Можно ли описать мое изумление, когда в первом мужчине, вышедшем в тюремный двор, я узнала своего ланкаширского мужа, того самого, с которым так славно пожила в Данстебле и которого потом видела в Брикхилле, после того как обвенчалась с последним своим мужем, как об этом было рассказано выше.
Я прямо онемела при этом зрелище, не знала, что сказать и что делать; слава богу, он меня не узнал, в этом было все мое утешение; я покинула своих товарок и, уединившись, насколько вообще можно было уединиться в этом ужасном месте, долго заливалась слезами.
— Какая я мерзавка, — причитала я, — скольких людей сделала я несчастными! Скольких отчаянных обрекла на вечные муки!
Я считала себя единственной виновницей злоключений этого джентльмена. Он сказал мне в Честере, что разорен нашим браком, что из-за меня он должен теперь идти на все, ибо, приняв меня за богатую невесту, вошел в долги, которых не в состоянии был заплатить; сказал, что пойдет в солдаты и будет носить мушкет или купит лошадь и отправится в странствие, как он выражался; и хотя я никогда не говорила ему о своем богатстве и, следовательно, прямо его не обманывала, однако поддерживала ложное представление о себе и была, таким образом, причиной всех его бедствий.
Эта неожиданная встреча не давала мне покоя и заставила задуматься куда серьезнее, чем раньше. Я горевала дни и ночи, особенно когда мне сказали, что он был главарем шайки и совершил столько грабежей, что Хайнд, Уитни и Золотой Фермер[98] были щенками по сравнению с ним; что его наверняка повесят, даже если после этого в Англии ни одного живого человека не останется, и что куча народу выступит свидетелями против него.
Я была вне себя от беспокойства за его участь; мое собственное положение казалось мне завидным по сравнению с тем, что ожидало его, и я осыпала себя упреками. Я так горько оплакивала его невзгоды и крушение, которое он потерпел, что свет стал не мил и первоначальные мои сокрушения о греховной жизни начали вновь посещать меня; а вместе с ними возвратилось также мое омерзение к этому гнусному месту и образу жизни его обитателей; словом, я совершенно изменилась и стала другим человеком.
Когда я так безутешно горевала над участью своего мужа, меня известили, что в ближайшую сессию Большому жюри будет предъявлено обвинение против меня и что оно безусловно передаст меня в Олд Бейли, а там меня ждет смертный приговор. Чувства мои теперь проснулись; вся моя бесшабашность пропала, и сознание виновности стало все сильнее овладевать мною. Словом, я начала размышлять, а размышление есть верный путь из ада на небо. Все ожесточение души, о котором я так подробно говорила, объяснялось оцепенением ума; человек, к которому вернулась способность размышлять, может считать себя наполовину исправившимся.
Как только, говорю, я начала размышлять, первая моя мысль вылилась в такие слова:
— Господи, что со мной будет?[99] Я погибну! Я буду признана виновной, сомнения нет, и тогда — смерть! У меня нет друзей, что мне делать? Я, наверное, буду признана виновной! Господи, смилуйся надо мной! Что со мной будет?
Мрачной, скажете вы, была эта первая мысль, возникшая после столь продолжительного оцепенения; но даже и она лишь выражала страх перед тем, что ожидало меня: в ней не было и намека на искреннее раскаяние. Однако я была жестоко удручена и опечалена до последней степени, и так как у меня не было друга, с которым я могла бы поделиться своими горестными мыслями, они так меня угнетали, что несколько раз в день я падала в обморок или билась в припадке. Я послала за своей старой пестуньей, которая, нужно отдать ей справедливость, вела себя, как верный друг. Она пустила в ход все средства, чтобы помешать Большому жюри составить обвинительный акт, ходила кой к кому из присяжных, говорила с ними, старалась расположить их в мою пользу, обращала их внимание на то, что я ничего не взяла, не совершила взлома, и так далее, но все это было напрасно; девки присягнули, что поймали меня на месте преступления, и Большое жюри предъявило мне обвинение в краже со взломом.
Узнав об этом, я лишилась чувств, и когда пришла в себя, то подумала, что не вынесу такого ужаса. Моя пестунья отнеслась ко мне с чисто материнским участием, жалела меня, плакала со мной, но ничем не могла помочь; и в довершение ужаса по всей тюрьме говорили, что мне не миновать смерти. Я часто слышала, как заключенные толковали об этом между собой, видела, как они качали головами и выражали сожаление, как обыкновенно бывает в тюрьме, но никто со мной не заговаривал. Наконец один из тюремщиков отвел меня как-то в сторонку и сказал со вздохом:
— В пятницу вас будут судить, миссис Флендерс (это было в среду). Что вы собираетесь делать? Я побелела как полотно и сказала:
— Бог знает, что я буду делать! Не знаю, ничего не знаю.
— Не стану вас обнадеживать, — говорит, — подготовьтесь к смерти, так как думаю, что вас признают виновной. И так как вы старая преступница, вряд ли вам окажут снисхождение. Говорят, — добавил он, — что ваше дело ясное и свидетельские показания так несомненны, что ничего нельзя возразить против них.
Удар был слишком сильным для женщины, и без того изнемогавшей под тяжким бременем, и долго я не в состоянии была вымолвить ни слова. Наконец разразилась рыданиями и спросила тюремщика:
— Ах, сударь, что же мне делать?
— Что делать? Нужно послать за священником и побеседовать с ним. Ведь если у вас, миссис Флендерс, нет могущественных друзей, то вы уже не жилица на этом свете.
Нельзя не признать откровенности этих слов, но они были для меня слишком жестокими, по крайней мере, так мне показалось. Тюремщик оставил меня в величайшем смятении, и всю ночь я не сомкнула глаз. Тут я начала молиться, чего ни разу не делала после смерти моего последнего мужа; право, я не могу назвать это молитвой, потому что находилась в таком смятении и таком ужасе, что хотя часто твердила сквозь слезы: «Господи, смилуйся надо мной!» — все же не сознавала еще, какой была жалкой грешницей, не каялась Богу в своих грехах и не просила у него прощения. Я была подавлена мыслями о своем положении, о том, что меня приговорят к смерти и, наверное, казнят; вот почему я и восклицала всю ночь: «Господи! Что будет со мной? Господи! Что мне делать? Господи, смилуйся надо мной», — и тому подобное.
Моя опечаленная пестунья была теперь встревожена не меньше моего и каялась гораздо искреннее, хотя ей не грозил смертный приговор. Она его, конечно, заслуживала в такой же мере, как и я, и сама это признавала; но уже в течение многих лет старуха занималась только тем, что укрывала краденное мной и другими и поощряла нас к воровству. Но она рыдала и бесновалась как исступленная, ломая руки и крича, что она погибла, что над ней тяготеет проклятие Божие и ей уготованы адские муки, что она погубила всех своих друзей, отправила на виселицу такую-то, и такую-то, и такую-то, насчитав человек десять или одиннадцать (о некоторых из этих несчастных, нашедших себе преждевременный конец, я упоминала), и что теперь она виновница моей гибели, так как уговорила меня продолжать опасный промысел, когда я хотела отказаться от него. Я перебила ее:
— Нет, матушка, нет, не говорите так, ведь вы советовали мне бросить, когда я вытянула деньги у лавочника и когда вернулась из Гарвича, но я не пожелала вас слушать. Поэтому упрекать вас не за что, я сама себя погубила, сама ввергла себя в эту пропасть.
Так горевали мы по целым часам.
Но выхода не было; дело шло своим чередом, и в четверг меня перевели в дом судебных заседаний, где дали ознакомиться с обвинительным актом, а на другой день я должна была предстать перед судом. Ознакомившись с обвинением, я дала ответ: «Невиновна», — и была права, так как меня обвиняли в краже со взломом, именно: что я взломала дверь и украла два куска узорчатого шелка, стоимостью в сорок шесть фунтов, принадлежащие Антони Джонсону; между тем я хорошо знала, что никто не может показать на суде, будто я произвела взлом или хотя бы подняла щеколду.
В пятницу меня привели в суд. Я так обессилела от слез за последние два или три дня, что в эту ночь спала лучше, чем ожидала, и чувствовала себя на суде бодрее, чем могла надеяться.
Когда открылось судебное заседание и был прочитан обвинительный акт, я хотела взять слово, но мне сказали, что сначала нужно выслушать свидетелей и я еще успею высказаться. Свидетельницами были две упомянутые девки, закусившие удила негодяйки; ибо хотя по существу они были правы, однако старались как можно больше отягчить мою вину и показали под присягой, будто я завладела материей, спрятала ее под платье и уходила с ней; будто одной ногой уже переступила порог, когда они выбежали, и занесла над порогом другую ногу, так что была вместе со своей добычей уже вне дома, на улице, но тут они меня схватили, задержали и нашли на мне шелк. Дело было изложено в общем правильно, но я настаивала, что они задержали меня раньше, чем я переступила порог. Впрочем, едва ли эта подробность имела большое значение, так как я все же взяла материю и унесла бы ее, если бы меня не остановили.
Я ссылалась на то, что ничего не украла, что хозяева не потерпели никакого ущерба, что дверь была открыта и я вошла с намерением кое-что купить. Правда, увидя, что в доме никого нет, я взяла в руки кусок шелка, но отсюда вовсе не следует, будто я собиралась красть, так как я поднесла его к двери только с целью получше рассмотреть при солнечном освещении.
Суд не пожелал считаться с моими показаниями и высмеял мое намерение покупать материю, так как то была не лавка и товары там не продавались; а что касается моего заявления, будто я поднесла материю к двери с целью получше рассмотреть ее, то девки только нагло расхохотались и стали изощряться в остроумии: сказали суду, что я, очевидно, хорошо рассмотрела товар и он пришелся мне по вкусу, раз я его спрятала под платье и собиралась унести.
Одним словом, я была признана виновной в краже и невиновной в совершении взлома, но это было для меня малым утешением, так как первого преступления было достаточно для смертного приговора[100] и последнее ничего бы к нему не прибавило. На следующий день меня привели в залу суда выслушать страшный приговор, и когда меня спросили, могу ли я сказать что-нибудь в свою защиту, что предотвратило бы исполнение приговора, я некоторое время стояла молча; но кто-то громко подсказал мне, что нужно обратиться к судьям, так как они могут представить дело в более благоприятном для меня свете. Это меня приободрило, и я заявила, что не знаю, чем я могла бы приостановить исполнение приговора, но прошу у суда милости; я выразила надежду, что суд окажет мне снисхождение, так как я не произвела взлома и ничего не унесла; так как никто не потерпел никакого ущерба; так как владелец материи ходатайствует о моем помиловании (он действительно благородно просил об этом суд); так как, на худой конец, это мое первое преступление и меня еще никогда не привлекали к суду; словом, я нашла в себе гораздо больше смелости, чем предполагала, и говорила с таким чувством, что заметила сквозь слезы — не настолько, впрочем, обильные, чтоб помешать моей речи, — как слова мои до слез растрогали слушавшую меня публику.
Важные и молчаливые судьи выслушали меня снисходительно и позволили говорить, сколько я хотела, но, не сказав ни да, ни нет, произнесли мне смертный приговор, показавшийся мне уже самой смертью и вконец меня уничтоживший. Силы покинули меня, язык отказался мне служить, глаза уже не видели ни людей, ни Бога.
Моя бедная пестунья совсем упала духом; еще так недавно ободрявшая меня, она сама теперь нуждалась в ободрении; она была вне себя, приступы уныния сменялись у нее припадками ярости, и она мало чем отличалась от обитательниц Бедлама[101]. Но не только мое положение было причиной ее горя: ее собственная неправедная жизнь внезапно предстала перед ней во всем своем ужасе. Чувство, с которым она теперь взирала на свое прошлое, было непохоже на мое: она не только горевала о несчастье, постигшем меня, но и самым искренним образом раскаивалась во всех своих грехах. Она послала за священником. Это был серьезный, благочестивый и добрый человек. Так истово, с таким рвением принялась она под его руководством каяться, что, надо полагать, раскаянье ее было искренним, да и священник не сомневался в этом. А главное, это не было случайным состоянием духа, вызванным внезапной бедой, — мне говорили, что она пребывала в нем до самой своей смерти.
Легче представить себе, чем выразить словами, каковы были теперь мои чувства. Передо мной была только смерть, и так как я не имела друзей, которые бы пришли мне на помощь, то ждала только появления моего имени в указе о приведении приговора в исполнение в следующую пятницу, в каковом указе было поименовано, кроме меня, еще пятеро несчастных.
Тем временем убитая горем пестунья прислала мне священника, который по ее приглашению навестил меня, а затем стал приходить уже по моей просьбе. Он долго увещевал меня покаяться во всех грехах и не играть больше моей душой; он не обольщал меня надеждами на сохранение жизни, так как, по его сведениям, нечего было на это рассчитывать, и сказал, что мне остается только обратиться к Богу и молить его о прощении. Он подкрепил свои слова текстами из Священного писания, призывающими к раскаянию даже величайших грешников, а потом преклонил колени и помолился вместе со мной.
Тогда только я впервые почувствовала признаки искреннего раскаяния. Я начала смотреть с отвращением на свое прошлое, и, как это, я думаю, с каждым случается в такие минуты, когда человек, можно сказать, заглядывает за предел своей жизни, многие события предстали мне совсем в ином свете и в ином виде, чем раньше. Счастье, радости, горести жизни обрели для меня новый смысл; все мои помыслы были теперь о возвышенном, и мне казалось величайшей глупостью придавать какое-либо значение даже самым большим ценностям земного существования.[102]
Вечность предстала передо мной в окружении своих таинственных спутников; мое понятие о ней расширилось до таких пределов, что я выразить не могу. Каким гнусным, низменным и нелепым представлялось мне теперь все, что прежде казалось наслаждением! Подумать, что ради этих жалких побрякушек мы отказываемся от вечного блаженства!
За подобными размышлениями следовали, конечно, горькие упреки; я укоряла себя за свое злосчастное прошлое, за то, что лишила себя всякой надежды на блаженство в вечности, с которой мне так скоро предстояло слиться, что обрекла себя на страдания и горести; больше же всего меня мучила страшная мысль, что страдания эти будут длиться вечно.
Все это я рассказываю не за тем, чтобы поучать других, — где мне! Я лишь хочу поведать о том, что тогда творилось в душе моей, возможно точнее описать свои переживания, хотя и знаю, что не могу передать их во всей их впечатляющей душу силе. Да и можно ли словами изобразить подобные впечатления? Я, во всяком случае, не знаю таких слов. Пусть проникновенный читатель сам поразмыслит обо всем этом и задумается о собственной жизни. Рано или поздно каждому суждено испытать нечто похожее на то, что испытала я, прояснившимся взором заглянуть в будущее и увидеть свою участь в самом неприглядном свете.
Обращаюсь к своему рассказу. Священник уговаривал меня не таиться, рассказать, как я понимаю себя теперь, когда мне приоткрылся мир потусторонний. Не тюремный же он священник, в самом деле, не затем пришел он, чтобы в личных видах выманить у заключенной признание или добиться от нее разоблачения других, еще не пойманных, преступников; ему только для того нужно вызвать меня на откровенный разговор, заставить меня излить перед ним душу, чтобы иметь возможность в меру сил своих дать мне утешение. Что бы я ему ни рассказала, уверял он меня, останется тайной, которую будут знать лишь он, да я, да Господь Бог. Сам же он хочет знать обо мне ровно столько, сколько нужно для того, чтобы оказать мне помощь, подать совет, помолиться за меня Всевышнему.
Прямое и дружеское его обращение со мной открыло все шлюзы моей души. Он проник в самые ее тайники, и я развернула перед ним всю картину своей грешной жизни. Словом, я ему в сокращенном виде рассказала все, что поведала на этих страницах; как бы в миниатюре я представила ему последние пятьдесят лет своей жизни[103].
Я не утаила от него ничего, и он в ответ призывал меня к искреннему раскаянию, дав свое толкование этого слова. С таким жаром говорил он о безграничности Божественного всепрощения, на которое могут рассчитывать самые великие грешники, что отчаяние мое исчезло бесследно и я больше не сомневалась, что милость эта распространится и на меня. В таком душевном состоянии он меня оставил в первый вечер.
Наутро он вновь пришел и продолжал толковать мне по-своему Божественное милосердие. Чтобы заслужить его, говорил священник, нужно только искреннее желание и готовность принять это милосердие. Нужно лишь искренне сокрушаться о своих грехах, возненавидеть все то, что навлекло на мою голову справедливый гнев Господень. Впрочем, я не берусь повторить все превосходные рассуждения этого необыкновенного человека. Скажу лишь, что он оживил мне душу и что в жизни своей не испытывала я ничего подобного. Слезы и стыд за прошлое душили меня, и вместе с тем душу мою переполнял какой-то неизъяснимый восторг при мысли о том, что я могу покаяться до конца, что и мне будет даровано Божественное всепрощение. Мысли мои вращались с такой необычайной живостью, под их влиянием дух мой настолько возвысился, что я была готова — так мне тогда казалось — тут же, без малейшего колебания, пойти на казнь, вверив свою душу, душу раскаявшейся грешницы, бесконечному милосердию Божию.
Добрый человек был глубоко тронут, заметив, какое действие оказали на меня его речи. Он возблагодарил Бога за то, что пришел ко мне, и решил не оставлять меня до последней минуты, то есть не прекращать своих посещений.
Прошло не меньше двенадцати дней после объявления нам приговора, а он еще ни над кем не был приведен в исполнение; но вот нам сообщили список смертников, и я нашла в нем свое имя. Это было страшным испытанием для моих благих решений; сердце мое замерло, и я два раза подряд упала в обморок, но не произнесла ни слова. Добрый священник был сильно опечален за меня и всячески старался меня ободрить с помощью тех же доводов и того же красноречия, что и раньше. В тот вечер он оставался у меня до тех пор, пока сторожа не предупредили его, что нужно уходить из тюрьмы, если он не хочет, чтобы его заперли со мною на всю ночь, а этого он не захотел.
Меня очень удивило, что он не пришел на следующий день, хотя это был канун моей казни; и я сильно пала духом, не получая того утешения, которое он так часто и с таким успехом давал мне в предыдущие дни. Я ждала с большим нетерпением и в сильно подавленном состоянии почти до четырех часов, как вдруг он вошел в мою камеру, ибо я добилась, за деньги, конечно, — без денег здесь ничего не делалось, — чтобы мне отвели отдельную комнату, правда очень тесную и грязную, а не держали в яме смертников с остальными приговоренными.
Сердце мое затрепетало от радости, когда я услышала его голос за дверью, прежде даже, чем увидела его; но можете себе представить волнение, охватившее мою душу, когда, торопливо извинившись за опоздание, священник объяснил, что все это время он хлопотал за меня и добился у главного судьи благоприятного решения; короче говоря, он принес мне отсрочку в исполнении приговора.
Он пустил в ход все предосторожности, на какие только был способен, чтобы сообщить мне эту весть, таить которую было бы, впрочем, еще более жестоко, и все-таки я ее не перенесла; ибо как прежде горе ошеломило меня, так теперь радость; я впала в еще более глубокий обморок, чем прежде, и лишь с большим трудом меня привели в чувство.
Добрый этот человек, как истый христианин, предостерег меня против того, чтобы радость избавления не заслонила памяти былой печали; затем, сказав, что ему надо пойти и вписать приказ об отсрочке моего приговора в тюремную книгу, чтобы шерифы с ним познакомились, он встал и перед уходом произнес горячую молитву: он просил Бога, чтобы мое раскаяние оставалось искренним и непритворным и чтобы, возвращаясь вновь к жизни, я не обратилась вновь к тем безумствам, от которых я так торжественно отреклась и в которых каялась с таким смирением. От всей души присоединилась я к его молитве. За эту ночь я глубже прониклась милосердием Божиим и сильнее возненавидела свои грехи, чем когда-либо в жизни; радость, которую я только что вкусила, подействовала на меня сильнее, чем горе, в котором я до сих пор пребывала.
Меня могут обвинить в непоследовательности, сказать, что подобным переживаниям вообще не место в моем рассказе. Боюсь я также, что многим читателям, которые с интересом следили за мной, пока я описывала свои грехи и безумства, эта часть моей жизни, на мой взгляд лучшая, наиболее полезная для меня, наиболее поучительная для других, — боюсь, что им она покажется скучна. Как бы то ни было, я надеюсь, что эти читатели не откажутся выслушать мою историю до конца. И не хочу думать о них дурно, не может ведь быть, чтобы они предпочитали преступление раскаянию! Не может быть, чтобы они желали трагической развязки для этой истории! А ведь она чуть было так и не случилась!
Но перехожу к дальнейшим событиям. Наутро в тюрьме произошла душераздирающая сцена. Первым меня приветствовал гул большого колокола церкви Гроба Господня, возвещавший наступление дня. Как только он раздался, из ямы смертников послышались жалобные стоны и вопли — там находились шестеро несчастных, которых должны были казнить в тот день; одних — за одни преступления других — за другие, в том числе двоих за убийство.
Вслед за этим тюрьма наполнилась нестройными криками заключенных, на разные лады выражавших свое сочувствие несчастным смертникам. Одни плакали, другие орали во всю глотку «ура!» и желали им счастливого пути, третьи ругали и проклинали виновников их горькой участи, то есть свидетелей и судей; многие их жалели, а иные — таких было совсем мало — молились за них.
Все это не давало мне сосредоточиться настолько, чтобы благословить милосердное Провидение, вырвавшее меня из пасти смерти. Я оставалась немой и безгласной, не будучи способна выразить охватившие меня чувства, ибо в таких случаях чувства эти бывают настолько бурными, что мы не в силах быстро совладать с ними.
Все время, пока несчастные осужденные готовились к смерти, и тюремный священник уговаривал их подчиниться приговору, — все это время я дрожала от ужаса, точно положение мое со вчерашнего дня не изменилось; меня словно трепала жестокая лихорадка, речь и взгляд у меня были как у помешанной. Когда осужденных посадили в телегу и увезли[104] — у меня не хватило мужества взглянуть на это зрелище, — когда, повторяю, их увезли, я отчаянно разрыдалась и не могла остановиться, несмотря на все усилия!
Так прорыдала и безостановочно чуть ли не два часа. Когда же я успокоилась, этих несчастных, должно быть, уже не было в живых. На смену слезам пришло чувство, радости, тихой, благостной, задумчивой; я была в настоящем экстазе, в каком-то обаянии восторга и благодарности, которые я все еще была не в силах выразить словами; в этом состоянии я провела большую часть дня.
Вечером ко мне снова пришел мой добрый священник и вновь принялся за свои превосходные рассуждения. Он поздравил меня с тем, что теперь, благодаря отсрочке, я успею покаяться во всех своих грехах, в то время как души тех шести несчастных обречены, их уже ничто не спасет. С жаром убеждал он меня не терять моего нового отношения к делам мирским, какое у меня появилось, когда передо мной впервые разверзлась вечность. Под конец же сказал, что мое дело еще нельзя считать решенным, что отсрочка не есть помилование и что он не может полностью ручаться за благополучный исход. Тем не менее я должна радоваться, что мне подарили какое-то время, и постараться использовать его возможно лучше,
Как ни своевременны были его замечания, признаться, я была огорчена; я поняла, что мое дело может еще закончиться роковым образом, хоть священник и в этом не был уверен. В тот день я даже и не стала его ни о чем расспрашивать; он ведь сам сказал, что приложит все силы к тому, чтобы дело завершилось благополучно; по существу он надеялся на успех, но не хотел обнадеживать меня до времени. Последующие события показали, что опасения его были не напрасны.
Недели через две возникла угроза, что я буду включена в список смертников в следующую сессию. Лишь с большим трудом, подав слезное прошение о ссылке[105], удалось мне избегнуть этого: такой дурной я пользовалась славой и так упорно держалось мнение, что я рецидивистка, хотя, с точки зрения закона, я ею не была, ибо ни разу еще не привлекалась к суду; таким образом, судьи не могли, обвинить меня в этом, но председатель изложил мое дело так, как нашел нужным.
Теперь жизнь моя была спасена, но ценою ссылки. Ссылка была, правда, тяжелым наказанием, но по сравнению со смертной казнью казалась, большой милостью; поэтому я ничего не скажу ни относительно приговора, ни относительно предстоявшей мне участи. Мы готовы предпочесть смерти все что угодно, особенно когда за гробом нас ожидает мало приятного, как было в моем случае.
Добрый священник, которому я, совершенно посторонний ему человек, была. обязана своим спасением, искренне огорчался моей предстоящей ссылкой. Он рассчитывал, как он мне сказал, что мне удастся провести остаток своих дней под чьим-нибудь благотворным влиянием; он боялся, что я забуду свои былые невзгоды, что попав в общество отпетых каторжников, — в основном ведь они все отпетый парод! — я снова вернусь к своим прежним делам, разве что Господь Бог, прибавил он, еще раз окажет мне свое таинственное покровительство.
Давно я уже не упоминала о своей пестунье. Чуть ли не все это время она была тяжело больна; болезнь эта для нее оказалась тем же, чем для меня мой приговор: каждая из нас побывала на краю смерти. Она сделалась в полном смысле этого слова раскаявшейся грешницей, Я не упоминала о ней так долго оттого, что за все время ее болезни — мы не встречались. Но вот она стала поправляться, выходить понемногу и тотчас пришла меня проведать.
Я изложила ей свое положение, рассказала, как мной владели поочередно то страх, то надежда, сказала, чего я избежала и на каких условиях. Старуха присутствовала при моем свидании со священником и слышала высказанное им опасение, как бы я, попав в общество ссыльных, снова не вступила на путь порока. У меня самой были печальные мысли на этот счет, так как я знала, каких отпетых людей отправляют обыкновенно в ссылку. Вот почему я сказала пестунье, что страхи доброго священника не лишены оснований.
— Да, да, — отвечала она, — но я твердо надеюсь, что ты не соблазнишься таким ужасным примером.
А как только ушел священник, она сказала, что не надо отчаиваться, так как ей, может быть удастся устроить меня особенным образом, о чем она Подробно поговорит со мной в другой раз.
Я внимательно посмотрела на нее, и мне показалось, что она глядит Веселее, чем обыкновенно; и тотчас же у меня зародилась надежда на освобождение, но ни за что на свете не могла бы я придумать, как его осуществить. Однако дело это слишком близко касалось меня, и я решила не отпускать пестунью, пока не услышу объяснений; та долго отнекивалась, но наконец, вняв моим настойчивым просьбам, коротко мне ответила:
— У тебя ведь есть деньги, правда? А слышала ли ты когда-нибудь, чтобы человека с сотней фунтов в кармане отправили в ссылку?
Я мигом поняла ее, но сказала, что не вижу возможности уклониться от точного исполнения приговора, и так как эта суровость считается милостью, то нет сомнения в том, что все будет строго соблюдено.
В ответ старуха сказала только:
— Попробуем, может быть, что-нибудь выйдет.
На этом мы расстались.
Я сидела в тюрьме еще около пятнадцати недель. Почему вышла такая задержка, не знаю, но по прошествии этого срока меня посадили на корабль, стоявший на Темзе, вместе с шайкой в тринадцать самых отпетых негодяев, каких когда-либо порождал Ньюгет. Понадобилась бы книга гораздо длиннее, чем вся повесть, чтобы описать бесстыдства и подлости, до которых докатились эти тринадцать человек, а также их поведение в пути; обо всем этом у меня сохранился занимательный рассказ нашего капитана, подробно записанный его помощником.
Пожалуй, не стоит рассказывать всех мелких происшествий, приключившихся в промежуток от окончательного постановления о моей ссылке до посадки на корабль, да и места нет для этого, так как повесть моя приближается к концу; однако не могу не упомянуть об одном обстоятельстве, касающемся моего ланкаширского мужа.
Как я уже сказала, его перевели из общей тюрьмы в отделение для привилегированных во внутреннем дворе; с ним было трое других, так как спустя некоторое время к ним присоединили еще одного; не знаю, почему их держали там почти три месяца без суда. Кажется, они ухитрились дать взятку или подкупить свидетелей, которые должны были выступать против них, и, таким образом, у обвинения долго не было достаточных улик. После некоторого замешательства удалось все же собрать против двоих кое-какие показания, на основании которых их и отправили на виселицу; но участь двух других, в том числе и моего ланкаширского мужа, оставалась нерешенной. Правда, по одному свидетелю против каждого из них обвинение имело, но так как закон требует не менее двух свидетелей, то ничего нельзя было поделать. Все же решено было не отпускать их, так как следственные власти не сомневались, что свидетели в конце концов найдутся; с этой целью, была сделана публикация о поимке таких-то преступников, и каждый желающий мог явиться в тюрьму посмотреть их.
Я воспользовалась этим предлогом для удовлетворения своего любопытства, выдумав, будто меня ограбили в данстеблской карете и я хочу взглянуть на этих рыцарей с большой дороги. Входя во внутренний двор, я так закуталась, что почти не видно было моего лица, и муж не узнал меня. Вернувшись, я заявила, что отлично знаю обоих.
Тотчас же по всей тюрьме разнесся слух, что Молль Флендерс будет выступать свидетелем против одного из разбойников, и за это ей, дескать, отменят приговор о ссылке.
Прослышали об этом и сами грабители, и мой муж немедленно пожелал видеть миссис Флендерс, которая так хорошо его знает и собирается выступить свидетельницей против него; я получила разрешение посетить его. Я оделась в лучшее платье, какое взяла с собой в тюрьму, и пошла во внутренний двор, но лицо закрыла капюшоном. Сначала он мало говорил со мной и только спросил, знаю ли я его. Я отвечали: «Да, отлично знаю»; но так как я не только закрыла лицо, но изменила также голос, он не догадался, кто я такая. Он спросил, где я его видела; я ответила, что между Данстеблом и Брикхиллом, и тут, обратившись к тюремщику, спросила, нельзя ли мне будет поговорить с заключенным наедине. Тот ответил: «Сделайте одолжение», — и очень любезно удалился.
Как только тюремщик ушел, я закрыла дверь, сбросила капюшон и, разрыдавшись, сказала:
— Милый, ты не узнаешь меня?
Он побледнел и не мог произнести ни слова, как громом пораженный; вне себя от удивления, он сказал только: «Разрешите мне сесть», после чего, сев за стол и подперев голову рукой, тупо уставился в землю. Я же так разрыдалась, что долгое время тоже не могла говорить, но, дав выход своему чувству, повторила те же слова:
— Милый, ты не узнаешь меня?
Тогда он ответила «Да», — и долго не произносил больше ни слова.
Посидев еще некоторое время в изумлении, он поднял на меня глаза и сказал:
— Как могла ты быть такой жестокой?
Я совершенно не поняла, что он хочет сказать, и ответила:
— Как можешь ты называть меня жестокой?
— Прийти ко мне, — говорит, — в такое место? Разве это не оскорбление? Я тебя не грабил, по крайней мере на большой дороге.
Из этих слов я поняла, что он ничего не знает о моих невзгодах и думает, будто, получив известие о том, что он в Ньюгете, я пришла упрекать его за вероломство. Но мне столько нужно было сказать ему, что было не до обиды, и, в немногих словах я объяснила, что пришла совсем не оскорблять его, а, напротив, утешить и самой искать у него утешения, и что он легко убедится в отсутствии у меня дурных намерений, когда я скажу ему, что мое положение во многих отношениях хуже, чем его собственное. На лице мужа выразилась тревога, когда он услышал эти слова, но он с улыбкой проговорил:
— Разве это возможно? Ты видишь меня в кандалах, в Ньюгете, и два моих товарища уже казнены. Как же ты можешь говорить, что твое положение хуже, моего?
— Ах, — мой милый, — говорю, — слишком долго было бы мне рассказывать, тебе слушать мою печальную повесть, но если бы ты ее услышал, ты бы тотчас согласился со мной, что мое положение хуже.
— Как же это возможно, — говорит, — ведь я смертного приговора на ближайшей сессии!
— Очень даже возможно, — отвечаю. — Я уже приговорена к смерти три сессии тому назад, и исполнение приговора только отсрочено. Разве мое положение не хуже, чем твое?
И он снова замолчал, словно лишившись дара речи, потом порывисто вскочил с места.
— Несчастная чета! — воскликнул он. — Возможно ли это?
Я взяла его за руку.
— Полно, мой дорогой, садись, и поделимся друг с другом своим горем. Я заключена в этой самой тюрьме и нахожусь в гораздо худшем положении, чем ты, и, когда я расскажу тебе все подробности, ты убедишься, что у меня нет никакого намерения оскорблять тебя.
Тут мы уселись рядышком, и я сообщила ему о своих приключениях все, что сочла удобным, закончив рассказом о том, как дошла до крайней бедности; тогда я будто бы попала в одну шайку, научившую меня облегчать свои невзгоды непривычным для меня способом, будто вовремя попытки этой шайки ограбить дом одного купца я была схвачена служанкой за то лишь, что подошла к двери; будто я не взламывала ни одного замка и ничего не уносила и, невзирая на это, была признана виновной и приговорена к смерти, но судьи будто бы были тронуты моим тяжелым положением и заменили смертную казнь ссылкой.
Я сказала далее, будто мне очень повредило то, что меня приняли в тюрьме за некую Молль Флендерс, знаменитую воровку, о которой все слышали, но которой никто из них не видел; ему-то, однако, известно, что меня зовут совсем иначе. Я отнесла все на счет своей неудачи; приняв меня за означенную воровку, судьи обошлись со мною как с рецидивисткой, хотя это было единственное преступление, которое они знали за мной. Я долго говорила о том, что со мной случилось с тех пор, как я рассталась с ним; не скрыла, что встречала его и позднее, потому что он сам мог это заподозрить, и рассказала, как видела его в Брикхилле, как за ним была устроена погоня, — но после моего заявления, что я его знаю и он почтенный джентльмен, констебль прекратил погоню и пошел домой.
Он внимательно выслушал всю мою повесть, снисходительно улыбаясь моим похождениям, казавшимся детскими шалостями по сравнению с его собственными подвигами; но мой рассказ о Брикхилле поразил его.
— Так это ты, моя милая, — сказал он, — остановила толпу в Брикхилле?
— Да, я. — И я подробно рассказала все, что там видела.
— Значит, это ты спасла мне тогда жизнь, — сказал он, — я счастлив, что обязан тебе жизнью. Позволь же мне отплатить тебе тем же; я освобожу тебя из тюрьмы, хотя бы даже ценой своей жизни,
Я наотрез отказалась; слишком велик был риск, и ради чего? Ради жизни, которую не стоило спасать.
— Пусть так, — сказал он; для него эта жизнь, дороже всего на свете; — жизнь, которая дала ему новую жизнь, ибо, — сказал он, — до тех пор, пока меня не схватили, я никогда не подвергался такой опасности, как в тот раз. — Опасность тогда заключалась в том, что он не ожидал преследования на этой дороге; они удрали из Хокли совсем другим путем и пробрались в Брикхилл через огороженные поля, в полной уверенности, что их никто не видел.
Тут он мне рассказал длинную повесть своей жизни, весьма удивительную и необыкновенно увлекательную. По его словам, вышел он на большую дорогу лет за двенадцать до женитьбы на мне; женщина, называвшая его братом, не была ему родственницей, но принадлежала к их шайке; поддерживая с ними сношения, она жила постоянно в Лондоне, где у нее было обширное знакомство, оттуда она посылала им точные сведения о лицах, выезжавших из города, и на основании этих сведений им не раз доставалась большая добыча; женщина эта думала, — что нашла для него богатую невесту, когда привезла меня к нему, но попалась впросак, за что, однако, он ни капельки не сердился на нее. Рассчитывая, что я принесу ему богатство, он принял решение; покинуть большую дорогу, и начать новую жизнь, не показываясь на люди, пока не вышло бы общее прощение или пока он не добился бы за деньги прощения для себя лично и не почувствовал бы себя в полной безопасности; но так как вышло иначе, он снова приняться за старое ремесло.
Он подробно рассказал мне некоторые свои приключения особенно одно, когда он ограбил честерские кареты возле Личфилда[106], хорошо поживившись на этом деле; потом как «он ограбил пятерых прасолов»[107] ехавших на Берфордскую ярмарку[108] в Уилтшире покупать овец. По его словам, он захватил во время этих двух нападений столько денег, что, если, бы знал, где меня разыскать, наверное, принял бы мое предложение поехать в Виргинию или в какую-нибудь другую английскую колонию в Америке и обзавелся бы там плантацией.
Он сказал, что написал мне три письма и отправил их по оставленному мной адресу, но не получил от меня никаких известий. Это была правда; его письма пришли, когда был еще жив мой последний муж, так что я ничего не могла поделать и поэтому не ответила, чтобы он подумал, будто письма эти пропали.
Отчаявшись получить от меня ответ, он снова принялся за свое старое ремесло, хотя, добыв много денег, стал действовать с большей осмотрительностью, чем раньше. Потом он рассказал о нескольких жестоких схватках с проезжими, которые не желали расставаться со своими кошельками, и показал мне полученные им раны. Две из них были очень опасны, одна от пистолетной пули, раздробившей плечевую кость, и другая, нанесенная шпагой, которая проткнула его насквозь, но не задела внутренностей, так что он вылечился; один из его товарищей с истинно дружеской заботливостью поддерживал его в седле почти восемьдесят миль, потом разыскал в одном большом городе лекаря и сказал, что они путешественники, направляются в Карлайл[109] и подверглись по дороге нападению грабителей, простреливших его товарищу руку.
Все это, по словам мужа, его друг обделал так ловко, что на них не пало никакого подозрения и он спокойно пролежал в этом городе, пока не выздоровел. Он рассказал мне еще столько интересного о своих похождениях, что я с большой неохотой опускаю так как все же рассказываю не о его жизни, а о своей.
Потом я стала расспрашивать мужа о его нем положении и на что он рассчитывает, будут судить. Он сказал, что у суда нет против него, так как, на свое счастье, он участвовал только в одном из трех грабежей, в которых обвиняют их всех, и нашелся только один свидетель преступления, а этого, по закону, недостаточно; правда, суд надеется, что явятся и другие, и, увидев меня, он сначала подумал, что я пришла именно с этой целью, но если никто не явится, то он надеется получить оправдание; ему дали понять, что если он согласится отправиться в ссылку, то его не станут судить, но он; даже думать об этом не хочет, предпочитая ссылке виселицу.
Я пожурила его; во-первых, сказала я, если его coшлют, то такой отважный и предприимчивый человек, как он, наверное, найдет сотню способов вернуться на родину, может быть, даже раньше, чем отправится в путь. Он улыбнулся и сказал, что предпочел бы последнее, потому что содрогается при одной мысли, что ему придется работать на плантации, подобно тому как римские рабы трудились в каменоломнях; он считает, что гораздо приятнее отправиться на тот-свет при помощи виселицы, и таково единодушное мнение всех джентльменов, выгнанных судьбой на большую дорогу; ведь казнь положит, по крайней мере, конец всем его нынешним бедствиям, а что касается спасения души, то, по его мнению, человек может столь же искренно раскаяться за последние две недели своей жизни, среди ужасов тюрьмы, в яме смертников, как и в лесах и пустынях Америки; рабство и каторжные работы недостойны джентльмена; это лишь средство заставить человека рано или поздно сделаться собственным палачом; что может быть ужаснее? Поэтому он и думать не хочет о ссылке.
Я пустила в ход все средства, чтобы переубедить его, в том числе и испытанное женское красноречие — слезы. Говорила, что позор публичной казни, наверное, окажет гораздо более гнетущее действие на джентльмена, чем все унижения, которым он может подвергнуться за морем; что в атом последнем случае у него, по крайней мере, есть надежда остаться в живых, тогда как виселица исключает всякую надежду; ничего нет легче, как столковаться с капитаном корабля, — народ этот, как правило, добродушный и сговорчивый. А по прибытии в Виргинию легко можно будет откупиться, если хорошо себя вести, а тем более если располагаешь деньгами.
Он печально посмотрел на меня, и — я подумала было, что у бедняги нет денег; однако я ошиблась, он не то хотел сказать.
— Ты только что намекнула, моя милая, — сказал он, — что, может быть, я найду способ вернуться назад прежде, чем уеду, — я это понял так, что можно откупиться и здесь. Я предпочел бы дать двести фунтов, чтобы избежать высылки, чем сто фунтов за получение свободы по приезде в Америку.
— Это оттого, дорогой мой, — сказала я, — что ты не знаешь Америку так хорошо, как я.
— Может быть, и все же мне кажется, что и ты поступила бы точно так же, разве только пожелала бы увидеться с матерью, ведь ты мне говорила, что она в Америке.
Я ответила, что моя мать, наверное, давно уже умерла, а что касается других родственников, которые там, может быть, есть у меня, то я их не знаю; с тех вор как мои несчастья довели меня до того положения, в котором я находилась последние годы, я прекратила всякую переписку с ними; ему нетрудно вообразить, что я встречу самый холодный прием, если появлюсь у них в качестве ссыльной воровки. Поэтому я решила, в случае если туда поеду, не видеться с ними; но у меня все же связаны с этой ссылкой большие надежды, которые с лихвой возмещают все ее неприятности; и если ему тоже придется отправиться туда, то я легко его научу, каким образом избежать рабства, особенно имея деньги, единственного друга в подобном положении.
Он с улыбкой ответил, что не говорил мне, будто у него есть деньги! Я тотчас же его перебила, сказав, что, надеюсь, он не заключил из моих слов, будто я рассчитываю на его поддержку; напротив, хотя я не могу назвать себя богатой, однако же и не нуждаюсь, и так как у меня кое-что есть, то я скорее поделюсь с ним, чем возьму что-нибудь у него, хорошо зная, что какими бы деньгами он ни располагал, они все ему понадобятся в ссылке.
Тогда он проявил величайшую предупредительность. Он сказал, что денег у него немного, но он поделится со мною последним, если я буду нуждаться, и стал уверять, что у него совсем не было таких опасений. Он лишь имел в виду то, о чем я ему намекнула; ему хорошо известно, как следует поступать здесь, там же он будет самым беспомощным и жалким существом на свете.
Я ответила, что он напрасно боится того, что не таит в себе ничего страшного; если у него есть деньги, как я с удовольствием сейчас услышала, то он может не только избежать рабства, являющегося, по его мнению, неотвратимым следствием ссылки, но и начать новую жизнь, успех которой обеспечен при некоторой трудолюбии, столь естественном в подобных случае я напомнила ему, какой совет я ему дала много лет назад, предлагая поправить наши дела. Наконец, чтобы убедить его в правильности моих слов и в том, я прекрасно знаю, как взяться за дело, и не сомневаясь в успехе, я заявила, что готова выхлопотать себе отмену приговора о ссылке, а затем добровольно отправиться с ним туда, взяв при этом с собой столько денег, чтобы хватило и на его долю; я его уверила, что предлагаю это вовсе не потому, что не в состоянии прожить без его помощи, я считаю, что, мы оба довольно натерпелись здесь всяких невзгод и лучше нам покинуть эту часть света и зажить там, где никто ее попрекнул бы нас прошлым, где нам не грозила бы тюрьма и муки, ямы смертников, где мы могли бы с бесконечным удовольствием оглянуться на наши прошлые горести, в убеждении, что наши враги совершенно забыли про нас и что мы будем жить, как новые люди новой земле, и ни нам до людей, ни людям до, нас не будет никакого дела.
Я говорила ему все это так убедительно и так основательно разбила все его страстные возражения, что он меня обнял, заявив, что моя искренность и забота покорили его; он принимает мой совет и попытается подчиниться своей участи, в надежде на поддержку такой мудрой советницы и такого преданного друга невзгодах жизни. Но все же он хочет мне напомнить то, о чем я говорила ему раньше, именно, что, может быть, есть способ получить свободу еще здесь, так чтобы вовсе не пришлось ехать за море, — это было бы гораздо лучше. Я отвечала, что он может быть спокоен: я сделаю все, чтобы добиться чего-нибудь и этом направлении тоже; если же меня тут постигнет неудача, я, во всяком случае, исполню другое свое обещание.
После этой длительной беседы мы расстались если не более нежно и любовно, чем некогда в Дайстебле. Только тут я поняла, почему он отказался тогда ехать со мной дальше Данстебла и почему расставаясь со мной там, сказал, что обстоятельства не дозволяют: ему проводить меня до самого Лондона, как ему того хотелось. Я обмолвилась где-то на этих страницах о том, что история его жизни еще занимательней, чем моя. Самое же удивительное в ней было то, что своим отчаянным ремеслом он занимался целых двадцать пять лет и ни разу за это время не попадался; успехи же его были так велики, что время от времени ему удавалось устраивать себе передышки на год, а то и на два; во время этих передышек он ничем не занимался, жил на широкую ногу и даже держал лакея. Сколько раз, сидя в какой-нибудь кофейне, ему доводилось слышать, как люди, которых он ограбил, рассказывали о своем несчастье! При этом они часто, называли местность, где произошло ограбление, и так подробно описывали все обстоятельства дела, что у него не могло быть сомнений в том, что перед ним сидят его жертвы.
В ту пору, когда он так неудачно женился на мне ради моего мнимого приданого, он, оказывается, как раз наслаждался такой передышкой под Ливерпулем. Кабы, он не обманулся в своих надеждах, говорил он (и я думаю, что он не лгал), он порвал бы с прошлым и зажил бы по-честному.
Как ни печально было его нынешнее положение, в одном ему все же повезло: дело в том, что ограбление, в котором его обвиняли, было совершено без его личного участия и никто из потерпевших не мог присягнуть в том, что видел его, так что некому было против него показать. Однако, так как его забрали вместе со всей шайкой, нашелся лжесвидетель, какой-то деревенский парень, который присягнул в том, что видел его; ждали, что появятся и другие в ответ на разосланные объявления; в ожидании дальнейших улик его и держали под стражей.
Ему предлагали согласиться на добровольную ссылку; насколько я могла понять, за него хлопотал один влиятельный человек, его друг, который, понимая, что в любой момент могут явиться свидетели и дать показания против него, всячески убеждал его принять это предложение, — не дожидаясь суда. Я была вполне согласна с его другом и не оставляла его в покое ни днем ни ночью, уговаривая не медлить.
Наконец скрепя сердце он дал свое согласие. Его положение отличалось от моего; я направлялась в ссылку решением суда, он — как бы по собственному желанию. Поэтому ему уже нельзя было отказаться ехать, и ссылка, вопреки тому, что я говорила ему прежде, была для него неизбежной. К тому же тот самый влиятельный друг, который выхлопотал ему это снисхождение, поручился, что он действительно уедет и не вернется раньше определенного ему срока.
При таком повороте дела средства, которые я намеревалась пустить в ход, становились излишними; те шаги, которые я начала было предпринимать для собственного спасения, тоже оказались не нужны, разве что я решилась бы покинуть его и предоставить ему ехать в Америку одному. Но он об этом и слышать не хотел, говоря, что в таком случае предпочитает дожидаться суда, хотя бы это грозило ему верной виселицей.
Возвращаюсь к своим делам. Скоро мне предстояло отправиться в ссылку. Моя пестунья, которая все это время оставалась моим верным другом, пыталась выхлопотать мне прощение, но его можно было купить лишь очень тяжелой для моего кошелька ценой; остаться же с пустым кошельком, не возвращаясь к старому своему промыслу, было бы хуже ссылки, ибо там я могла прожить, здесь же нет. Мой добрый священник, со своей стороны, изо всех сил старался добиться отмены ссылки для меня. Но ему отвечали, что и так по его просьбе мне была дарована жизнь и что поэтому он не должен просить большего. Он очень огорчался моим предстоящим отъездом: ожидание близкой смерти, говорил он, произвело благотворное влияние на мою душу, беседы с ним закрепили это влияние; но он опасался, как бы я не растеряла все, если уеду. По этой-то причине ревностный служитель Бога и скорбел обо мне.
Ну, а я, правду сказать, уже не так этим огорчалась, как прежде, однако старательно скрывала от священника причину такой перемены и оставила его в убеждении, что уезжаю с большим неудовольствием и горечью.
Только в феврале меня, вместе с тринадцатью другими каторжниками, сдали одному купцу, торговавшему с Виргинией, на корабль, стоявший на якоре в Детфорде[110]. Тюремщик доставил нас на борт, а хозяин судна выдал расписку в том, что нас принял.
На ночь нас заперли в трюм, где было так тесно, что я чуть не задохлась от недостатка воздуха. Утром корабль снялся с якоря и пустился по Темзе до местечка Багбис-Хол; это было сделано, как нам сказали, по уговору с купцом, чтобы лишить нас всякой возможности побега. Однако, когда корабль прибыл туда и бросил якорь, нам было разрешено выйти на нижнюю палубу, но не на шканцы, где могли находиться только капитан и пассажиры.
Когда по шагам матросов над головой и движению корабля я поняла, что мы снялись с якоря, то сначала очень испугалась, как бы мы не уехали, не повидавшись с друзьями; но скоро успокоилась, убедившись, что корабль снова стал на якорь, и услышав от матросов, что завтра утром нам разрешат подняться на палубу и проститься с друзьями, которые придут к нам.
Всю эту ночь я лежала прямо на полу, как и другие заключенные, но потом нам отвели маленькие каюты — по крайней мере, тем, у кого была какая-нибудь постель, — а также уголок, куда можно было поставить сундуки или ящики с платьем и бельем, у кого оно было: это нужно оговорить, так как некоторые не имели ни одной лишней рубашки, ни полотняной, ни шерстяной, и ни полушки денег; однако я увидела, что и такие устроились на корабле недурно, особенно женщины, которым матросы платили за стирку и т.п., так что они могли доставать себе все необходимое.
Когда на следующее утро нам разрешили подняться на палубу, я спросила одного из моряков, нельзя ли мне послать письмо на берег, чтобы известить своих друзей, где мы находимся, и получить от них необходимые мне вещи. То был боцман, оказавшийся очень учтивым и любезным; он мне сказал, что я могу делать все, что пожелаю, в пределах дозволенного. Я заявила, что ничего больше не желаю, и он ответил, что с ближайшим приливом в Лондон отправится корабельная шлюпка и он распорядится, чтобы мое письмо было послано.
И вот когда шлюпка была готова, боцман пришел сказать мне, что он сам едет в город и, если мое письмо написано, он отвезет его. Я заранее приготовила перо, чернила и бумагу и написала моей пестунье письмо, вложив в него другое, к своему товарищу по заключению; однако я ей не сообщила, что он мой муж, и скрывала это от нее до самого конца. Пестунье я написала, где стоит корабль, и просила прислать вещи, которые она мне приготовила в дорогу.
Вручая боцману письмо, я дала ему шиллинг и попросила немедленно отправить письмо с рассыльным, как только шлюпка причалит к берегу, чтобы я успела получить ответ и узнать, что с моими вещами, «так как, сударь, — сказала я, — если корабль уйдет раньше, чем я их получу, я погибла».
Мне хотелось, давая боцману шиллинг, показать ему, что я обеспечена немного лучше других ссыльных, что у меня есть кошелек, и кошелек этот не пустой; и я убедилась, что один только вид кошелька изменил его обращение со мной; правда, боцман был любезен и раньше, но то было лишь естественное сострадание к женщине, попавшей в беду, тогда как теперь, узнав, что у меня есть деньги, он выказал исключительную предупредительность и позаботился, чтобы ко мне относились внимательнее, чем к другим, как это будет видно из дальнейшего.
Он добросовестно передал письмо в собственные руки пестунье и привез мне ее ответ; вручая его мне, он вернул шиллинг со словами:
— Вот вам ваш шиллинг, я передал письмо сам. От удивления я не знала, что сказать, но после некоторой паузы ответила:
— Сударь, вы очень добры; но ведь вам пришлось потратиться на карету.
— Нет, нет, это пустяки, — отвечает. — Кто эта дама? Ваша сестра?
— Нет, сударь, она мне не родственница, но мой преданный и единственный на свете друг.
— Нынче такие друзья большая редкость. Представьте, она плачет по вас, как ребенок.
— Да, — говорю, — она, наверное, дала бы сто фунтов, чтобы освободить меня из этого ужасного положения.
— Неужели? Но я бы и за половину этой суммы помог вам освободиться, — сказал он, впрочем так тихо, что никто не мог услышать.
— Но, сударь, если после такого освобождения меня поймают, оно будет стоить мне жизни.
— Да, уж если вы сойдете на берег, вам придется самой о себе заботиться, там я бессилен.
На этом мы прервали разговор.
Тем временем моя пестунья, верная до последней минуты, снесла мое письмо в тюрьму к мужу, получила от него ответ и на следующий день приехала сама и привезла мне прежде всего морскую койку и постельные принадлежности, очень хорошие, но такие, чтобы не слишком бросались в глаза, потом привезла также корабельный сундук со всем добром, какое мне было нужно; в одном из уголков этого сундука, в потайном ящичке, находился мой банк, то есть все деньги, которые я решила взять с собой; часть их я оставила у пестуньи с тем, чтобы она послала мне потом товаров, какие будут мне нужны, когда я начну устраиваться; дело в том, что деньги в тех местах почти бесполезны, там их обменивают на табак, и запасаться отсюда деньгами очень убыточно.
Но положение мое было особенное; ехать без товаров и без денег я не хотела, везти же с собой товар несчастной каторжнице, которую продадут в рабство, как только она ступит на берег, значило привлекать к себе внимание и, может быть, поставить все мое добро под угрозу конфискации; вот почему я взяла с собой только часть своих денег, а остальные оставила у пестуньи.
Пестунья привезла мне еще и другие вещи, но мне негоже было обставлять себя слишком большими удобствами, по крайней мере, до тех пор, пока я не узнала, каков наш капитан. Когда старуха поднялась на корабль, я думала — она сейчас умрет; сердце ее сжалось при виде меня от одной мысли, что мы расстаемся в таких условиях, и она так горько разрыдалась, что долго не могла выговорить ни слова.
Я воспользовалась этим, чтобы прочитать письмо от моего товарища по тюрьме, которое привело меня в большое замешательство. Он мне сообщал, что отнюдь не раздумал ехать, но не успеет так быстро получить освобождение, чтобы ехать на одном корабле со мной; больше того: он не уверен, что ему позволят выбрать корабль, хотя он и согласился добровольно отправиться в ссылку; ему сдается, что его посадят на корабль насильно и отдадут под надзор капитана так же, как и других каторжников, поэтому он не надеется увидеть меня до приезда в Виргинию, и это приводит его в отчаяние; с другой стороны, он боится, что не найдет меня там, ведь может же случиться, что я умру или погибну в море, и тогда он будет несчастнейшим человеком на свете.
Все это очень неприятно, и я не знала, что предпринять. Я рассказала пестунье историю с боцманом, и та горячо советовала мне столковаться с ним, но я не хотела делать этого, пока не выясню, будет ли позволено моему мужу, или товарищу по тюрьме, как называла его пестунья, ехать со мной. В конце концов мне пришлось посвятить ее во все это дело, скрыв только, что он мой муж. Я ей сказала, что мы твердо условились ехать вместе, если ему разрешат плыть на этом корабле, и я знаю, что у него есть деньги.
Потом я рассказала ей, что я предполагаю делать по приезде в Америку, как мы заведем плантацию, будем устраиваться и богатеть, не пускаясь больше ни в какие приключения; и под большим секретом я сообщила старухе, что мы обвенчаемся, как только он прибудет на корабль.
Услышав это, пестунья охотно примирилась с моим отъездом и с этой минуты приняла все меры, чтобы мой муж был освобожден вовремя и мог уехать на одном корабле со мной; в конце концов все это было устроено, хотя и с большим трудом, причем ему так и не удалось освободиться от всех стеснений, которым подвергаются ссыльные каторжники, хотя в действительности он им не был, ибо дело его так и не разбиралось в суде; понятно, это очень задевало его самолюбие.
Поскольку судьба наша теперь решилась и мы оба были на корабле, направлявшемся в Виргинию, в унизительном положении ссыльных каторжников, обреченных на продажу в рабство, я — на пять лет, а он — с обязательством никогда не возвращаться в Англию, то муж мой находился в очень подавленном и удрученном состоянии; гордость его сильно страдала от того, что его везли как заключенного, тем более что ему сначала пообещали дать разрешение на свободный отъезд. Правда, ему не грозила, как нам, продажа в рабство по прибытии в Америку, почему он должен был заплатить капитану за проезд, чего от нас не требовалось; но он был растерян и беспомощен, как ребенок, шагу не мог ступить самостоятельно.
Первой нашей заботой было подсчитать наши капиталы. Муж с большой откровенностью сказал мне, что у него была порядочная сумма денег, когда он вошел в тюрьму, но барский образ жизни, который он там вел, и особенно друзья и хлопоты по делу вовлекли его в большие расходы; так у него осталось всего сто восемь фунтов, которые он обратил в золото и взял с собой.
Я дала ему такой же добросовестный отчет о своих капиталах, то есть тех, что я взяла с собой, ибо я решила на всякий случай умолчать о том, что оставила про запас; если я умру, думала я, то ему хватит этих денег, а оставшиеся у пестуньи перейдут к ней: она их вполне заслужила.
Взятый мною капитал равнялся двумстам сорока шести фунтам и нескольким шиллингам; таким образом, мы имели вместе триста пятьдесят четыре фунта; вероятно, еще никто не начинал новую жизнь на деньги, добытые более нечистым путем.
К несчастью, весь наш капитал состоял из наличных денег — самого невыгодного груза, какой только можно было везти на плантации. У мужа моего, очевидно, осталось не больше денег, чем он мне сказал; но у меня, когда надо мной стряслась беда, было более семисот фунтов в банке, и я имела преданнейшего на свете друга, чтобы распорядиться этим капиталом, хотя вообще эта женщина не отличалась праведностью; у нее оставалось еще триста фунтов моих денег, которые, как уже сказано, я решила держать про запас; кроме того, у меня было с собой несколько ценных вещей, в частности двое золотых часов, немного серебряной посуды и несколько колец — все краденое. С этим капиталом я на шестьдесят первом году жизни пускалась, можно сказать, в Новый Свет несчастной каторжницей, едва избежавшей петли. Одета я была бедно и скромно, хотя чисто и опрятно, и на всем корабле никто не подозревал, что у меня есть деньги и ценности.
Но так как у меня было много прекрасных платьев и груда белья, то я велела уложить все это в два больших ящика и погрузить на корабль под видом чужого багажа, адресованного, однако, на мое настоящее имя в Виргинию; накладные на эти ящики лежали у меня в кармане; там были мои часы, серебро и все ценности, за исключением денег, которые я держала в потайном ящичке своего корабельного сундука; ящичек этот невозможно было найти, а найдя — открыть, не изломав сундук в щепки.
Я находилась а неопределенности целых три недели, не зная, поедет со мной муж или нет, поэтому все не решалась принять предложение честного боцмана, что казалось тому немного странным.
По прошествии этого срока вижу — муж мой приехал на корабль. Смотрел он сердито и угрюмо; сердце его было полно бешенства и негодования: ведь его привезли три ньюгетских тюремщика и посадили на корабль как каторжника, тогда как никакого суда над ним не было. Он во всеуслышание жаловался на это, обратился за помощью к друзьям, так как, по-видимому, пользовался чьей-то могущественной поддержкой, но хлопоты друзей не увенчались успехом; им было заявлено, что преступнику и без того оказана большая милость, потому что едва ему разрешили свободный выезд, как о нем были получены такие сведения, что пусть благодарит Бога, что его снова не привлекли к суду. Этот ответ сразу его успокоил, так как он прекрасно знал, что могло случиться и чего ему следовало ожидать; теперь он понял, насколько благоразумен был совет согласиться на высылку, и когда его раздражение на этих дьяволов, как он называл их, немного улеглось, он пришел в себя, повеселел и, увидя, как я рада, что он еще раз благополучно ускользнул от грозившей ему опасности, заключил меня в объятия и с большой нежностью признал, что я дала ему превосходный и мудрый совет.
— Милая, — сказал он, — ты дважды спасла мне жизнь, — отныне она принадлежит тебе, и я всегда буду тебя слушаться.
На корабль стали прибывать пассажиры; появилось несколько человек, не принадлежавших к числу ссыльных преступников; их разместили с удобствами в большой каюте и других помещениях корабля, тогда как нас, каторжников, загнали вниз, бог знает куда. Но когда приехал мой муж, я поговорила с боцманом, который с самого начала был ко мне так внимателен. Он столько для меня сделал, сказала я, а я еще ничем не отблагодарила его, и с этими словами я положила ему в руку гинею; я сказала, что сейчас прибыл на корабль мой муж, и что хотя нас постигло несчастье, однако мы люди совсем иного склада, чем та жалкая шайка, с которой нас посадили, и мы хотели бы знать, нельзя ли выхлопотать у капитана кое-какие удобства, за которые мы его отблагодарим, как он пожелает; мы охотно вознаградим его за все, что он для нас сделает. Боцман, как я заметила, взял гинею с большим удовольствием и обещал оказать нам содействие.
Он не сомневался, что капитан, благодушнейший человек на свете, охотно согласится предоставить нам все удобства, каких мы пожелаем, и, чтобы меня успокоить, обещал первым же приливом съездить в Лондон и поговорить с ним об этом. На следующее утро я встала немного позже обыкновенного и, поднявшись на палубу, застала боцмана среди матросов, за исполнением своих обязанностей. Увидев его здесь, я немного огорчилась; он, однако, меня заметил и подошел ко мне, но, не дав ему времени открыть рот, я сказала с улыбкой:
— Боюсь, сударь, вы позабыли о нас, так как и вижу, что вы очень заняты.
Он тотчас ответил:
— Пойдемте со мной, и вы увидите.
И боцман провел меня в большую каюту. Там за столом писал что-то представительный мужчина, перед которым лежала груда бумаг.
— Вот та дама, о которой вам говорил капитан, — сказал боцман писавшему и, обратившись ко мне, добавил: — Я не только не забыл о вашем деле, но успел уже съездить к капитану и в точности передать ему ваше желание получить для себя и для мужа некоторые удобства, и капитан прислал со мной вот этого господина — штурмана нашего корабля, чтобы он предоставил вам все необходимое; капитан велел также передать вам, что с вами будут обращаться столь же почтительно, как с другими пассажирами.
Тут ко мне обратился штурман и, не дав времени поблагодарить боцмана за его любезность, подтвердил все Оказанное, прибавив, что капитан охотно оказывает внимание пассажирам, особенно тем, кого постигло несчастье; и тут он провел меня в пассажирские каюты, устроенные частью в большой каюте, частью возле нее, но тоже выходившие в большую каюту, и предоставил мне выбирать, какую я хочу. Однако я выбрала одну из кают, выходивших на палубу, в которой можно было очень удобно разместить наш сундук, ящики и стол.
Штурман сказал мне, что боцман дал капитану такой превосходный отзыв обо мне и моем муже, что тот приглашает нас, если нам будет угодно, обедать вместе с ним в течение всего путешествия, наравне с прочими пассажирами; мы можем также, если хотим, закупить свежей провизии; в противном случае можно питаться из корабельных запасов, войдя с ним в долю. Это была необыкновенно приятная для меня новость после стольких жестоких испытаний и лишений. Я поблагодарила штурмана, сказав, что мы согласны на все условия капитана; после этого я попросила у него позволения пойти сообщить обо всем мужу, который был не совсем здоров и не выходил из своей каюты. Он все еще не пришел в себя от всех унижений, которым, как ему казалось, его подвергли. Можете себе представить, что с ним сделалось, когда я ему рассказала, как к нам отныне будут относиться на корабле! Он весь преобразился, мужество и энергия так и засветились в его лице. Недаром говорят, что сильным душам больше чем кому-либо свойственно предаваться унынию, впадать в отчаяние и сгибаться под бременем невзгод.
Немного оправившись, муж поднялся со мной наверх поблагодарил штурмана за любезность и попросил также передать нашу признательность капитану, предлагая заплатить ему вперед, сколько он пожелает, за проезд и предоставленные нам удобства. Штурман сказал, что капитан сам прибудет сегодня на корабль и муж может сговориться прямо с ним. К вечеру капитан действительна приехал, и мы убедились, что он любезный и обходительный человек, как и изобразил его боцман; капитан был так очарован беседой с моим мужем, что не позволил нам оставаться в выбранной нами каюте, а перевел в одну из тех, что выходили в большую каюту, как я ужа сказала выше.
Предложенные им условия оказались вполне приемлемыми; это не был жадный человек, готовый воспользоваться нашим несчастьем: мы заплатили пятнадцать гиней за проезд с пропитанием, кушали за капитанским столом, и нас прекрасно обслуживали.
Сам же капитан занимал помещение по другую сторону большой каюты, сдав свою рубку (так у моряков называют каюту капитана) одному богатому плантатору, который отправлялся в Америку с женой и тремя детьми, и пожелал питаться отдельно от всех. Были у него и другие свободные пассажиры, они занимали каюты возле кормы; всю же каторжную братию разместили в трюме на то время, что корабль стоял на якоре, и редко кто из них выползал на палубу.
Я не могла удержаться от того, чтобы не рассказать своей пестунье о нашем изменившемся положении. Да и как же не поделиться с ней своей удачей, когда она проявила столько подлинного участия к моей судьбе! К тому же я нуждалась в ее помощи, чтобы приобрести кое-какие необходимые предметы быта, которыми до сих пор не решалась обзаводиться: мне не хотелось, чтобы люди знали, что они у меня есть. Теперь же, когда у меня была своя каюта, где можно было расположиться с вещами, я позаказала много всякой всячины, чтобы скрасить наше плавание: запаслась между прочим коньяком, сахаром, лимонами и всем, что нужно для приготовления пунша, которым я собиралась угощать нашего доброго капитана; были тут и всякие съестные припасы и напитки для дороги; также кровать пошире и матрас к ней; словом, мы решили снарядиться как следует.
Однако у меня не было тех вещей, которые нам понадобились бы по приезде на место, когда мы будем обзаводиться плантацией; а я прекрасно знала, что в таких условиях требуются прежде всего земледельческие орудия и плотницкие инструменты, а также разная домашняя утварь, которая обходится вдвое дороже, если покупать на месте.
Я поговорила об этом с моей пестуньей, и та посетила капитана и выразила надежду, что ее несчастным родственникам, как она называла нас, удастся получить свободу по приезде на место назначения; она дала понять капитану, что хотя несчастные обстоятельства принудили нас к этой поездке, однако мы не лишены некоторых средств на первоначальное обзаведение и решили сделаться там плантаторами, если для начала нам в этом помогут. Капитан охотно согласился оказать нам содействие, сказав, что трудолюбивым людям ничего не стоит поправить таким образом свои дела.
— Сударыня, — сказал он, — люди и в худшем положении, чем ваши родственники, приезжают в ту страну, и никто там не думает колоть им глаза их прошлым. Только бы они вели себя благоразумно и работали с прилежанием, и все будет хорошо.
Тогда пестунья спросила его, что нам нужно взять с собой, и по его ответу было видно, что он не только честный, но и осведомленный человек.
— Сударыня, ваши родственники должны позаботиться прежде всего о том, чтобы кто-нибудь купил их как невольников, согласно условиям их высылки, а потом, от имени этого человека, они могут заниматься всем, чем пожелают; могут купить уже возделанные плантации или же приобрести целину из казенных земель и самостоятельно обрабатывать ее; и то и другое дело выгодное.
Пестунья прежде всего попросила его содействия по первой статье; он обещал и, когда пришло время, сдержал свое обещание. Он также взялся познакомить нас с людьми, к которым можно обратиться за советом, не боясь, что они станут пользоваться нашим невежеством. Словом, о большей внимательности нельзя было и мечтать.
Потом она спросила, не нужно ли нам захватить с собой орудия и другие вещи для устройства плантации; капитан ответил, что непременно нужно. Тогда она попросила его помочь советом, сказав, что купит нам все необходимое, не останавливаясь перед расходами. В ответ на ее просьбу капитан дал список потребных плантатору вещей, которые, по его подсчетам, должны 'были стоить от восьмидесяти до ста фунтов. Пестунья так выгодно все купила, точно сама была опытным виргинским купцом, только, по моим указаниям, приобрела всего вдвое больше, чем стояло в списке капитана.
Купленные вещи она погрузила от своего имени, а накладные составила на имя моего мужа, застраховав при этом груз на собственное имя, так что мы обеспечили себя от всяких случайностей и несчастий.
Должна вам сказать, что мой муж отдал старухе на эти расходы все свои сто восемь фунтов, которые, как я упоминала, были при нем в золотой монете; кроме того, и я дала ей кругленькую сумму; оставленный же у нее капитал сохранился в неприкосновенности, да и у нас на руках было еще около двухсот фунтов наличными деньгами, более чем достаточно для наших целей.
Наконец, очень веселые и довольные, что все так счастливо устроилось, мы отплыли из Багбис-Хола в Грейвсенд[111], где стояли еще около десяти дней и где капитан окончательно переселился на корабль. Тут он оказал нам еще одну любезность, на которую мы совсем не рассчитывали, именно: позволил нам сойти на берег погулять, взяв с нас слово, что мы не убежим и без лишних напоминаний вернемся на корабль. Муж был очень растроган этим свидетельством доверия и сказал капитану, что ничем не может отблагодарить его за такую милость и потому отказывается принять ее, не желая подвергать капитана риску. После этого обмена любезностями я вручила мужу кошелек с восьмьюдесятью гинеями, и он отдал его капитану со словами:
— Вот вам, капитан, залог, что мы вас не подведем. Если мы поступим по отношению к вам бесчестно, эти деньги останутся у вас.
После этого мы сошли на берег. На самом деле капитан имел достаточно оснований быть уверенным, что мы не сбежим: ведь запасшись таким грузом для будущего обзаведения, мы едва ли могли оказаться настолько безрассудными, чтобы остаться на берегу, где нам в случае поимки грозила смертная казнь. Словом, мы сошли с капитаном в Грейвсенде, весело поужинали вместе, переночевали в том же заведении, где ужинали, и утром, как было условлено, вернулись все вместе на корабль. В этом городе мы купили десять дюжин хорошего пива, немного вина, птицы и другой провизии, которую приятно иметь на корабле.
Все это время с нами была моя пестунья, которая проводила нас до Даунса[112] вместе с женой капитана, откуда они обе вернулись в Лондон. Разлука с матерью и то не была мне так тяжела, как разлука с этой преданной мне женщиной; больше никогда я ее не видела. На третий день после нашего прибытия в Даунс подул попутный восточный ветер, и 10 апреля мы снялись с якоря. Потом мы нигде не приставали, пока довольно сильная буря не пригнала нас к берегам Ирландии, и корабль бросил якорь в небольшой бухточке, в устье реки, название которой я забыла, но мне говорили, что это самая большая река в Ирландии[113] и течет она из Лимерика[114].
Тут дурная погода задержала нас, и капитан, по-прежнему любезный, снова взял нас с собой на берег: он хотел оказать внимание моему мужу, который очень плохо переносил качку, особенно в такую сильную бурю. В Ирландии мы снова запаслись свежей провизией, говядиной, свининой, бараниной и птицей, а капитан засолил пять или шесть бочонков мяса в пополнение корабельных запасов. Через пять дней погода улучшилась, подул попутный ветер, мы поставили паруса и через сорок два дня благополучно прибыли к берегам Виргинии.
Когда мы подходили к берегу, капитан позвал меня и сказал, что, как он заключил из моих разговоров, у меня есть в Америке родственники и я бывала там раньше; поэтому он предполагает, что мне известно, как поступают с каторжниками по их прибытии в страну. Я ответила, что ничего не знаю, а что касается моих здешних родственников, то я, конечно, никому из них не дам знать о себе, пока нахожусь на положении преступницы, и мы всецело полагаемся на его содействие, которое ему угодно было обещать нам. Капитан сказал мне, что нужно, чтобы кто-нибудь из местных жителей купил нас как невольников и отвечал за нас перед губернатором страны, если тот нас потребует. Я ответила, что мы поступим по его указаниям; тогда капитан пригласил одного плантатора, как бы для переговоров о продаже ему двух невольников — моего мужа и меня. Мы были формально проданы плантатору и сошли вместе с ним на берег. Капитан тоже пошел с нами и привел нас в один дом, что-то вроде гостиницы или трактира; там нам подали чашу пунша, приготовленного из рома и т.п., и мы хорошо поужинали.
Через некоторое время плантатор выдал нам отпускную и удостоверение, что мы верно ему служили. Таким образом, уже на следующее утро мы были вольны идти куда вздумается.
За эту услугу капитан потребовал у меня шесть тысяч тюков табаку — этот груз он должен был доставить купцу, зафрахтовавшему его судно; мы немедленно исполнили его требование и, кроме того, поднесли ему в подарок двадцать гиней, чем он был вполне удовлетворен.
По разным причинам здесь не место подробно рассказывать, в какой части Виргинии мы поселились; достаточно будет упомянуть, что корабль наш, согласно условиям фрахта, вошел в большую реку Потомак[115]; сначала мы хотели там и обосноваться, но потом передумали.
Как только мы выгрузили свой товар и сложили его в сарай, или склад, при квартире, которую наняли в небольшом городке, где пристал наш корабль, я первым делом стала наводить справки о своей матери и брате (о том роковом человеке, за которого я вышла замуж, как было подробно мной рассказано). Вскоре мне удалось узнать, что миссис***, то есть моя мать, умерла, а мой брат (или муж) жив. Признаюсь, это не доставило мне большой радости, но, что еще хуже, оказалось, что он покинул плантацию, где мы когда-то жили вместе, и поселился с одним из своих сыновей совсем близко от того городка, где мы сняли квартиру и сарай.
Сначала я несколько растерялась, но, сообразив, что он не может меня узнать, не только совершенно успокоилась, но возымела большое желание взглянуть на него, по возможности так, чтобы он меня не видел. С этой целью я расспросила, где находится его плантация, и с одной местной жительницей из тех, что у нас называются поденщицами, стала бродить возле владений брата, точно с намерением полюбоваться окрестностями. Наконец я подошла так близко, что увидела дом. Я спросила женщину, чья это плантация; та ответила, что она принадлежит такому-то, и, указав вправо, добавила:
— Да вот и сам хозяин со своим отцом.
— Как их зовут? — спросила я.
— Не знаю, как звать старого господина, а сына зовут Гемфри. Кажется, и у отца это же имя.
Можете себе представить радость и страх, овладевшие мной при виде этих людей: взглянув на отца, который был моим родным братом, я мигом сообразила, что с ним не кто иной, как мой родной сын. На мне не было маски, но я надвинула на лицо капюшон и теперь не сомневалась, что после более чем двадцатилетней разлуки, и притом никак не ожидая встретить меня в этой части света, брат мой меня не узнает. Но эти предосторожности были излишни, так как вследствие какой-то болезни глаз зрение у него ослабело и он видел лишь настолько, чтобы во время прогулки не наткнуться на дерево или не упасть в канаву. Женщина, сопровождавшая меня, рассказала мне об этом случайно, не подозревая, как это для меня важно. Когда мужчины приблизились к нам, я спросила:
— Он знает вас, миссис Оуэн? (Так звали женщину.)
— Да, — сказала она. — Если он услышит мой голос, то узнает меня. Но он плохо видит и на таком расстоянии никого не узнает.
И она рассказала мне, как ослабело его зрение, о чем я уже упомянула. Это меня успокоило, я открыла лицо и подождала, пока те двое пройдут мимо. Ужасно для матери видеть таким образом своего сына, красивого, цветущего мужчину, и не сметь привлечь к себе его внимание. Каждая мать, читающая эти страницы, поймет, какого труда стоило мне сдержаться, как я рвалась обнять его и плакать у него на груди, как все мое нутро переворачивалось и я не знала, что делать, как не умею сейчас найти подходящие слова для выражения этих мук! Когда он удалился, я вся дрожала и не отрываясь смотрела на него, пока он не скрылся из виду, потом, опустившись на траву, как бы с намерением отдохнуть, я отвернулась от своей спутницы и зарыдала, уткнувшись лицом в землю и целуя то место, по которому ступала его нога.
Мне не удалось, однако, скрыть свое волнение от этой женщины, и та подумала, что я заболела, а мне пришлось это подтвердить. Она стала меня поднимать, говоря, что здесь сыро и лежать на земле опасно; тогда я встала и пошла прочь.
На обратном пути я продолжала расспрашивать об этом господине и его сыне; тут представился новый повод для печальных мыслей.
— Среди жителей тех мест, где жил раньше этот господин, — принялась рассказывать моя спутница, желая развлечь меня, — ходит один странный рассказ.
— Какой рассказ?
— Говорят, будто этот господин, еще будучи молодым человеком, отправился в Англию, влюбился там в одну из самых красивых женщин, каких когда-либо видели в наших местах, женился на ней и привез сюда, к своей матери, которая тогда еще была жива. Он прожил с ней здесь несколько лет, — продолжала моя спутница, — и имел от нее несколько детей; один из них тот молодой человек, которого мы сейчас с ним видели. Но спустя некоторое время старуха, мать мужа, как-то стала рассказывать молодой женщине о своей жизни в Англии, довольно печальной, и заметила, что невестка переменилась в лице и почувствовала себя нехорошо. Ну, словом, выяснилось с полной несомненностью, что старуха свекровь — родная мать своей невестки и, значит, ее сын женился на родной сестре; открытие это повергло всю семью в такое смятение и ужас, что дело едва не кончилось совсем скверно. Молодая женщина не пожелала жить с мужем, сам он некоторое время был точно полоумный; наконец несчастная уехала в Англию, и с тех пор о ней больше ничего не слышно.
Легко себе представить, какое впечатление произвел на меня этот рассказ, но невозможно описать охватившие меня чувства. Я притворилась пораженной и стала задавать своей спутнице тысячу вопросов относительно подробностей, которые, как оказалось, были ей прекрасно известны. Потом я начала расспрашивать о семье, при каких обстоятельствах умерла старуха, то есть моя мать, и кому она оставила свое состояние; дело в том, что в свое время она торжественно пообещала отказать мне что-нибудь после своей смерти и устроить так, что если я буду в живых, то смогу тем или иным способом вступить во владение завещанным, причем ее сын, а мой брат и муж, не в силах будут воспрепятствовать этому. Моя спутница сказала, что ей неизвестно в точности, как у них там вышло, но говорят, будто моя мать оставила некоторую сумму денег и для выплаты ее заложила свою плантацию, с тем чтобы сумма была вручена дочери, если только она когда-нибудь объявится, будь то в Англии или в другом месте; доверенность на распоряжение этими деньгами оставлена ее внуку, которого мы только что видели с отцом.
Известие это было слишком важно для меня, чтобы я пренебрегла им, и, конечно, вызвало у меня тысячу мыслей, что мне предпринять, когда и каким образом дать знать о себе, да и нужно ли это делать.
В этом затруднительном положении я, по правде сказать, не знала, как себя вести и какое принять решение. Ни днем ни ночью эта забота не давала мне покоя. Я лишилась сна, стала молчаливой, так что муж это заметил и все гадал, что меня тревожит; пробовал развлечь меня, но все было напрасно. Он упрашивал меня признаться, что со мной; я долго отшучивалась, но наконец, чтобы отвязаться от него, сочинила историю, подкладка которой, однако, соответствовала действительности. Я сказала, будто расстроена тем, что нам придется покинуть это место и переменить наши планы, так как я обнаружила, что здесь меня могут узнать; дело в том, что после смерти моей матери некоторые из моих родственников переселились в эти места и я должна буду или открыться им, что в нашем теперешнем положении во многих отношениях неудобно, или уехать отсюда; и вот я не знаю, как быть; от этого я так задумчива и печальна.
Муж согласился со мной, что в нашем теперешнем положении мне ни в коем случае не следует открываться кому-нибудь, поэтому он готов переехать в другую часть этой страны или даже вовсе ее покинуть, если я нахожу это нужным. Но тут возникло другое затруднение: если я уеду в другую колонию, то не сумею заняться розысками имущества, оставленного мне матерью; с другой стороны, я не могла даже думать о том, чтобы посвятить своего мужа в тайну того брака; о таких вещах не рассказывают, и к тому же я опасалась последствий; но опять-таки, чтобы добраться до своего наследства, я должна была публично открыть, кто я такая и кем стала теперь.
Эта неопределенность длилась немало времени и начала сильно тревожить моего супруга; ему казалось, что я недостаточно откровенна с ним и не посвящаю его во все свои тревоги, и он часто спрашивал, чем он провинился, что я не хочу поделиться с ним своими горестями и заботами. По правде говоря, мне следовало доверить ему свои тайны, потому что ни один муж не был больше достоин этого; но я положительно не знала, как ему открыть такую вещь, а между тем, не имея возможности поделиться с кем-либо этой тайной, я изнывала под ее тяжестью, ибо, что там ни говори о нашей сестре, будто мы не умеем хранить тайны, жизнь моя служит неопровержимым доказательством противного. Но у каждого из нас — и у мужчин и у женщин — должен быть поверенный наших тайн, близкий друг, перед которым мы могли бы излить и наши радости, и наши горести. Иначе, печальная ли наша тайна или радостная, она становится нам в тягость и бремя ее подчас оказывается непосильным для нас. Все, что мы знаем о человеческой природе, только подтверждает мои слова.
Вот почему не только женщины, но и достойнейшие из мужчин проявляют иной раз слабость в этом деле: не в силах нести бремя тайной радости или тайной печали, они кончают тем, что кому-нибудь да открывают свою душу, лишь бы дать исход своим чувствам, лишь бы избавиться от этого невыносимого, бремени; и это не есть следствие глупости или беспечности, а совершенно естественное явление. Эти самые люди, даже если бы они продолжали бороться с искушением, в конце концов ночью, во сне, выболтали бы свою тайну, и она сделалась бы достоянием всякого, кто находился бы в это время поблизости. Так силен этот непреодолимый инстинкт, что люди, виновные в самых чудовищных преступлениях, хотя бы в убийстве, не в силах противиться ему; они должны поведать свою тайну, пусть даже ценою собственной жизни. Все эти внезапные исповеди и признания справедливо приписывают божественному промыслу; однако несомненно и то, что провидение, обычно избирающее своим орудием природу, и тут прибегает к естественным средствам, когда творит свои сверхъестественные дела.
Я могла бы привести несколько замечательных примеров, которые я вынесла из своего длительного общения с преступным миром. Когда я сидела в Ньюгете, я познакомилась там с одним человеком из числа так называемых «ночных птиц»; впрочем, может, теперь их стали называть иначе. А работали они вот как: к вечеру по тайному сговору с кем-нибудь из стражи такого молодца выпускают на волю; там он откалывает всякие штуки, а наутро специалисты по поимке воров (тоже честный народ!) «обнаруживают» все его проделки и за вознаграждение приносят потерпевшим все, что вор у них украдет за ночь. Так вот, этот парень непременно выбалтывал во сне, что он делал, что украл и у кого; можно было подумать, что он подрядился описывать свои приключения шаг за шагом, точно ему ничего не грозило! Поэтому, чтобы не выдать своей тайны постороннему, каждый раз, когда он возвращался с ночной прогулки, он был вынужден либо сам запираться на ключ, либо просить сторожа, на которого он работал, запирать его. С другой стороны, стоило ему поделиться своими приключениями и успехами с кем-либо из своих друзей и товарищей по оружию или хотя бы со своим хозяином (ибо как его еще назвать?), и все было в порядке: он мог спать спокойно, как всякий другой человек.
Надеюсь, что этот рассказ о том, как люди бывают вынуждены открыть. самые заветные тайны, и свои и чужие, не будет сочтен за ненужное отступление; ведь я затем только и решила напечатать описание своей жизни, чтобы из каждой ее части можно было вывести мораль; я рассказываю свою жизнь в назидание и поучение читателю, в надежде предостеречь его от моих ошибок и заблуждений.
Моя тайна, как я уже говорила, тоже лежала тяжелым бременем у меня на душе, и единственное, в чем я могла найти облегчение, было открыться мужу в такой степени, чтобы ему стала ясна необходимость переселиться в какое-нибудь другое место; и главной нашей заботой стало теперь, в какую часть английских колоний нам направиться. Муж был совершенно незнаком со страной, не знал и географического расположения разных мест, а я, не знавшая до сих пор, что означает слово «географический», имела о ней самое общее представление из частых разговоров с приезжими. Но мне было хорошо известно, что Мериленд, Пенсильвания[116], Ист— и Вест-Джерси[117], Нью-Йорк[118] и Новая Англия[119] все лежат к северу от Виргинии, и, значит, климат там холоднее; по этой причине я ко всем к ним чувствовала отвращение. Я всегда любила теплую погоду; естественно, что теперь, когда я старела, мне хотелось всячески избежать холода. Оставалось только переселиться в Каролину[120], единственную южную колонию англичан в Америке; туда я и надумала отправиться, тем более что мне легко было вернуться оттуда, когда придет время разыскивать имущество матери и потребовать его выдачи.
Придя к такому решению, я предложила мужу покинуть места, в которых мы остановились, и перевезти все наше имущество в Каролину, где я и предполагала поселиться. Он и сам понимал, что нам здесь неприлично оставаться, раз у меня тут есть знакомые, поэтому с готовностью принял мое предложение; о прочих же оостоятельствах я умолчала.
Но теперь возникло для меня новое затруднение. Главная забота по-прежнему тяжело угнетала меня, и я не могла думать о том, чтобы уехать отсюда, не разузнав тем или иным способом, что именно мать оставила мне; не могла я также примириться с мыслью, что уеду, не дав о себе знать своему прежнему мужу (брату) или нашему сыну; только, разумеется, мне хотелось сделать это так, чтобы ни мой новый муж ничего об этом не проведал, ни они бы ничего не узнали о нем и вообще не заподозрили, что у меня есть муж.
Я строила несчетное число планов, как это осуществить. Я бы охотно отослала мужа в Каролину, а сама приехала позднее, но это было неосуществимо; он ни за что не тронулся бы в путь без меня, будучи незнаком со страной и не имея понятия, как устраивать плантацию. Тогда я надумала уехать вместе, с частью наших товаров, а когда мы устроимся, вернуться одной в Виргинию за остальными; но я знала, что и в этом случае муж никогда не согласится на разлуку со мной и не останется там один. Все объяснялось просто: он вырос барином и не только был незнаком со страной, но еще и поленивался и, когда мы наконец обосновались на новом месте, предпочитал уходить с ружьем в лес, на охоту, которой здесь занимаются главным образом индейцы; повторяю, он предпочитал охотиться, лишь бы не работать на плантации.
Это были непреодолимые трудности, и я не знала, какой найти выход. Я положительно не могла побороть в себе желание открыться своему прежнему мужу, тем более что, не сделай я этого при его жизни, я, может быть, не сумела бы потом убедить моего сына, что я действительно его мать, и, таким образом, потеряла бы разом и сына и деньги, завещанные мне матерью. И все же, с другой стороны, мне казалось невозможным открыть им мое теперешнее положение — и то, что я замужем, и то, что сослана за море как преступница; вот и выходило, что непременно нужно уехать, а потом вернуться к прежнему мужу как бы из другого места и в другом образе.
По этим соображениям я продолжала настаивать перед мужем, что нам никак нельзя селиться на реке Потомак, ибо здесь тотчас станет известно, кто мы, тогда как, если мы переедем в другое место, мы ничем не будем там отличаться от семей прочих плантаторов; а так как местные жители всегда довольны, если к ним приезжают люди с достатком, чтобы купить плантацию или заложить новую, то мы можем быть уверены в радушном приеме и о нашем положении никто не узнает.
Я сказала ему также, что здесь живут мои родственники и я не смею дать им знать о себе в настоящее время из боязни, как бы им не стала известна причина моего приезда сюда, что подвергло бы нас большой опасности;
но так как моя мать умерла, то у меня есть основания предполагать, что она мне оставила некоторое состояние, может быть даже значительное, о котором стоило бы разузнать; но и этого нельзя сделать, не подвергая себя опасности, иначе как только уехав отсюда; впоследствии же, когда мы где-нибудь устроимся, я могу вернуться как бы с целью навестить брата и племянников, сказать им, кто я такая, и разузнать о завещании матери; тогда меня примут с почетом и окажут мне всякое содействие. Если же я затребую свою долю сейчас, продолжала я, неприятностей не оберешься: выдать-то они ее, может быть, мне и выдадут, но только под нажимом, скрепя сердце, осыпая меня проклятиями и оскорблениями, — а он, мой муж, неужели он вынесет это? Может быть, они еще потребуют от меня юридических доказательств, что я действительно являюсь дочерью покойной, и тогда, чего доброго, придется ехать в Англию. Как знать, может быть, я в конце концов и проиграю дело и просто останусь ни с чем. И вот после того, как я привела мужу все эти доводы, посвятив его в свою тайну ровно настолько, насколько нужно, мы с ним решили приискать себе местечко в какой-нибудь другой колонии, и сначала наш выбор пал на Каролину.
Мы стали наводить справки о кораблях, идущих в Каролину, и вскоре получили сведения, что по ту сторону залива, в Мериленде, стоит корабль, прибывший из Каролины, груженный рисом и другими товарами, и через некоторое время он пойдет обратно и дальше на Ямайку[121], тоже с грузом. Тогда мы наняли шлюп для перевозки своего имущества и, распростившись с рекой Потомак, переправились со всем своим добром в Мериленд.
Путешествие это было долгое и неприятное, и мой супруг заявил, что оно для него тяжелее, чем весь путь из Англии, потому что погода была дурная, вода неспокойная, а судно наше маленькое и неудобное. Вдобавок мы находились в добрых ста милях от устья реки Потомак, в краю, называемом Вестморленд, и так как эта река самая большая в Виргинии и я слышала даже, что это самая большая река на свете из всех, впадающих в другую реку, а не прямо в море, то мы страдали на ней от дурной погоды и часто подвергались большой опасности; ибо даром что ее называют рекой, но местами она так широка, что, плывя посредине, мы на протяжении многих миль не видели берегов. Потом нам надо было пересечь большую реку или залив Чесапик, который достигает тридцати миль ширины в том месте, где в него впадает река Потомак; потом мы плыли еще по каким-то водам, название которых мне неизвестно, и, таким образом, мы сделали добрых двести миль в утлом суденышке со всеми нашими сокровищами, и если бы случилось какое-нибудь несчастье, мы попали бы в очень бедственное положение: лишились бы всего своего добра и остались голыми и нищими в дикой, чужой стране, не имея ни друга, ни знакомого во всей этой части света. Одна лишь мысль об этом повергает меня в трепет даже теперь, когда опасность миновала.
Наконец после пятидневного путешествия мы прибыли к месту назначения — кажется, оно называется Филипс Пейнт, — и представьте, когда мы туда приехали, оказалось, что корабль из Каролины, окончив погрузку, ушел три дня тому назад. Это было большим разочарованием; однако я не упала духом и сказала мужу, что раз мы не можем ехать в Каролину, а страна, в которую мы приехали, красивая и плодородная, то не остаться ли нам здесь и не попробовать ли устроиться.
Мы тотчас же сошли на берег, но оказалось, что здесь невозможно ни поселиться, ни сложить товары; на помощь нам пришел один добрый квакер[122], присоветовав местечко, находившееся в шестидесяти милях к востоку, то есть ближе к выходу из залива; он сказал, что сам живет там, и там мы найдем как раз то, что нам нужно, то есть можем завести плантацию или подождать, пока нам укажут еще более удобное место; он так любезно нас приглашал, что мы согласились и поехали туда вместе с ним.
Там мы купили двух слуг: англичанку, только что приехавшую из Ливерпуля, и негра; без этого не обойтись людям, желающим устроиться в той стране. Добрый квакер много помог нам, и по прибытии в указанное им место мы нашли удобный сарай для своих товаров и помещение для себя и своих слуг, а месяца через два, по его указаниям, получили от губернатора большой участок земли под плантацию; после такого хорошего приема мы оставили всякую мысль ехать в Каролину. Мы были устроены на то время, пока будем расчищать свою землю и заготовлять лес и прочее для постройки дома, — в этом нам тоже помог добрый квакер. Уже через год у нас было расчищено около пятидесяти акров целины, часть ее мы огородили и засадили табаком; кроме того, у нас был огород и участок под пшеницей, вполне достаточный, чтобы снабжать наших слуг кореньями, овощами и хлебом.
Тут я убедила мужа отпустить меня в то место, откуда мы приехали, чтобы разузнать о своих друзьях. Теперь он охотнее согласился на мой отъезд, так как у него было довольно дела; кроме того, он мог развлекаться охотой, которую очень любил. Часто мы смотрели теперь друг на друга с большим удовольствием, думая, насколько лучше наша теперешняя жизнь не только Ньюгета, но и самых больших удач в гнусном ремесле, которым мы оба занимались.
Дела наши были теперь в прекрасном состоянии; мы купили землю у колониальных властей за тридцать пять фунтов наличными, и этой земли, на которой у нас было пятьдесят или шестьдесят работников, нам хватило бы на всю жизнь; что же касается детей, то давно миновало для меня время, когда я могла думать о чем-либо подобном.
Но наше благополучие этим не кончилось. Я, как уже сказано, переехала залив и побывала там, где жил мой брат, когда-то муж; но я не поехала в ту самую деревню, где была раньше, а поднялась по другой большой реке, к западу от Потомака, называющейся Раппаханок, и этим путем пробралась в местность за обширной плантацией брата, а оттуда по судоходному притоку Раппаханока к самой плантации.
Теперь я решила открыто явиться к своему брату (мужу) и без обиняков сказать ему, кто я такая; но, не зная, в каком расположении духа я его застану, вернее, опасаясь, как бы мой неожиданный визит не расстроил его, я решила послать ему сначала письмо, чтобы сообщить, кто я есть и что я явилась не с тем, чтобы заводить речь о старых отношениях, которые, я надеюсь, преданы забвению, но обращаюсь к нему, как сестра к брату, с просьбой помочь мне получить то, что оставила на мою долю наша покойная матушка, и не сомневаюсь, что он поступит по справедливости, особенно если примет во внимание, какой далекий путь я совершила.
Я приписала также несколько нежных слов о его сыне, который, как ему известно, также и мои сын; и так как я не совершила преступления, выйдя за него замуж, так же, как и он не виноват, женившись на мне, ибо ни я, ни он не знали тогда о нашем родстве, то я надеюсь, он уступит моему горячему желанию взглянуть разок на свое дорогое дитя и хоть ненадолго дать волю материнскому чувству, ибо я сохранила самую пылкую любовь к этому мальчику, который, наверное, совсем не помнит своей несчастной матери.
Я рассчитывала, что, получив это письмо, мой брат тотчас передаст его сыну, чтобы тот прочел вслух, так как по слабости зрения сам он не мог читать; но вышло еще лучше: оказывается, он разрешил сыну вскрывать все приходящие на его имя письма, и так как старика не было дома, когда посыльный принес мое письмо, то оно попало прямо в руки моего сына и тот вскрыл его и прочел.
Мой сын пригласил посыльного к себе в дом и спросил, где та особа, которая вручила ему это письмо. Посыльный назвал ему место, находившееся милях в семи оттуда; тогда он велел посыльному подождать, распорядился оседлать лошадь и в сопровождении двух слуг прискакал ко мне вслед за посыльным. Можете себе представить мое изумление, когда посыльный вернулся со словами, что старого господина не оказалось дома, но зато с ним приехал его сын и сейчас я его увижу. Я страшно растерялась, потому что не знала, мир это или война и как мне следует вести себя; однако у меня было только несколько секунд на размышление, так как мой сын ехал вслед за посыльным и, подъехав к моему дому, обратился с каким-то вопросом к посыльному, который в это время выходил от меня. Я не расслышала слов, но думаю, что он спросил, где та дама, которая прислала его, так как посыльный ответил: «Она в комнатах, сударь», после чего он идет прямо ко мне, целует меня, заключает в объятия и пылко обнимает, что не может проговорить ни слова; но я чувствовала, что грудь его поднимается, а сердце колотится, как у ребенка, который всхлипывает, но не в состоянии плакать.
Не могу ни выразить, ни описать радость, охватившую мою душу, когда я убедилась — а это было нетрудно, — что он пришел не как чужой, а как сын к матери, сын, никогда не знавший, что такое иметь мать; словом, мы долго плакали, обнявшись, пока наконец он первый не прервал молчания:
— Милая матушка, вы еще живы! Я никогда не надеялся увидеть вас.
Я еще не скоро пришла в себя.
Когда мы немного успокоились и могли разговаривать, сын рассказал мне о том, как обстоят дела. Сообщил, что не показывал письма отцу и ничего еще не говорил о нем; что все оставленное мне матерью находится в его распоряжении и он в точности исполнит волю покойницы; что же касается его отца, то старик немощен и телом и душой; полуслепой и беспомощный, он очень раздражителен и вспыльчив, и мой сын сомневался насчет того, сумеет ли старик найтись в таком деликатном деле, поэтому он приехал сам не только с тем, чтобы меня увидеть, — против этого желания он не мог устоять, — но и с тем, чтобы, узнав о положении вещей, я сама рассудила, стоит ли мне открываться его отцу или нет.
Все это было так благоразумно и предусмотрительно, что я убедилась в большом здравом смысле сына, который мог свободно обойтись без моих советов. Я сказала, что меня нисколько не удивляет состояние его отца, так как ум бедняги тронулся еще до моего отъезда; главной причиной его расстройства было то, что он не мог убедить меня жить с ним как с мужем, когда я узнала, что он мой брат; так как моему сыну известно лучше, чем мне, в каком состоянии находится теперь его отец, то я охотно последую всем его указаниям; сама я не чувствую большого желания видеть его отца, с меня довольно, что я увидела сына, от которого мне так приятно было услышать, что оставленное мне наследство находится в его руках, и я не сомневаюсь, что теперь, когда он узнал, кто я такая, он не преминет, как уже сказал мне, в точности исполнить волю покойницы. Потом я спросила, давно ли умерла моя матушка и где, и сообщила столько мелких подробностей о нашей семье, что у него не осталось и тени сомнения, что я его настоящая и доподлинная мать.
Тогда сын спросил у меня, где я живу и каковы мои планы. Я ответила, что живу на мерилендском берегу залива, на плантации одного близкого друга, приехавшего из Англии на одном корабле со мной, а на этой стороне залива у меня нет пристанища. Услышан это, он предложил мне переехать к нему и жить вместе, если мне угодно, хоть до самой смерти; что же касается отца, то старик никого не узнает и никогда не догадается, кто я такая. Немного подумав, я ответила, что хотя мне будет очень тяжело жить вдали от сына, однако я не могу сказать, чтобы мне было слишком приятно, живя с ним в одном доме, всегда иметь перед глазами несчастного старика, некогда сокрушившего мой душевный покой; и хотя я была бы счастлива находиться под одной крышей с ним (моим сыном) или в самой непосредственной близости от него, однако мне тяжело было бы жить в доме, где мне пришлось бы постоянно бояться за каждое свое слово, а я не в силах была бы удержаться в разговоре с ним от ласковых выражений, которые меня выдали бы и поставили в крайне неудобное положение.
Сын признал, что я совершенно права. — Но тогда, милая матушка, — сказал он, — вы должны поселиться как можно ближе.
И он посадил меня к себе на лошадь и увез на плантацию, смежную с землями его отца, где я была окружена такими заботами, точно у него в доме. Оставив меня там, он уехал домой, сказав, что о главном поговорит со мной завтра. В присутствии посторонних он называл меня тетей и отдал распоряжение хозяевам, которые были, по-видимому, его фермерами, оказывать мне всевозможное почтение, а уехав, прислал мне через два часа девушку-служанку и негритенка, а также провизии на ужин; я точно переселилась в новый мир и начала даже сожалеть, что привезла из Англии своего ланкаширского мужа.
Однако это сожаление было неглубоким, так как я от души любила своего ланкаширского мужа, который с самого начала пришелся мне по сердцу; и он, замечу мимоходом, вполне заслуживал моей любви.
На другое утро сын снова приехал ко мне почти тотчас после того, как я встала. После краткого приветствия он прежде всего вручил мне замшевый мешочек с пятьюдесятью пятью испанскими пистолями, сказав, что это на покрытие моих дорожных расходов из Англии в Америку, так как хотя это не его дело, однако он не думает, чтобы я привезла с собой много денег, — в эту страну не ездят с большими деньгами. Потом он вынул завещание своей бабушки и прочитал его мне; оказалось, что она завещала мне плантацию на реке Йорк, со всей челядью и скотом, доверив управление ею моему сыну до тех пор, пока он не услышит обо мне; в случае моей смерти плантация должна перейти к моим наследникам, если у меня есть дети, а при отсутствии наследников — кому мне будет угодно отказать ее по завещанию; однако доходы с этой плантации должны принадлежать упомянутому моему сыну до тех пор, пока он не узнает обо мне, если же меня нет в живых — то ему и его наследникам.
Несмотря на отдаленность этой плантации, сын не сдавал ее в аренду, но поставил над ней управляющего, как и над другой плантацией, принадлежащей его отцу и расположенной совсем рядом, а сам наезжал присмотреть за ними три или четыре раза в год. Я спросила, сколько, по его мнению, может стоить эта плантация. Он ответил, что, если я сдам ее в аренду, она будет приносить мне около шестидесяти фунтов в год, если же пожелаю хозяйничать сама, она будет приносить гораздо больше — около ста пятидесяти фунтов годового дохода. Но, принимая во внимание, что я, вероятно, поселюсь на другом берегу залива или, может быть, вернусь в Англию, он будет управлять ею от моего имени, как делал до сих пор, и тогда, наверно, сможет посылать мне на сто фунтов табаку ежегодно, а иногда и больше.
Все это было мне в диковину, ни к чему подобному я не привыкла; кажется, никогда с таким искренним умилением не взирала я на небо, никогда не испытывала такой живой благодарности к Провидению. Какие же чудеса оно творило, и для кого! Ведь я сама была чудом испорченности, какого еще свет не видывал. Еще раз скажу: не только теперь, но и всякий раз, что мне приходилось благодарить Провидение, моя прошлая жизнь, неправедная и гнусная, казалась мне особенно чудовищной; я ненавидела себя еще сильней, укоряла себя за эту жизнь еще больше, когда Провидение мне, недостойной, оказывало свою милость.
Пусть, впрочем, читатель продолжит для себя сам эти рассуждения — а они, безусловно, нуждаются в дальнейшем развитии, — я же буду продолжать свои рассказ.
Заботливость ко мне сына и его любезные предложения вызвали у меня слезы, и во время его речи они все текли из моих глаз, а рыдания не давали мне говорить; наконец я оправилась и выразила свою радость по поводу того, что забота об отказанном мне имушестве была доверена моему родному сыну; потом, переходя к вопросу о наследстве, сказала ему, что он у меня единственный сын на свете, и если я даже выйду замуж, то не могу уже иметь детей; поэтому я попросила его составить документ, согласно которому я завещаю всю эту плантацию ему и его наследникам. Окончив разговор о делах, я с улыбкой спросила сына, почему он до сих пор остался холостяком. Он тотчас ответил, что в Виргинии трудно найти жену, и так как я, кажется, собираюсь вернуться в Англию, то он просит меня прислать ему жену из Лондона.
Такова было содержание нашего разговора в тот день — приятнейший день, выпадавший мне когда-либо в жизни и доставивший мне самое живое удовольствие. После этого сын приезжал ко мне ежедневно и не раз возил меня в гости к своим друзьям, принимавшим меня с большим почетом. Несколько раз я обедала у него в доме, и тогда он старался удалить своего чуть живого отца, так что ни я его никогда не видела, ни он меня. В тот день, когда сын третий раз приехал ко мне в гости, я преподнесла ему в подарок единственную драгоценность, оказавшуюся при мне, — одни из двух золотых часов, которые я, как о том упоминалось выше, привезла из Англии в своем корабельном сундуке. Я сказала, что у меня нет больше ничего ценного, и попросила его целовать иногда эти часы в память обо мне, однако умолчала о том, что в бытность свою в Лондоне украла эти часы у одной дамы в церкви. Но это так, мимоходом.
Некоторое время он был в нерешительности, точно сомневаясь, брать ему подарок или нет. Но я настояла и убедила его принять; часы эти стоили немногим меньше его кожаного кошелька с испанскими пистолями даже в Лондоне, здесь же их следовало оценить вдвое. В конце концов он взял их, поцеловал и сказал, что берет эти часы в долг, но будет выплачивать его, пока я жива.
Через несколько дней он принес дарственную запись на плантацию и привел нотариуса, и я охотно подписала документ, возвратив его сыну с сотней поцелуев; никогда, кажется, не заключалось более полюбовной сделки между матерью и нежным, почтительным сыном. На другой день он принес мне обязательство, скрепленное подписью и печатью, управлять плантацией от моего имени со всем старанием и пересылать доходы с нее, куда я прикажу, причем означенные доходы должны быть не менее ста фунтов в год. Покончив с этим, он сказал, что так как я вхожу во владение перед сбором урожая, то имею право на доходы текущего года, и тут же заплатил мне сто фунтов испанскими долларами, попросив у меня расписку, что за этот год, до Рождества включительно, мной получено все, что мне причитается; происходило это в конце августа.
Я гостила там свыше пяти недель, да и потом мне стоило немало хлопот уехать. Сын вызвался меня проводить через залив, не я наотрез отклонила его предложение. Однако он упросил меня ехать в его собственном шлюпе, построенном наподобие яхты и служившем ему и для прогулок, и для перевозки груза. Я согласилась, и после самых нежных выражений сыновних чувств он отпустил меня, и через два дня я благополучно прибыла к моему другу квакеру. Я привезла с собой для нашей плантации трех лошадей с упряжью и седлами, несколько свиней, двух коров и много другого добра, подарок любезнейшего и почтительнейшего сына, какого только может иметь женщина. Я рассказала мужу все подробности своего путешествия, но только называла сына родственником;
прежде всего я заявила ему, что потеряла свои часы, и он, по-видимому, очень этим огорчился, но потом расписала, как любезен и внимателен был со мной родственник; сказала, что мать отказала мне такую-то плантацию и этот родственник сохранил ее для меня, в надежде рано или поздно получить обо мне известия; потом сказала, что поручила родственнику управлять этой плантацией — он будет аккуратно давать мне отчет о ее доходах, и вынула сто фунтов серебром — доход за первый год; наконец, показывая замшевый мешочек с пистолями, воскликнула:
— А вот, друг мой, золотые часы!
Муж воздел руки кверху и в восторге вскричал:
— Как милостив Господь к такой неблагодарной собаке, как я!
Так милосердие Божие оказывает одинаковое действие на всех разумных и чувствительных людей.
Потом я показала мужу, что привезла с собой в шлюпе, помимо всего этого: я имею в виду лошадей, свиней, коров и разные припасы для нашей плантации; изумление его еще более возросло, и сердце преисполнилось благодарности; и я утверждаю, что с этого времени раскаяние его сделалось таким искренним, обращение таким полным, какими только могут они быть у отчаянного молодца, вора и разбойника с большой дороги. Божьей милостью вернувшегося на стезю добродетели. В подтверждение моих слов я могла бы написать еще более длинную историю, чем эта; но описание добродетели не столь занимательно, как описание порока, и лишь одна эта мысль удерживает меня от того, чтобы посвятить жизни моего мужа отдельную книгу.
Итак, возвращаюсь к обстоятельствам, касающимся меня, ибо это повесть о моей жизни, а не о жизни моего мужа. Мы продолжали трудиться на нашей плантации, пользуясь помощью и советами друзей, особенно честного квакера, который был нам верным, благородным и преданным другом; и мы добились больших успехов: располагая с самого начала достаточным капиталом, как я уже говорила, и получив теперь еще сто пятьдесят фунтов наличными, мы увеличили число слуг, построили прекрасный дом и распахивали каждый год по большому участку целины. На второй год я написала своей старой пестунье, чтобы она порадовалась нашим успехам, и дала указания, как распорядиться оставленными у нее деньгами, которые составляли двести пятьдесят фунтов, как я уже сказала; я просила ее прислать нам эти деньги в виде товаров, что она и исполнила со своей обычной любезностью и преданностью, и весь отправленный ею груз благополучно прибыл к нам.
Там была разная одежда как для моего мужа, так и для меня; я позаботилась купить ему все вещи, которые, как я знала, он особенно любил: два красивых длинных парика, две шпаги с серебряными эфесами, три или четыре хороших охотничьих ружья, красивое седло с кобурами для пистолетов, отличными пистолетами и алой попоной — словом, все, что могло доставить ему удовольствие и придать вид барина, каким он и был в действительности. Я заказала много домашней утвари, которой нам недоставало, и белья для нас обоих. Что касается меня самой, то я мало нуждалась в платьях и белье, так как у меня был порядочный запас этого добра. Остальная часть моего груза состояла из разного скобяного товара, упряжи для лошадей, земледельческих орудий, одежды для слуг, сукна, шерстяной материи, саржи, чулок, башмаков, шляп и т.п., какие носит прислуга, — все по указаниям квакера. Груз этот прибыл в целости и сохранности, вместе с тремя служанками, дюжими девками, подысканными для меня моей старой пестуньей и очень подходящими для наших мест и для работы, на которую мы их собирались поставить; одна из них приехала с приплодом, ибо, как она призналась позже, забеременела от одного матроса еще до того, как корабль достиг Грейвсенда; она родила нам здорового мальчика месяцев через семь после приезда.
Муж мой, как вы можете себе представить, был немало удивлен прибытием этого груза из Англии и сказал мне однажды, после того как просмотрел накладные:
— Милая моя, что это значит? Боюсь, ты залезаешь в долги. Когда сможем мы расплатиться за все это?
Я с улыбкой ответила, что за все уже уплачено; и тут я рассказала, что, опасаясь несчастий в дороге и предусматривая разного рода неожиданности, возможные в нашем положении, я увезла с собой не весь свой капитал, но часть его оставила у приятельницы, теперь же, когда мы благополучно переехали океан и счастливо здесь устроились, я, как он видит, вытребовала эти деньги.
Муж был ошеломлен и некоторое время молча считал по пальцам.
— Постой, дай сообразить, — проговорил он наконец, продолжая считать и загнув прежде всего большой палец, — во-первых, двести сорок шесть фунтов наличными, потом двое золотых часов, кольца с бриллиантами, серебряная посуда. — И он загнул указательный палец. Потом, загибая средний: — Плантация на реке Йорк, сто фунтов годового дохода, потом сто пятьдесят наличными, потом лошади, коровы, свиньи и припасы, — тут все его пальцы оказались загнуты, и он снова перешел к большому, — а теперь еще груз, стоящий в Англии двести пятьдесят фунтов, а здесь вдвое больше.
— Что же отсюда следует? — спросила я.
— Что следует? Кто теперь посмеет сказать, что я попал впросак, женившись в Ланкашире? Мне кажется, я взял жену с приданым, и весьма недурным, — сказал он.
Коротко говоря, зажили мы теперь в большом достатке, и с каждым годом богатства наши возрастали; наша новая плантация незаметно расширялась, и за восемь лет, которые мы там прожили, мы подняли ее доходы до трехсот фунтов в год, то есть она приносила бы столько в Англии.
Через год я снова переехала залив, чтобы повидать сына и получить доходы с плантации за второй год; только что я сошла на берег, как была поражена известием, что мой прежний муж умер и его схоронили не больше как две недели назад. Признаться, для меня это не было неприятной новостью, так как теперь я могла не скрывать, что я замужняя женщина; перед отъездом я сказала сыну, что думаю выйти замуж за соседа-плантатора; и хотя, по закону, я давно могла это сделать, будучи свободна от прежних обязательств, да все боялась, что старая история получит огласку и мужу это будет неприятно. Сын мой, все такой же любезный, почтительный и услужливый, на этот раз принял меня у себя, заплатил мне сто фунтов и снова надавал мне в дорогу подарков.
Через некоторое время я известила сына, что вышла замуж, и пригласила его к нам в гости; муж тоже написал ему очень любезное письмо, приглашая его приехать. И вот через несколько месяцев сын приехал, как раз к тому времени, когда прибыл мой груз из Англии, и я сказала ему, что все принадлежит мужу, а не мне.
Нужно заметить, что после смерти моего несчастного брата (мужа) я откровенно рассказала мужу всю эту историю, объяснив, что родственник, о котором я говорила ему, не кто иной, как мой сын от этого злополучного брака. Он выслушал рассказ совершенно спокойно и сказал, что его ничуть бы не волновало, если бы старик, как мы называли его, был в живых.
— Ведь ни ты, ни он не виноваты, — сказал он. — Произошла ошибка, которую невозможно было предотвратить.
Он упрекал моего брата лишь за то, что тот просил меня скрыть все и жить с ним по-прежнему как с мужем, когда уже открылось, что он мой брат. Это, по его мнению, было низостью.
Так все эти затруднения были улажены, и мы зажили вместе как нельзя лучше. Сейчас мы глубокие старики: я вернулась в Англию почти семидесяти лет, а мужу было шестьдесят восемь; срок моей ссылки давно кончился, и теперь, несмотря на все тягости и бедствия, которыми так богата была наша жизнь, оба мы бодры и находимся в добром здравии. Некоторое время после моего отъезда муж оставался в Америке, приводя в порядок дела, и сначала я хотела было вернуться к нему, но по его просьбе отказалась от своего намерения, и он тоже приехал в Англию, где мы решили провести остаток наших дней в искреннем раскаянии, сокрушаясь от дурной нашей жизни.
Написано в 1683 году