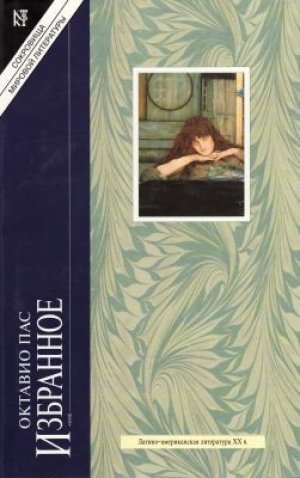
В поисках настоящего времени
(Нобелевская лекция 1990 года)
Я начну с того слова, которое произносят все люди с тех самых пор, как человек стал человеком: благодарю. Это слово есть во всех языках. И во всех языках сложна гамма его значений. В романских языках набор значений слова «gracia»[1] развивается от духовного значения к физическому: это и благодать, которую Господь ниспосылает людям, дабы спасти их от заблуждений и смерти, но это и телесная грация танцующей девушки, а также грация резвящегося в зарослях животного из семейства кошачьих. Это слово в романских языках означает и милость, и прощение, и благосклонность, и благодеяние, и вдохновение, и дар красноречия, и одаренность в искусствах, и хорошие манеры, и, наконец, великодушие. Этот дар дается даром, тот, кого благодарят, одарен, и, если он не выродок, он благодарит, приносит благодарность. Что я и делаю сегодня, быть может, недостаточно проникновенно. Но я рассчитываю на то, что глубина моих чувств возместит легковесность произнесенных слов. Но если бы каждое из этих слов стало прозрачным, вы бы различили то, что я чувствую: благодарность, признательность. А кроме того, неопределенную смесь страха, почтения и изумления, объемлющих меня, когда я вижу себя перед вами, в этом кругу, который в одно и то же время — гнездо шведской литературы и обитель литературы мировой.
Языки суть более масштабные реальности, нежели политические и исторические целостности, которые мы именуем нациями. Возьмем в качестве примера европейские языки, на которых говорим мы в Америке. С этими языками связано особое положение наших литератур по отношению к литературам Англии, Испании, Португалии и Франции — наши литературы написаны на языках, пересаженных на чужую почву. Ведь язык рождается и взрастает на определенной почве, его питает общая история. Вырванные из родной почвы и собственной традиции, перенесенные в неведомые и еще безымянные земли, европейские языки пустили в них корни, взросли вместе с обществами американского континента и преобразились. Это то же растение и не то. Для наших литератур перемены, происшедшие с пересаженными языками, не прошли бесследно: литературы разделили судьбу языков и сами подстегнули процесс трансформации. Очень скоро наши литературы перестали быть просто заокеанским эхом, им даже случалось спорить с европейскими литературами, но чаще они им подражали.
Как бы то ни было, связь литератур никогда не прерывалась. Мои классики — это классики, пишущие на моем языке, и я ощущаю себя потомком Лопе и Кеведо, как любой испанский писатель… но я не испанец. Я думаю, что то же самое может сказать большая часть латиноамериканских писателей, да и писатели из Соединенных Штатов, Бразилии и Канады могли бы сказать то же самое по отношению к английской, португальской и французской традиции. Для того чтобы лучше понять особую ситуацию писателей Америки, присмотримся к диалогу, который ведут с той или иной европейской литературой японские, китайские или арабские писатели: это диалог различных цивилизаций через различные языки. Но наш диалог осуществляется внутри одного языка. Мы европейцы и неевропейцы. Кто же мы? Так трудно определить, кто мы такие. Впрочем, наши творения говорят за нас.
Появление литератур в Америке стало великим событием в культурной жизни нашего века. Сначала появилась англо-американская литература, а позже, во второй половине XX века, литература Латинской Америки, две больших ее ветви — испано-американская и бразильская. При том, что они очень разные, эти три литературы имеют одну общую черту. Эта черта — скорее идеологическая, чем литературная борьба между космополитическими и почвенными тенденциями, между европеизмом и американизмом. Что ныне осталось от этих распрей? Они забылись, остались творения. Но, помимо этого, различия между тремя литературами глубоки и многочисленны. Одно из них более исторического свойства, чем литературного: развитие англо-американской литературы совпадает по времени с превращением Соединенных Штатов в мировую державу, в то время как становление нашей происходит в период смут и социально-политической нестабильности. И в этом я вижу еще одно доказательство ограниченности социально-исторического детерминизма. Закат империй и общественные потрясения иногда сосуществуют с великими творениями и расцветом искусства и литературы: Ли Бо и Ду Фу были свидетелями падения династии Тан, Веласкес был живописцем Филиппа IV, Сенека и Лукан — современниками и жертвами Нерона. Прочие отличия — уже собственно литературного свойства — больше относятся к конкретным произведениям, чем к характеру литератур. Да и есть ли у литератур характер, обладают ли они какой-то совокупностью общих признаков, отличающих одну литературу от другой? Не думаю. Литература вовсе не определяется каким-то химерическим, неуловимым характером. Она представляет собой сообщество уникальных произведений, связанных отношениями противостояния и сродства.
В основе несходства латиноамериканской и англо-американской литератур лежит различие их происхождения. Все мы начинались как проекция Европы. Но они явились с острова, а мы — с полуострова. Два необычных региона в географическом, историческом и культурном смыслах. За ними — Англия и Реформация, за нами — Испания, Португалия и Контрреформация. Стоит ли останавливаться, анализируя испано-американскую ситуацию, на том, что отличает. Испанию от других европейских наций и предопределяет значительность и оригинальность ее исторического лица? Испания не менее причудлива, чем Англия, хотя и на свой лад. Английская эксцентричность островного происхождения, ее отличительное свойство — обособленность, это эксцентричность замкнутости. Испанская эксцентричность полуостровного происхождения, для нее типично сосуществование разных цивилизаций и различных временных этапов, это эксцентричность разомкнутости. Ведь там, где позже возникнет католическая Испания, вестготы проповедовали арианскую ересь, не говоря уж о веках господства арабской цивилизации, о влиянии иудейской мысли, о реконкисте и других особенностях.
В Америке эта испанская эксцентричность воспроизводится и приумножается, причем особенно в странах с блестящей древней цивилизацией, таких как Мексика и Перу. Ведь испанцы обнаружили в Мексике не только географию, но и историю. И эта история еще жива: она не прошлое, она настоящее. Доколумбова Мексика с ее храмами и богами лежит в развалинах, но дух, который одушевлял этот мир, не умер. Он является нам в сокрытом языке мифов, в легендах, формах совместной жизни, в народном искусстве и обычаях. Быть мексиканским писателем значит слышать, что нам говорит это настоящее, это предстояние духа. Внимать ему, говорить с ним, выявлять его — проговаривать его…И быть может, это краткое отступление поможет нам разобраться в странных отношениях, которые в одно и то же время связывают нас с европейской традицией и отгораживают от нее.
Сознание собственной обособленности — неизменный мотив нашей духовной истории. Иногда мы ощущаем эту обособленность как рану, как внутренний разлад, разорванное сознание, побуждающее нас к самоанализу, меж тем как в других случаях она воспринимается нами как вызов, как стимул к действию, как приглашение выйти навстречу другим и миру. Само собой разумеется, ощущение обособленности — чувство универсальное и ни в коей мере не является привилегией испано-американцев. Оно рождается одновременно с нами, это ощущение того, что связи разорваны и вы выброшены в чужой мир. И этот болезненный опыт — отныне незаживающая язва. Но ведь эта бездна и составляет человека. Всякое действие, предпринятое нами, все, что мы делаем и о чем мечтаем, — по сути, мосты, которые мы наводим с целью сломать одиночество и приобщиться к миру и себе подобным. С этой точки зрения жизнь каждого человека и коллективная история всех людей могут рассматриваться как попытка реконструировать изначальную ситуацию. Вечно осуществляемая неосуществимая попытка излечиться от разлада и разлученности. И больше я не намерен возвращаться к описанию этого ощущения. Но хочу подчеркнуть, что у нас его чаще всего фиксируют при помощи исторической терминологии. И таким образом оно превращается в наше историческое сознание. Когда и как появляется это ощущение и как оно преображается в сознание? Ответ на этот двойной вопрос может быть дан и в виде теории, и в форме личного свидетельства. Я предпочитаю второе: существует множество теорий, и ни одна из них не является полностью достоверной.
Ощущение одиночества возникает у меня в памяти среди самых ранних и смутных воспоминаний наряду с первым плачем и первыми страхами. Как все дети, я выдумывал про себя разные истории, и они, словно мосты, соединяли меня с другими людьми, с миром. Я жил в пригороде Мехико в старом, разваливающемся доме с диким, заросшим садом и большой комнатой, заваленной книгами. Там протекли первые игры, там я получил первый жизненный опыт. Сад стал для меня средоточием мира, а библиотека — заколдованной пещерой. Я читал и играл с двоюродными братьями и одноклассниками. Там была смоковница — зеленый шатер, а еще — четыре сосны, три ясеня, кактус «царица ночи», гранат, лужайки, колючки, оставлявшие темно-лиловые царапины. Глинобитные стены. Время было упругим, пространство вращалось. Точнее, все времена, реальные и воображаемые, сливались в одно «сейчас», но и пространство, в свою очередь, бесконечно преображалось: там было здесь, и вообще все было здесь: долина, гора, далекая страна, соседский дворик. А книги с картинками, особенно по истории, которые мы жадно листали, давали пищу нашему воображению: пустыни и сельва, дворцы и хижины, воины и принцессы, нищие и цари. Мы терпели кораблекрушение вместе с Синдбадом и Робинзоном, сражались вместе с д'Артаньяном, брали Валенсию с Сидом. А как мне хотелось остаться на острове Калипсо! В летнее время смоковница покачивала своими зелеными ветвями так, словно это были паруса каравеллы или пиратского судна. С этой высокой мачты, обдуваемый ветрами, я открывал острова и континенты — земли, исчезавшие, стоило только на них ступить. Этот бескрайний мир всегда оказывался под рукой, и время тянулось сплошным настоящим, без разрывов.
Когда же кончилась эта зачарованность? Нет, это произошло не внезапно, а шаг за шагом, постепенно. Ведь не просто свыкнуться с тем, что друг предает, возлюбленная обманывает, а освободительные идеи — маска тирании. То, что называется «отдать себе отчет», — длительный и прихотливый процесс, ибо мы сами соучастники собственных ошибок и заблуждений. И все же я довольно отчетливо припоминаю случай, который, хотя и очень скоро забылся, был словно первый звоночек. Мне было шесть лет, и одна из моих двоюродных сестер, чуть старше меня, показала мне американский журнал с фотографией солдат, которые маршировали по какой-то большой улице, должно быть, в Нью-Йорке. «Они возвращаются с войны», — сказала она мне. Эти несколько слов меня так всполошили, словно мне объявили о конце света или о втором пришествии Христа. Смутно я осознавал, что там, где-то далеко, несколько лет назад кончилась какая-то война и солдаты маршируют в знак победы. Но для меня эта война происходила в другом измерении, не сейчас и не здесь. Фотография все разрушила. Я почувствовал, я буквально ощутил себя выброшенным из настоящего.
С той поры время стало давать трещины, и все больше и больше. И пространство растрескалось. Пространства. История раз за разом повторялась. Какое-то известие, случайная фраза, заголовок в газете, модная песенка были доказательством существования мира вовне и открытием собственной призрачности. Я ощутил, что мир разламывается — и я не в настоящем. Мое сейчас расчленилось, причем истинное время было где-то в другом месте. А мое время, время сада, смоковницы, игр с приятелями, сонной одури в траве в три часа пополудни, лопнувшей смоквы, черной с розовым, точно уголек, только свежий и сладкий, — все это выдуманное время. Вопреки свидетельству моих чувств, истинным, настоящим настоящим временем было время оттуда, время других. И я принял неприемлемое: я стал взрослым. Так началось мое выдворение из настоящего.
Слова о том, что нас выдворяют из настоящего, могут показаться парадоксом. Но это не так. У всех нас был когда-то такой опыт. Кто-то воспринял его поначалу как наказание, но потом он пробудил сознание и подтолкнул к действиям. Поиски настоящего — это не поиски земного рая или однообразной вечности, это — поиски настоящей реальности. У нас, у испано-американцев, в наших странах этого реального настоящего времени не было — было время, в котором жили другие: немцы, англичане, французы. Время Нью-Йорка, Парижа, Лондона. Следовало отправиться на поиски и принести его в наши края. В эти же годы я открыл для себя литературу. Я начал писать стихи. Я не знаю, что меня побуждало их писать, мною двигала какая-то невыразимая внутренняя потребность. И может быть, только сейчас я понял, что между тем, что я называю выдворением из настоящего, и писанием стихов была сокровенная связь. Поэзия влюблена в миг, она хочет оживить его в стихах, она вырывает его из потока и превращает в устойчивое настоящее. Впрочем, в те времена я писал, не задаваясь вопросом, почему я это делаю. Я искал врата в настоящее, я хотел принадлежать своему времени и своему веку. Несколько позже это наваждение получило отчетливое оформление: я хотел стать современным поэтом. Я начал поиски современности.
Что же такое современность? Прежде всего, сам термин неоднозначен, ведь современностей столько, сколько обществ. У каждого своя собственная. Значение термина неопределенно и условно, как условно называют средневековьем период, предшествующий современному. Но если мы современны по отношению к средневековью, то не средневековье ли мы по отношению к некой грядущей современности? А если наименование зависит от времени, то истинно ли это наименование? Современность — слово, которое все еще ищет свое значение, быть может, это идея, а может быть, мираж или миг истории? Мы — дети современности или она — наше создание? Никто этого доподлинно не знает. Да и не важно это, мы следуем современности, мы преследуем современность. Для меня в те годы современность выступала в облике настоящего, а лучше сказать, творила настоящее, настоящее увенчивало современность. Впрочем, я был не одинок, все поэты эпохи, начиная с символистов, зачарованные этим одновременно завораживающим и ускользающим образом, тянулись к нему. И первым — Бодлер. Бодлер был первым, кто прикоснулся к ней и понял, что она не что иное, как утекающее сквозь пальцы время. Я не стану рассказывать о перипетиях моей погони за современностью: у всех поэтов нашего века они сходны. Современность сделалась всеобщей страстью. С 1950 года она наша богиня и наш демон. Ныне вознамерились с ней расправиться и много говорят о «постсовременности», или постмодернизме. Но что такое постсовременность, если не еще более современная современность?
У нас, латиноамериканцев, поиски поэтической современности идут параллельно неустанным попыткам модернизировать наши нации. Эта тенденция дала о себе знать впервые в конце XVIII века, повлияв даже на Испанию. Соединенные Штаты современными родились, к 1830 году они, по словам Токвиля, уже содержали в себе прообраз будущего. Мы же родились в те времена, когда Испания и Португалия от современности отвернулись. Поэтому и говорят иногда о том, что наши страны надо модернизировать. Современность располагалась где-то вовне, ее надо было импортировать. В истории Мексики этот процесс начинается незадолго до войн за независимость, позже он превращается в громкую идеологическую и политическую баталию, раздирающую мексиканское общество и будоражащую мексиканцев в течение XIX века. Одно-единственное событие поставило под сомнение не столько законность реформаторских устремлений, сколько сам способ их проведения в жизнь: этим событием была мексиканская революция. В отличие от других революций XX века, революция в Мексике скорее походила на взрыв самой исторической реальности, восстание угнетенного сознания, чем на реализацию каких-то более или менее утопических идей. Она не была делом рук каких-то идеологов, вознамерившихся внедрить в жизнь политические теории, она была народным взрывом, высвободившим то, что прежде было загнано внутрь. И поэтому то, что случилось, больше чем революция — это открытие. Мексика искала настоящее вне своих пределов, а нашла его внутри себя, захороненным, но живым. Поиски современности привели нас к открытию нашей праистории, сокрытого лица нации. И в результате мы получили неожиданный исторический урок; не знаю, правда, все ли его поняли: между традицией и современностью нет пропасти. Традиция без современности коченеет, а современность без традиции испаряется, в то же время в союзе современность одушевляет традицию, а традиция придает современности вес и значимость.
Поиски поэтической современности были настоящим quête[2] в том аллегорическом и рыцарском смысле, в каком употребляли это слово в XII веке. В поисках современности я не отвоевал Грааля, хотя и повидал немало waste lands, и бывать мне доводилось и в зеркальных замках, и в шатрах, раскинутых призрачными племенами. И я открыл современную традицию. Потому что современность не поэтическая школа, а древний род, разбросанная по разным континентам семья, которой на протяжении двух веков пришлось претерпеть немало превратностей судьбы и пережить немало горестей, равнодушие публики, одиночество, суды религиозных, политических, академических и сексуальных ортодоксов. Но именно то, что она — традиция, а не доктрина, позволило ей одновременно и пребывать, и меняться. Отсюда же ее разнообразие: всякое поэтическое приключение не похоже на другое, и каждый поэт сажает в чудесном говорящем лесу непохожее дерево. Но если все произведения не похожи друг на друга и к ним ко всем ведут разные дороги, то что объединяет всех поэтов? Их объединяет не общая эстетика, а поиск. Я искал не химеру, хотя сама идея современности оказалась миражем, лучезарным фейерверком. И вот однажды я обнаружил, что не столько иду вперед, сколько возвращаюсь к исходной точке: поиски того, что современно, оказались нисхождением к истокам. Современность привела меня к моим началам, к моей древности. Разрыв обернулся примирением. И я понял, что поэт — это биение пульса в руке поколений.
Представление о современности — побочный продукт понимания истории как последовательного, необратимого линейного процесса. Хотя истоки этой концепции лежат в иудео-христианстве, в сущности, это разрыв с христианской доктриной. Христианство отбросило циклическое время язычников: история не повторяется, у нее было начало и будет конец. В христианстве последовательное время стало мирским временем, временем истории, театром, в котором действуют падшие, и все же это время подвластно иному, священному времени без начала и без конца. После Страшного суда нет будущего ни на небесах, ни в аду. В вечности ничего не случается, потому что все уже есть. Это победа бытия над становлением. Новое время, наше время, линейно, как христианское, но открыто бесконечному и не зависит от вечности. Наше время — время мирской истории. Оно необратимо и неизменно не завершено, оно на пути не к концу, а к грядущему. Солнце истории называется будущим, а движение к будущему — прогрессом.
Для христианства мир, или, как прежде говорили, век, земная жизнь — место испытания, в этом мире души или гибнут, или спасаются. По новым представлениям, субъект истории уже не индивидуальная душа, а весь человеческий род, в одних случаях понимаемый как единое целое, в других — представленный какой-то избранной группой: развитыми нациями Запада, пролетариатом, белой расой и т. д. Языческая и христианская философские традиции превозносили бытие, завершенную полноту, неизменное совершенство, меж тем как мы поклоняемся изменению, движущей силе прогресса, на который ориентированы наши общества. Изменения бывают по преимуществу двух родов: эволюционное и революционное, трусцой и рывком. Современность — это вершина исторического движения, воплощения или эволюции, или революции, двух ликов прогресса. В конечном счете прогресс осуществляется благодаря двойному воздействию науки и техники, направленных на овладение природой, на использование ее несметных богатств.
Современный человек осознал себя существом историческим. Но другие общества предпочитали самовыявляться через иные, нежели способность к изменению, ценности: греки поклонялись полису и кругу и не знали прогресса; Сенека, как все стоики, грезил о вечном возвращении; Св. Августин полагал, что конец света неизбежен; Фома Аквинский построил шкалу степеней бытия от твари к Творцу. И одна за другой эти идеи и верования оставлялись. Мне кажется, что сейчас то же самое происходит с идеей прогресса, а следовательно, с нашим представлением о времени вообще, об истории и о нас самих. На наших глазах будущее закатывается. Идея современности обесценивается, мода на столь сомнительное понятие, как «постмодернизм», проходит, и вовсе не только в искусстве и литературе. Основополагающие идеи и верования, в течение двух веков двигавшие людьми, переживают кризис. Мне уже случалось пространно говорить на эту тему. Сейчас я могу сказать об этом только очень коротко.
Во-первых, под сомнением сама концепция открытого движения к бесконечному, синоним непрерывного прогресса. Вряд ли стоит распространяться о том, что знают все: природные ресурсы ограниченны и однажды они исчерпаются. Кроме того, мы нанесли такой непоправимый вред природе, что сам род человеческий в опасности. С другой стороны, орудия прогресса — наука и техника — с ужасающей ясностью продемонстрировали, что они могут легко стать средствами разрушения. И наконец, существование ядерного оружия опровергает идею прогресса как неотъемлемого свойства истории. И это поистине сокрушительный вывод.
Во-вторых, я имею в виду судьбу исторического субъекта, другими словами человеческого сообщества, в XX веке. Очень редко народы и отдельные люди так страдали: две мировые войны, тиранические режимы на пяти континентах, атомная бомба и, в конце концов, распространение одного из самых жестоких институтов, известных людям, — концентрационного лагеря. Благодеяния современной техники неисчислимы, но можно ли закрывать глаза на массовые убийства, пытки, унижения, позор, в которые были ввергнуты в наше время миллионы невинных людей?
В-третьих, о вере в прогресс. Для наших отцов и дедов развалины истории, трупы, опустошенные поля сражений, разрушенные города не отрицали сущностной ценности исторического прогресса. Плахи и тирании, войны и дикость гражданских распрей были ценой прогресса, кровавым выкупом, который надлежало выплачивать богу истории. Богу? Да, богу — обожествленному и изощренному в жестоких и хитроумных проделках гегелевскому разуму. И вот предполагаемая разумность истории улетучилась. В самом средоточии упорядоченности, правильности и связности — в точных и естественных науках — вновь оживают старые понятия случайности и непредсказуемости. И это тревожное воскрешение наводит меня на мысль об ужасах тысячного года и тоскливых предчувствиях ацтеков в конце каждого космического цикла.
Довершая торопливое перечисление, скажу о крушении всех этих философских и исторических гипотез, которые претендовали на познание законов исторического развития. Их адепты, убежденные в том, что они владеют ключами к истории, воздвигли могучие государства на горах трупов. Эти горделивые сооружения, предназначавшиеся в теории для того, чтобы освободить людей, очень скоро превратились в гигантские тюрьмы. Сегодня мы видим, как эти тюрьмы пали, их низвергли не идеологические противники, но духовное изнеможение и освободительный порыв новых поколений. Так что же, настал конец утопиям? Точнее сказать, пришел конец идее истории как феномена, развитие которого известно заблаговременно. Исторический детерминизм был дорогостоящей и кровавой фантазией. История непредсказуема, потому что ее движущая сила — человек — воплощенная непредсказуемость.
Этот беглый обзор показывает, что, весьма вероятно, мы находимся в конце одного исторического периода и в начале нового. Конец это или модификация Нового времени? Трудно сказать. Во всяком случае, крах утопий оставил большую лакуну — и не в тех странах, где эта идеология проходила испытания и провалилась, а там, где многие ее приветствовали с такой радостью и надеждой. Впервые в истории люди переживают своего рода духовное ненастье, ведь прежде они жили под сенью религиозных и политических систем, угнетавших и утешавших одновременно. Общества живут в истории, но все они руководствуются и вдохновляются совокупностью метаисторических идей и верований. Наше общество первым готовится жить без метаисторической доктрины, ибо наши религиозные, философские, этические и эстетические ценности не коллективные, а частные. Это рискованный опыт. Сейчас мы не можем сказать, к чему приведут конфликты, связанные с приватизацией идей, действий и верований, традиционно принадлежавших общественной жизни, и не приведет ли это к краху всего общественного устройства. Людей может снова охватить религиозная одержимость и националистический фанатизм. Было бы ужасно, если бы падение идола абстрактной идеологии означало возрождение угасших племенных, сектантских и религиозных страстей. К несчастью, есть тревожные признаки.
Закат идеологий, которые я назвал метаисторическими, тех идеологий, что приписывали истории определенные направление и конец, предполагает молчаливый отказ от претензий на глобальные решения. Мы все больше и больше тяготеем к тому — и это не лишено здравого смысла, — чтобы решать конкретные проблемы ограниченными средствами. Благоразумнее не указывать будущему, каким ему быть. Но и настоящее — это не только заботы о сиюминутных потребностях, оно тоже требует от нас строгости и масштабности мышления. С давних пор я верю, и твердо верю в то, что закат будущего возвращает приход настоящего. Но мыслить сегодняшнее означает, прежде всего, занять по отношению к нему критическую позицию. Например, победа в default[3] соперника — источник не одних лишь удовольствий. Рынок — эффективный механизм, но, как у всех механизмов, у него нет совести, и милосердие ему тоже неведомо. Надо искать способ ввести его в общество так, чтобы он действовал на основе общественного договора и не противоречил идее справедливости и равенства. Развитые демократические общества достигли завидного процветания, и все же это острова изобилия в океане мировой нищеты. Тема рынка имеет самое непосредственное отношение к ухудшению среды обитания. Заражены не только воздух, реки и леса, но и души. Общество, одержимое маниакальной страстью производить больше, чтобы потреблять больше, стремится превратить идеи, чувства, искусство, дружбу, любовь и самих людей в объекты потребления. Все становится вещью, которая покупается, используется и выбрасывается на помойку. Ни одно общество не произвело столько мусора, сколько наше. Мусора вещественного и духовного.
Размышление о нынешнем дне не предполагает ни отказа от будущего, ни забвения прошлого: настоящее — место встречи всех трех времен. И не стоит путать его с поверхностным гедонизмом. Древо наслаждения растет не в прошлом и не в будущем, но в том, что сейчас. И смерть — тоже плод настоящего. От нее не уйдешь, она часть жизни. Достойная жизнь требует достойной смерти. И мы должны научиться смотреть смерти в лицо. Попеременно ослепительное и сумрачное настоящее — область, в которой сходятся действие и созерцание. И точно так, как у нас были философии прошлого и будущего, вечности и ничто, завтра мы обретем философию настоящего. И поэтический опыт послужит этой философии одним из оснований. Что мы знаем о настоящем? Ничего или почти ничего. Но вот поэты, они кое-что знают: настоящее — это здесь стоящее, это источник бытия!
В моих странствиях в поисках современности я много плутал и много раз находил дорогу. Я воротился к собственным истокам и открыл, что современность не вне, а внутри нас. Что сегодня она есть и самая старая старина и одновременно — завтра и начало мира, ей тысяча лет, и она только что родилась. Она говорит на языке племени науа, рисует китайские иероглифы IX века и является на экране телевизора. Целехонькое, только что откопанное настоящее, отряхивая пыль веков, улыбается и вдруг срывается и исчезает в окошке. Все времена и пребывания сливаются: современность порывает с ближайшим прошлым исключительно во имя того, чтобы выкупить тысячелетнее прошлое и превратить неолитическую фигурку богини плодородия в нашу современницу. Мы гоняемся за современностью, но она меняет облик, и ее не поймать. Каждая встреча кончается бегством, современность всегда ускользает. Ее заключаешь в объятия, а она рассеивается, испаряясь, как вздох. Миг — вот как называется птица, которая летает повсюду и которой нигде нет. Хочешь поймать ее живой, но она распахивает крылья и растворяется в воздухе, проливаясь горсткой слогов. И остаешься с пустыми руками. Но тогда приотворяются врата постижения, а в них возникает другое время, подлинное, то, которое мы ищем, не зная, что оно такое, — настоящее, здесь стоящее, здесь бытийствующее.